7 От составителя
Прежние выпуски нашего альманаха были посвящены драматическому театру, и эта избирательность не была программной. Она сложилась как следствие определенных исследовательских приоритетов театроведческого цеха, или, скажем мягче, доступного круга авторов. В нынешнем выпуске мы постарались изменить ситуацию, составив его из разделов, посвященных балетному искусству, театральной педагогике, истории театроведения и источниковедению.
В последние десятилетия сложилась целая мемуарная библиотека, посвященная русскому балету. Достаточно назвать коллекцию балетных воспоминаний, выпущенную в 1990-е гг. издательством «Артист. Режиссер. Театр». Несмотря на то что обзор балетных публикаций выглядел бы весьма внушительно, оказалось, что публикаторский потенциал «воздушного искусства» все еще остается впечатляющим.
Новый выпуск «Мнемозины» открывает подборка материалов из творческого наследия историка балета Г. А. Римского-Корсакова. В нее вошли «Записки петербургского зрителя», фиксирующие театральный быт Серебряного века, когда закулисные сюжеты, связанные со светским обществом и императорским двором, оказывают прямое воздействие на сценическое искусство. Материалы, посвященные А. А. Горскому, которые автор так и не успел собрать в книгу, ценны тем, что написаны человеком, выступающим и как зритель, знакомый с подноготной стороной искусства, и как историк балета. Но если материалы Римского-Корсакова сосредоточены на истории императорской сцены, то целый комплекс документов отражает альтернативные поиски русских балетных артистов, связанных в первую очередь с С. П. Дягилевым. Среди них письма выдающихся артистов балета (Л. И. Мясина, Б. Ф. Нижинской, В. Ф. Нижинского) и художников, работавших с труппой С. П. Дягилева (М. Ф. Ларионов, Н. С. Гончарова). Центральное место занимают Дневники Б. Ф. Нижинской (1919 – 1922), которые приоткрывают трагический внутренний мир великого хореографа, а также первый вариант ее основополагающего трактата о движении (1919). К ним примыкает публикация, посвященная танцевальным экспериментам В. Я. Парнаха.
Проблематика советского балета 1930 – 1940-х годов раскрывается в материалах Диспута о путях советского балета (1932) и в переписке хореографа Л. В. Якобсона с композитором Б. В. Асафьевым (1935 – 1946).
Раздел театральной педагогики представлен творческим наследием выдающегося педагога и теоретика театра М. М. Буткевича. Материалы его чеховского семинара дополняют двухтомник «К игровому театру» (М., 2010).
Работа искусствоведческих, философских, социологических секций ГАХН в последние годы стала предметом повышенного внимания исследователей. Деятельности Театральной секции, связанной с изучением «нового зрителя», посвящена развернутая публикация.
Закрывает альманах источниковедческая статья, своеобразная «театральная лоция» России конца XIX – начала XX столетия, посвященная истории 8 Общества русских драматических писателей и оперных композиторов (1874 – 1930) и обзору его фондов, хранящихся в РГАЛИ.
В настоящем издании приняты некоторые общие правила. Пунктуация и написание имен приближены к современным нормам литературного языка. Недописанные, сокращенные слова восстанавливаются без специальных оговорок, кроме тех случаев, когда возможны разночтения. В квадратные скобки заключены слова предположительного чтения, а также слова-связки. Комментарии публикатора в квадратных скобках даны курсивом. При публикации писем форма написания дат принадлежит публикатору, за исключением отдельно указанных случаев. В Указателе имен жирным шрифтом отмечены те страницы, где даются основные биографические сведения об упоминаемом лице.
Прежде всего хочу поблагодарить коллег по Государственному институту искусствознания, чьи советы, замечания и поддержка при обсуждении рукописи неизменно помогали мне как редактору-составителю и каждому из участников издания.
С благодарностью вспоминаю сотрудников музеев и архивов, при поддержке которых эта работа осуществилась: Российского государственного архива литературы и искусства, Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина, Музея ГАБТ, Библиотеки Конгресса США (Вашингтон), Гарвардской театральной коллекции, Бахметьевского архива (Нью-Йорк), Библиотеки-музея Парижской оперы, Национальной библиотеки Франции (Париж).
В. В. Иванов
9 Г. А. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ.
ПЛАНЫ И ВОСПОМИНАНИЯ
Из рукописей о русском балете конца
XIX – начала XX в.
Публикация, вступительная статья и комментарии
С. А. Конаева
Выходец из именитой семьи (по отцу родственник композитора Н. А. Римского-Корсакова, по матери — внук Н. Ф. фон Мекк, мецената и корреспондентки П. И. Чайковского) Георгий Алексеевич Римский-Корсаков (1891 – 1971) не готовил себя к карьере ученого. Театроведом и архивистом его сделала революция 1917 г., поломавшая ему жизнь и заставившая искать заработок, чтобы прокормить себя и мать: «Я очень мало зарабатывал в те годы. Прежде чем я нашел правильный путь в жизни, я переменил много профессий. Я работал администратором в балете Касьяна Голейзовского и заведовал трудовой колонией беспризорных, был и статистиком, и экономистом-плановиком, писал рецензии в театральных журналах. Все это еле-еле могло прокормить меня одного, но на двоих моего заработка уже не хватало»1. В 1932 г. Римский-Корсаков, вопреки «непроходной» анкете, поступил на службу в Театральный музей им. А. А. Бахрушина2, которая, как он писал, его очень увлекала и давала много и для накопления знаний, и для проявления творческих способностей3.
Десять лет работы в музее приблизили Г. А. Римского-Корсакова к решению проблемы, до сих пор стоящей перед отечественным балетоведением, — к созданию документальных монографий о М. И. Петипа (1818 – 1910) и А. А. Горском (1871 – 1924), двух крупнейших балетмейстерах эпохи.
Исследование эпохи М. И. Петипа, главного балетмейстера петербургского балета в 1869 – 1903 гг., создателя его классического репертуара, Г. А. Римский-Корсаков начал в 1935 г. Составленный им план-опросник (док. 1) был предложен бывшим танцовщикам и прима-балеринам Императорских театров, не уехавшим в эмиграцию и проживавшим в Ленинграде. Сын известного в Петербурге балетомана, поклонника В. А. Трефиловой4, был радушно принят Н. А. Бакеркиной и Е. Н. Мининой, но дальше дело остановилось. Предстоит выяснить, насколько инициатива Римского-Корсакова диктовалась общей стратегией развития музея. В это время ГЦТМ, где уже хранился архив М. И. Петипа, активно пополнял свою коллекцию воспоминаниями о нем и о петербургском балете5. Полемика Римского-Корсакова с тогда же изданной 10 книгой Ю. И. Слонимского «Мастера балета» (1937), сосредоточенная именно на главах о Петипа и Л. Иванове6, воспринимается как продолжение собственных штудий7. В двух неопубликованных статьях8 Римский-Корсаков протестует против «безответственного беллетристического пробега по “балету Петипа”». Однако черновиков, свидетельствующих о попытке разработать предложенный план, в архиве Г. А. Римского-Корсакова в ГЦТМ нет, возможно, они затеряны или остались в архиве его семьи.
Свой взгляд на Петипа и его эпоху Римский-Корсаков изложит гораздо позднее, после войны, которая заставила его уехать из Москвы и отказаться от амбициозных исследований. Начиная с 1950-х гг. он садится за мемуары, включая в них большими фрагментами тексты времен работы в Бахрушинском музее. Надеясь увидеть их напечатанными, он обращается не только в родные и близкие ему Дом-музей Чайковского в Клину и Бахрушинском музей. Через абсолютно незнакомого ему человека, знаменитого пианиста Вана Клиберна, гастролировавшего в СССР, он готов искать «кого-нибудь в США», кто пожелал бы их приобрести «для архивного хранения или для публикации»9.
В 1965 г. в Петропавловске Г. А. Римский-Корсаков заканчивает один из вариантов своих театральных мемуаров, «Записки петербургского зрителя», которые ГЦТМ им. А. А. Бахрушина приобрел в 1967 г.10 Пользуясь относительной свободой жанра «воспоминаний с комментариями», Корсаков энергично вступается за И. А. Всеволожского, директора Императорских театров с 1881 по 1899 г. Закат этой эпохи Римский-Корсаков застал как очевидец, хорошо знал ее творческую и закулисную атмосферу. Его работа имеет все черты исследования, а его пафос созвучен мыслям Л. Д. Блок и Вл. И. Немирович-Данченко, в 1930-е гг., когда и началась настоящая ревизия театрального наследия 1890-х, осознавших и обосновавших необходимость сохранения его в целостности11.
Взвешенно и точно Корсаков оценивает Всеволожского-администратора, который провел масштабную реформу, улучшившую материальное положение артистов, Всеволожского-импресарио, соединявшего творцов таким образом, что балет до сих пор живет классикой, инспирированной им в 1890-е годы («Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Раймонда»). На фоне болезненно острой дискуссии, которая ведется в последние годы вокруг масштабных реконструкций классических балетов в оформлении и костюмах эпохи их создания, ценность размышлений Г. А. Римского-Корсакова только возрастает.
При этом надо учитывать, что «Записки…» написаны с позиций не исследователя, но рассказчика, лектора, способного увлечь аудиторию и оживить ее к месту рассказанным анекдотом, не смущаясь его возможной исторической недостоверностью. Такое оживление в рассказ мемуариста вносят истории, услышанные им от широкого круга людей, с которыми его сталкивала жизнь и работа в Бахрушинском музее: от высших офицеров царской свиты до бывших балерин императорской сцены. Делясь этими рассказами, Корсаков выступает не столько как историк, сколько как собеседник, очарованный (или разочарованный) общением, не сопоставляя версии и не приводя контрдоводов. Подозрительно и недоброжелательно отнесясь к И. Ф. Кшесинскому, Римский-Корсаков не только проигнорировал его любопытные мемуары в своих рассуждениях, но и неосновательно обвинял того в 11 манипуляциях с дневниками сестры, М. Ф. Кшесинской12. Напротив, в искренности Н. А. Бакеркиной, умевшей выдать свои драгоценности за бутафорию и наоборот и не упустившей случая свести старые счеты с той же Кшесинской, сомнения у него не возникло13. Не являясь научным источником, эти рассказы, воспроизведенные в комментариях к «Запискам…», дают стимул к дальнейшему документальному изучению биографий артистов и обстоятельств их судеб, выразительно рисуя театральные нравы эпохи конца XIX – начала XX века.
Иная судьба сложилась у работ Г. А. Римского-Корсакова об А. А. Горском.
О Горском, руководившем московским балетом с 1901 по 1924 г., к концу 1930-х уже мало кто помнил. В 1939 г. критик В. Голубев после прочитанного Корсаковым доклада признавался: «Я очень плохо знаю творчество Горского главным образом потому, что поставленные им балеты почти не сохранились»14. Бескорыстный труженик, беспокойный новатор, Горский вывел московский балет из прозябания, одушевил его идеей служения высокому искусству и жизненной правде, пробудил к нему интерес у интеллектуалов и простых зрителей. Но писать о Горском гораздо труднее, чем о его учителе Петипа. Не каждый историк сочтет увлекательной задачу следовать за прихотливыми изгибами судьбы хореографа, не осененного мировой славой, убежденно фиксируя шедевры и трезво оценивая неудачи.
Г. А. Римскому-Корсакову это удавалось виртуозно и азартно, во многом потому, что личная симпатия уравновешивала свойственный автору скептицизм и некоторое бравирование отсутствием пиетета перед репутациями. Как биограф Горского он обладал удачным набором качеств. Гимназистом и студентом он был свидетелем эволюции хореографа и московского балета в 1900 – 1910-х гг. В 1919 г. он познакомился с ним лично: в Большой театр Г. А. Римского-Корсакова, служившего тогда в Красной армии, привела балерина Большого театра Е. М. Адамович. В 1921 г. Римский-Корсаков активно содействовал попыткам Горского вести деятельность вне Большого театра, работать «над вещами художественно весьма ценными, но неподходящими к типу постановок этого театра по своим малым размерам»15. Он становится заведующим художественно-музыкальной частью Театра камерного балета, хлопочет об устройстве Вечера симфонического балета16. Для Горского им сочинены либретто балетов «Третий Интернационал» и «Красная звезда»17. Материально Г. А. Римский-Корсаков в это время бедствовал, но увлечение искусством «заставляло забыть окружающий мир мглы, насилия и кровавых ужасов», как он напишет про искусство К. Я. Голейзовского18.
Работа Римского-Корсакова над биографией Горского началась, по всей видимости, со сравнительного очерка, основным содержанием которого является сопоставление вклада в реформирование балетного искусства Горского и Фокина и поиск ответа на вопрос, по какой логике мировая слава и признание достались одному Фокину (док. 4 и 5). Корсаков подчеркивает, что Горский, как и Фокин, находился в сфере интересов С. П. Дягилева, умевшего прославить своих сотрудников, и что дважды намечавшееся сотрудничество не сложилось по далеким от искусства причинам. Броский, живо и занимательно не в ущерб аналитике написанный, этот очерк не был закончен автором. В черновиках к нему есть выходы на сочинение иного жанра — академичную, насыщенную фактами искусствоведческую биографию, опирающуюся на документы и прессу, размеренно следующую хронологии. 12 Труд, получивший название «А. А. Горский (Творческий путь)» (док. 6), Римский-Корсаков довел до первых послереволюционных сезонов: изложение в той части рукописи, которая имеет сквозную пагинацию, доходит до 1917 г., вместе с другими материалами — до 1919 г. Эта работа, в свою очередь, дала импульс еще более широкому плану, названному автором «Опыт исследования творческой деятельности балетмейстера: (По материалам и документам Государственного центрального театрального музея им. Бахрушина)» и датированному июнем 1940 г. (док. 3).
Таким образом, в 1939 – 1940 гг. Г. А. Римский-Корсаков опробовал все варианты литературной разработки биографии Горского, ни один не доведя до конца. На этом цикле черновиков лежит отпечаток личности пишущего, отдававшего предпочтение мгновенным зарисовкам перед капитальными театроведческими реконструкциями. Это сказывается в обращении с источниками. В «Творческом пути» архивные документы выбраны с выверенной точностью, но очерк ими не перегружен. Имея в ГЦТМ доступ к дневникам В. А. Теляковского, Римский-Корсаков опирается только на опубликованные мемуары бывшего директора Императорских театров. Он не обращается и к хранящимся в музее рукописям по истории московского балета Д. И. Мухина, которыми воспользовалась В. П. Дитиненко, готовя свой доклад о Горском в 1933 г.19 В одних случаях рецензии цитируются непропорционально обширно, в других слишком сжато. Несомненно, Корсаков планировал осветить также послереволюционный период Горского, когда он из очевидца превратился в участника его исканий, — и эта задача увлекала его едва ли не больше собственно исследовательских. Возникший из этого намерения отдельный мемуарный очерк «В последние годы» заметно отличается от «Творческого пути» по темпераменту и интонации20.
Как можно видеть по архиву Г. А. Римского-Корсакова в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, у него была своя иерархия литературных жанров, в каждом из которых он искал свой «правильный путь». Изгибы этого пути могли ему наскучивать (и тогда очерк оказывался недоделанным), могли прерываться внешними обстоятельствами или диктоваться ими. Планы Римский-Корсаков составлял вдохновенно и ответственно, в них его мысль проявлялась концентрированно и строго. В зарисовках ему удавалось зафиксировать театральную реальность в ее единстве и обнажить ее смысловой каркас. Возвращая в научный оборот работы Г. А. Римского-Корсакова, публикатору приходится считаться и с этой жанровой иерархией, и с многослойностью его литературно-критического наследия, и с прерывистым ритмом поисков, когда ряд будто незаконченных эскизов и образует целостную картину творчества.
13 1
Г. А. Римский-Корсаков
Вопросы к истории ленинградского балетного театра второй половины XIX в.21
1935
1. М. Петипа как актер.
2. Петипа как постановщик-режиссер.
3. Петипа — балетмейстер (постановщик танцев: классических и характерных). Особенности его стиля.
4. Петипа — преподаватель в школе (что преподавал, когда, кому — кто его ученики, какие особенно любил движения, как преподавал и пр.).
5. Петипа как человек (в отношении к подчиненным, к начальству: к директорам и к царям22, к товарищам по сцене, к рабочим сцены, к балетмейстерам, к печати, к политике, к России и русским, к семье, балетоманам).
6. Отношение Петипа к его предшественникам в балете: к Ж. Перро и Сен-Леону23.
7. Наиболее значительные и интересные постановки Петипа (что в них заслуживает внимания и положительной оценки).
8. Наименее удачные балеты (что в них не удалось постановщику, и что было плохо помимо Петипа: исполнение, сюжет, музыка и пр.).
9. Процесс творчества. Сколько времени работал над балетами. Как ставил: сразу или переделывал с большим числом репетиций. Много ли чистил и исправлял поставленное. Допускал ли критику и советы. Был ли заранее готовый план-схема постановки, или импровизировал на репетиции. Взаимоотношение с балеринами, актерами, композиторами и художниками. Вводил ли новые движения. Заимствовал ли и что именно у гастролировавших итальянок, у других постановщиков и пр.
10. Наиболее любимые употребительные танцевальные движения в балетах, поставленных Петипа.
11. Отношение Петипа к прочим балетмейстерам, как русским, так и иностранным (в частности, к А. В. Ширяеву, к Л. И. Иванову, к А. Н. Богданову и к И. Н. Хлюстину24).
12. Являлся ли Петипа сторонником поисков новых движений в танце. Его отношение к французской и итальянской школам танца.
13. Отношение театра в целом к Петипа, а также отдельно актеров, балерин, начальства, царей, балетмейстеров, режиссеров, рабочих и пр.
14. Можно ли считать, что стиль балетов Петипа не видоизменялся за все время его работы в театре, и если изменялся, то чем именно и когда. (Какие новые элементы движений ввел Петипа: новые танцы, новые мизансцены, новые режиссерско-балетмейстерские приемы.)
15. Петипа и закулисные интриги (его отношение к ним, участие в них, на чьей стороне, кто руководил интригами, и какие наиболее значительные балетные партии были в театре: как в последнее время, так и в более отдаленные времена).
16. Кто пользовался авторитетом и влиянием на труппу в театре.
14 17. Балетные критики: А. А. Плещеев, К. А. Скальковский, В. Светлов, А. Волынский и др.25 Каковы были их знания и понимание балетного искусства. Их значение и влияние на театр. Участие в интригах.
18. Быт и нравы балетной труппы в 70-х, 80-х и 900-х гг., можно ли говорить о возрастающем падении нравственности среди труппы или наоборот.
19. Отношение Петипа к балеринам Соколовой, Брианце, Никитиной, Цукки, Леньяни, Кшесинской, Павловой, Преображенской, Гельцер и др.26
20. Значение гастролей итальянских балерин для развития танцевальной техники русских танцовщиц. Какие новые движения ввели итальянки у нас в балете.
21. Отношение Петипа к характерному танцу и его специальному классу в школе.
22. Отношение Петипа к новым веяниям в искусстве и театре: возникновение национального русского стиля в музыке («кучкисты»), передвижники в живописи, появление театра Станиславского, приезд Айседоры Дункан, гастроли русского балета (Дягилев), Фокин, Горский и пр.27
23. Отношение Петипа к вопросу записи танцев (хореография), в частности к системе Степанова28.
24. Использование постановок Петипа в советском балете (какие балеты Петипа идут, что от них осталось, а также отдельные постановки танцев, как в балетах, так и в операх (что идет, что изменено, кем и как и когда).
25. Вмешивалось ли Дирекция Императорских театров в работу Петипа.
26. Отношение директоров к балетным актерам (был ли фаворитизм).
27. Отношение царей к балету.
28. Что было поставлено А. В. Ширяевым, когда и где29.
29. В чем ценность балетов Петипа. Почему его имя появилось во главе русского балета конца XIX в., — и носит название «эпоха Петипа»30.
2
Г. Корсаков
ЗАПИСКИ ПЕТЕРБУРГСКОГО ЗРИТЕЛЯ31
1938 – 1965
Вместо предисловия
В моей семье все любили театр. Я рос, слушая разговоры об игре актеров, о музыке, спектаклях, о театральных знаменитостях.
Чаще всего мои родители32 посещали балет и оперу. Нас, детей, таскали за собой туда же, нередко жертвуя своим покоем, ибо мы были в таком еще нежном возрасте, когда особенно сильные эстетические эмоции приводят к маленьким, не совсем удобным в обществе происшествиям. Поэтому, пока я не освоился вполне с глубиной и силой театральных впечатлений, мне часто приходилось с конфузом удаляться из театра до окончания спектакля.
Смотрел я театральные представления восторженно, но в то же время и очень внимательно, желая проникнуть во все детали театрального искусства и понять его сложную и, как мне казалось тогда, таинственную технику. Я бесконечно благодарен моим родителям за то, что они дали мне возможность видеть много и видеть хорошо из всего того, что надо было увидеть в театре в 90-е и 900-е гг.
15 Проверив и сличив свои первые детские впечатления с теми, которые я получил в более позднее время, я наконец получил законченное мнение о том театральном искусстве, которому я был свидетелем.
Эти мои впечатления я и попытаюсь записать теперь, может быть, не всегда ясно и последовательно, зато никогда не противореча своему искреннему чувству.
Александринский театр посещался нами сравнительно редко. Ездили туда лишь на какие-нибудь выдающиеся премьеры или бенефисы.
Вспоминаю иронические замечания по поводу игры великого князя Константина, известного поэта К. Р.33 Общественное мнение столицы отметило тогда безукоризненное знание им текста роли Гамлета34, своеобразный английский акцент русской речи в патетических местах и… только.
Много разговоров было также по поводу дебюта Юрьева35. За него усиленно хлопотал М. И. Чайковский36. Он объехал всех своих знакомых с просьбою поддержать начинающего актера. Играл Юрьев очень посредственно. Тем не менее, снисходительно настроенный зал оказал ему доброжелательный прием [см. ниже коммент. 1 Г. Р.-К.].
Может быть, мы ездили бы в русскую драму чаще, если бы там премьершей не была М. Г. Савина37, которую недолюбливала моя мать. Манера игры этой артистки была однообразна. Голос горловой, скрипучий. Слова цедила она сквозь зубы. Движения ее были скованные. Локти пришиты к телу. Никакого женского шарма или актерской обаятельности она не имела. Нравилась она одной голой французской техникой игры. Другим премьерам этого театра мать также мало симпатизировала: она считала, что одни из них стали слишком чиновниками, а другие заразились бытовизмом дурного тона. По-видимому, это была та самая псевдохарактерность и псевдонародность, которая сохранилась в этом театре от прошлых поколений актеров Каратыгинской школы. Смотреть ее в конце XIX-го века было очень тяжело и неприятно.
Почитались у нас дома иностранные гастролеры. Помню взволнованные разговоры по поводу игры Сальвини, Сары Бернар, Режан и особенно великой Дузе38.
Музыка также крепко входила в быт нашей семьи, хотя кроме матери никто из нас серьезно ею не занимался. У матери был довольно сильный голос меццо-сопрано, приятного тембра и хорошей звучности1* 39. Впрочем она совсем мало над ним работала… Это был тот бестолковый период ее жизни, когда светские обязанности поглощали все ее время без остатка. Впоследствии она с грустью вспоминала это время.
Моя мать не унаследовала от нашей бабки Н. Ф. фон Мекк фанатического пиетета к творчеству Чайковского40.
Ее отношение ко многим сочинениям великого композитора было довольно критическим. Она достаточно равнодушно слушала «Евгения Онегина», так же как и «Пиковую даму». Наверно поэтому поэтическая мудрость проникновенной музыки этих опер открылась мне не в родительском доме, а значительно позже, уже на склоне моих лет [см. ниже коммент. 2 Г. Р.-К.].
16 Балетная музыка Глазунова и Чайковского у нас расценивалась очень высоко, не ниже их симфонических произведений. Особенно любили у нас «Лебединое озеро» и «Раймонду»41. В этот период нашей богатой и независимой жизни в Петербурге42 мои родители, кажется, не пропустили ни одного спектакля этих балетов.
По-видимому, мою мать особенно привлекала в балете романтичность этого зрелища. Также весьма ценились ею стройность сценического действия, академическая строгость стиля хореографии Петипа. Между прочим, много лет спустя, увидя постановки К. Я. Голейзовского43, мать сделала интересное, на мой взгляд, замечание, что этот мастер по ощущению формы танца значительно ближе к Петипа, чем к Горскому. Любители балета, привыкшие к стройной форме и экономии средств выразительности Петипа, раздражались тем «беспорядком», который Горский устраивал на сцене, — той суетой и простотой, неоправданной необходимостью сценической правды, которые излишне утомляли глаз зрителя, беспокоили и нервировали его. Тогда очень многие говорили о том, что Горский умышленно усиливал динамичность сценического и танцевального действия, чтобы скрыть недостаточную танцевальную технику московского кордебалета. Вряд ли он действительно руководствовался такими соображениями, но факт остался фактом, ожидающим своего объяснения.
Отец мой относился к балету несколько своеобразно. В общем, как к театральному зрелищу он был к нему вполне равнодушен. Привлекала его, как мне кажется, приятная уютность самого процесса балетного спектакля.
В самом деле. Удобное, покойное кресло (№ 10) в первом ряду Мариинского театра. Радушное, хорошо знакомое ему общество таких же «ценителей» хореографии, как и он. Светские и бюрократические новости, театральные и значительно реже политические сплетни. Ужин в хорошем ресторане после балета. Что же еще нужно для добродушного, обывательски настроенного человека?
Балет для отца к концу 1890-х гг. стал такой же привычкой, как теплый халат за утренним кофе, как рюмка водки до обеда, как «полчасика вздремнуть» перед вечерним отдыхом от трудов дня в «Сельскохозяйственном клубе». Отец, впрочем, предпочитал спать у себя в кресле в балете. Поэтому он, между прочим, никогда не надевал крахмаленных рубашек к фраку, вызывая иронические улыбки чопорной светской молодежи.
Сосед отца по креслу в балете № 11 Ф. Е. Чаплин44, тогдашний глава почтового ведомства, обычно в антракте будил его, громко произнося около уха: «Пойдемте, покурим, Алексей Александрович». Отец просыпался без торопливости, и они шли в курилку посудачить о приятных вещах [см. ниже коммент. 3 Г. Р.-К.].
Первые мои театральные впечатления вообще связаны с Мариинским театром и, в частности, с певцом Н. Н. Фигнером45.
Моя воспитательница А. Д. Крутова [см. ниже коммент. 4 Г. Р.-К.], которую все родные звали просто «Тонечка», тогда еще совсем молодая особа, была кроме прочих своих добродетелей еще и «фигнеристкой». К чести Тонечки надо отметить, что она была умеренной фигнеристкой. Она стремилась в театр только тогда, когда Н. Н. Фигнер выступал в какой-нибудь очень ею любимой или новой партии. Тогда я жадно вникал во все подробности ее ночного стояния на морозе у кассы Мариинского театра. Я слушал, как полиция разгоняла толпу, как студенты — эти вечные 17 бунтари, здесь выступали как друзья порядка и записывали очередь, и как билеты «брались с бою». Моему детскому воображению рисовались увлекательные картины сражений на Театральной площади у любимой нами кондитерской Иванова. Студенты и народ осаждают театр, как у Гюго в «Соборе Парижской Богоматери»46. Кругом лежат горы убитых и умирающих, пронзенных стрелами и копьями, как на нашей большой гравюре, изображающей битву Александра Македонского с Дарием Персидским. В конце концов фантазия моя разыгрывалась, и Фигнер мерещился мне в образе атамана одной из дерущихся сторон. Мое воображение получило вполне реальное обоснование, когда вскоре я увидел у Тонечки карточку Фигнера в роли Фра-Дьяволо47, со шпагой, в ботфортах и с бандитской эспаньолкой [см. ниже коммент. 5 Г. Р.-К.].
Театр я любил мучительно. Поднявшись утром, я первым делом отправлялся взглянуть в кабинет отца, нет ли под его тяжелым бронзовым ножом-пресс-папье желтого или розового билетика. Если он был на этом месте, то я знал, что предстоящее удовольствие не минует нас, детей. В балет мы обычно ездили в ложу № 13 бельэтажа, смежную со средней царской ложей.
Как радостно щемило сердце с утра воскресенья, когда вечером предстояло ехать в Мариинский театр! Как скучно тянулся день! Как нестерпимо медленно ехала наша карета с желтыми колесами по Николаевской набережной48! Каким бесконечным коридором казалась улица между Конногвардейскими и Флотскими казармами! Единственным развлечением, ускоряющим движение кареты, было смотреть сквозь промерзшее стекло окон на газовые фонари и наблюдать радужные лучи, тянувшиеся к моему носу и неожиданно исчезающие…
Наконец, карета делала крутой въезд на Поцелуев мост и сразу делался виден за углом дома, где помещалась аптека, весь освещенный парадный Мариинский театр.
Быстро проскочив в боковой подъезд в углу и радостно вдохнув в себя знакомый, приятный запад газа и уборных, мы спешили подняться по лестнице и войти в аванложу, дверь которой уже открывал с приветливой улыбкой старенький капельдинер.
Заняв места у барьера ложи впереди, мы с нетерпением вглядывались в темный еще занавес с изображенными на нем сценами из опер Глинки и на оркестр, где, к моей великой досаде, так тихо собирались оркестранты. Но вот начиналась райская музыка настраивающихся инструментов. Наконец, где-то сбоку появлялась столь знакомая, подвижная фигура с черными усиками кверху и с аккуратным пробором. Это был Ричард Дриго, дирижер балета49. Рампа освещалась, зал темнел (но не слишком), и спектакль начинался.
Это было время, когда дирижер еще сидел спиной к оркестру у самой сцены50. Если в антракте были подношения артистам, ему вменялась совершенно дикая обязанность подавать из оркестра на сцену корзины цветов, букеты, коробки, футляры и прочие знаки внимания публики. Милое и наивное время!
Тогда же я пристрастился читать по утрам театральные афиши, напечатанные на папиросной бумаге, ежедневно получаемые нами, всего за пять рублей в год, по подписке из типографии Императорских театров. Эта же любовь к театру приучила меня к просмотру газет, в которых я искал знакомые названия пьес и фамилии любимых артистов. Так выучился я читать.
18 Когда мне исполнилось шесть лет, у нас завелись по воскресеньям утренние «танцклассы», на которые собирались наши многочисленные родные и кое-кто из знакомых детей: Воейковы, Унковские, Максимовичи и др.51
Азбукой танцевального искусства начал с нами заниматься старый артист Петербургского балета Ф. Ф. Гельцер, родной брат В. Ф. Гельцер и дядя Е. В. Гельцер52. Это был сухой старик, всегда во фраке и черных коротких штанах, черных же чулках и лакированных туфлях. Я его очень боялся.
Потом его заменил артист кордебалета Федоров 2-й53. Сначала я стеснялся делать всякие движения руками и головой, которые я считал зазорными для мальчика, и первое время я горько плакал во время этих уроков. Потом дело наладилось. Я не только полюбил танцы, в которых обнаружил заметные успехи, но даже стал мечтать о том, чтобы поступить в балетную школу. Мой брат Борис54 очень вдохновлял и поддерживал эти мои мечтания. Конечно, я о них никогда не рискнул заикнуться родителям, точно так же как и о других моих мечтах, пришедших позднее, — стать моряком!
Однажды осенью мы возвращались из-за границы, и я очень отчетливо помню, как, рассматривая в окно вагона виды Шварцвальда, я услыхал, как старшие заговорили о том, что в этом году в Мариинском театре будет танцевать молоденькая племянница «нашего Гельцера». Это была теперь нам хорошо известная Е. В. Гельцер. Ее тогдашнее пребывание на Петербургской сцене оказалось мало заметным55. Во всяком случае, о ней, хотя она скоро выдвинулась на места солисток, в эти 90-е годы у нас дома никогда не говорили. Между тем разговоров о балете вообще у нас было много и у всех у нас были свои любимцы. Мать любила больше всего Леньяни. Я делил свой детский восторг и обожание между М. Ф. Кшесинской и О. О. Преображенской. Засыпая в кровати, я представлял, как буду их спасать, когда они, путешествуя в Пампасах, подвергнутся нападению индейцев56!
Может быть, мои родители проглядели мою слишком сильную впечатлительность и чувствительность. Может быть, они возили меня в балет слишком часто. Однако могу ли я теперь не радоваться, что это таскание в балет дало мне возможность видеть наиболее яркую эпоху балета Петипа, видеть крупнейших его мастеров.
Глава I
Затрудняюсь вспомнить первый выезд в театр. Вероятно, это был все тот же нестареющий «Конек-Горбунок», который с таким громадным удовольствием смотрят дети уже стольких поколений57.
От этого балета в памяти удержался комический образ рамольного старика-хана в исполнении Ф. И. Кшесинского58. Впечатления оставили также разноцветные фонтаны, котлы кипучие, оживленные ковры и те красавицы, которых Иванушка показывает хану.
К этим первым впечатлениям о «Коньке-Горбунке» присоединилось воспоминание и о большом массовом танце кордебалета на музыку рапсодии Листа, поставленном Л. И. Ивановым в последнем дивертисментном акте этого балета59. Он очень эффектно интерпретировал музыку [см. ниже коммент. 7 Г. Р.-К.].
Позднее мне пришлось видеть ту же рапсодию, поставленную А. А. Горским в 1920 г. с Е. И. Долинской и С. В. Чудиновым в качестве ведущей пары60. Постановка 19 явно не удалась Горскому. Было много танца, много динамики, хорошо была использована сценическая площадка, участники показали много темперамента, но «рапсодии» не получилось. Не было этнографического колорита, не была раскрыта и музыкальная тема, не показан рисунок музыки. Музыка получилась придатком, аккомпанементом к танцу.
В 1920-х гг. К. Я. Голейзовский ставил 2-ю рапсодию для В. Кригер61. Он дал колоритный рисунок всей композиции. В движениях было много экспрессии. Но количество движений, обилие его [движения] и продолжительность крайне отрицательно сказались на восприятии пьесы публикой. Перегрузив номер движением, Голейзовский потопил его в равнодушии зала. Он не вызвал эмоциональной реакции зрителя62.
Постановка рапсодии Листа Л. Ивановым послужила, по-видимому, удачным прецедентом для использования высококачественной музыки для вставных номеров балета.
Горский по приезде в Москву смело пользуется классической музыкой, сначала в своих дивертисментах, которые ставит в Новом театре («Вальс-фантазия» Глинки), а позднее и в балетах63.
Здесь уместно также вспомнить и о том, что обычно А. Дункан приписывают честь использования известных композиторов в хореографическом искусстве64. Мы видим, что это утверждение неверно, если иметь в виду балет у нас в России, в частности в Москве. В Москве культура балетной музыки не была ниже, а может быть даже [стояла] и выше, чем в Петербурге.
Конечно, достойно удивления то, что мне абсолютно не запомнился Иванушка-дурачок, общий любимец детей, и сама Царь-девица. Мне как-то никогда не была по сердцу брутальная буффонада, которую разыгрывает Иванушка в сцене с ханом и с другими персонажами. По усвоенным в классическом балете драматургическим правилам Иванушка является все же побочной партией, хотя он — его образ и поведение держат в своих руках фабулу балета и его тема и есть сквозное действие спектакля. Однако в сознание мое вкоренилось, — может быть и досадное, убеждение, что раз в балете есть балерина, да еще в пачке, то она должна являться главным персонажем балета. Бесспорно, что эта неувязка чувствуется всеми. Иванушка больше мешается на сцене, чем действует и помогает балерине. Эти два персонажа находятся в печальном разъединении. Бедняжка балерина не может найти себя в этом балете и выглядит очень потерянной.
Возможно, что позднее образ Иванушки, который создавал В. А. Рябцев, так же как и привлекательный вид А. М. Балашовой — Царь-Девицы65 — вытеснили без остатка воспоминание о петербургских исполнителях этого балета.
Между тем не могу сказать того же о других спектаклях. Так, московская постановка «Лебединого озера», несмотря на то что я ее видел много раз с различными исполнителями, никогда не могла заставить меня забыть тот же балет в Петербурге. Это был один из лучших спектаклей Мариинского театра 90-х годов. Сделан он был художниками Бочаровым, Ламбиным и Андреевым66 в благопристойных, изящных, академических, розово-серо-голубых тонах. Конечно, глубину и стихийную страстность музыки Чайковского эти художники никак не выражали. Они тянули лирику Чайковского вспять, не имея возможности понять, 20 что «Лебединое озеро» открывает новую страницу в истории русского балета. Это новое есть включение балета как самодовлеющего театрального жанра в музыкальный театр. Отныне балет интерпретирует в танце не только драматические образы, но преимущественно и музыкальные. Все это стало мне понятно значительно позже, а тогда и режиссура, и зрители балет этот признавали только как «фантастический», и обставлялся он соответственно этому, со всем присущим Императорским театрам усердием, по выработанному шаблону. Спектакль этот имел весьма добросовестный и корректный вид, который всегда приятен зрителю. Я его очень ясно вижу перед собой. То, что в нем было действительно ценного, принадлежало счастливой интуиции Петипа. Однако ему же принадлежит и много курьезных для нас теперь банальностей.
Особенно запомнились мне отдельные, не повторяемые больше нигде, фрагменты постановки. В первом акте, в «Пейзанском вальсе», посредине сцены ставился шест с разноцветными лентами. В нужный момент ленты выпадали из корзины цветов сверху. Танцовщицы брались за концы лент и танцевали вокруг шеста. «Пейзанский полонез» 1-го акта проходил под аккомпанемент стука деревянных ножей «друзей» принца о деревянные же кубки. Очень хороши были невесты принца в III-м акте. Они танцевали свой вальс, одетые в длинные белые шелковые платья с тренами и с белыми веерами в руках. Это было просто и очень выразительно.
В последнем акте было несколько черных лебедей, колоритно выделяющихся из белой массы остальных и вносящих своим мрачным видом ощущение тревоги и драматизма ситуации. Декорация последнего акта изображала не нейтральный пейзаж с водой, а скалистый голый берег лебединого озера, с виднеющимся на горизонте замком принца. Картина была суровая и жуткая. Очень удачным был апофеоз балета. После мрачных сумерек сцены свидания, бури, борьбы с злым духом2*, сцена в глубине наполнялась лучезарным светом. Влюбленная пара не погибла от чар волшебства, как у Горского в Москве67. Ее спасали лебеди и везли в лодке по внезапно успокаивающейся зеркальной поверхности озера, ярко освещенной золотистым, желто-розовым светом восходящего солнца. Находящиеся на переднем плане близко к публике кулисы со скалами и высокими камышами (не претенциозными «германскими деревьями», как в Москве68) были затемнены и служили прекрасным обрамлением всей картины.
Не нарушая общей академичности стиля балета, очень колоритный образ графа Ротбарта давал Булгаков69. Он показал строго выдержанный тип средневекового рьщаря-вассала Сатаны. От него так и несло серой. А когда он мимировал, кривя рот улыбкой, то у него изо рта только-только не извергался адский пламень. Сарказм и внешний облик Ротбарта были близки появившемуся несколько позднее шаляпинскому Мефистофелю70, у которого черт со шпагой и шляпой никогда не был пошлым и банальным. В московских постановках сатанинский образ Ротбарта совсем стушевался и пропал71. Много повредил ему неуклюжий костюм и непонятный грим72. Да и постановщики, видимо, не обратили на него достаточного 21 внимания. Горскому всякая чертовщина была абсолютно чужда. В Петербурге Булгаков в последнем акте отбрасывал свой европейский костюм и элегантные манеры и превращался в самого настоящего дьявола с крыльями и рогами. В Москве почему-то делали его «совой». В Мариинском театре проделывалась интересная режиссерская игра с этой птицей. Она появлялась на сцене, сидящая на камне или летящая, тогда, когда Ротбарт хотел быть невидимым или посмотреть, чем занимались лебеди-девушки в его отсутствие. Так, сова, взволнованно перелетая с места на место, очень выразительно реагировала на любовный разговор и свидание принца с Одеттой. Булгаков поднял малозаметную роль Ротбарта на значительную высоту. Впрочем, Булгаков — артист, который всегда умеет заполнять пустые места в балете. Вот уж действительно, что «не место красит человека».
Говоря о петербургском «Лебедином озере», необходимо упомянуть и о бесподобной Леньяни. Она умопомрачительно танцевала партию Одетты-Одиллии. Впоследствии, начиная с 1904 года73, мне пришлось неоднократно смотреть в этой роли Гельцер. Сравнение напрашивалось само собой.
Конечно, обе балерины показывали безупречную и, главное, насыщенную технику танцевального искусства. Особенностью мастерства обеих танцовщиц было то, что они при любом составе исполнителей, при всякой труппе, всегда были бы первыми в ее рядах. И та и другая делались немедленно главными персонажами балета. И та и другая умели показать себя на сцене чрезвычайно эффектными и значительными. Но между ним было глубокое различие.
Гельцер в танце давала не больше и не меньше того, что было нужно публике для получения должного впечатления, в то же время строго рассчитывая свои силы. Внешне легко преодолевая технически трудные движения, Гельцер показывала как бы предел напряжения, предел возможной для человека танцевальной техники. Гельцер поражала зрителя умеренностью и блеском, математической точностью и размеренностью. Однако за этим блестящим исполнением чувствовался не творческий порыв, а расчет, простой арифметический расчет. Гельцер как бы безукоризненно решала ногами самые сложные алгебраические и геометрические задачи и теоремы, атрибут ее стиля никогда поэтому не входил в ее танцевальное искусство. Стиль ее танца был «партерный», наземный, не воздушный. Только на земле она чувствовала себя очень уверенно и неохотно отделялась от нее. Таким образом, свой танец Гельцер располагала более в горизонтальной плоскости сцены, чем в вертикальной.
Адажио ее было эффектно, смело, уверенно и наполнено массой твердого, [раз]работанного тела, не лишенного женского обаяния. Также и арабеск, особенно если он был поддержан В. Д. Тихомировым74, хотя по красоте линии он уступал многим другим танцовщицам. У Гельцер были несколько укороченные кисти рук, грубые ноги, но крепкие.
Кульминационным моментом всего танцевального действия в «Лебедином озере» считается кода 3-го акта, с ее ставшими ныне знаменитыми фуэте. Для Гельцер эта кода была ответственнейшим танцевальным номером. Леньяни показывала в этой коде необычайную силу танцевального вдохновения, вкладывая в исполнение фуэте демоническую страстность и напористость. Делалось ясно, что она этими бешеными магическими кругами заколдует принца и он, отбросив 22 сомнения, падет к ее ногам. Леньяни вела фуэте poco a poco crescendo, con brio e anima, с каждым своим поворотом тела как бы нагнетая и усиливая колдовское действие75. Может быть, ни в одном другом балете танцевальное движение не передает с такой выразительной экспрессией и характер персонажа, и самый драматический эпизод, вызвавший к жизни данное движение.
Вспоминается мне еще Леньяни в «Раймонде». В Петербурге балет этот, несмотря на свою грандиозную танцевальную программу, переполненную и классическими, и характерными танцами, был показан достаточно тускло, бесцветно и даже бледно, тогда как эта постановка у Горского звучала как сплошной праздник жизни76. Хотя вся хореографическая композиция Петипа была безупречна со стороны формы академического балетного спектакля, но она не в силах была передать те новые эмоциональные переживания, которые рождали импрессионистические звучания музыкальной партитуры Глазунова.
Симметрическая композиция хореографии Петипа никак не могла увязаться с импрессионистической манерой звукописи, с новыми гармониями и с новыми инструментальными приемами композитора. Глазунов говорил Ю. А. Шапорину77, что М. И. Петипа никак не хотел допустить гобой как ведущий инструмент в одной из вариаций Раймонды78. Для Петипа действительно автор музыки «Раймонды» был «глазу нов, а уху дик»79.
Горский в своей постановке «Раймонды» не выходил за пределы формы старого классического балета, тем не менее показал живописный и, как говорится, «молодой и свежий» спектакль. Статическая, спокойная и бестемпераментная музыка Глазунова вдруг приобрела движение, порыв, живость, заиграла и засверкала в восторге движения и красок. Конечно, дело было не только в значительно более ускоренных темпах музыки, которые вообще в московском балете всегда быстрее, чем в петроградском. Удивительно, что даже обычно невозмутимо флегматичный А. Ф. Арендс80 и тот, увлеченный общим порывом участников балета, сочно и темпераментно вел оркестр, заслужив благодарность композитора, вообще оставшегося удовлетворенным московским спектаклем.
Глазунов, как рассказывают, знал Горского еще по Петербургу81. Будучи уже солистом балета, Горский, недурно играя и импровизируя на рояле, стал брать уроки теории и гармонии у Глазунова, который поощрял его к этим занятиям. Горский немного побаивался, как отнесется композитор к его новаторским начинаниям, хотя и лично пригласил его на премьеру.
В разговоре с балетмейстером Глазунов отметил живость действия и очень одобрил колоритность и сочность всей постановки, близкие по характеру к его музыке.
Новостью в этом балете было удлинение юбок82. Они опустились в характерных танцах ниже колен и у солисток, и у кордебалета. В классическом венгерском танце последнего акта были сохранены пачки. Гельцер, кажется, впервые вместо пачки в картине «Сон» надела белый хитончик-рубашку.
Особенно удачными по нарастанию движения, по насыщенности хореографического и драматического действия были два pas d’action в картине «Сон» и во II-м акте (в сцене с Абдерахманом).
Необходимо отметить, что этот балет лишен обычного для Петипа динамичного драматического развития фабулы. В нем очень немного пантомимы и мимических 23 сцен. Коллизия балета развивается в двух планах: Раймонда — Абдерахман и Раймонда — де Бриен. И обе эти коллизии показаны танцевально в больших танцевальных сценах pas d’action. Причем в первом из них («Сон») происходит как бы завязка драмы. Кульминация ее, драматическое напряжение и нарастание сценического действия [(очень примитивное) — вычеркнуто] разряжается в pas d’action 2-го акта.
Наиболее удачными из отдельных танцев надо считать: восточную вариацию (Orientale), которую пластично и не без задора исполняла Балашова83. Эмоционально проходил танец с цветами (в Петербурге — танец детей) Каралли с партнером в последнем акте84. Но особенно любил я по музыке и по ее хореографической интерпретации танец «Глашатаи утра» (в Петербурге — танец блуждающих огней). Когда «Сон» кончается, Раймонда, напуганная и утомленная ночными видениями, падает в изнеможении на землю. Все скрываются, и вот появляются три фигуры в хитончиках с трубами. Они танцуют что-то пластическое, по стилю напоминающее будущий танец Гельцер «Гений Бельгии»85, по форме композиции — очень примитивное. Это прыжочки с поднятием труб кверху и замирание на позах а-ля босоножки. Я не знаю музыки, которая лучше могла бы передавать ритмы и настроение пробуждающейся природы перед рассветом. Только Э. Григ в своих Morgenstimmung достигал подобной же силы.
Прославленную мужскую вариацию «четырех кавалеров» Горский оставил без изменений, как ее создал в свое время Петипа и как ее танцевал сам Горский в Петербурге86. Карикатура Легатов изображает Горского в этой танцевальной картине с козлиной бородкой, которую он стал носить после перевода в Москву87.
Знаменитый испанский танец (Panaderos) II-го акта, в котором петербуржцы очень любили смотреть М. М. Петипа, а потом и А. Павлову, был Горским переставлен. Он не производил особенного впечатления, хотя танцевала его О. В. Федорова. У Петипа в этом танце было больше строгости и завершенности формы движений. О. В. Федорова и С. В. Чудинов, даже Козлов и др. уж очень отплясывали его «по-московски» развязно. Одеты [танцующие были] не в костюмы христианских испанцев, а в восточные «мавританские». Может быть, это и правильно, раз они появляются в свите мавританского рыцаря, но, тем не менее, этот «гвоздь» петербургской постановки совершенно пропадал в Москве и, пожалуй, был самым бледным номером всего балета88.
Менее ярким и самобытным показал себя в «Раймонде» Коровин. Композиция I-го акта была разработана художником Г. Головым89. Большая арка через всю сцену, с запахивающейся портьерой, в балете была новостью. Она давала возможность вести действие одновременно впереди, на просцениуме, и на заднем плане, в глубине за порталом. Но те возможности, которые такая планировка давала режиссеру, не были достаточно использованы Горским, и, таким образом, громоздкая, малоприятная по своей линии арка, а также и портьера остались не обыгранными. Картина вся была смонтирована в одной плоскости сцены. Очень неинтересно и скучно был показан cour d’honneur — двор замка. Последняя декорация также была весьма обыкновенной. Это для Коровина был все тот же, уже много раз виденный, бесформенный и не имеющий собственного лица арочный сад, с свободно переплетающимися ветвями и большими цветами на них, все в серо-лилово-розовой гамме, очень в конце концов надоедливой и приедающейся [см. ниже коммент. 9 Г. Р.-К.].
24 Конечно, я посещал в раннем детстве и «Спящую красавицу»90. Надо заметить, что балет этот навевал на меня тогда порядочную скуку. Что бы ни говорили сердобольные родители, это, конечно, не детский балет. Его ревностным почитателем я стал гораздо позднее.
Любопытно, что удивительная красота музыки «Спящей красавицы» редко воспринимается сразу. Не могу не напомнить, что когда Александр III в первый раз смотрел «Спящую красавицу», он лишь милостиво изволил заметить «Очень мило» обидевшемуся на это композитору91. Но зато потом он переменил свою оценку. У нас в семье сохранилось предание, что, уже будучи тяжело больным, царь просил играть для него музыкальный антракт-панораму, безмятежно спокойный ритм которой его будто бы успокаивал.
Горский, как известно, в 1899 г. в Москве повторил петербургскую постановку Петипа, допустив незначительные отступления в сторону сокращения, главным образом программы танцев92. Костюмы были так же, как в Петербурге, сделаны по эскизам Всеволожского и его жены93. Декорации также по композиции и стилю почти в точности дублировали петербургскую постановку94.
Считаю нужным записать то, что рассказывала мне О. В. Некрасова об этой постановке95. По ее словам, в Москве «Спящую красавицу» начал ставить Л. И. Иванов. Но очень скоро почему-то прервал репетиции и уехал в Петербург96. Потом уже дирекция, зная, что Горский хорошо изучил систему записи театральных движений («хореографию»), изобретенную артистом балета Степановым, командировала его в Москву для постановки «Спящей красавицы». Горский после смерти Степанова преподавал «хореографию» в Петербургском театральном училище97.
Обладая прекрасной танцевальной памятью, Горский в совершенстве знал всю хореографическую партитуру этого балета Петипа. Поэтому, между прочим, когда на первой же репетиции в Большом театре «доброжелатели» украли у него степановскую запись «Спящей красавицы», то он, не смутившись, продолжал репетицию по памяти [см. ниже коммент. 10 Г. Р.-К.].
Надо иметь в виду, что те незначительные изменения, которые Горский допустил в своей постановке, были им сделаны сознательно. Так, он в 1-м акте переделал адажио Авроры и Четырех принцев (Аврору танцевала тогда Рославлева98), усложнив их движения. Точно так же переставил он адажио в картине «Тени»99 [«Нереиды»] и вариацию камней в финале балета. Кое-что было им совсем выпущено: [во II-м акте] танцы придворных дам, маркиз, графинь и пр., в III-м акте танец Мальчика-с-пальчик [и его братьев], танец Золушки [и принца Шарман] в дивертисменте. Также марш в начале последнего акта и сарабанду в его конце Горский упразднил позднее, в 1907 г.100 Но все остальное и особенно стиль танцев явились точной копией постановки Петипа. В течение своей тридцатилетней сценической жизни на сцене Большого театра эта постановка могла служить образцом балетов Петипа для тех, кто никогда не видел их в Петербурге101.
Однако «Спящая красавица» является некоторым исключением из балетной драматургии Петипа. Балет этот начинает последний период деятельности Петипа. Чайковский направляет русский балет по пути музыкального театра. Петипа этого не понимает. Он далек от мысли, что он принимает самое активное участие в создании нового балетного спектакля. В сценарии «Спящей красавицы» отсутствует 25 ясная сюжетная линия. В нем мало драматического действия. Может быть, это объясняется тем, что балетмейстер получил либретто «Спящей красавицы» непосредственно из рук директора театров. Возражать нельзя было, если бы он этого и хотел. Ему оставалось только быстро набросать сценарий, уложить его в танцевальную форму и договориться с композитором.
Имеются указания, что Петипа, возможно по мысли Всеволожского, хотел в апофеозе балета показать Людовика XIV. Может быть, у них была мысль провести некоторую аналогию между двумя представителями крайнего абсолютизма Франции и России. К счастью, позднее эта убогая мысль была оставлена102. Во всяком случае, никакой символики или политической тенденции в балете авторы его не дали. Вряд ли также и Чайковский думал о той основной идее, которая должна была быть заложена, как об этом пишет Кашкин, в композицию этого балета. Эта идея есть тема борьбы добра и зла, тема торжества света над тьмой103.
Тема сказки Перро «Спящая красавица» есть выраженная в художественной форме вечно беспокоящая человека мысль о космической борьбе сил природы, пробуждении спящей природы весной под действием поцелуя животворящего солнца. Образ спящей девушки, пробужденной молодым героем, не есть принадлежность лишь французского народного эпоса. Вспомним также Кримгильду и Зигфрида104 [см. ниже коммент. 11 Г. Р.-К.].
От «Щелкунчика» у меня лучше всего сохранился в [памяти] 1-й акт. Это вполне понятно, если принять во внимание восприятие детского возраста. Хорошо также представляется мне и вальс снежинок. Уж очень эта картина не была похожа на обыкновенный балет в Мариинском театре. Реально написанный еловый лес скорее напоминал сцену Сусанина с поляками, чем балетную декорацию. Луна. Мороз. В начале лишь слегка падающий снежок, переходящий в конце танца в густой снегопад. И особенно запечатлелся гениально по экспрессии сделанный хор мальчиков за сценой. Картина эта была настолько неожиданно оригинальной, что, конечно, надолго сохранилась в анналах русского балета как нечто необычайное, из ряда вон выходящее. Вполне правильно говорить о реалистических тенденциях, имеющихся в этой картине. Декорацией для вальса снежинок служил не общепринятый «германский лес», а молодой еловый русский лес, написанный верным своей прирожденной пейзажной манере М. Бочаровым. Хореографическая композиция вальса3* основана на последовательном увеличении числа танцующих. Их группировки имитируют орнаменты и формы звезд снежинок105. Но, конечно, все это были лишь случайные элементы реализма. Элементы, которые время от времени проникали на оперную и балетную сцену Императорских театров, но для произрастания которых почва не была еще достаточно подготовлена. Они оживляли иногда постановку («Евгений Онегин» в 1900 г. в Петербурге106), но никакого влияния на общий курс театра не имели. Естественность, «натура» Шишкова107 и Бочарова не выходила при этом за грань старого академического письма, хотя оба они не лишены были подлинного ощущения природы и в своих эскизах к декорациям очень умели это при случае выразить. Но слишком откровенно выражать такие «демократические вкусы» в казенном театре они, видимо, не могли. Все-таки 26 с точки зрения высокопоставленных любителей искусств всякая естественность могла явиться выражением дурного тона. И вот художникам приходилось балансировать между влечениями своего сердца и требованиями «казенного дома» — конторой Иператорских театров.
Очень любопытно поэтому сопоставить эскизы Бочарова, имеющиеся в Музее Бахрушина, с их окончательным сценическим воплощением.
Я любил еще в «Щелкунчике», в его 1-м акте, приятно выраженный стиль «бидермайер». К строгости и спокойствию его форм очень шла респектабельная интерпретация его казенным театром. Новые, еще свежие декорации Иванова выглядели здесь уже совсем старенькими, серыми и тусклыми, как бы покрытыми «пылью времени»108. Несколько позднее, в 1907 г., при постановке «Вертера» в Большом театре, «собранной» К. Ф. Вальцем из всякой декоративной завали109, я еще раз ощутил эту атмосферу старого театра, этот стиль «доброго старого времени».
Музыка «Щелкунчика» была долгие годы мне непонятна. Партитура этого балета, так же как и «Спящей красавицы», во многих местах очень субъективна и сугубо интимна. Некоторые страницы ее делаются близкими и до конца любимыми лишь при глубоком и длительном знакомстве с ними. Так это и случилось со мной. Я узнал или, вернее, «открыл» «Щелкунчика» лишь в 1919 г., когда его ставил Горский в Москве [см. ниже коммент. 11 bis]110.
Декорация II-го акта была безвкусна до ужаса. Грубая по фактуре, вульгарная по краскам, орнаментировка стен и арок представляла собой различные конфетки, пирожки, пряники и пр. Теляковский совершенно правильно писал об антиэстетичном виде танцующих бриошей111. Конечно, музыка Чайковского завязла в этой сладкой трясине безвкусья, и вытащить ее оттуда было не по плечу и не по силам Иванову. Поэтому нельзя не согласиться с М. И. Чайковским, который писал, что Л. И. Иванов не мог содействовать успеху спектакля, и «Щелкунчик» быстро приелся публике112.
«Дочь фараона». М. Ф. Кшесинская113
«Дочь фараона» запечатлелась в моем сознании довольно хорошо. Особенно запомнился своеобразный и ни на кого не похожий по манере себя держать на сцене сценический образ М. Ф. Кшесинской.
Вот — Аспиччия, Дочь фараона, встает из гробницы, освещенная прожекторами, в модной прическе «колбаской» над лбом, с громадными бриллиантами в ушах и на шее. На ней надето узкое белое платье с треном, все сверкающее блестками. Этот роскошный «египетский» костюм, имитирующий самую последнюю парижскую моду, был сшит, конечно, не в театральной мастерской, а у знаменитой петербургской портнихи Эстер, сводницы и аферистки114. Другой такой туалет, не менее элегантный, Кшесинская показывает в конце балета, когда она возвращается со дна Нила домой. По этому случаю она надевает плотно облегающее фигуру шелковое легкое платье бледно-лилового цвета с серебряной отделкой и с длинным легким треном, который Кшесинская, в сильно драматической сцене с фараоном, эффектно закатывая глаза, очень ловко отбрасывала на поворотах ногой назад. На ногах золотые туфли на французском каблуке. Это был тот самый «дорожный костюм», в котором она сбежала из дворца своего отца фараона.
27 Апломб у Кшесинской был исключительный. Сложена она была не безукоризненно. Роста ниже среднего. Ее костяк, по-видимому, был хорошо приспособлен для танцевальной техники, которой она прекрасно владела. Кажется, ни у кого из балерин нога не шла так высоко, намного выше головы, как у Кшесинской.
Была она достаточно легка, очень устойчива, танцевальна, в меру музыкальна. В этом последнем качестве О. О. Преображенская намного ее превосходила, впрочем как вообще всех мной виденных танцовщиц.
Техника танца легко давалась Кшесинской, но она ею пользовалась в меру, ровно настолько, чтобы занимать первое место в театре. Никаких чрезвычайных трудностей, подобно тем, которыми любили блеснуть в классическом танце Леньяни или Гельцер, она не показывала.
Драматическое ее дарование было намного слабее танцевального. Вернее, у нее был драматический талант, но чисто французского, изящного, легкого стиля. Кшесинская могла в патетических сценах вызвать улыбку у русского зрителя, воспитанного в совсем других актерских традициях. На сцене у Кшесинской все подчинялось не требованию искусства, а желанию нравиться, и главным образом нравиться как женщина115. Честолюбие ее было гигантским. Для нее театр, так же как, пожалуй, для Савиной, был не целью в жизни, а средством для господства над другими. Теляковский очень верно обрисовал ее в своих воспоминаниях116.
Она была в самом полном и абсолютном значении слова «премьерша». В этом отношении очень любопытно было наблюдать ее поведение на сцене. Первое ее появление в спектакле, уход, выход после окончания номера на аплодисменты носили такой неприкрытый характер фальши, деланности, жеманства, торжествующей беспредельной наглости, что делалось стыдно за артистку, за театр и за себя, что присутствуешь при таком откровенном попирании женской скромности и артистического достоинства.
Вот как это происходило. Кшесинская выбегала на сцену уже с готовой улыбкой, означавшей: «вот и я — ваша общая любимица, единственная и лучшая из всех». Останавливалась, не спеша подходила ближе к рампе. Опускала беспомощно руки, склонив головку на бок и глядя на публику с жеманным видом избалованного ребенка, как будто хотела сказать: «Ах! Господи! за что же вы меня все так сильно любите?..» Потом она обводила своими наглыми глазам зрительный зал, притворяясь, что так сильно хлопают со всех сторон, что она не знает, кому прежде поклониться. Тем не менее, конечно, первый поклон она неизменно делала в сторону царской ложи [см. ниже коммент. 12 Г. Р.-К.], пригибаясь чуть не до земли и виляя всем телом. Затем, отнюдь не спеша уйти обратно за кулисы или начать свой танец, она раскланивалась в другие стороны, но значительно менее почтительно и аффектированно, уже не как последняя из верноподданных, а как несколько утомленная от оваций актриса117.
Кшесинская была, безусловно, незаурядной личностью. Она вела большую игру, как в жизни, так и на сцене. Она много «дерзала» и поэтому много и имела.
Ее дневники дают возможность видеть, что все ее мечты, еще на школьной скамье, были устремлены на то, чтобы «поймать» какую-нибудь августейшую персону. И действительно, в ее дневниках можно подробно прочесть о том, с какой энергией, с каким рвением, с упорством и самоотверженностью она «боролась» за обладание царственным юношей, будущим самодержцем Николаем II. Охотилась 28 она за ним не одна. Ей помогали ее родные118. Больше всех ее сестра — Юлия, по сцене Кшесинская 1-я, а в жизни законная жена барона Зедделера, Преображенского офицера, следовательно, сослуживца Николая Александровича по полку119. Немало старался и брат Иосиф, или попросту Юзя120, тот самый, который говорил, что когда его наградили медалью, как и прочих актеров, он «бросил ее в лицо директора Теляковского», считая, что ему как благородному польскому шляхтичу могли дать только орден121. Впрочем, этот его рассказ, так же как и многие другие его повествования, никем не подтверждается. Недаром он был заядлым охотником122. Сами родители прелестной Мали, как говорят (пишу со слов Е. Н. Мининой123), придумали какую-то комбинацию. Дверь из комнаты дочери они заменили портьерой, чтобы вовремя увидеть то, что должно было за ней произойти124. Игра велась беззастенчивая, циничная и в то же время крайне для игроков рискованная.
Об опасности такой игры с наследником при жизни его сурового отца предупреждали Кшесинскую, как она сама пишет, и М. И. Петипа, и даже совсем для нее посторонний человек, Н. Н. Фигнер125.
Конечно, если бы об этой интриге узнал Александр III, то последствия были бы печальные. Шутить в деле, касающемся престижа его семьи, он не любил126. Как известно, он очень мучительно реагировал на старческое увлечение своего отца и, предоставив Юрьевской до конца сыграть роль морганатической супруги Александра II, на другой день после его похорон перевез из дворца овдовевшую княгиню в купленный для нее дом на Гагаринской улице.
Великие князья «Михайловичи»127 знали характер царя и очень боялись, что их роль сводников в этом деле может стать известна. Не боялась огласки, кажется, только одна Кшесинская. Не пугалась она скандала и как артистка. Она понимала, что на театральном поприще чем в больший скандал замешается ее имя, тем дороже она будет цениться на артистическом рынке.
Рекламой Кшесинская не брезговала никогда. Помню один такой балетный спектакль в 1902 или 1903 г. Шел «Конек-Горбунок». Весь Мариинский театр был заклеен и усыпан анонсами-воззваниями М. Кшесинской к публике, в которых было напечатано, что она, ввиду только что перенесенной тяжелой болезни, просит у публики снисхождения. Вообще в те времена такие обращения были приняты, как они нам ни кажутся сейчас наивными и дикими. Но такого рода воззвание Кшесинской, конечно, было не более как одним из видов рекламы. Ведь публике было хорошо известно, что никто в России не мог бы принудить Кшесинскую танцевать, если бы она чувствовала себя недостаточно здоровой или физически крепкой, или если бы она была, как говорят спортсмены, «не в полной форме».
Поймать Николая, несмотря на его молодость (ему тогда было 22 года), оказалось не так-то легко, хотя он и был, по-видимому, сильно увлечен Кшесинской. У него оказались такие крепкие моральные устои, о которые долгое время разбивались все атаки прелестной Мали. Правда, они быстро выпили на «брудершафт». Она стала ему говорить «Ники» и называть царя «папа» (это Александра-то Третьего!). Затем, не откладывая, она стала требовать, чтобы он снимал у нее свой мундир, под предлогом, что царапаются его пуговицы и т. д., и т. п., но до «развязки» романа все было далеко, и Николай никак не хотел, несмотря на ее уговоры, переступить ту черту, которая ее приблизила бы.
29 Сначала Николай заявил, что его смущает, что он должен быть у ней «первым». Он считал, что это должно было возложить на него как на мужчину такие обязательства, которых он по своему положению наследника выполнить не мог. Позднее, когда встал вопрос о его женитьбе на Александре Федоровне, у него появилось убеждение в необходимости сохранить свое целомудрие. Великие князья «Михайловичи» — сверстники Николая, обещали Кшесинской помочь ей уговорить его не обращать внимания на эти «мелочи». Мне не известен результат этих уговоров, т. к. здесь как раз обрываются записки Кшесинской [см. ниже коммент. 13 Г. Р.-К.]. Во всяком случае, записки эти рисуют нам портрет юноши Николая с весьма положительной стороны. Для нас являются несколько неожиданными его моральные устои и его сильно развитое чувство мужской порядочности128.
Любопытно, что Кшесинская пыталась, правда безуспешно, ревновать Николая к Александре Федоровне129. И в то же самое время, страхуя себя от неожиданностей со стороны «обожаемого» ею Ники, перемигивалась с веселым малым — Сергеем Михайловичем, которого спустя несколько лет все-таки сделала отцом своего ребенка130. Эта связь длилась довольно долго. Она дала ей возможность заняться крупной игрой на бирже, а также различными поставками и финансовыми аферами131. Когда же разразилась революция, Кшесинская бежала за границу с вел. кн. Андреем Владимировичем132 и, уже будучи в весьма солидном возрасте, вышла за него замуж, став именоваться «княгиней Красинской» [см. ниже коммент. 14 Г. Р.-К.].
Петипа показал в финале балета «Дочь фараона» очень эффектный танец с тарелочками (кроталями). Исполнялся он на счет 3/4. Пара за парой выходят, танцуя, из-за кулис, исполняя одни и те же движения и понемногу заполняя всю сцену. Так вступают в танец и кордебалет, и солистки, и, наконец, балерина со своим партнером. Все они ударяют в ритм танца в металлические тарелочки, а также в те, которые привязаны у них на сгибе руки у локтя. Первые четыре такта акцентируются на счете «раз», а следующие четыре по одному удару приходится в свои тарелочки и на «два» и «три» в тарелки своего партнера «крест-накрест». Последующие ритмические комбинации включают и удары в тарелочки соседних пар. Эффектность этой сцены достигается примерно тем же приемом, который применялся Петипа в финале «Баядерки» в известном выходе теней133. Условно я хотел бы его назвать — унисонное умножение движения.
Постепенное количественное подчеркивание ритма одним и тем же движением возрастающего числа исполнителей создает очень четкий ритмический рисунок, который в течение исполнения танца усложняется количественным акцентированием ритма.
Горский сохранил этот танец в своей московской постановке «Дочери фараона». Петипа заканчивает балет пробуждением англичанина после сна в пирамиде. У Петипа танец с кроталями следует непосредственно после сцены суда над негром и спасения Аспиччией англичанина. Больше в этой картине у Петипа танцев нет. Горский отделяет сцену суда от последней большой танцевальной картины, в которую входят: танец девушек и жриц, большое адажио балерины с вариациями (музыка Блейхмана и др.), танец с кроталями. Этой же картиной заканчивается и 30 балет. Такой финал грешит против здравого смысла. Начав балет тем, что англичанин заснул и видит сон, надо было его, конечно, так или иначе, разбудить в конце. Горский допустил здесь ошибку, он уводит зрителя из мира реального в область фантастики и на этом обрывает сценическое действие. Для Горского подобный конец является довольно характерным. Так, «Баядерку» Горский заканчивает тем, что Солор попадает в мир теней, где встречается со своей возлюбленной, тем самым выбрасывая из фабулы балета тему возмездия и давая ему самое житейское обывательское направление134. Такое завершение балета было бы понятно, если бы Солор умер. Но он жив, и тени являются лишь его сном, грезой, мечтой. Это очень реально показано Горским в мимической сцене, в которой Солор ложится на кушетку, а рядом с ним помещается старик-индус — вызыватель теней, за которыми Солор и устремляется.
Петипа поэтому был, конечно, вправе обижаться на Горского и обвинять в искажении его сочинений. Как это ни странно, но Горский недостаточно корректно относился к авторскому праву Петипа. Кастрируя и искажая либретто старых балетов, автором которых являлся Петипа, он в то же время оставлял в своих новых постановках многие танцевальные номера, сочиненные старым балетмейстером. Горский не скрывал при этом, что, оставляя их в новой сценической интерпретации старого балета, он это делал вполне сознательно, признавая их высокие хореографические качества. Однако в программах фамилия Петипа, автора этих танцев, почти никогда не фигурировала. И это, конечно, глубоко возмущало Петипа.
Нет никаких оснований предполагать здесь проявление злой воли со стороны Горского. Можно говорить лишь о недостатке настойчивости его перед дирекцией театров, которая, в лице Теляковского, явно недолюбливала Петипа, в недостаточно тщательном редактировании им программы спектаклей, непродуманном, несколько легкомысленном отношении к старому петербургскому мастеру балета, в некотором молодом, «зеленом», авторском самодовольстве и вообще в чрезмерной легкости обращения с такой субтильной материей, как авторское право собственности в балетном театре135.
Другие балетные спектакли 90-х годов за редким исключением как-то промелькнули мимо моей памяти. Все эти «Цари Кандавлы», «Сандрильоны», «Синие Бороды», «Гарлемские тюльпаны» и др., все они были чрезвычайно однообразны и бледны136. Такие балеты, как «Синяя Борода» и «Золушка», могли бы по своему сюжету просуществовать дольше того, что прожили они на Мариинской сцене. Неуспех этих балетов надо искать в серой обыденности их танцев, посредственной музыке, в устаревших приемах постановки, в приевшейся академичности стиля хореографии Петипа. Но, по-видимому, решающее значение здесь имела все же слабая музыка Шенка и Б. Шеля137. И, конечно, если бы Всеволожский поручил писать музыку к «Раймонде» кому-нибудь из этих композиторов или М. М. Иванову138, а не Глазунову, то и этот балет постиг бы такой же бесславный конец, как и большинство созданий Петипа этого периода.
Неудача этих балетов не умаляет ни в какой мере заслуг перед русским балетом М. И. Петипа, так же как И. А. Всеволожского. Этот администратор делал очень и очень много, как умел лучше, для оживления репертуара балетного театра 31 90-х годов. Заменить автора «Спящей красавицы», во всяком случае в ближайшее же время, было невозможно никем. Не приглашать же было опять ученого музыканта-скопца М. М. Иванова, который в своей «Весталке» дал образец самого педантичного отношения к порученному ему делу, дал сухую музыкальную схему теоретически возможной музыки и не обнаружил никакого дарования, необходимого для самой примитивной композиции балетного спектакля.
Положение дирекции было, конечно, трудное, т. к. Чайковский указал заманчивые горизонты для создания нового балетного спектакля, основанного на всемерном усилении значения музыкальной партитуры и на утверждении за балетом права именоваться — наравне с оперой — музыкальным театром.
[«Коппелия». Е. В. Гельцер]
Необходимо отметить, что, кроме балетов Чайковского и Глазунова, одна только «Коппелия», возобновленная в это время в ультрафранцузской академической манере, немного выдавалась из серой массы балетного репертуара139. «Коппелия» является во всякие времена симпатичным и приятным спектаклем, главным образом из-за своей умной музыки и живого сюжета. В Москве в годы торжества импрессионистических принципов в балете, когда Гельцер поставила «Коппелию» в свой бенефис, смотрелась она как редкий музейный экспонат140. Выглядела она ветхой и древней, а между тем это была лишь мода вчерашнего дня, которая, как известно, всегда очень старообразна. Выбор «Коппелии» для своего бенефиса характерен для Гельцер. Так оно и должно было быть. В это время Гельцер всячески противилась всем нововведениям Горского в балете. Это была оппозиция группы немногочисленной, но весьма авторитетной по занимаемому Гельцер и В. Д. Тихомировым в театре положению. Они оба борются с «дунканизмом», который Горским протаскивается на императорскую сцену. В этой борьбе они не замечают того положительного, что несет в театр драматургия Горского. Поэтому «дунканизмом» они обзывали не только «голоножие», но все то, что было не похоже на старый балет, так называемый «балет Петипа». «Признание» Горского московской прима-балериной последовало лишь после «Саламбо», который дал возможность Гельцер крайне выгодно показать свое артистическое дарование141. Да и это признание было условным, «постольку поскольку».
Постановка «Коппелии» была со стороны Гельцер своего рода демонстрацией. Ее выступление в Сванильде имело характер декларирования своей эстетической программы. Впрочем, кроме причин принципиальных, Гельцер выбрала «Коппелию» еще и потому, что, может быть, ни в каком другом балете Гельцер не блеснула так своим замечательным мастерством классической танцовщицы старой школы Иогансона — Петипа, удивительно гармонично сочетавшей в себе элементы французского и итальянского стиля танца142.
В годы моей юности я не любил «Коппелию» по одной очень смешной для меня теперь причине. Мне было досадно, что балет этот рано кончается, — в одиннадцатом часу можно уже было быть дома! Между тем, заплатив за билет «полным рублем», хотелось иметь удовольствие на весь вечер. Так обычно и бывало, когда шли «Дочь фараона» или «Саламбо». Они оканчивались около 12 часов ночи. В зрелые годы я понял, что эта непродолжительность балетного действия «Коппелии» 32 составляет одно из ее достоинств. В самом деле, сценарий этого балета составлен так умело, что может считаться образцом для классического балета. Действие чрезвычайно уплотнено и показано компактно в 3-х актах без картин, за исключением не связанных с действием танцев 1-го акта (мазурка и вариации), в балете этом нет ничего лишнего. Все в либретто его закономерно и логично.
Для меня «Коппелия» до сих пор является загадкой. Сочинил ли «Коппелию» действительно Сен-Леон? Мне думается, что участия в сценической разработке он не принимал. Формы его сценического мышления были более расплывчатые. Он не любил концентрировать действие. По-видимому, либретто было сделано целиком одним Нюитером. Творческий стиль Сен-Леона обнаруживается лишь в обилии разнохарактерных танцев последнего акта. Интересно было бы узнать, насколько Петипа отошел от хореографии автора143?
[«Маркобомба»]
Как курьез хочется мне еще отметить виденный мной в эти же годы (по-видимому, в 1899 г.) в бенефис Л. И. Иванова в Мариинском театре комический балет «Маркобомбу». Этот одноактный балет, сочиненный в пятидесятых годах Ж. Перро, появлялся время от времени, так же как и балет «Два вора», на балетных сценах Петербурга и Москвы и даже в провинции (Киев, например) в тех случаях, когда находились для его исполнения талантливые актеры-комики, которым принадлежат в нем ведущие роли144.
В «Маркобомбе» был очень комичный эпизод, звучащий как танцевальный фарс и заставляющий публику много и крепко смеяться. Эпизод этот следующий: весело отплясывающая молодежь узнает, что в деревню явился вербовщик солдат — Маркобомба. Мгновенно все парни прикидываются калеками. Однако, как только сержант отворачивается, они снова пускаются в пляс и ухаживают за девушками. Особенно смешон был тот парень, который имитировал нищего с парализованными ногами, просящего милостыню. Его играл, если не ошибаюсь, сам Л. И. Иванов или Стуколкин. Он катался в детской деревянной повозке, поджав под себя ноги и проделывая разные комичные «фарсы». Среди них был один особенно смешной. Думая, что Маркобомба его не видит, он вылезал из повозки и принимался плясать. Но вот Маркобомба неожиданно оглядывался на него. С испуга инвалид не мог сесть обратно в свою колясочку и начинал бегать по сцене, опустившись на корточки. Подражая движению коляски, он раскачивался из стороны в сторону и наконец останавливался перед Маркобомбой и, сняв шляпу, умильно просил милостыню, все еще сидя на корточках145.
Много лет спустя, услышав от меня об этом балете, его захотел поставить А. Шатин, руководитель самодеятельного театра в Парке культуры в Москве. В его постановке от старого «Маркобомбы» сохранилось лишь название и эпизод с симуляцией парнями калек. Все остальное, включая и новую музыку, написанную С. А. Халатовым, было переделано. Эпизод с калеками — центральное место старой постановки Шатин обратил в эпизод, совершенно лишенный комического характера. Стержнем всего драматического действия сделан у него Джулио, бродячий итальянский актер, придумывающий запутанную интригу для того, чтобы благополучно закончить балет изгнанием Маркобомбы146.
33 М. И. Петипа
Ни в каком другом театральном жанре не были так сильны у нас западноевропейские традиции, как в балете.
Во второй половине XIX века, с приходом Петипа к руководству русским балетом, окончательно устанавливается влияние французского академического стиля, пришедшего на смену немецкому романтизму (Ф. Эльслер147).
Так, на смену бурным проявлениям человеческих страстей и величия человеческого духа пришел тихий, спокойный, равнодушный ко всему на свете (кроме своих личных дел) стиль буржуазного академизма.
Петипа вырос как артист и как художник в годы романтизма и его самого яркого цветения. На русской сцене это было время Перро и Ф. Эльслер. Между тем, как это ни странно, вкусы его оказались более консервативны, чем окружающих его артистов. Балетная актерская семья Петипа, известная еще в XVIII веке, жила традициями семнадцатого. Молодой Мариус приспосабливался, как умел, к требованиям своей эпохи, начавшегося золотого века буржуазии, но мечтал о золотом веке великого Людовика.
Уменье приспосабливаться было очень сильно развито у Петипа. Его психология была типична для француза, маленького буржуа, грезящего о Короле-Солнце и аккуратно подсчитывающего по вечерам свои сбережения. Такова природа человека. Чем больше награждали его русские цари, тем больше он любил свою Францию и меньше ценил Россию148.
Он воспринял крайне мало от романтизма, стиля насыщенного поэзией протеста к «вульгарному денежному обществу» и любви к источнику живой воды, к народной старине. Также и характерная для романтиков смелость идейных взглядов подменивалась у Петипа смелостью сценической техники. Техника — это был закон, — магический знак развития XIX века.
В творческом сознании Петипа сказочность и фантастика романтической тематики, ее мелодраматичность, теряя бунтарский характер и остроту сценических противопоставлений, глубину и значительность своих идей, постепенно уступали место безвкусно пошловатым образам мещанской идеологии, поэзии влюбленных бабочек и цветов, балету овощей, кораллов и т. п. Так же безвкусна и слаба была символика Петипа. В одном из своих балетов («Пираты»149), желая показать образ Франции, стоящей во главе человеческой культуры, он заставил Вазем150 канканировать во фригийском колпаке и короткой балетной юбочке. В «Дочери фараона» он выводит на сцену «Неву», одетую в костюм кормилицы (?!), наивно предполагая показать зрителю наиболее русскую из рек, обнаруживая при этом полное незнание русской истории. Какое невероятное невежество и закоснелый обскурантизм проявляется в этом незначительном, может быть, факте. А ведь в год сочинения «Дочери фараона» (1862) исполнилось 15 лет пребывания Петипа в России!
Глубокие психологические сдвиги, сложные драматические коллизии, «правда человеческих страстей» романтического искусства превращалась у Петипа в идиотско-бессмысленные, «изящные» переживания персонажей французского бульварного романа, имеющего чисто внешнюю декоративную атрибуцию подлинной человеческой драмы.
34 Политические воззрения Петипа были такого же бульварно-обывательского порядка. Как у очень многих буржуа, у Петипа политика заменялась злободневностью. На это обстоятельство, как известно, указывал еще и К. А. Скальковский, добродушно издеваясь над Петипа и его способностью реагировать в балетных постановках на различные события международного значения. Возможно, что как раз это замечание язвительного критика побудило Петипа совсем отказаться от погони за злободневностью в балете и обратиться к отвлеченной тематике.
В тот год, когда Петипа поставил свой первый большой балет «Дочь фараона» (1862 г.), началась постройка здания Большой Парижской оперы. Эти два столь различных события имеют, на мой взгляд, некоторую внутреннюю причинную связь и представляют собой очень близкие в художественном плане явления.
Фасад парижского театра, казалось, должен был увенчать сколоченное из обломков старых политических идеалов, мыслей, художественных стилей и направлений, коренным образом пересмотренных и реконструированных, здание французской империи Наполеона III. Это сооружение любимцев французской академии — архитектора Гарнье и скульптора Карпо151, как некогда ряд других исторических зданий, таких как Собор Петра в Риме, как Храм Христа в Москве, как сам, наконец, Собор Парижской Богоматери, подводило некий итог искусству прошлого и, вещая о настоящем, предрекало ему путь в будущее.
Монументальность в архитектуре есть выражение величия человеческого духа. Маленький петербургский домик Петра Великого монументальнее больших дворцов Кшесинской и вел. кн. Николая Николаевича, стоящих рядом с ним152. Под Парижем я видел церковку. Была она сложена из дикого камня в форме куба, без глав и куполов, с одним крестом на крыше. Стояла она на возвышении близ Сены, окруженная старыми буками. Узкая каменистая дорога вела к ней по склону холма. Конечно, она была значительнее и больше собора Sacre Cœur на Монмартре, господствующего над всей столицей Франции и удивляющего своим безвкусием. Дорогая мне по воспоминаниям церковь Рождества Богородицы на Малой Дмитровке не монументальнее ли видного за десятки верст от Москвы Храма Христа Спасителя? Есть художественные памятники, которые обязаны своим появлением не эмоциональному, взволнованному творческим откровением состоянию духа их авторов, а лишь интенсивной работе человеческой мысли, комбинирующей и подсчитывающей эффекты.
Если Храм Христа завершил своей малопривлекательной громадой путь, пройденный старой Россией Романовых, с его официальным пятиглавием, с его плохо понятными и робко показанными элементами древнерусского народного стиля, то Большая Опера Парижа резко отмежевывалась от прошлого и даже от строгих и величественно простых образцов французского искусства эпохи революции, давшей основание буржуазному благополучию империи. Таким образом, Парижская опера, пользуясь старыми приемами архитектуры, унаследованными от прошлого, утверждала лишь настоящее.
Бесспорно, что в Большой опере французская буржуазия поставила себе памятник монументальный по богатству фактуры и внешнему великолепию и беспрецедентный по убожеству творческого порыва и стилистическому безвкусию. Это был символ эпохи. Он просуществовал до конца века и был как бы официальной маркой Третьей Республики.
35 Петипа до конца дней своих оставался французом-эмигрантом. Он жил среди чуждого ему народа, не зная его языка, истории, обычаев [см. ниже коммент. 17 Г. Р.-К.]. Русским номинально, по паспорту, он стал лишь тогда, когда его сыну Мариусу понадобилось отбывать воинскую службу153 [см. ниже коммент. 18 Г. Р.-К.]. Подобно громадному большинству своих соплеменников, он каждое лето ездил «отдыхать» во Францию. Там он был дома, у себя, на родине. Крайне знаменательно, что Петипа начал свою деятельность балетмейстера в 1862 г. — год зачатия Парижской оперы154, и завершил ее в 80-х годах, в годы, когда в Париже появляется мост Александра III155 и прочие наивные и антихудожественные «чудеса» официальной французской архитектуры конца прошлого века.
Таким образом, без преувеличения можно сказать, что Гарнье — Карпо есть эстетический идеал большинства французов XIX века. Да и не только французов. Известно, что опера в Женеве является копией парижской [см. ниже коммент. 15 Г. Р.-К.]. Золотые орнаменты на крышах богатых домов Берлина есть выражение восторга буржуазной Европы, преклонение ее перед изяществом стиля парижской архитектуры конца века. Достойно упоминания, что признанный мастер академической красоты — Семирадский нашел свое высшее признание именно во Франции156.
Не будет большой ошибкой, я полагаю, признать на основании изучения архивного материала, оставленного Петипа, что в основном Парижская опера Гарнье — Карпо может считаться также выразительницей художественных вкусов балетмейстера Петипа, его эстетическим критерием, вершиной того прекрасного, к которому он стремился. Во всяком случае, в этой архитектурной композиции мы легко находим те элементы, которые являются непременными в творчестве Петипа: пышную орнаментику и блестящую технику выполнения, тщательную разработку частностей наряду с гармоничным сочетанием целого, чувство формы и равновесия, устойчивость деталей, и при всем этом мы видим полную идейную беспринципность в сочетании с самой пустой, легковесной французской элегантностью.
В своем балете Петипа показывает блестящее мастерство формы всей композиции спектакля, разнообразие и хорошую выдумку хореографической партитуры, продуманное использование деталей, заботу о парадной внешности. В то же время он во всем демонстрирует отсутствие творческого волнения и полное равнодушие к идее, к теме. Это снисходительное равнодушие мы замечаем и в другой сфере искусства того же времени. Во французской литературе героические страсти исторических трагедий Гюго заменяются элегантным безразличием исторических хроник А. Дюма.
Стиль драматургии Петипа близок по идейной и художественной выразительности творческой душе его великого современника, Якова Мейербера157. Этот музыкант близок был Петипа и по широкому диапазону своего творчества. Роднила обоих мастеров также и замечательная способность приспособляться к интересам своей публики, проникаться ее симпатиями, приноравливать свое творчество к вкусам сильной части общества, прислушиваться к желаниям официальных лиц, уметь им угождать. Эта способность — быть эластичным удивительно много помогла Якову-Джиакомо-Жозефу Мейерберу, по происхождению немецкому еврею, писать во Франции и Германии итальянские оперы, с успехом идущие во всех странах Европы, в том числе и в России.
36 Мейербер и Петипа, оба умели найти в композиции спектакля наиболее эффектный выигрышный момент, умели выдвинуть его вперед и подчеркнуть, отнюдь не беспокоя зрителя, не волнуя его, не возмущая его буржуазного покоя, заставляя его поверить в безмятежно прекрасное театральное искусство. Любопытно, что еще большим любителем трюка в спектакле был Сен-Леон. Но его трюки всегда были несколько вульгарны. Балеты его, обладая внешней эффектностью, лишены эмоциональности и лирического элемента. В «Коньке-Горбунке» очень много цирковых моментов и нет, или почти нет, лирики.
Когда Мейербер должен был поделить свою славу первого оперного композитора в Европе с другими, с Гуно и с Верди, которые продолжили, развили и обогатили его музыкальную фактуру обилием мелодий и усложнением оркестровых ритмов и звучаний, Петипа оставался одним-единственным и незаменимым мастером балетного искусства до конца века.
И. А. Всеволожский158
Расцвет новой творческой деятельности Петипа после нескольких крупных первоклассных опусов, созданных им в предшествующие годы («Дочь фараона», «Царь Кандавл», «Дон Кихот», «Баядерка»159), а также многих постановок второстепенного эпизодического характера, наступает с назначением Всеволожского в 1881 году директором Императорских театров. В лице своего нового начальника Петипа наконец находит тот авторитет, который делается для него бесспорным. Многочисленные записи в бумагах архива Петипа свидетельствуют о том, что малейшее желание, намек директора беспрекословно им выполняется. А Всеволожский распоряжается не только как администратор. Он вмешивается в работу Петипа как балетмейстер и заставляет его исправлять уже сделанное сообразно его желанию. При прежних директорах этого как будто не бывало. Подчинение Петипа Всеволожскому было основано не на подхалимстве.
В своих мемуарах (книжке, вообще, дешевой и вздорной, но до конца обнажающей, для тех, кто умеет читать, мелкую душу этого артиста160) Петипа очень откровенно рассказал о своей неприязни к Теляковскому и очень тепло и почтительно отнесся к бывшему директору — Всеволожскому.
Действительно, прослужив в театре 60 лет «при четырех императорах и пяти директорах», каким жалким и смешным должен был ему казаться мальчишка-директор, бывший на 50 лет его моложе! Какими мелкими и ничтожными должны были ему казаться люди, окружающие его в театре! Какой жалкой и убогой после императора Николая Павловича должна была выглядеть фигура царя Николая Александровича! А какие дикие нравы были у последнего царского двора! Если Александр III стоял в царской ложе, то никто из членов его семьи не смел сидеть. Это было еще совсем недавно. По свидетельству Теляковского — во время посещения царской семьей театра, от возни и криков молодых вел. князей и княжон, нельзя было расслышать слов Николая II, на которого никто из его семьи не обращал внимания161.
Попробую перечислить, из каких элементов хореографического и сценического искусства складывался балетный спектакль Петипа. Какими элементами сценического воздействия он пользовался?
37 Первое место в спектакле Петипа принадлежало хореографическому искусству и пантомиме. Так же как и музыка, монтировка спектакля имела для Петипа подсобное назначение. Костюм и декорации не входили в композицию Петипа как составная часть спектакля принципиального порядка, как у Фокина, например, или Голейзовского. Пожалуй, что и Горский в этом отношении был так же покладист, как и его учитель — Петипа. Какие жуткие компромиссы допускал Горский в течение своей творческой деятельности в отношении костюмов своих балетов. Вспомним «Баядерку», «Нур и Анитру» в Большом театре и «Тщетную предосторожность» в балете Элирова162!
Для Петипа, старого чиновника, кавалера ордена св. Станислава на шее, вопросы служебной субординации имели решающее значение. Он не протестовал как художник против позорно устаревшей монтировки «Девы Дуная» в 1880 г.163 Внутренне негодуя всем своим эстетическим чувством, не принимая того, что показал А. Я. Головин в «Волшебном зеркале», — он все же согласился дать свой последний балет в его монтировке164. На это никогда не дал бы своего согласия К. Голейзовский. Думаю, что и Фокин не допустил бы искажения своих режиссерских замыслов.
Мне говорила Е. Н. Минина, что М. И. Петипа был маломузыкален. Для него музыка в балете служила главным образом ритмическим сопровождением для танца. Ни о каком другом назначении музыки он, конечно, не догадывался. Ни о какой драматизации хореодействия или раскрытии музыкального образа средствами хореографии Петипа не думал. Указания, которые Петипа делал Чайковскому о характере музыки для его балетов165, лишь подтверждают то, что для ясно разработанного и готового плана хореографического действия Петипа хотел получить только музыкальное сопровождение, в стиле и характере своей художественной концепции. Он привык, что музыка сочинялась на его хореографический текст, а не наоборот, как это принято в наше время. Замечательный музыкальный дар сначала Пуни, а потом и Минкуса в практике постановок Петипа сказался в полной мере166. Петипа приходил на репетицию и выстукивал или вытанцовывал нужный ему ритм танца, который эти композиторы быстро фиксировали в готовые музыкальные формы167.
В танцевальной партитуре Петипа первая партия, ведущий голос всей хореографической композиции принадлежал балерине. Спектакль Петипа — это спектакль балерины. Исключения были крайне редки («Щелкунчик», «Времена года», «Испытание Дамиса»168). Перечисленные мною балеты не типичны для творчества Петипа, который вряд ли мог бы согласовать свои установки балетного драматурга с новыми течениями в хореографии, предуказанными дарованием Чайковского и Глазунова. Это новое было — создание музыкального балетного спектакля.
Балерина у Петипа являлась стержнем спектакля. Вокруг нее располагались в различных сочетаниях и группировках прочие танцевальные партии (голоса) и персонажи спектакля. Вершиной танцевального действия в балете Петипа поэтому являлись танцы балерины с ее партнером: адажио, pas de deux.
Петипа совершенствует и вводит большое разнообразие в придуманные Перро pas d’action (большие танцевальные сцены).
Они представляют собой сложные танцевальные фрагменты, содержащие иногда элементы пантомимы («Баллада о колосе» [в «Коппелии»], «Сон» в «Раймонде») 38 или, во всяком случае, драматургическое оправдание (сюжетное) происходящих танцев («Дон Кихот», 1-й акт). Это танцевальные картины, имеющие драматическую направленность (Крестины Авроры [в «Спящей красавице»], охота в «Дочери фараона»), танцевально раскрывающие характер сценического эпизода. В pas d’action принимают участие неограниченное число исполнителей: балерина, солистки, кордебалет, мимический персонаж и статисты.
В хореографической партитуре Петипа балерине дается исполнять, как правило, один, два, реже три танцевальных дуэта, заменяемые иногда pas d’action. Так, в «Спящей красавице» Петипа сочиняет замечательный квинтет: Аврора и четыре принца. Кроме того, там же есть два больших дуэта: в картине «Тени» [«Нереиды»] и в финале балета.
После танцевального классического дуэта балерина исполняет, как правило (после кавалера), сольный танец, так называемую вариацию. Иногда она танцует характерный номер («Petit Corsair» в балете «Корсар») или полухарактерный (танец с прялкой в «Спящей красавице»), которые исполняются помимо классических вариаций, входящих как необходимая часть танцевального дуэта.
Вторые партии в балетах Петипа принадлежат солисткам. Впрочем, есть у Петипа и такие балеты, в которых имеются полутанцевальные роли, исполняемые первыми солистками за балерин: («Баядерка», «Корсар»). Таким образом, солистки как бы иногда дублируют балерин. Солистки исполняют сольные танцы и др. классические вариации (кружева в балете «Волшебное зеркало», Золото, Серебро и др. камни в «Спящей красавице»). Также им поручаются характерные танцы (реки в «Дочери фараона») и полухарактерные («Ману» в «Баядерке»). Танцуют они по две, по три, [по] четыре, шесть, восемь, двенадцать («Дон Кихот», «Коппелия», [«Джиоконда»169 — вычеркнуто]). Кроме того, первые солистки (иногда вторые балерины) танцуют классический танец двух солисток с партнером: («Лебединое озеро», «Волшебное зеркало»).
В практике постановок Петипа мы замечаем, что весьма часто одних и тех же солисток занимают в классике так же, как и в характерных танцах. Исключения довольно редки. Это говорит о том, что характерный танец имел классическую основу движений, номенклатура которых входила в классический танцевальный словарь. Кроме того, существовали танцовщицы чисто характерного амплуа, такие, например, как Радина, Мария Петипа и Скорсюк170.
Кордебалет представлял собою танцующую обычно народную массу на сцене. Или это — танцующие классику «тени» («Спящая красавица», «Баядерка»), или «пейзане» (вальс «Спящая красавица», «Раймонда», «Баядерка», «Тщетная предосторожность»), или какие-нибудь народности, показанные для оживления картины: поляки, испанцы, египтяне, славяне и пр., танцующие «характерные» (национальные) танцы. Количество участников не ограничено. Кордебалет может принимать участие и в pas d’action («Крестины Авроры», «Раймонда» (сон)). Наиболее распространенной формой массового, полухарактерного стиля танца кордебалета являлись так называемые ballabile4*! Иногда эти ballabile достигали 39 большой сложности. В «Оживленном саду» («Корсар») участвовали и кордебалет, и солистки, и вторая балерина.
Очень любил Петипа дополнять свою хореографическую композицию танцами детей. Им он давал исполнять не только фрагменты в танцевальных номерах взрослых (ballabile и др. вальсы «Спящей красавицы» и пр.), но и поручал им самостоятельные места, строго классические, такие как «амуры» в «Дон Кихоте», «Ману» в «Баядерке» (полухарактерный танец), также «Мальчик-с-пальчик и Людоед», чисто характерные танцы. Они танцевали иногда и вполне самостоятельные номера (мазурка в «Пахите»), без участия взрослых.
Обязанность мужчины-солиста в балете сводилась к поддержке балерины или первых солисток в дуэтах и pas d’action и исполнению классических вариаций. Для кордебалета [эти обязанности заключались]: в составлении «пары» в танцах пейзан, рыб, цветов, поляков, русских, пр. Петипа умел иногда поставить чисто характерный мужской танец. Вспомним «восточный» [танец] в «Баядерке». Однако никакого самостоятельного значения мужчина в хореографии Петипа не имел. Окончательно их изгнать он, конечно, не помышлял. Но допускал иногда травести, там, где это совсем не было обязательно («Дон Кихот» [— тореадоры], «Спящая красавица» — пажи). Такова, видимо, была тогда мода, идущая из оперетки и феерии. Впрочем, и в наши дни травести за границей бывает вызвано необходимостью замены мужчин, которых на балетной сцене катастрофически мало.
Танцевальная драматургия Петипа, его танцевальный синтаксис были довольно несложными. Тем не менее, давая ежегодно не менее одной новой постановки балета, Петипа умел быть оригинальным и разнообразным в своем творчестве. С большой достоверностью можно утверждать, что он заимствовал иногда сам у себя, используя то, что было достойно сохранения из своих старых постановок, давно ушедших со сцены и хорошо всеми забытых5*. Для него тем легче это делать, что за 50 лет его службы в театре стиль хореографии не претерпел почти никаких изменений. Усложнилась только техника классического танца, нисколько не затронув его эстетического существа. Публика же требовала от танца прежде всего развлекательной приятности, оставляя в стороне вопросы профессионально-технические, да, пожалуй, и эстетические. Интересно отметить, что Петипа умел широко пользоваться «группами», т. е. сочетаниями поз нескольких танцующих персонажей. Надо различать при этом группы статичные, подчиненные какому-либо художественному плану, образуемые не танцующими персонажами, дополняющими как необходимый фон танцевальное действие, и группы динамичные, показываемые обычно в начале и конце танца, а также возникающие в процессе танцевальных движений: вальс крестьян в «Спящей красавице», то же в «Оживленном саду» в «Корсаре». Статичные группы создавались трафаретно, по шаблону кордебалетом и статистами, стоявшими или сидевшими по бокам сцены у кулис, оставляя середину сцены свободной, избегая занимать задний ее план. Динамичные группы имели назначение, с одной стороны, остановку движения танца (паузу, цезуру, фермату), необходимую и для отдыха танцующих, и для технического отделения одной комбинации движений от другой, служащей продолжением или 40 хореографической разработкой первой темы движений. Таким образом, эта категория групп имела или чисто техническое, или музыкально-ритмическое назначение. Другая категория групп — статическая имела живописно-пластический характер. Являясь «украшением» сцены, такие группировки артистов служили не развитию хореографического действия, а художественной обработке сценической площадки. Располагались они по правилу симметрии или для равновесия отдельных частей сцены. Наконец, линейное сочетание участников групп создавало особый художественный рисунок, особую орнаментику сцены, живое обрамление танцевального действия, раму для балерины, о чем Петипа, как видно из его документов, всегда очень заботился.
Надо думать, что, оставляя кордебалет пассивно сидеть во время действия на сцене, Петипа хотел также доставить удовольствие так называемым «балетоманам», которые хотели видеть своих возлюбленных как можно дольше. Угождать этой влиятельной части публики порой было так же трудно, как сочинить новый балет.
Петипа с сугубой тщательностью готовил каждую новую постановку. Можно утверждать, что у него не было мелочей на сцене. По-видимому, все было для него важным. С какой заботливостью обдумывал он какой-нибудь шест с цветами и лентами, падающий из корзины в «пейзанском вальсе» «Лебединого озера». Или как внимательно искал он желательную ему форму лестницы, по которой сойдет Раймонда во второй картине [одноименного] балета171.
Я уже говорил, что он, подобно Мейерберу, любил трюк. Мы видим охоту на львов в «Дочери фараона», разрушение храма в «Баядерке», северное сияние и айсберги в «Царице льдов»172, балет овощей [в «Бабочке»173], танцы [героев] сказок Перро [«Спящей красавицы»] и, наконец, Росинанта «Дон Кихота», которым Петипа очень гордился174.
У нас нет указаний на то, что Петипа как-нибудь особенно интересовался декорацией, ее стилем, ее выполнением. Н. А. Бакеркина, также и Н. И. Носилов подтверждают малую заинтересованность Петипа в оформлении спектакля. Мы не находим никого из больших театральных художников, таких как Роллер, Бочаров, Шишков, в числе его друзей175. Впрочем, их у него, кажется, вообще не было. Только единственный раз Петипа громко высказал свое мнение о работе художника. Это было в его прощальный бенефис. Впрочем дальше платонического протеста он не пошел. Свой протест против монтировки «Девы Дуная» он мотивировал не сорокалетней архаичностью ее стиля, а ветхостью и изношенностью красок и холста декораций.
Значительно большее внимание уделял Петипа костюмам. Он любил подбирать сам для них рисунки, подходящие репродукции картин и пр. Он комбинировал для них краски, симметрично располагая на сцене актеров, одетых в одинаковые цвета.
Всеволожский, писавший в 80 – 90 годы эскизы костюмов дня большинства балетных постановок, очень умел угодить своим искусством и зрителю и, по-видимому, самому Петипа.
Конечно, сравнительно с нашими современными требованиями, предъявляемыми к искусству, в костюмах Всеволожского все было убийственно безвкусно, шаблонно и примитивно. Однако эти костюмы, написанные с откровенной прямолинейностью 41 по старым академическим французским и немецким образцам, были, в общей комбинации со стилем декораций, вполне на месте. Нет ничего удивительного, что публика 80-х и 90-х годов принимала их как самое тонкое искусство. Не надо забывать и о качестве материала костюмов, который был лучших сортов176. Напрасно Теляковский возмущается в своих мемуарах, что кто-то из певцов при Всеволожском надевал в Ромео голубое трико177. Дело, конечно, не в самом цвете трико, голубом, красном или синем, а в гармоничном сочетании этого цвета с общим стилем костюма и декораций, в комбинации тонов, в характере фактуры, в манере «подачи» голубого трико и в том, насколько оно гармонирует со стилем и характером постановки. Удивительно, что в то самое время, когда Теляковский возмущается и негодует по поводу голубого трико, его друзья «декаденты»-художники Коровин, Головин вытворяют на сцене, к большому удовольствию директора, самые невероятные с точки зрения здравого смысла штуки. Теляковский забывает, что театр есть самое подвижное искусство. Наше представление о прекрасном, о гармоничном меняется в зависимости от нашего миросозерцания. Голубое трико в Мариинском театре эпохи Всеволожского расценивалось в общей сумме эстетических ощущений зрителя, получаемых от спектакля того времени, как высокохудожественное явление. Между тем Теляковский изгоняет из своего театра голубое трико как самое позорное из преступлений против человеческой этики и морали, издеваясь над его автором Всеволожским, и заменяет его трико лилового цвета, которое было бы совершенно непереносимо для старых театральных художников и представляемых ими эстетических требований зрителя конца XIX века. Теляковский был неплохой администратор, человек не лишенный вкуса, но с узким кругозором. Ему не хватало также и философского мышления. Плохо знал он и теорию искусства.
Будь Петипа, подобно Новерру, менее хитер и более умен, он мог бы громко кричать о том, что он продолжил дело, начатое в русском балете Дидло178. Что это именно он придал русскому балету тот стройный вид, которым он отличался к концу XIX века от всех других балетных театров мира. Петипа мог бы еще гордиться тем, что он обогатил форму балетного спектакля, что, умело комбинируя и сочетая французскую школу с итальянской, он создал русский академический стиль хореографии [см. ниже коммент. 19 Г. Р.-К.].
При Петипа закончился процесс борьбы русских артистов балета с иностранными. Стройная организация балетной школы и театра, начатая Дидло, дала возможность вырасти столь крупным артистическим дарованиям, что отпала какая-либо необходимость в приглашении иностранных артистов на амплуа ведущих актеров. Пожалуй, Петипа меньше всего приложил к этому свою руку. Ему были одинаково безразличны итальянки и русские артистки. Вспомним, с каким равнодушием он говорит о них в своих записках. Теплый тон появляется у Петипа лишь при упоминании о своих дочерях, особенно заботился он о выигрышных местах для своей старшей дочери (Марии) [см. ниже коммент. 20 Г. Р.-К.].
Судьба дала возможность Петипа закрепить свои каноны, утвердить свой стиль округлого, завершенного, гармоничного балетного спектакля и подвести итог всему тому лучшему, что было в этой театральной области сделано его предшественниками. Бесспорно, что Петипа является создателем большого танцевального спектакля.
42 В своей деятельности Петипа был консервативен. Ему легче было смотреть назад, чем прозревать будущее в искусстве. Это направило его творчество на то, чтобы использовать самые ценные элементы старого балета, и на то, чтобы воспитать несколько поколений артистов в традиции старой хореографической школы.
Так была подготовлена Петипа та почва, на которой расцвело пышным цветением новое хореографическое искусство. Его преемникам, Горскому и Фокину, досталось от Петипа не менее богатое наследство, чем Теляковскому от Всеволожского.
Опера
Я уже писал, что почти так же часто, как в балет, родители мои ездили в оперу. Однако мы, дети, попадали туда значительно реже. Поэтому и оперных впечатлений у меня сохранилось меньше, но зато в достаточной мере глубоких и ярких.
Первая опера, которую я слышал в Мариинском театре, была «Руслан и Людмила»179. Я был глубоко поражен богатством ее постановки, фееричностью зрелища, разнообразием ее сценического материала. Но в то же время я ясно ощущал ее архаичность. Эта постановка просуществовала с 1880-х годов по 1904 год. Как быстро театральное искусство делается искусством вчерашнего дня. Самая прекрасная постановка рано или поздно приобретает лишь музейную ценность, утрачивая живую связь с жизнью. По самой своей природе театральное искусство, казалось бы, не могло быть монументальным.
Под руководством ученого совета, специально собранного для этого дирекцией театров, К. Коровин и А. Я. Головин в 1904 г. заново поставили всю оперу «Руслан и Людмила». Теляковский очень гордился этой постановкой180. Действительно, это было самое последнее слово декорационного и живописного искусства. Поражала она тогда сочностью, живостью и свежестью красочной гаммы, смелостью композиции и фактуры. Какой убогой, скучной, поблеклой и никому не нужной предстала она передо мной спустя 35 лет! Какой жалкий удел театральной живописи! Какой короткий ее век!
Во дни моего детства Руслана пел Мельников, а Фарлафа Стравинский181. Впрочем, Стравинский поразил мое воображение не в этой партии. Неизгладимое впечатление произвел он на меня в «Гугенотах». Лицо, манеры, тембр голоса, весь образ Сен-Бри сделались для меня незабываемыми [см. ниже коммент. 21 Г. Р.-К.]. В характере творчества Стравинского не было мягкости и лиризма. Наоборот, все образы его на сцене были суровы. Комизм его Фарлафа был тоже какой-то мрачный и нелегкий. Тембр голоса — сухой и жесткий. Валентину пела Фелия Литвин, Рауля — Ершов, партию королевы исполняла Больска, Марселя пел Серебряков, а Невера — Чернов, которому я очень почему-то симпатизировал182. Уж очень он эффектно ломал в последнем акте свою шпагу о колено!
Случалось, что родители наши не хотели или не могли ехать и театр. Тогда отправляли в театр нас, ребят, с нашими домочадцами. Так однажды мы попали на оперу «Далибор» Сметаны183. Боже мой, что это была за тоска! Поставлена она была, видимо, только из-за того, что автор — брат-славянин. Других достоинств она не имела. Наполовину пустой зрительный зал дремал. Спал и я. Шла сцена в темнице184. Длинная и невероятно скучная. Вдруг в оркестре все ударные инструменты сыграли форте!!! Я вскрикнул от испуга и заплакал.
43 Как-то мы экспромтом поехали слушать оперу «Садко» [см. ниже коммент. 22 Г. Р.-К.]. Мы приехали в театр с большим опозданием. Гусляр Садко, — Секар-Рожанский, только что пропел свою арию, и появилась Волхова, — Забела-Врубель. Как зачарованный сидел я в ложе. Смотрел и слушал. Музыка была необычайно прекрасна. Дуэт Садко и Волховы, одна из самых лирических страниц творчества композитора, заворожила меня. Так же потрясли меня и декорации6*. Все это было совершенно непохоже на оперу в Мариинском театре. И мне «открылся мир иной». Стиль музыки «Садко» был мне чрезвычайно симпатичен и как-то родственно близок. Я мучительно старался вспомнить, что он мне напоминает. Почему эта былина, переложенная Корсаковым в оперную форму, мне уже как-то знакома? Где я ее слышал? И вот неожиданно я вспомнил, что я «видел» эту музыку незадолго перед этим на выставке Васнецова в залах Академии. То же чувство, что и в театре, я испытывал при виде картины «Три богатыря» Васнецова185. Это была родственная эстетическая ассоциация, вызванная, может быть, духовной близостью, одинаковым мироощущением обоих художников186.
Это сопоставление музыки Римского-Корсакова с характером и манерой живописи Васнецова, запавшее мне тогда в голову, осталось у меня и до настоящего времени. По-видимому, не один я воспринимал равным образом их мастерство. Тонкий знаток и ценитель искусства С. И. Мамонтов, я полагаю, все-таки недаром объединил имена этих двух художников при постановке «Снегурочки»187. Очевидно, не только тематика и древнерусский стиль сближали эти имена. По-видимому, здесь имели место и вкусовые, так же как и идейные, причины. Проблема синхронности до сих пор является для меня тайной. Тем не менее, я интуитивно позволяю себе поставить знак равенства между Корсаковым и Васнецовым, при несомненном преобладании творческой индивидуальности художника-живописца над музыкантом.
Оперы Чайковского производили на меня в те годы довольно тягостное впечатление. Впрочем, и позднее, в годы сознательной юности, слушая «Онегина» и «Пиковую даму» в Мариинском театре, я ничего, кроме скуки и раздражения, не испытывал, несмотря на бесспорно хорошее их исполнение. Может быть, я был тогда уже отравлен импрессионистической зрелищностью постановок художников Коровина и Головина? Может быть, это происходило оттого, что Чайковский должен был быть по-другому интерпретирован? Исполнить это не мог большой, но в эту эпоху уже стареющий музыкант Направник188. По сути дела этот, чех имел в русском оперном театре такое же руководящее положение, как в это время в балете — француз Петипа. Он занимал место художественного диктатора в опере. Однако, приведя русский оперный театр в блестящее состояние, он не мог на рубеже нового века, по старости понять, так же как и Петипа, что наступило время эмоционального искусства, пришедшего на смену академической сдержанности и бесстрастности. Для зрителя 1914 года был непереносим стиль спектакля 84-го года. И как ни старались помолодить и освежить «Онегина» в 900-м году (режиссер Палечек189), обновилась только внешность спектакля, но не его лирическая сущность, которая по-прежнему пряталась где-то на задворках сцены от глаз зрителя. Впрочем, я 44 беру на себя смелость утверждать, что до сих пор еще не видал ни одного удовлетворительного спектакля оперы «Евгения Онегина».
Многое неплохо было показано в Музыкальной Драме190. Однако, Лапицкий191 больше обратил внимания на Пушкина, чем на Чайковского. Думается мне, что это ошибка.
Очень милого и уютного «Онегина» дал у себя в студии Станиславский192. Но точно так же многое там было непереносимо. Между прочим, очень раздражали меня две колонны, повторяющиеся в каждой картине. После сцены свидания в саду делалось страшно, что их предстоит еще смотреть в остальных картинах. Хотелось крикнуть «Довольно! Не надо!» И это, конечно, мешало восприятию спектакля, который также больше заботился о стиле эпохи Пушкина, чем о музыкальной драме композитора.
Конечно, много мешает в этой опере, что Онегин баритон. Я очень сожалею, что не видал и не слыхал в этой опере Хохлова193. Говорят, что это был идеальный Онегин. Зато все остальные… Очень тонкий облик Онегина давал Грызунов194. Кроме того, он был весьма музыкален. Между тем тембр его голоса был жесткий и холодный. Все мною виденные баритоны изображают Онегина «дубиной». Они не могут показывать его другим, ибо это их природа. Баритон почти, как правило, лишен лиризма. Поэтому и Онегин у них получается грубый фат, а не денди-душка. Этот оперный образ до сих пор у нас заштампован и запатентован, и никто не пытается или не умеет и не может попытаться показать его по-другому. Мне кажется, что генеральная линия его образа это его молодость, от которой у него «все качества». Онегин высокомерен, задорен и пуст, потому что молод. Это его лейтмотив. Как это ни покажется парадоксальным, но на нашей оперной сцене можно еще встретить молодого Ленского, но Онегины как будто все родятся в сорокалетнем возрасте, встречаются, впрочем, и старше.
«Пиковая дама» на сцене Мариинского театра имела «балетный» вид195. Эта постановка носила на себе, так же как и «Спящая красавица», печать творчества Всеволожского, с излюбленным им стилем академического рококо. В «Пиковой даме» так же силен отзвук увлечения директора веком Людовиков. Сделана была «Пиковая дама» помпезно. Роскошь ее, как и «Спящей красавицы», несколько тяжеловата. Это был действительно grand spectacle, в котором терялась личная драма Германа и Лизы.
Надо заметить, что музыка Чайковского вообще крайне пластична. И «Пиковую даму» и «Онегина» также легко можно было бы уложить в хореографические формы, как и в песенные. В 1937 г. мы с Джури проделали такой опыт196. Используя музыкальный текст оперы, мы поставили хореографическую картину: «Татьяна в усадьбе Онегина»197.
Характер ритмов и мелодический рисунок музыки Чайковского таковы, что создается ясно ощущение танцевальной природы образов, создаваемых композитором. Он мыслит танцевально. Таков стиль его ритмов.
Музыкальная Драма показала «Пиковую даму» свежо, перенеся акцент постановки с фееричности на стилизацию монтировки198. Некоторые детали были очень хороши. Наиболее сильное впечатление оставляла комната графини. Камин, находящийся в первой правой кулисе, освещал мерцающим теплым светом кресло и часть комнаты, оставляя в темноте ее углы.
45 Основным качеством постановки «Онегина» Лапицким была ее простота. Мне думается, что чем проще ставить «Онегина», тем лучше. Но с холодным сердцем подходить к нему нельзя. Его надо любить.
Неплохой была постановка «Онегина» в Большом театре в 1933 г.199 Очень деликатно, без шума и жеманства руководил оркестром Кубацкий.
И. А. Всеволожский должен был быть горд и счастлив. Реформа театров, начатая им в начале 80-х годов, дала блестящий результат. Состав всех трупп был на должной для «образцовых» театров высоте. Каждый из трех наших сценических жанров мог насчитать не один десяток имен артистов, вошедших в историю русского театра, да и только ли русского?
При Всеволожском завершился процесс борьбы за первенство русских актеров балета и оперы с иностранцами. При Всеволожском была уничтожена итальянская труппа и сокращен расход на содержание французского театра.
В обществе говорили, что Всеволожский был назначен как русский директор театров после «немца» барона Кистера200, который будто бы всячески притеснял русский театр и отдавал все средства на содержание французского и немецкого театров.
Статистические сведения, опубликованные в свое время в отчете дирекции театров Погожевым, не подтверждают такой оценки деятельности Кистера201.
Будет, я полагаю, безусловно правильным отметить, что после директора барона Кистера, который совсем не интересовался художественной стороной театров, пришел в лице Всеволожского администратор, обладающий незаурядным запасом художественных знаний, имеющий в искусстве собственную точку зрения, независимый в своих художественных симпатиях и последовательный в проведении своей эстетической платформы.
Всеволожский попал в театр с поста дипломата. Как многие рядовые русские баре (а он был весьма древнего рода — из Смоленских «княжат»), Всеволожский обладал той большой европейской культурой, которая делала его представителем высшего интернационального общества, скованного традициями и внутренним этикетом, но свободного в высказывании своих симпатий. Любимой родиной-матерью этой интернациональной аристократии была Франция. Всеволожский не был исключением из этого особо избранного общества. Он был влюблен в прекрасную Францию и во все французское. Особенно, видимо, привлекала его Франция Людовиков.
Результатом этого увлечения Всеволожского явилось несколько балетов на темы французских сказок или новелл. Так, были им инспирированы темы, а отчасти и им самим сочинены балеты «Спящая красавица», «Синяя Борода», «Сандрильона», «Испытание Дамиса». К ним же могут быть отнесены «Раймонда», «Миллионы Арлекина»202 [см. ниже коммент. 23 Г. Р.-К.].
Не будем слишком строги к Всеволожскому за его французские симпатии. Был же Гоголь влюблен в Италию, Глинка в Испанию. С языка И. С. Тургенева в одном из его романов сорвалась знаменательная фраза о том, что он не знает русского искусства, но зато ему известно русское хамство.
Надо признать, однако, что влюбленность Всеволожского во Францию пудреных париков и Версаля, так же как его классовое высокомерие и презрение, не допускающее его будто бы ходить в русскую драму, т. к. там появился вместе 46 с пьесами Островского плохо пахнувший зритель-разночинец, не мешала этому сановнику трезво оценивать художественные явления своей эпохи и своей страны. Русские музыканты и писатели не только не были изгнаны из казенных театров, но постоянно и систематически туда приглашались. При этом Всеволожского не смущали неудачи, постигшие некоторых из них. Несмотря на то что оперы Чайковского, поставленные в 1880-х годах, были малоудачны, Всеволожский не порывает с композитором. Наоборот он все больше дает заказов на оперы и балеты именно ему, Всеволожский, как мы знаем, не воспрепятствовал Александринскому театру поставить «Иванова» и «Чайку» Чехова203.
В своих вкусах Всеволожский был консерватором. В своем творчестве он стоял на позициях академизма, стиля, принятого для академических театров. Он, по-видимому, плохо понимал новые течения в искусстве (реализм передвижников, импрессионизм, модернизм и пр.). Вернее, они не были ему нужны для формирования его человеческой личности.
Значительная интуиция и понимание основ природы театрального искусства, большая культура, хорошие способности организатора, безупречное поведение на скользком и соблазнительном для многих посту начальника над всеми столичными зрелищами создали Всеволожскому имя солидного авторитета в деле театральной политики, с влиянием которого приходилось считаться даже такой крупной фигуре старой России, как Победоносцев. В письмах к Александру III обер-прокурор Синода называл Всеволожского «театральной сиреной» и убеждал царя не слушать его домогательств по поводу разрешения постановки «Власти тьмы»204. Эти домогательства указывают на то, что Всеволожский не был безгласной пешкой на своем посту, а умел убеждать и отстаивать свое мнение.
В лице Всеволожского совершенно неожиданно Императорские театры обрели, может быть, наиболее достойного и способного директора из всех, бывших до него, включая и Гедеонова-сына205 — человека больших знаний, но слабого и бесхарактерного администратора.
Всеволожский не без основания мог считать, что он делает большое общественное дело, воспитывая «изящный вкус» «общества», состоящего из чиновничьей, бюрократически-дворянской верхушки. Художественные вкусы Всеволожского нам хорошо известны. Что же касается до его политических симпатий, то о них можно только догадываться. Они получат должное освещение после того, как будут опубликованы дневники Всеволожского206 [см. ниже коммент. 24 Г. Р.-К.].
Конечно, деятельность Всеволожского как директора не всегда была свободна от ошибок. Ему следует поставить в вину, что, любя оперу и балет, он проглядел появление в Мариинском театре Шаляпина и не сохранил для русской сцены Цукки. Объясняется это тем, что оба эти артистические дарования помещались вне сферы его художественных идеалов, твердо покоящихся на позициях академизма, эстетика которого не допускала на сцене живого, искреннего, эмоционального искусства.
Другой печальный факт, который ляжет темным пятном на управление Всеволожского, — это уничтожение Большого театра в Петербурге. Всеволожский нашел хозяйство театров в большом запустении, с ежегодно повторяемым большим дефицитом. В первый же год он сбалансировал доходы с расходами, добившись 47 значительной дотации. Ремонт Большого театра обошелся бы недешево. Скальковский называет цифру в 2 миллиона, при «хозяйственном» методе работ207. По-видимому, Всеволожский испугался потребовать у царя такую крупную сумму на восстановление здания театра. Директор боялся вызвать неудовольствие Александра, а державному хозяину России было не до театра7*. Время было слишком тревожное для самодержавия. Впрочем, и в «лучшее время» все Романовы удивительно легкомысленно относились к художественным памятникам русской старины.
У Всеволожского не было пасынков в театре. Все жанры, несмотря на определенное равнодушие его к драме, им опекались одинаково и заботливо. Драма не могла жаловаться, что она была в худших условиях, чем другие театры.
Всеволожский провел повышение окладов артистам казенных театров. Оклады не повышались 20 лет. Любопытно, что увеличение окладов в Императорских театрах происходило обычно в годы, неблагополучные для монархии. Ставки повышались в 1863 г., в 1889 и в 1905 г. Делалось это, возможно, не без желания заручиться хорошим настроением у «своих» придворных артистов. Тариф 63 года уже давал балетной труппе сравнительно сносное существование. Для первой низшей категории кордебалета был установлен оклад в 400 рублей, вместо существовавших до того 250 руб. в год. Солисты и премьеры, как всегда, получали постоянные надбавки, в зависимости от их значимости в театре. Так, в 1873 г. Вазем стала получать 25 руб. разовых вместо 5 руб., а в 1877 г. уже 35 руб. и 6000 руб. оклад. П. А. Гердт208 тогда же получал 15 руб., Е. П. Соколова в 1875 г. вместо 5 руб. стала получать 25 руб.209 Однако, повышая оклады балету, Кистер в то же время отказывал в этом драме. Тогда ушли из-за этого из Александринского театра Самойлов и Васильев210.
При Всеволожском отменяется, наконец, монополия Императорских театров. Эта мера, вызванная в свое время (1842 г.) соображениями как политическими, так и экономическими, себя явно не оправдывала. Дефицит неизменно сопутствовал деятельности каждого из директоров театра211. При Борхе (1863 – 1866) дефицит был — 500 тысяч рублей212. При Гедеонове-сыне дефицит снижается в 1867 г. до 300 тысяч, в 1868 г. и дальше вплоть до 1871 г. до 100 тысяч213. Однако в последний год управления Кистера дефицит был равен 529 тыс. руб214. Несмотря на столь значительную сумму перерасхода, его обвиняли в нерадении и в игнорировании художественных интересов сцены. Эпоха Кистера стала синонимом «нищенских» постановок. Дело, конечно, не в игнорировании художественной стороны театра, а в громадных хищениях конторы215. Поэтому нет ничего удивительного, что когда Всеволожский пожелал давать на образцовой сцене художественные постановки, то в первый же год реформа Всеволожского принесла казне 1,709 тыс. убытка216!
48 Всеволожскому и его помощнику Погожеву удалось доказать Министерству двора, что престиж Императорских театров не может допускать экономии за счет художественного качества театрального искусства, и дефицит в миллион рублей был узаконен в виде ежегодной дотации императорского двора театрам.
При Всеволожском закончился процесс овладения сценическим мастерством русских актеров оперы и балета и начался тот подъем русского театра, который достиг своего зенита в первой четверти нашего века. Теляковскому досталось прекрасное наследство.
Любители217
К концу 90-х годов моя мать стала с большим увлечением играть в любительских спектаклях. Конечно, дело началось с благотворительных вечеров в зале Павловой. Особенно помню суматоху и волнение у нас в доме по поводу спектакля в пользу раненых буров во время войны этого маленького героического народа с англичанами218. Тогда петербургские дамы много хлопотали со сбором средств бурам. Давались вечера, концерты, спектакли219. Устраивала такие вечера и моя мать.
Однажды я был свидетелем, как на одном из них мой отец уговаривал артистку Л. Б. Яворскую прочесть обещанную ею по программе «Разбитую вазу» Апухтина220. Это было одно из наиболее любимых и модных стихотворений.
Знаменитая артистка удалилась в отдаленное фойе залы Павловой и, не слушая никаких уговоров отца, решительно отказывалась читать, говоря, что она простужена и не в голосе. Ее сдавленный и хриплый голос поразил меня. Я очень ее жалел, когда она согласилась читать. Я не знал того, что все эти «отказы» были необходимой атрибуцией большой артистки. Этого требовал хороший тон.
Несколько позже я видел Яворскую в «Потонувшем колоколе», потом в «Принцессе Грёзе», и ее сиплый голос неотступно напоминал мне выступление на нашем вечере221. Меня очень смущало, что она сорвала голос именно тогда, в Зале Павловой.
«Потонувший колокол» надолго поразил мое воображение. Мне нравилось, что там действительность очень тесно переплеталась с чертовщиной. Слова пастора, обращенные к мастеру Генриху, о том, что рано или поздно упавший колокол снова зазвонит в его душе, заставляли очень задумываться. Это был первый спектакль, который поставил передо мной большую проблему человеческого бытия, хотя сам Гауптман ставит эти вопросы в своей пьесе очень поверхностно, так, как это делало большинство писателей символистов-модернистов.
Играя на сцене, моя мать определенно тяготела к драматическому репертуару. У ней находили в манере игры и в лице что-то общее с Элеонорой Дузе. Мне кажется, что было какое-то сходство и в их духовном облике.
Как-то моя мать играла роль Анны де Кервилер, вандейской женщины, в небольшой, сильно-драматической пьеске из эпохи французской революции222. Мужские роли исполняли Н. А. Попов, впоследствии известный режиссер, и полковник Жерве. Про этого полковника говорили, что это именно с ним случился анекдот с «пупским нанцием», так он волновался и путал свою роль8* 223.
49 Одним из постоянных участников этих спектаклей был очень славный и симпатичный архитектор Корвин-Круковский, брат актера Александринского театра224 [см. ниже коммент. 25 Г. Р.-К.]. Кроме него постоянно играла еще О. В. Иславина [см. ниже коммент. 26 Г. Р.-К.]. Это была типичная петербургская барышня хорошего, но не аристократического общества. Я ей очень симпатизировал, т. к. находил сходство в лице с М. Ф. Кшесинской. Однако состав артистов, как всегда в любительских труппах, менялся часто.
Однажды матери был представлен, она не помнит кем, очень корректный молодой человек как большой любитель театра. Он приходил аккуратно на репетиции, бывал у нас в доме. Приходил, сидел, пил чай, ничего не говорил, только слушал и мило улыбался. Потом прекратил свои посещения. О нем никто не вспоминал. Лишь позднее у нас узнали его фамилию. Этот воспитанный молодой человек был — Ратаев225.
Больше всего из родительского репертуара запомнился мне «Красный цветок», — драматическая сцена, переделанная из рассказа Гаршина226. Мать играла трудную, построенную на психологических эффектах, роль. Надо было иметь достаточно вкуса и такта, чтобы не снизить ее драматический характер и по возможности уйти от бытовизма. Кажется, ей это удалось [см. ниже коммент. 27 Г. Р.-К.].
Все эти спектакли в большинстве случаев режиссировались артистом Сазоновым227 из Александринского театра.
Попробовав острого блюда театрального искусства, моя мать захотела расширить свою деятельность в этом направлении.
Весной 1899 г. была сформирована полулюбительская труппа, которая отправилась в московское имение родителей [см. ниже коммент. 28 Г. Р.-К.]. Там спектакли стали даваться регулярно. Для театра был очень удачно приспособлен старый шереметьевский манеж. (Усадьба раньше принадлежала Шереметьевым, один из которых управлял московской удельной конторой.) В этом помещении получилась весьма приличная сцена: 11 аршин по порталу, не менее 10 – 12 аршин глубины и очень высокая.
Зрительный зал вмещал человек 500 или 600 сидящих и большое число стоящих. Декорации частью были куплены в Петербурге («богатый павильон» и «лес германский»), частью писались заново на месте. Трудились над ними все понемногу, и больше всего, конечно, мы, дети. К нашему неописуемому восторгу эти декорации получили у старших положительную оценку. Удивительно, что приглашенный из Петербурга для писания декораций художник Ян Ционглинский228 оказался совсем беспомощным в этом деле. Он это сам, по-видимому, понял и вскоре довольно быстро стушевался и уехал.
Главной пружиной всего нашего театрального дела, главным механиком-осветителем, рабочим сцены, режиссером, так как он знал все выходы артистов, мизансцены и расположение мебели на сцене, считался плотник Степан. Он был приглашен на летний сезон к нам из театра Суворина. Он же был главный инструктор по декорационной живописи, объясняя нам, как надо размешивать краски, как заменять недостающий цвет другим, не выходя из рамок «условного реализма», как, наконец, пользоваться для укрепления клеевой краски на холсте политурой, остаток которой обязательно надо было ему допивать, «чтобы она не высыхала». На спектаклях он 50 был всегда сильно «выпимши», но дело свое вел исправно, без накладок, и первый же выражал артистам свое удовольствие, если находил игру хорошей.
Много потрудился над писанием лесных и парковых задников, хотя и всячески отказывался от этого, ученик школы живописи и ваяния Шитов229. Техника и театральная условность давались ему с трудом [см. ниже коммент. 29 Г. Р.-К.].
Репертуар был составлен из пьес, так сказать, популярно-просветительного направления. Ставилась: «Гроза», «Волки и овцы», «Свои люди — сочтемся», «Лес», «Трудовой хлеб», «Родина» (Зудермана). Моя мать играла Катерину, Магду. Хорошим пастором в «Родине» был П. П. Гайдебуров, ныне известный театральный деятель230. В Мурзавецком очень хорош был Корвин-Круковский. Старуху Мурзавецкую почти экспромтом и совсем неплохо играла В. В. Степанова231, большой друг моей матери [см. коммент. 30 Г. Р.-К.].
Любовников и героев играл Кремлевский232, провинциальный актер третьего сорта. Его жена была суфлером. Этот театральный герой вмещал в себя 100 % провинциального театрального хамства и актерского самомнения. Подписывался он «фон» Кремлевский. Эта приставка к фамилии не мешала ему пихать ногой в лицо своей жены, если она, по его мнению, плохо подавала из суфлерской будки. У этой нежной пары супругов было двое маленьких детей, заморенных и жалких, внушавших всем чувство острой жалости. Надо ли говорить, что за малейшую шалость «фон» Кремлевский их нещадно лупил. Мать же их всегда ходила заплаканной. Мне кажется, что это она должна была бы дать Чехову тему для его рассказа «[пропуск]».
Инженю была В. И. Репина, дочь художника, любительница на дороге к профессионализму, кажется, впрочем, никогда ею не достигнутому233. Она была типичная «хохлушка», очень похожая на свой портрет. Милая и веселая.
Играла Репина увлекательно и с темпераментом, но была очень шаблонно театральна. Больше всего ей удались роли Липочки [«Свои люди — сочтемся»] и водевили: «Волшебный вальс», «Жена напрокат», «Из-за мышонка», всегда имевшие хороший успех у зрителя234.
Резонером были П. П. Гайдебуров и Судьбинин235. Оба профессионалы. Судьбинин играл Счастливцева [в «Лесе»] и Кулигина [в «Грозе»]. Многие классические роли он делил с отставным полковником Энгелем, жена которого была комической старухой, а сын, студент-технолог, играл фатов236. Это были весьма опытные любители.
Вся группа приезжих артистов вместе с нашим семейством доходила до сорока человек, ежедневно обедающих за одним столом. Надо было себе представить, сколько было суеты и возни в доме в связи с неожиданно открывшимся в нем театральным сезоном! Вскоре же «все смешалось в доме» Корсаковых. Дети перестали учиться. Домочадцы и родственники спешили шить костюмы или репетировали массовые народные сцены. Прислуга растерялась, не успевая всех обслуживать. Общий хаос усилился из-за начавшихся обид, склок, интриг и романов! Совсем как в самом настоящем театре!
Я представляю, какое раздолье было нашим служащим и рабочим в то время, как хозяева были заняты целые дни и ночи на театральных подмостках. Разруха в хозяйстве усадьбы, начавшаяся с нашествием актеров, давала себя знать еще несколько лет спустя.
51 Наши спектакли имели большой «общественный резонанс». Театр был бесплатным и обычно собирал много окрестных крестьян. Вскоре слух о серьезном и хорошо поставленном театральном деле вышел за границы уезда, и на этих спектаклях стали появляться представители земской интеллигенции и помещиков из отдаленных мест нашей и соседней Тверской губернии.
К осени, перед тем как всем разъехаться по зимним квартирам, наша труппа решила дать последний спектакль в городе Старице, находящемся от нас всего в 70 верстах. Впрочем, миновать Старицы, большую станцию железной дороги, все равно было невозможно.
Этим спектаклем закончились все театральные начинания моей матери [см. ниже коммент. 31 Г. Р.-К.].
52 Комментарии Г. А. Римского-Корсакова
№ 1. В Музее Чайковского в Клину можно видеть акварельный портрет Ю. М. Юрьева в этой роли работы художника Соломко с разбитым стеклом. Этот портрет висел в угловой комнате второго этажа, где жил Вл. Л. Давыдов, с которым Юрьев был дружен. Когда в 1907 году бедный Боб Давыдов в припадке отчаяния выстрелил в себя, то пуля, убив его, попала в раму портрета Юрьева и разбила ее237.
№ 2. Многие страницы музыки Чайковского не могут не шокировать своим псевдо-народным и ложно-русским колоритом. Многое здесь было от русской поэтики трактиров: «Славянского базара», Тестова и Лопашева, от тех правоведско-великосветских петербургских мироощущений России, которые мешали Чайковскому-художнику правильно воспринять окружающую его действительность. Может быть, это происходило от того, что он не всегда мог почувствовать «Россию в себе», поглотить ее, психически переработать и освоить этот текст. Несмотря на то что он как будто мучительно жаждет этого слияния, оно ему не всегда удается. Он продолжает чувствовать «себя в России». В этом не удовлетворенном ничем и никогда желании — ключ к душ[ев]ной драме Чайковского. Впрочем, у композитора бывают гениальные прозрения совершенного русского стиля (хор девушек в «Евгении Онегине», русский танец [из балета] «Лебединое озеро» и др.). Но они создаются им «на ходу». Это проходящие эпизоды его творчества.
Чайковский вполне русский там, где он меньше всего об этом думает, где он меньше всего хочет показать свою национальную принадлежность. Его русский гений раскрывается там, где он всечеловечен. Таким он является нам в большинстве своих симфоний, особенно в своих симфонических поэмах, в квартетах и даже в балетах. Это были как раз те опусы Чайковского, которые у нас дома больше всего любили. Особенно часто игрались у нас три последних симфонии, «Франческа» и «Ромео». Вот фундамент, который был заложен в основу моего музыкального развития. Сюда можно еще добавить «Садко» и «Шехеразаду» Римского-Корсакова и балеты Глазунова. Позднее я понял, что «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и 1-й концерт для фортепиано еще более русские, чем все другие его opus’ы.
№ 3 [Комментарий отсутствует.]
№ 4. Антонина Дмитриевна Крутова238 была моей крестной матерью и племянницей мужа моей тетки В. А. Полторацкой. Крестным моим был С. В. Квашнин-Саморин, сычевский помещик, милый, веселый и обаятельный старый барин-холостяк. Он был bon-frère моего дяди Вас. Ал. Римского-Корсакова, женатого на его сестре Анастасии Васильевне.
№ 5. Я сам в это время увлекался игрой, в которой изображал испанского короля, покоряющего мавров. Наступая со шпагой в руке на шкуру бурого медведя, лежащего под письменным столом моего отца, я поражал врагов направо и налево, сокрушая подчас заодно и портреты родственников, стоящих на столе и многие другие предметы.
Жили мы в эти годы на Васильевском острове на углу 13-й линии и Николаевской набережной. Мы нанимали верхний, второй этаж небольшого желтого углового дома. Квартира была большая, соединенная из двух, с залой, в которой могло танцевать во время бывавших у нас вечеров до ста человек приглашенных. Всего в 53 квартире было одиннадцать комнат, не считая помещения для прислуги. А внизу под нами было заведение шипучих вод и квасов Редлиха. Никогда после я не пил кваса вкуснее!
№ 6. [Комментарий отсутствует.]
№ 7. Моя мать очень любила этот танцевальный характерный номер и ставила его всегда в пример другим.
№ 8. [Комментарий отсутствует.]
№ 9. Свои первые детские впечатления я проверил 25 [20] лет спустя, попав случайно на «Раймонду» в Мариинский театр в 1919 году весной. Времена были мрачные. К Ленинграду подступал Юденич. Город притаился: «что-то будет?». У всех учащенно билось сердце. Решалась, на этот раз всерьез, судьба революции.
Тогда острые реминисценции овладели мной. Мне захотелось пойти туда, где я в детстве провел столько безмятежных счастливых минут. Мариинский театр, как ни в чем не бывало, ставил «Раймонду», «Китеж», «Кармен»…
Но «Раймонду» я досмотреть до конца не мог. Ничем не нарушаемое спокойствие царило на сцене и в оркестре, как и двадцать лет назад на первом ее спектакле. Тоска и безразличие обволакивали зрительный зал. Артисты-манекены двигались по сцене, боясь обнаружить хоть малейшее движение души и как-нибудь взволноваться, ибо чувство в этом театре признак дурного тона.
Ламбин, делавший декорацию, неплохой художник — деликатный и корректный, дал традиционный, академически тусклый и бесцветный зал, такой же сад, рыцарский двор. Так же индифферентно вел себя оркестр. Все в этом спектакле было чинно и благообразно до тошноты. Неужели этот полумертвый балет мог когда-то пленять мою мать и нас всех?
Между прочим, начало этого спектакля было в 8 часов. Тогда в городе для экономии электрической энергии часы сразу были переведены на 2 часа вперед, перед тем на общем основании по декрету часы уже были переведены на час, таким образом, разница с солнцем была 3 часа! А так как в это время был май и белые ночи, то казалось, что ночь вообще отменена и солнце никогда не заходит.
№ 10. Любопытно, что Горский так никогда и не узнал, кто украл его запись «Спящей красавицы». Также он никогда не говорил дирекции об этом печальном инциденте.
№ 11. В своей книге «Мастера балета» Ю. О. Слонимский дает очень неясную и путаную концепцию творчества М. Петипа. В частности, очень много противоречий имеется в главе, посвященной постановке «Спящей красавицы».
Вполне правильно пишет Слонимский, что для Петипа сказочное действие «развертывается всерьез». Иначе он и не мог относиться к своему балетному либретто. Но Слонимский ошибается, когда приписывает Чайковскому выполнение в «Спящей красавице» какого-то «сверхзадания».
Если бы композитор действительно ощущал в либретто балета какой-нибудь «второй план», кроме сказанного, то конечно, он нашел бы в себе достаточно творческой потенции, чтобы выявить его более интенсивно, более напряженно, в более глубоком и драматически значительном звучании своей партитуры. Между тем нельзя не признать, что никаких глубоких драматических коллизий, никаких зовов в иррациональную сферу чувствования и показа борьбы космических начал в 54 музыке Чайковского нет. Никакой значительности темы Чайковский в этом балете не вскрыл. Вряд ли для композитора сюжет балета воспринимался как «борьба солнца, света, счастья с мрачными и холодными силами природы», т. е. как одна из самых глубоких тем, издавна волнующих человечество. Если бы это было действительно так, как пишет Слонимский, то, конечно, в партитуре «Спящей красавицы» все выглядело бы по-иному. Не было бы того спокойного эпического, повествовательного, как верно отметил Слонимский, «шутливо-ласкового» тона. Не было бы того «радостного трепета и иронии», того «юмора и сказочной улыбки» музыки, которая, между прочим, совершенно непонятно где и как, по словам критика, «умышленно попирается Петипа». Иными словами, мы имели бы тогда не одну из наиболее ясных, мажорных партитур Чайковского, а получили бы новую «Франческу», новую «Бурю», нового «Ромео». Таким образом, утверждение Слонимского о каком-то расхождении творческих линий авторов балета «Спящая красавица» надо считать ошибочным.
Я не могу разделять также желание Слонимского «реконструировать» «Спящую красавицу». Попытки такого рода очень рискованны. В годы войны 1914 года Мариинский театр проделал обновление «Спящей красавицы». Ничего более аляповатого, громоздкого и фальшивого мне не приходилось видеть. А главное, было полное расхождение художника с композитором и балетмейстером.
Желание сказать лучше самого автора есть суетная мысль. Это возможно лишь тогда, когда автор косноязычен, когда он художественно беспомощен, робок и неопытен. Но художественное произведение, монументальное по своему объему и значению, ставшее уже классическим, не нуждается в исправлениях и поправках, дополнениях и объяснениях. Надо предоставить каждому черпать из него, сколько он желает и что он хочет.
В драматическом сочинении под влиянием сдвигов общественных вкусов, вызванных новыми политическими и социальными отношениями, неизбежны переакцентировки узловых моментов пьесы, переоценка характеров, перенесение внимания зрителя с бывших ранее главными на второстепенные планы, на обыгрывание деталей, ставших при новых мироощущениях зрительного зала основными стержнями нового понимания пьесы. Для глубокого и полного освоения драматического произведения оно должно быть современным.
В Бахрушинском музее есть очень занятная зарисовка сцены из «Ревизора» (масло) в исполнении актеров Александринского театра239. Все они одеты в костюмы своего времени, т. е. в туалеты моды 1880-х годов. Такая же и меблировка комнаты. Никого это не шокирует. Наоборот. Спектакль имеет успех. Делает сбор и даже зарисовывается для «назидания потомства». Точно так же неприхотливо, но вполне по-современному обставлен был и «Евгений Онегин» Чайковского в те же 80-е годы на императорской сцене240. Все это было возможно потому, что зритель 80-х годов меньше всего интересовался в театре «Ревизором» Гоголя, а ходил смотреть Варламова — Петрушку, Давыдова — Городничего, Савину — Марию Антоновну и т. д.241 А в опере Чайковского «слушали» Фигнеров, Мельникова, Мравину242 и, между прочим, вспоминали по ассоциации Гоголя и Пушкина.
И вот, когда у зрителя, ходящего в театр, сложилось новое миропонимание, новое отношение к жизни и к искусству, то вдруг все сразу заметили, вслед за новым 55 директором театра С. М. Волконским243, что «Король голый» — т. е. что театр не есть только резиденция драматических и оперных премьер, но является местом сосредоточения художественных вкусов общества в своей наиболее экспрессивной и действенной форме. Позднее Луначарский указал на то, что театр должен быть рупором общественных этических и эстетических идеалов244. И Александринский, и Мариинский театры перестали к этому времени выражать отношение общества к Гоголю, к Пушкину, к Чайковскому, к драме, к опере, к театру, к живописи, к музыке и т. д. Наступило время полной переоценки взаимоотношений театра и общества. Театр стал своеобразным предприятием для правительства, местом отдыха для немногих привилегированных, «домом отдыха». Переставить «Онегина» в Мариинском театре Волконскому удалось. Но переделать премьеров Александринского театра ему было не под силу. И «Ревизор» так и шел по старинке, пока не перевелись премьеры на этой образцовой сцене.
Убедительный пример смехотворного желания «приблизиться» к автору дает «реконструкция» «Спящей красавицы» в Большом театре в 1937 г.245 В основу драматургии этого спектакля положен рекомендуемый Слонимским «обобщенный» метод добра и зла. Лишенная конкретного, локального стиля эпохи абстрагированная композиция балета увлекает зрителя в ирреальный мир. Отсутствие локальности и стилистической конкретности обращает постановку в большой концерт из переставленных (в большинстве) танцев Петипа.
Спектакль оказался явно неудачным. Постановщики скомкали и разорвали безукоризненную по форме хореографическую партитуру Петипа, сохранив из нее лишь кусочки по своему выбору. Цельная и художественная мысль автора была неуклюже и грубо истерзана, тогда как у Петипа форма хореографической партитуры рождалась на основе глубоко продуманных и проверенных многолетним опытом канонов балетного искусства. Ведь до «Спящей красавицы» им уже было поставлено свыше 50 балетов. Вот почему в его последних балетах так редко бывало что-либо лишнее, ненужное, случайное.
Если Фокин давал совсем чуждую музыке трактовку (хореографическую и живописную), сохранив при этом фееричность — зрелищность балета «Спящая красавица» (1914 г.)246, то коллектив новых постановщиков с И. Рабиновичем во главе лишил зрителя какого-либо зрелища на сцене. Основная гамма Рабиновича в «Спящей красавице» — белый и розовый цвета. На фоне белых декораций зала дворца (I и IV акты) движутся белые и розово-желтые фигуры танцующих. Таков неверно понятный им мажорный тон композитора. Непонятная и неубедительная (даже не по Доре247) абстрагированная природа деревьев сада и леса (одна и та же «арочная» декорация во II-м и III-м актах, немногим отличающаяся от смешных и наивных «германских» лесов К. Ф. Вальца). Никаких любопытных костюмов. Бело-розовые и бело-желтые пачки, трико, корсажи. Беспомощные и примитивно-ученические по мысли потуги на символику в образе и костюме злой феи Карабос. Появляясь, она пляшет козлом, закидывая ноги за голову, как ведьма на шабаше, — лишь она одна одета в темное черное платье. Жалкая и чахлая творческая мысль постановщика.
Панорама, наиболее ответственный фрагмент декорации, — скучна и однообразна, написана как бы наспех и не любовно, тогда как А. Ф. Гельцер создал замечательное романтическое полотно, строго академическое по манере, но изобразительное 56 и колоритное по живописи. Он показывал смену дня и ночи, с закатом и луной. В своем роде это было очень хорошо сделано. В живописи красок он уступал нашим импрессионистам, но намного был строже и значительнее Рабиновича, впрочем, очень хорошего художника.
Вся хореография постановки 1937 г. выглядела чрезвычайно серо и не танцевально. Все танцы кордебалета, все отдельные номера балерины и солисток оказались сделаны «заподлицо». Надо было бы иметь талант Преображенской, чтобы спасти этот спектакль. Это было бы возможно [сделать], переведя впечатления зрительные, внешние в ощущения ритмопластические, моторно-музыкальные.
Партия Авроры не принадлежит к числу легких. В ней много танцев. Три больших адажио: Квинтет первого акта с вариацией, [pas d’action] с вариацией во втором, тоже и в третьем актах. Нагрузка немалая. Партия Авроры вся танцевальна. Никакой пантомимы в ней нет. Лучшей из всех Аврор поэтому все же была Гельцер, которая давала нужную силу сценического тона и драматического напряжения, помимо безупречной фактуры танца, что здесь особенно важно. Гельцер давала монументальное звучание хореографической партитуре «Спящей».
№ [11 bis] Очень поверхностно подошел к разбору музыки «Щелкунчика» в своей книге Слонимский.
«Музыка в “Щелкунчике” на протяжении всего спектакля качественно не равноценна», — пишет Слонимский. Действительно ли это так?
Из не совсем ясных объяснений критика можно понять, что он имеет в виду 2-й акт, о котором будто бы Ларош заметил «с полным основанием»: «Для этнографической выставки П. И. написал музыку, как Бог на душу положил»248. Ни для кого не секрет, что Ларош, несмотря на свою большую эрудицию и уменье писать, был, так же как Стасов, иногда крайне парадоксален249. Это свойство ума Лароша с его неожиданными пристрастностями, по-видимому болезненного характера, отмечал и П. И. Чайковский. Слонимский не имеет своей концепции и поэтому охотно берет заявление Лароша о музыке «Щелкунчика», благо оно остро и звучит совсем не банально.
Не определяя и не расшифровывая, в чем заключается порочность музыки балета, Слонимский пишет дальше: «второй акт заканчивается остроумным, красочным дивертисментом, отличающимся только качеством музыки от традиционных дансантных номеров».
Слонимский небрежно излагает свои мысли. Ведь все балеты Чайковского отличаются от многих других балетов лишь качеством музыки. Дело, конечно, не в качестве музыки, а в том, что Слонимскому понравилась цитата Лароша, и он стал ее «обыгрывать», но получилось это не вполне удачно. У Чайковского в каждом из его трех балетов имеется дивертисмент из «дансантных номеров». Если их сравнивать, то, очевидно, надо будет признать, что музыка дивертисмента «Щелкунчика» значительнее, глубже, полносочнее, колоритнее и экспрессивнее, чем те же испанский, венгерский, неаполитанский и пр. характерные номера вместе с его же мазуркой из «Лебединого озера», о музыке которого Слонимский молчит, так как не знает, по-видимому, что можно о ней сейчас писать.
Дело, конечно, не в том, что Чайковский в «Щелкунчике» дал будто бы качественно неполноценную музыку, а в том, что либретто Петипа и Всеволожского оказалось драматургически слабым. Балет получился куцым. Драматические ситуации 57 у Гофмана, построенные на неожиданных чередованиях реального и фантастического, показанные либреттистами в 1-м акте балета, не получили дальнейшего развития и логичного завершения. Совершенно очевидно, что спектакль нельзя было заканчивать праздником в Конфитюренбурге, придав ему тривиально фантастический конец. Надо было, по крайней мере, вернуть Клару домой, а Щелкунчика на полку с игрушками.
То, что допустил оплошность Всеволожский с либретто, понятно. Более удивительно, что проглядел это Петипа. У него обычно концы балетов увязывались с началом. Хотя сам он не всегда хорошо чувствовал форму удачного либретто и ему очень много помогали в этом другие, но у него был большой опыт балетных дел мастера. Вообще умение сочинять хорошие балетные сценарии не всем балетмейстерам дано.
Возвращаясь к оценке либретто «Щелкунчика», нельзя не удивляться, что и Чайковский, и, наконец, второй постановщик балета Иванов проглядели его неудачное окончание.
Как известно, Петипа заболел в самом начале постановки. Вся работа по «выпуску» «Щелкунчика» была проделана Ивановым. Он явился ответственным постановщиком этого балета на сцене. Каким бы слабым, напуганным и придушенным рабской, бюрократическо-чиновничьей идеологией ни был пропитан Иванов, как это думает Слонимский, он должен был бы, заметив недостаток либретто, исправить его или хотя бы «доложить» М. И. Петипа или Всеволожскому о несоответствии сюжета балета с его концом. У меня нет никаких свидетельств о попытках такого рода, исходящих от Иванова.
Это обстоятельство любопытно еще и тем, что в своей книге Слонимский очень высоко расценил Иванова как балетмейстера. Он изображает его как жертву деспотизма Петипа, как талантливого художника, отравленного ядом бюрократического строя. Эта точка зрения вообще достаточно распространена. Петипа будто бы не давал Иванову развивать свои способности балетмейстера.
Думаю, что мнение Слонимского о деспотическом зажиме Петипа творчества Иванова в значительной мере преувеличено.
Л. И. Иванов много лет подряд руководил вполне самостоятельно летними балетными постановками в Красном Селе. Также довольно много постановок он сделал в Мариинском театре, в балете и опере. Работал он и в Москве, куда приезжал ставить балеты петербургского репертуара. Таким образом, Иванов имел много случаев показать себя как художника, как мастера, постановщика и балетного режиссера. Совершенно естественно должен возникнуть вопрос, почему же он никогда не воспользовался предоставленной ему возможностью проявить свое незаурядное и выдающееся, как полагает Слонимский, мастерство? Мы не знаем ни одного случая, чтобы Иванов попробовал в своих балетмейстерских работах проявить свою творческую индивидуальность, попробовать сделать так, как ему подсказывал его художественный вкус.
Я смею все-таки думать, что если бы Иванов был действительно крупной фигурой в балете, то никакой Петипа не мог бы помешать ему поставить себя в нужные условия для художественного творчества. Если ему было с Петипа тесно на одной сцене, он мог бы перевестись в Москву, где с 60-х годов (после Блазиса250) всегда ощущался катастрофический кризис балетмейстеров.
58 При том равнодушии гвардейского зрителя к тому, что ему показывалось на сцене, Иванов мог ставить в Красном Селе буквально все, что его душа желала. Между тем ничего своего он там не давал. Все эти красносельские спектакли были галантно-халтурного порядка (см. дневник Кшесинской251). Ни один из балетиков, который Иванов ставил в Мариинском театре («Очарованный лес», «Гарлемский тюльпан», «Грациелла»252 и др.), не сохранился до наших дней, и память о них «поросла травой забвенья».
Все это говорит о том, что Иванов, несмотря на некоторые свои большие удачи и талантливые прозрения (у кого из старых и опытных артистов их не было?), все же не был способен заменить Петипа как балетмейстера и как балетного драматурга. Кроме того, Иванов в своем творчестве был ограничен и смелостью, необходимой для крупного мастера, и недостаточной культурой, хотя и стоял в этом отношении намного выше своих сотоварищей.
Слонимский обращает внимание на поставленную Ивановым во II-м акте «Щелкунчика» «пляску буффонов», которую он считает «не потерявшей своего хореографического значения и в наши дни». Слонимский, как он это часто делает, не обосновывает свое мнение, а ограничивается одной констатацией. Потому лишь незначительный круг близких к петербургскому балету людей может знать, в чем же ценность этой пляски253. Странная идея, между прочим, поставить на мотив русской плясовой танец полишинелей! Горский на эту музыку в своей постановке в 1919 г. сделал замечательно «вкусный» русский лубок-миниатюру. Это, кажется, единственный номер лубочного жанра, который я знаю у Горского. «Лубок», как вообще всякий гротеск, был не в его стиле. К лубку в танце я чувствую крайнее отвращение. Это глупая и пошлая карикатура на народ, придуманная интеллигентскими гитанами.
«Щелкунчик» в первые годы своего существования на сцене был мало заметен. Как известно, Чайковского не увлекал на первом этапе работы сюжет «Щелкунчика», особенно его финал — город Конфитюренбург. Надо иметь в виду, что гофманская эстетика ужаса — ужаса ради ужаса — была чужда Чайковскому. Кроме того, Петипа и Всеволожский тянули его, очевидно, к созданию «изящной» музыки. У меня сложилось мнение, что постановщики как бы сговорились избегать упоминания имени Гофмана при работе над «Щелкунчиком».
У Петипа в этом балете намечается весьма для него естественное желание — офранцузить сюжет. Чайковский, по-видимому, идет навстречу этому желанию. Вот почему рядом с «гросфатером» появляется тема «кадеруссель»254, сугубо французского народного характера.
Сама затея Всеволожского — соединить в один вечер балет и оперу, т. е. перемотать пластическо-моторные эмоции с вокально-слуховыми восприятиями, была в корне порочной и не могла не дать отрицательный результат.
№ 12. Первый поклон царской ложе делался в Петербургском балете независимо от того, находился ли в ней кто-нибудь из «царей», как называла Кшесинская всех вообще членов царской фамилии, или нет. Это была старая традиция придворного театра, свято им хранимая. Любопытно, что в московском балете, кроме Гельцер, все артистки кланялись по-разному, как Бог положит на душу. Некоторый демократизм московского балета сказывался в мое время еще и в том, что танцовщицы предпочтительно кланялись верхним ярусам, галерке, чем зрителям партера. 59 Петербургские артистки поэтому часто подсмеивались над незнанием москвичами придворных и светских приличий, называя их «кухаркины дети».
№ 13. Судьба этих записок довольно любопытна. Они были переданы в музей Бахрушина В. А. Рышковым. В свою очередь он их получил от балетмейстера Б. Романова. Как-то во время обеда в 1918 году Романов неожиданно обратился с просьбой к Рышкову взять к себе на хранение записки Кшесинской, т. к. он сам собирался удирать за границу со своей женой Е. А. Смирновой255. Не знаю, откуда записки попали к Романову. Кажется сама М. Ф. Кшесинская, уезжая из России, отдала их ему.
Рышков взял записки, состоящие из нескольких тетрадей, относящихся до пребывания Кшесинской в балетной школе (они написаны по-польски), и тетрадь, в которой описан ее роман с наследником Николаем (по-русски). С последних Рышков поспешил снять копию (в одну ночь) и потом все это, — и оригинал, и копию передал на сохранение в запечатанном конверте в Музей А. А. Бахрушину. В 1935 году я наткнулся в архиве музея на копии дневника, переписанные Рышковым. Оригиналов нигде в музее не обнаружилось. Между тем, запрошенный В. А. Рышков настаивал на том, что оригиналы были им переданы Бахрушину вместе с копиями.
Я попробовал лично обратиться к И. Ф. Кшесинскому с запросом. Он начал делать сначала «тугое ухо», но после того, как я ему ясно изложил положение и сказал, что Рышков показывает на него, как на хранителя конца записок Кшесинской, он очень твердо и ясно мне ответил: «У меня нет никаких документов или бумаг, писем и пр. моей сестры Матильды Феликсовны. Все, что было, я передал уже давно в Театральный музей Жевержееву». Таким образом, продолжать с ним разговор на эту тему было бесполезно256.
№ 14. В 1936 году, будучи в Ленинграде, я познакомился с Н. А. Бакеркиной. Я был у нее с просьбою написать свои воспоминания о М. И. Петипа и петербургском балете. Кто же, как не она, возглавлявшая в балете многие годы перед революцией партию, соперничавшую по влиянию на театральные дела с Кшесинской, могла рассказать о тех скрытых пружинах, которые приводили в движение весь этот сложный механизм театрального искусства, известный под именем «Мариинский театр». Уговорить писать Бакеркину мне не удалось. Тем не менее, я провел у нее пять часов в очень оживленной беседе. Не обошлось и без курьезов.
Когда я вошел по приглашению Н. А. в ее комнату, то она нашла нужным извиниться за свою обстановку и за тесноту. Жила она в конце Каменноостровского пр. в большой квартире бельэтажа. «Раньше ведь я занимала весь бельэтаж», — заметила она. Действительно, в комнате было тесно, но это было оттого, что она вся была заставлена сундуками, шкафами и прочей мебелью. Но площадь комнаты была не менее 60-ти или 70-ти кв. метров!
Узнав, что я сын того Римского-Корсакова, которого она знала в далекие прошлые времена, она подарила меня своей милой доверенностью. «Когда мне нужно что-нибудь достать из сундуков, мне приходится обращаться к чужим людям. Самой мне трудно их теперь ворочать, мне ведь стукнуло 70», — сказала Н. А., опустив глаза.
Я поспешил выразить недоверие к ее словам. Действительно, она была свежа, как роза, элегантно одета в черное и, несмотря на свою совсем белую голову, тщательно причесанную и завитую, выглядела не старше 40. Милое балетное кокетство!
60 Бакеркина мне жаловалась на современную театральную молодежь, которую так плохо теперь воспитывают. Особенно она была недовольна Мариной Семеновой257.
Желая ей помочь в ее первых шагах на сцене, она давала ей надевать свои театральные украшения, за которыми приезжала сначала сама Марина Тимофеевна. «Встав же на ноги», Семенова стала манкировать Бакеркиной вниманием и уважением. Она позволяла себе попросту присылать ей записочки «дерзкого» содержания: «Милая Над. Алекс., пришлите мне какое-нибудь перо получше для “Лебединого озера”», — писала она. «Как будто у меня есть — похуже», — недоумевала Бакеркина.
«Впрочем, разве молодежь что-нибудь понимает. Представьте себе, — рассказывала мне Бакеркина. — Пришли ко мне как-то молодые люди, военные, забирать у меня золото и драгоценные вещи. Входят в комнату в фуражках. Ну да это Бог с ними. Но вот, перебирая мои сундуки и откладывая те вещи, которые они хотели взять, вдруг вижу — один из них с пренебрежением откинул в сторону мою великолепную парюру из бриллиантов с сапфирами работы Фаберже. “Почему вы не берете эту вещь?” — спрашиваю я. — “Нам не нужны ваши бутафорские украшения”, — отвечает молодой человек. — “Как? Вы думаете, что эти камни фальшивые? Неужели вы допускаете мысль, что Петр Павлович258 мог мне подарить какую-нибудь дрянь? За эту парюру он заплатил 40 тысяч!” Паренек сунул парюру в карман и пробормотал: “В таком случае, извиняюсь, мы ее возьмем”»259.
Бакеркина рассказала мне несколько анекдотов про Кшесинскую, которые просятся, чтобы быть записанными260.
Кшесинская очень аккуратно и тщательно вела свои дела и, несмотря на свои миллионные биржевые операции, будучи большой скопидомкой, ежевечерне перед сном заносила в книгу все свои дневные расходы. Она часами могла вспоминать каждый свой истраченный гривенник и не ложилась спать, пока весь баланс на сходился у ней точно.
Эти счеты очень раздражали великого князя Сергея Михайловича, который торопился скорее лечь, чтобы предаться «Кипридиным приятностям». Иногда поэтому Сергей Михайлович спрашивал у Кшесинской, на какую сумму у ней не сходится счет повара со сдачей, и незаметно подкладывал ей искомые рубль с копейками. Но бывало и так, что она уличала своего высокого любовника в потакании хищениям прислуги, в расходовании «трудом» нажитых ею капиталов, и тогда поиски грошовой суммы начинались с еще большим рвением.
Но вот, ночью, энергичная ручка балерины будила Сергея Михайловича. «Что случилось?» — вскакивал он на кровати. «Нашла!» — отвечала сияющая от счастья Кшесинская. «Нашла!» — «Что нашла?» — «20 копеек. Я совсем забыла, что дала их Петру лакею, чтобы он завтра утром съездил за моим платьем к портнихе…». Тогда начальник всей русской артиллерии разражался громовыми залпами ругательств. На это Кшесинская спокойно отвечала: «Вам хорошо ругаться, Ваше Императорское Высочество, располагая неограниченными средствами русской царской фамилии, а я, бедная женщина, должна думать о своем пропитании»261.
В Эрмитажном театре, как известно, в 90-х годах устраивались по несколько раз в сезоне различные спектакли. В одном из таких спектаклей зимой 1897 – 1898 г. участвовала и Кшесинская. В это время она была беременна. Отцом ребенка был Сергей Михайлович. Ее положение было уже ясно видно. И вот вместо того, чтобы скрыть по возможности свою деформированную фигуру, Кшесинская всячески со 61 свойственным ею вызывающим видом подчеркивала перед всей царской семьей свое положение — не жены их родственника.
По словам Бакеркиной, такое вызывающее поведение Кшесинской крайне возмутило молодую царицу Александру Федоровну, которая просидела весь вечер в Эрмитаже с нахмуренным лицом, почти не глядя при этом на сцену.
Через некоторое время директор театров И. А. Всеволожский получил «повышение», будучи назначен управлять Эрмитажем. Назначение это по форме было весьма почетно. Занимать эту должность могли лишь особы первого класса. Однако это увольнение директора Бакеркина связывает с желанием завуалировать царское неудовольствие поведением Кшесинской. Конечно, Всеволожский не мог потакать Кшесинской и только «недосмотрел» за ее фигурой262.
В. С. Гадон263, генерал, бывший командир Преображенский, адъютант великого князя Сергея Александровича (убитого Каляевым264), часто бывал в Бахрушинском музее и много рассказывал «о старине». Вот некоторые из его рассказов, как они мне запомнились:
В. С. Гадон участвовал как исполнитель в великосветской постановке «Бориса Годунова», который был поставлен по желанию и под непосредственным наблюдением Александра II, являющегося как бы негласным режиссером спектакля265. Гадон вспоминал, как Александр, присутствуя на репетициях, покрикивал на исполнителей «громче, скорее, тише, повторите». А кому-то, игравшему патриарха, велел вынуть спички из штанов, чтобы не морщили и т. д. Царь так же, как и все великосветские артисты, был очень смущен плохой старческой дикцией А. А. Стаховича — Бориса Годунова. Когда-то в прошлом неплохой любитель и тонкий театрал, Стахович с трудом тянул акт за актом трудную роль Годунова. Всем было мучительно смотреть на него. Больше всех был раздосадован своим выбором Александр, но не хотел никем заменить Стаховича, чтобы не обидеть старика, специально для этого спектакля выписанного из его Орловской усадьбы266.
Гадон всем своим обликом, манерами, тембром голоса, походкой, напоминал аристократа-придворного Николаевских времен.
Он рассказывал о прошлом много и охотно, умея деликатно промолчать, когда это было нужно. Вот некоторые из его рассказов.
В 1850-е годы офицеры Преображенского полка часто устраивали в своих казармах 1-го батальона на Миллионной улице любительские спектакли. В них принимал участие и отец В. С. Гадона, тоже офицер этого полка. Вечера эти происходили в очень интимной семейной обстановке. Об этих вечерах узнал Николай I и как-то запросто явился незваным перед самым поднятием занавеса среди сконфуженной публики. Произошел некоторый переполох, но он быстро всех успокоил и ободрил. Пройдя в первый ряд, царь сел на единственное оставшееся свободным кресло и очень живо и весело реагировал на происходящее на сцене, подавая иногда веселые реплики.
В одной из пьес актер приходит на свидание и ждет свою даму, исполняя довольно длинный монолог, чтобы дать возможность ей успеть переодеться. Исполнитель (это был отец Гадона) увлекся. Он забавлял публику комическими рассказами, не обращая внимания на то, что делается за кулисами. Жена Гадона, «дама» — по пьесе, переодевшись, подошла к кулисе и шепнула мужу на сцену: «Сережа, уже… 62 я готова». Однако Сережа ничего не слушал. Бедная «дама» громким трагическим шепотом хотела напомнить о себе мужу, чтобы он подал ей реплику для ее выхода. «Сережа, я готова…» Тогда Николай под веселый смех зала, оборвал монолог Гадона, сказав ему: «Сережа, она ведь готова…».
Другой раз в присутствии Николая офицер Лярский играл в пьесе Островского «Бедность не порок» Любима Торцова. Он немного переигрывал и несколько раз повторял поговорку «С пальцем 10, с огурцом 15». На другой день был «развод с церемонией» в Михайловском манеже. Лярский находился в строю. Проходя по фронту войск и заметя Лярского, Николай обратился к нему с улыбкой: «А! с пальцем 10…?» — «… С огурцом 15, Ваше Императорское Величество», — отвечал ему Лярский. Произошло драматическое замешательство. Начальство бросилось к молодому поручику. Небывалое нарушение строевых законов! Николай остановил всех, крикнув: «Не взыскивать! Я сам вызвал реплику»267.
Гадон рассказывал мне, как относился Николай II к тем, кто недоброжелательно отзывался о Распутине. Мария Федоровна приезжала как-то в Петергоф (?) к Николаю, чтобы поговорить с ним о Распутине. Царь сказал ей, что он будет с ней разговаривать после обеда. Когда же обед окончился, он подошел к матери и сказал: «Меня ждет “Штандарт” (яхта), чтобы ехать в шхеры, а вас экипаж. До свидания». Так разговор, на который рассчитывала Мария Федоровна, и не состоялся. Это лично ему рассказывала старая царица268.
Он ее встретил как-то на военном параде. Она выразила желание, чтобы он проводил ее домой, и всю дорогу сокрушенно говорила ему по поводу проникновения Распутина в жизнь царской семьи. Она предвидела катастрофу и жаловалась, что не имеет никакого влияния на сына и не находит ни в ком из близких поддержки и утешения. «Я очень одинока269, — вздохнув, сказала она Гадону. — Я знаю, что у вас есть сестра270, с которой вы очень дружны и любите ее… Отвезите ей этот букет… а у меня никого нет». И Мария Федоровна отдала Гадону букет роз, который ей поднесли на празднике. Стоило ли после этого быть русской императрицей, чтобы так печально кончать свою старость. Впрочем, кажется, таков был удел большинства русских цариц.
Николай Николаевич старший, долгие годы сожительствовавший с артисткой балета Числовой271, кончил жизнь в состоянии болезненного расстройства умственных способностей. Он обратился в ярого онаниста и эротомана. Он подозревал самые невероятные эротические связи между своими родными и близкими. Дежурные адъютанты говорили об очень тяжелых минутах нахождения при нем.
Николай Николаевич старший находился под тираническим влиянием Числовой. Она жила в доме на Галерной напротив дворца. Окна ее квартиры были в непосредственной близости от столовой вел. кн. Было установлено, что когда Числова желает видеть Николая Николаевича у себя, то ставит на окно зажженный канделябр. Бывало, что она подавала условный знак встречи во время великокняжеского обеда. Николай Николаевич начинал суетиться и торопиться есть. Если же он почему-либо не мог быстро окончить обед, то во всех окнах квартиры Числовой зажигались канделябры. Тогда приближенные вел. князя, посмеиваясь, острили, что «бедному вел. князю сегодня “жара”! У Числовой пожар»9*.
63 Граф П. А. Шувалов272 производил дознание по поводу кражи брильянтов у великой княгини, жены Константина Николаевича. Следствие обнаружило, что их украл его сын Николай Константинович. Тогда Шувалов приехал к Константину Николаевичу с тем, чтобы поговорить о подыскании какого-либо лица, которое взяло бы на себя «грех» за определенную сумму денег. Константин Николаевич начал кричать на Шувалова, как он смеет подозревать его сына в краже. Когда вошел во время этого разговора сам виновник происшествия — Николай Константинович, то они оба Шувалова буквально выгнали. Он ушел, заявив, что принужден будет доложить обо всем царю Александру III, который по его докладу приказал объявить Николая Константиновича сумасшедшим и выслать в Ташкент273.
Еще при жизни первой жены Александра II, его вторая жена — княгиня Юрьевская переехала жить в Зимний дворец274. Это привело к тому, что Александр II отдалил от дворца своих младших детей Павла и Сергея, которые уехали за границу, на юг Франции275. Юрьевская очень истощала здоровье старого царя, и он заметно дряхлел, но старался это скрывать276. Еще при его жизни она хотела определить их сына277 в Преображенский полк, для чего направила для предварительных переговоров с командиром полка, князем Оболенским278, своего управляющего делами жандармского полковника Шебеко279. Он начал говорить с Оболенским о том, что «его величеству хотелось бы определить своего сына в Преображенский полк». Оболенский прервал Шебеко тем, что заметил ему: «все сыновья Государя Императора уже зачислены в полк, и Владимир, и Александр, и Павел, и Сергей»280. — «Нет, я имею в виду другого сына Государя». — «А я других не знаю. А впрочем, если Государю Императору было бы угодно пожелать зачислить кого-либо из членов своей семьи в полк, то стоило бы только приказать, а вам, полковник, следовало бы знать, что когда вы являетесь к старшему чином, то надо надевать мундир, а не сюртук. Разговор наш окончен». После этого Александр II в течение года никогда не останавливался при объезде войск на разводах перед Преображенцами офицерами и не обращал на них внимания. Сын Юрьевской потом служил в гусарском полку и был убит на дуэли281.
Сама Юрьевская очень широко пользовалась своим влиянием на Александра II282. Двое офицеров были сделаны флигель-адъютантами после того, как протанцевали с ней на балу283. После смерти Александра II она присутствовала на церемонии перенесения тела царя в церковь и на его похоронах. На другой же день после похорон Александр III имел с ней беседу, во время которой сказал ей: «с завтрашнего дня вы переезжаете из Зимнего дворца в ваш новый дом на Галерной, купленный для вас».
Крушение 17 октября при станции Борки (1887 г.)284 произошло исключительно по вине министра путей сообщения Посьета, которому неоднократно указывали, что его служебный вагон настолько ветх, что ездить в нем небезопасно, тем не менее он приказал поставить его в середине императорского поезда. Инженер, принимавший поезд и дающий заключение о безопасности дальнейшего следования, на последнем перед катастрофой перегоне категорически отказался пустить поезд и потребовал ввиду упорства Посьета доложить об этом царю Александру III, который в это время спал, и его не рискнули разбудить. Случилась катастрофа в тот момент, когда около часа дня царь с женой и сыном Николаем находился в вагоне-столовой. 64 Старый вагон Посьета, находясь посредине поезда, в одной из ложбин был разорван пополам составом, один край которого тянул его кверху, а другой тормозил. Царю в этот момент слуга подавал гурьевскую кашу, которую тот брал, стоя посреди вагона. В момент крушения слуга был убит, царица упала и Николай тоже, а Александр остался стоять на ногах и удерживал руками падающую на них крышу вагона. Это усилие надорвало его почки. Он не хотел лечиться, болезнь прогрессировала, и он умер.
«Священная дружина» была основана под влиянием разговоров Марии Федоровны и других женщин о необходимости особой охраны царя. Дружиной заведовал Боби Шувалов. Была установлена строгая конспирация. Дружинники разбивались на «тройки» и не знали друг друга. Дружина перестала существовать, когда, с одной стороны, от нее потребовалось выполнение полицейских «сыщицких» функций, а с другой, когда для этой цели в нее были влиты люди темной, сомнительной репутации и пошли хищения и растраты казенных денег285.
«Мой отец, — рассказывал В. С. Гадон, — в детстве имел пристрастие к спектаклям; зачитывался пьесами, сам прекрасно читал и декламировал и юношей, только что произведенный в офицеры, тратил свои небольшие доходы на посещение театров вообще, а драматических спектаклей в особенности. Он рано вступил в составившееся тогда частное Общество Любителей Театра, члены которого, в большинстве офицеры Гвардии, были все влюблены и ухаживали за балеринами, певицами и драматическими актрисами.
Тогда в Санкт-Петербурге общим местом прогулок являлись: Невский проспект, Большая Морская и Дворцовая набережная, а члены этого Театрального общества прогуливались исключительно по улицам и переулкам, прилегающим к театрам, где можно было встретить в часы репетиций и спектаклей предметы их увлечений.
Многие из членов этого Общества переженились на актрисах, и я лично знал некоторых из этих семей, как то: офицер Конной гвардии граф Петр Андреевич Шувалов286 (впоследствии наш посол в Лондоне и начальник III отделения) женился на балерине Амосовой287 и имел сына в том же полку. Конногвардеец Самуил Алексеевич Грейг288 (впоследствии Государственный контролер, Министр финансов) женился на артистке Александровой289 и имел двух дочерей, замужем за графом Канкриным и графом Штейнбоком290, моими товарищами по Преображенскому полку. Улан Пентержевский (состоял потом при наместнике графе Берге в Варшаве)291 женился самокруткой на артистке и т. д.
Но не всегда самокрутки проходили гладко, так, например, последователи распавшегося уже Общества Театралов, два совсем юных преображенца граф Николай Алексеевич Адлерберг (сын тогдашнего министра Двора)292 и Иван Александрович Фуллон293 (впоследствии градоначальник Петрограда в 1905 г.) задумали завершить свои ухаживания в балете свадьбами, для чего, не говоря ни слова ни родителям, ни начальству, отправились под Петербург на ст. Колпино к какому-то податливому священнику, где должны были уже их поджидать невесты. Но каково же было их удивление, когда на платформе в Колпине их встретил жандармский полковник и, осведомившись очень вежливо, кто из них граф Адлерберг, объявил, что ему приказано его арестовать и доставить к Министру. Во избежание скандала пришлось подчиниться, и тем дело для Адлерберга и кончилось. Что же касается 65 Фуллона, то, узнав, что относительно его нет никаких распоряжений, он должен был начатое (быть может, и малообдуманное) дело довести до конца.
Граф Адлерберг женился потом на дочери генерал-адъютанта Галла294. Фуллон же прожил со своей балериной-женой до конца жизни, имея двух сыновей295 и, кажется, много семейных хлопот, потому что супруга его признавала, например, возможным мыть свое белье только в Лондоне».
Те, кто видели моего отца на сцене, говорили, что он был прекрасным, выдающимся любителем-актером, о чем даже было упомянуто в печати: так, в фельетоне газеты «Инвалид» за 1856 год, за № 31, было сказано: «Вчера на любительском спектакле в казармах Л[ейб]-Гв[ардейского] Преображенского полка давали “Горе от ума”, и роль Чацкого играл офицер этого полка С. С. Гадон, и редко можно было видеть эту с таким мастерством проведенную роль; хорошо бы всем актерам побывать на таком спектакле»296.
Я привожу эти слова «Инвалида» потому, что они почти текстуально запечатлелись в моей памяти.
Кроме «Горе от ума» в Преображенском полку, в казармах на Миллионной улице, рядом с Зимним дворцом, были поставлены и другие пьесы и водевили, например «Странная ночь», «Аз и Ферт», «Приключение на водах».
Режиссером был приглашен актер Александринского театра Каратыгин (автор многих водевилей, брат знаменитого трагика). Главными исполнителями ролей были офицеры полка и их жены: Елена Яковлевна Гельфрейх; Софья Васильевна Гадон (моя мать); капитан Ушаков; Лярский; Веймарн; Гагарин и С. С. Гадон (мой отец)297.
Об этих представлениях упоминается также в отдельно вышедшей книге воспоминаний известного художника Василия Васильевича Верещагина, двоюродного брата моего отца, который кадетом морского корпуса ходил к моим родителям в отпуск и видел эти спектакли298. Они носили совершенно частный характер и устраивались заботами, стараньями и средствами самих офицеров299. Художник Шарлемань300 по просьбе офицеров полка нарисовал преобразованный из полкового учебного помещения театральный зал, очень эффектно убранный, сделал эскизы, занавес, а также нарисовал несколько сцен из всех пьес (находятся теперь в театральном музее Бахрушина)301.
№ 15. У Гарнье — Карпо кроме Женевской их копии302 явилось громадное число подражателей. Постройка Гарнье послужила образцом для театральных зданий того времени (театров в Вене, Одессе, Нью-Йорке). Новые здания городских театров в Одессе и в Киеве повторяют те же композиции303. Театр в Одессе построен по проекту венских архитекторов. Они считались большими специалистами в области постройки театральных зданий. Кроме Одессы они проектировали театры во многих городах Европы: Бург-[театры] в Вене, в Пеште и др.
№ 16. [Комментарий отсутствует.]
№ 17. Среди старых артистов балета сохранилось много анекдотов о неумении М. И. Петипа говорить по-русски. Вот один из них, который рассказывала мне Е. Н. Минина, дочь Е. П. Соколовой.
Когда у М. И. Петипа родилась младшая дочь Вера, то он послал родителям своей жены, жившим в Москве, телеграмму: «Любовь Леонид Бог дай дочь много страдай голова черн фамиль Вера»304.
66 Среди этих анекдотов попадаются такие, которые ярко передают, с каким высокомерием и презрением относился Петипа к русским артистам балета305. Та же Минина вспоминала, как злился и ругался Петипа на репетициях, если его не понимали. Он кричал артистам: «Твой голова птиц!» или «Твой голова мой каблук». Но бывало и похуже. Однажды он сказал танцовщице К.: «Твой голова, как мой ж…». После этого директор театра просил Петипа держать себя сдержаннее и не употреблять некоторых русских слов.
С русскими он не мог дружить, не зная языка.
№ 18. Петипа не был равнодушен к женщинам. Много интрижек было у него и среди артисток балета. Но к его чести, кажется, никого из своих «симпатий» он не делал балеринами. Впрочем, он предпочитал городских женщин, не театральных. Он хвастал, что когда он идет «…», «в окно кричит “рара”».
№ 19. Слонимский пишет в книге «Мастера балета», что Петипа учился у Сен-Леона строить дивертисментные номера из «простейших элементов» и «перенимать у него уменье выявить в танцовщице те черты ее дарования, которые ярко заблестят в двухминутных вариациях». По-видимому, искусством подобного рода Петипа владел всегда. Не говоря уже о «Звезде Гренады», «Венецианском карнавале», «Терпсихоре», «Рабыне», которые Петипа и именует «дивертисменты», — чем же, как не чистейшими дивертисментами явились по существу другие его работы этих же лет. «Роза, фиалка и бабочка», «Парижский рынок», «Голубая георгина», «Ливанская красавица» и многие другие, в которых даже критик Плещеев должен был признать у Петипа чрезмерное увлечение показом главной танцовщицы, в данном случае жены Петипа — М. С. Суровщиковой306.
Вызывает также сомнение утверждение, что «от него (Сен-Леона) Петипа заимствовал уменье переносить на балетную сцену “облагороженные национальные танцы”». Разве Петипа до Сен-Леона не пользовался в своих постановках элементами пускай очень примитивно усвоенной, но все же этнографической пляски? Думается, что нельзя в этом сомневаться, хотя бы просмотрев программы тех балетов, которые он ставил, не говоря уже об его «испанском» цикле работ. За два года до «парада народов России» в «Коньке-Горбунке» [Сен-Леона], Петипа показал в «Дочери фараона» несколько меньший, но тоже парад, только европейских характерно-национальных танцев (дивертисмент «На дне Нила» [в «Дочери фараона»]). Поэтому будет, кажется, осторожнее не устанавливать за Сен-Леоном славу первого балетмейстера, утвердившего жанр характерного (национального) танца в балете, а оставить за ним преимущественное право пользования в своих балетах этнографическим материалом, беря его за основу стиля композиции некоторых спектаклей. Впадая иногда в процессе построения своих силлогизмов в излишний искусствоведческий азарт (что, пожалуй, и не так уж плохо, т. к. свидетельствует не только о темпераменте, но и об искренности и о непосредственности восприятия), автор, к сожалению, слишком быстро успокаивается, заканчивая свою речь в блеклых, безразличных интонациях. К сожалению, это нарушает также и представление о правильной исторической пропорции исследуемых художественных явлений. В конце той же главы о Сен-Леоне темпераментное изложение Слонимского, подытоживающего хореографическую деятельность Сен-Леона, вдруг неожиданно затухает, и он ограничивается указанием лишь на «Живой интерес Сен-Леона к национальным 67 танцам» и всего-навсего на его «стремление создать характерный балет». Между тем такая формулировка нам кажется преуменьшающей действительное значение Сен-Леона в этой области балетного искусства. Обращение к народно-этнографическому материалу придавало, вслед за демократическими тенденциями Перро, балетам Сен-Леона своеобразную прогрессивную окраску.
Установить правильное отношение мастера хореографии к музыке значит вполне освоить его творческий стиль. Сам Ю. О. Слонимский лучше всего это доказывает при анализе художественных методов Петипа. Безусловно правильным является его указание на то, что для Петипа музыка является лишь ритмико-метрическим сопровождением танца. Творческо-эмоциональная заинтересованность Петипа в композиции танцев была минимальной, саму музыкальную форму, так же как и ее звуковую окраску, он воспринимал, по-видимому, нелегко, но зато, усвоив ее, он блестяще интерпретировал ее в танце. Это формально-внешнее ощущение формы музыки, ее рисунка, вне совокупности всего бесконечного ряда эмоций, ею рождаемых, и создавало тот «холод» в балетах Чайковского — Петипа, о котором пишет Ю. Слонимский. Когда Слонимский переходит к описанию наиболее ярких фрагментов танцев «Лебединого озера», поставленных Л. Ивановым, тонкая художественная ткань, которой автор обвивал имя этого мастера, начинает разрываться. Возникает ряд вопросов, пресекающих красочную речь критика. Очень подробно, приподнятым тоном, граничащим с пафосом, автор описывает различные танцы лебедей в «Лебедином озере». У всех этих танцев есть, конечно, музыкальный текст, ссылка на который помогла бы читателю ориентироваться в этом лирическом потоке слов и художественных образов. Автор знает лучше, пожалуй, чем кто-либо другой, какую ответственную роль играет клавир балета в процессе искусствоведческого отбора материала. Все разговоры о танце без музыкальных примеров будут бездоказательными. Между тем подробный анализ первой постановки этого балета для хореолога имеет не меньшее значение, чем для литературоведа, например, публикация первого списка «Горе от ума»; имея в виду, что все последующие постановки «Лебединого озера» приносили все новые и новые искажения первоначального хореографического текста. Поэтому чем яснее и проще будет воспроизведена хореография этого балета, тем эффективнее практическое пользование этой книгой.
Кроме того, что автор отрывает описание хореографического материала от музыки, он применяет здесь крайне спорный музыкальный оборот. Мы имеем в виду употребление термина «лирико-симфонизм» или просто «симфонизм», авторство которого закреплено за Игорем Глебовым, пользующимся им довольно смело в своих критических работах по музыке. Между тем сам И. Глебов не считает пока возможным определить «симфонизм» в какой-либо исчерпывающей формуле, оставляя читателя почувствовать то, чего он не сможет понять.
Что такое «симфонизм» в балете? Разрешение этой проблемы, конечно, потребует специального места и времени. Слонимский в своей книге отводит ей неполную страницу, И. Глебов — много печатных листов, далеко при этом не исчерпав тему. Ошибка Ю. Слонимского заключается поэтому в том, что он пользуется термином, который не получил еще законченного облика искусствоведческой категории, несмотря на то, что он на ряде примеров хочет конкретизировать его и ввести тем самым в 68 литературный обиход. К сожалению, примеры эти не помогают уяснению сущности «симфонизма» в применении к хореографическим категориям явлений. Надо думать, что речь идет здесь не о форме композиции музыкальной пьесы, а об ее музыкально-драматическом содержании. В таком значении термин этот прилагается автором к таким разнородным художественным объектам, что нет возможности установить единое, синтетическое целое. Автор пишет: «А между тем, перечисленные выше примеры симфонического танца: “Жизель”, “Тени” — в “Баядерке”, “Лебединое озеро”, “Шопениана”, “Эрос”, “Ледяная дева” и “Танц-симфония” постановка Лопухова, с достаточной убедительностью свидетельствуют об его огромной ценности и силе воздействия» (стр. 190). К сожалению, примеры эти ни о чем не свидетельствуют. Вернее, они говорят о том, что термин «симфонический танец» требует уточнения.
«Даже мизансцены… участвуют в симфоническом танце, создавая на протяжении спектакля (“Лебединое озеро”) тематически выдержанный строй группировок (стр. 195)», Эти строки текста не облегчают, а наоборот, запутывают наше представление о симфонизме. Боюсь, что автор слишком упрощает проблему, полагая, что она может быть разрешена в спектакле, в котором танец развивался бы на протяжении всего действия мощным потоком правдивых эмоциональных и пластических образов (стр. 190). Дело не только в «потоке образов», а в их взаимоотношениях, в тех конфликтах и драматических коллизиях, в которые они вступают, рождая новые образы, создавая новое качество: Перенеся понятие симфонизм из плана «потока» в план движущегося самораскрытия образа как некой эманации нового качества, мы подойдем значительно ближе к уяснению проблемы. В этом плане не только Фокин оставил нам ряд любопытных и сильных opus’ов (между прочим, и «Петрушку» Стравинского), но и А. А. Горский. Таковы его 3-я сюита Чайковского, «Любовь быстра!», «Нур и Анитра» (Ильинского), «Щелкунчик», «Этюды», 5-я симфония Глазунова307.
В главе об Иванове есть еще темные пятна. «Петипа, в соответствии с требованиями эпохи, с вкусом дирекции и зрителей нейтрализует и обессмысливает действенно драматическую сторону балета» («Лебединое озеро») (стр. 188). Между тем, чего именно коснулась рука Петипа в этом балете, автор не говорит. Какие были им сделаны переделки? И что можно было подвергнуть в сценарии «Лебединого озера», лишенного всякой социальной или идейной остроты, еще большей «нейтрализации»? Вспомним, какими хореографическими средствами Л. Иванов создает образ лебедя (стр. 191). Для меня является вообще спорным необходимость показывать именно в сценах с Зигфридом лебедя, а не девушку. Для меня все обаяние образа Одетты заключается в том, что она является страдающей девушкой, а не птицей. Птичьи интонации были бы очень уместны и даже необходимы Одетте тогда, когда на сцене появляется колдун, в ее драматических сценах с ним. Одетта для Зигфрида тоже не лебедь, а девушка. Беру на себя смелость утверждать, что для Одетты-принцессы было бы крайне конфузно в своем общении с прицем-Зигфридом обнажить, хотя бы случайно, птичьи замашки, которые она могла усвоить в обществе лебедей. Но для колдуна Одетта — лебедь, и с ним она разговаривает на птичьем языке. Для нее быть птицей тяжелая необходимость! Природа ее не птичья, а человеческая. Зритель именно за это ее и любит, и страдает с ней вместе, когда она делается жертвою легкомыслия ее молодого возлюбленного.
69 Наконец, на стр. 164 автор пишет: «В эти сцены (“Лебединое озеро”) отдаленным всплеском докатилась порожденная реакцией волна тревоги, страха и безнадежности. В этих сценах звучит для вас взволнованная опустошенность (?) мрачного царствования Александра III — последнего затишья перед новыми бурями». Эти строки не совсем понятны. Еще меньше они соответствуют исторической правде.
Трудно себе представить, чтобы московская контора Императорских театров (В. П. Бегичев), точно так же, как и авторы либретто: тот же Бегичев и В. Ф. Гельцер (а потом и постановщик Рейзингер308), заказывая в 1875 г. П. И. Чайковскому написать балет «Лебединое озеро», руководствовались бы ощущениями «всплеска реакции» и реагировали бы на них «волной тревоги», страха и безнадежности. Во всяком случае, это остается у автора недосказанным. [Едва ли также возможно трактовать — вычеркнуто.]
Вообще, автору недостает в его труде более глубокого анализа общественных отношений на протяжении всего XIX века в связи с исследованием исторических путей русского балета за тот же период времени. Тогда многое в написанных им очерках получило бы более острое звучание и более законченную историческую конфигурацию. Только в отношении одного Петипа автор позволил себе восстановить то декоративное убранство эпохи, в котором пришлось жить и действовать этому крупнейшему артисту русского балетного театра. [Слонимский заставляет Петипа играть в этом пышном спектакле весьма фальшивую и двусмысленную роль. — Вычеркнуто.]
Обратимся к написанному Слонимским творческому портрету М. Петипа. К сожалению, в этом портрете многое отступает, не так от «легенд и мифов», как от действительности, что вызывает искреннее недоумение. Как мог наблюдательный исследователь допустить столь безответственный беллетристический пробег по «балету Петита», т. е. по балетному театру второй половины XIX века, явно создавая неточный «двуликий» график творческого пути балетмейстера. Непонятен и тот пренебрежительно-презрительный тон рассказа о том, кого сам автор называет «великим могиканом» хореографии? Не оправдывает этот тон и то, что, по-видимому, он должен относиться не к самому прославленному мастеру, а к «солисту его величества», кавалеру российских орденов, реакционно настроенному придворному артисту, который, подобно знаменитому Вестрису309, мог бы сказать, что «он никогда не ссорился ни с одним из Романовых», верным слугой которых он был. Но тон этот, безусловно, вредит спокойному и объективному восприятию творческих позиций Петипа. Было бы правильнее вынести за скобку и тон, и самую малосимпатичную фигуру Петипа — российского чиновника. Как это будет видно дальше, такое смешение в процессе изложения двух планов (художественного и бытового) приведет к печальным последствиям.
Позволим себе поинтересоваться результатом того анализа, который проделал автор над постановками Петипа. Вот «Дочь фараона» (1862 г.), к которой постановщик, по словам автора, готовился два года. Дело, конечно, не в сроке подготовки, а в том, что автор здесь хочет опровергнуть достоверность записок балетмейстера, в которых Петипа пишет, что поставил балет в 6 недель. Вот, мол, какой хвастливый старикашка! Между тем есть весьма ощутимая разница между — «готовил» и «поставил». Ведь будет же дальше автор рассказывать, и очень обстоятельно, как 70 Петипа готовил балеты. Это небольшое, пустяковое замечание я позволил себе привести как пример, характеризующий усвоенную автором манеру всячески дискредитировать Петипа.
Сен-Жорж, этот ловкий либреттист, обладавший, по словам Слонимского, «сезонным нюхом», быстро состряпал сценарий «Дочери фараона», имея в виду «Моду или увлечение пикантными подробностями раскопок, воскрешавших остатки угасших великих культур». Так автор объясняет секрет успеха «Дочери фараона» — балета, который занимает из всех 65 балетов, поставленных во второй половине XIX века, второе место по числу спектаклей [после] «Конька-Горбунка». «Конек-Горбунок» прошел с 1864 г. по 1881 г. — 169 раз, «Дочь фараона» за время с 1862 г. по 1881 г. была дана 154 раза (см. хронику Вольфа310).
Между тем этот нюх Сен-Жоржа есть на самом деле то, что мы сейчас называем уменьем найти актуальную тему или уменьем «осовременить» тему, придать ей современное звучание. Это вообще довольно ценное качество для драматурга, а для балетного либреттиста особенно. В годы написания «Дочери фараона» Европа лихорадочно следила за горячкой работ по прорытию Суэцкого канала. Французы считали, что этот канал нанесет удар английской политике в Индии и на ближнем Востоке. Пусть ожидания эти в дальнейшем не оправдались. Сен-Жорж с Петипа остроумно демонстрировали в «Дочери фараона» ироническое отношение европейского общества к увлечению английских империалистов всякого рода «раскопками» — в Египте и др. странах, которые они прибирали к рукам. Аналогичное отношение к англичанам мы находим и в некоторых романах Жюля Верна. Вообще англичане были в те годы популярной темой для остроумцев. Автор прав, увязывая успех этого балета с модой, но этой моде он дает не совсем правильное толкование.
«Дочь фараона» — это первое большое собственное хореографическое полотно, которое создает Петипа. Увы, если в нем и были недостатки, то именно в затянутости игровых, пантомимных моментов, т. е. как раз не те, на которые указывает Слонимский. В нем есть, конечно, претензии на «египтологию», но в меру, не больше, а значительно меньше, чем в египетских балетах Горского и Фокина. «Парада танцовщиц», не оправданного сюжетом (т. е., по-видимому, танцев по поводу), в нем не больше, чем в других балетах (например, в «Лебедином озере» и в «Бахчисарайском фонтане»), и значительно меньше, чем у Сен-Леона, хотя бы в «Коньке».
Совершенно отсутствует в «Дочери фараона» «слегка канканирующий кордебалет». Как будто Слонимский в своем отношении к балету солидаризируется с известным мнением Каткова о танцах в балете. (М. Н. Катков, разговаривая с Г. А. Ларошем о балете, сказал ему: «балет служит для возбуждения потухших страстей у старцев». См. статью И. Глебова к либретто балета «Лебединое озеро». Ленинград, 1937 г.)311
«[Pas d’action]» в «Дочери фараона», впрочем, как и весь балет, автор вместе с А. Волынским называет «хореографической глыбой», столько в нем «нужных и ненужных» танцующих персонажей. Но оказывается, несмотря на «глыбу» (Слонимский здесь несколько недоумевает), все довольны спектаклем: и пресса, и актеры, и зритель (стр. 209). Конечно, «Дочь фараона», так же как и любой другой балет Петипа, мог рассматриваться Волынским как «глыба» по сравнению с изящной и легкой камерностью фокинских спектаклей. Сопоставляя «глыбу» Петипа с «Дочерью фараона», поставленной А. А. Горским, можно поразиться экономному и рациональному 71 расходованию Петипа танцевальных средств. «Между тем ни одной новой хореографической мысли нет в этом первом монументальном произведении Петипа», — заключает свою оценку балета Ю. О. Слонимский. Но эта «масштабность», эта «монументальность», эта «глыба», которая поразила воображение Волынского, и это громадное число «ненужных» — Ю. О. Слонимскому, но нужных М. И. Петипа артистов на сцене, этот «масштабный массовый танец», этот «парад танцовщиц», который «не оправдан сюжетом, но хореографически масштабен», это и есть та новая хореографическая мысль, которую обнаружил Петипа в «Дочери фараона» и которую не заметил там автор книги «Мастера балета». Масштабность, которая переходит в монументальность, хореографическая законченность громадной танцевальной партитуры: количественное обогащение танцевального спектакля, которое позднее перейдет в качественное, изменив формы танцевальной композиции, — вот та новая хореологическая принципиальная позиция, на которую стал Петипа в этом спектакле. Это была безусловно новая для Петипа стилистическая творческая линия, которую он начал в «Дочери фараона» и повел дальше через «Царя Кандавла», «Камарго», «Баядерку», «Весталку» и др. к «Спящей красавице», «Раймонде» и «Волшебному зеркалу»312. Это желание противопоставить зрелищно-танцевальную доминанту игровому, сюжетному развитию спектакля было настолько неожиданно, что не могло сразу быть принято зрителем. Об этом упоминает и Вольф в своей «Хронике». Этот стиль балетного спектакля без особой идейной нагрузки, но помпезный, тяжеловесный и драматургически богато оснащенный может быть легко сопоставлен с тем направлением в опере, которое связано с именем Мейербера10*.
Оперы Мейербера — те же «глыбы» по объему спектакля, придания ему тяжеловесного солидного буржуазного вида, по перенесению любой ценой эмоциональных впечатлений из сферы музыкальной драмы в зрелищно-слуховые категории чувствования.
«Он говорит на языке, нравящемся нашему поколению, языке сложном, полном реминисценций и нарочитостей», — так сказал о Мейербере секретарь французской Академии [изящных искусств] Беле313. То же хочется сказать и о Петипа. У них есть еще общее. И тот и другой сочетали в своем стиле элементы и наслоения многих национальных культур. Оба пришли из романтического театра, но их творчество относится к романтизму, как романы Дюма-отца к романам В. Гюго. Для них романтизм мог быть только формой спектакля, которая нравится, которая еще имеет успех, — но не больше.
Петипа в своих работах на русской сцене дал синтез французской и итальянской школы. Автор прав, когда пишет, что Сен-Леон заимствует у Петипа, которого он почему-то именует «учеником Сен-Леона», то, что он называет «масштабностью глыбы», «Дочь фараона». Однако одного масштаба спектакля и «глыбы» оказалось Сен-Леону мало, чтобы создать балет, созвучный монументальной «Дочери фараона». Постановочные принципы «Дочери фараона» не были усвоены Сен-Леоном. «Парад танцовщиц», очень эффектный у Сен-Леона, не связан 72 единым композиционным планом, который, бесспорно, есть в «Дочери фараона». Дивертисмент национально-характерных танцев в «Дочери фараона» (сцена на дне Нила) повторяется Сен-Леоном в «Коньке-Горбунке». Ни о какой хореографической партитуре «Конька-Горбунка» нельзя говорить. Композиция спектакля «Конька-Горбунка» вульгарна и, несмотря на ряд крайне эффектных сцен (у хана), — примитивна [небрежна и выполнена наспех. — Вычеркнуто.].
В «Царе Кандавле» Слонимский опять отмечает недостатки постановки: «Размер, масштаб, разнообразие, — опять такие, что для каждого зрителя обязательно найдется что-нибудь, что сделает его поклонником спектакля». Разве автор предпочитает, чтобы зритель уходил из театра разочарованный, не найдя в спектакле ничего, что ему понравилось бы?
Не прав автор, говоря о постановке «Дон Кихота», что этот балет не имел успеха ни у критики, ни у зрителя. Статистика говорит несколько другое, а именно что «Дон Кихот» прошел в театре с 1871 г. по 1881 г. всего 76 раз и занимает 4-е место по числу спектаклей за время с 1855 по 1881 г.314 Автор расходится в оценке «Дон Кихота» также и с Вольфом, который пишет: «“Дон Кихот” удался как нельзя более». «Петипа пришла счастливая мысль извлечь сюжет для нового балета из бессмертного произведения»315.
«Петипа с перенапряжением (в балете много лишнего) дает блестящие для своего времени картины испанского праздника» (стр. 217). «Блестящие» картины как-то не вяжутся с неуспехом этого балета. Жаль также, что автор не указывает, что же в нем именно «лишнего».
Перечисляя «балеты этой эпохи», автор старается создать впечатление, что в это время неудачи преследуют Петипа, хотя страницей раньше он пишет: «Солнце настоящей славы как будто восходит на горизонте Петипа после двадцатилетних трудов и т. д. Широкое поле деятельности открывается перед ним» (стр. 215). Не считаясь ни с историей творчества балетмейстера, ни с любопытством читателя, автор берет на себя смелость оставить без пояснения такое уничтожающее заявление по адресу балета «Баядерка»: «На три четверти балет этот представляет собой нагромождение (?) стилей (?), жанров (?) и приемов весьма невысокого качества (?)» (стр. 221). Таков отзыв о балете, одну из картин которого («Тени») автор приводит как пример высшей формы хореографического искусства — «Симфонического танца» (стр. 190). Действительно, «времена процветания балетов канут в вечность», если Слонимский будет давать такие неверные отзывы о спектакле, который прошел только за первые 4 года 60 раз и, как известно, дожил как один из немногих балетов Петипа до наших дней.
Раздражающе действуют на читателя в книге Слонимского и такие метафорические восклицания: «“Баядерка” — это отходная романтизму». Разве после «Баядерки» не было поставлено ни «Роксаны», ни «Дочери снегов», ни «Зорайи», ни «Весталки», ни «Раймонды», наконец, в которой романтические реминисценции имеют место в той же мере, как и в «Баядерке».
Слонимский ничем не объясняет неудачу с «Младой» Петипа (1879 г.). Между тем для раскрытия отношений Петипа к балетной тематике неуспех этот очень знаменателен316. В «Младе» Петипа обнаруживает полное непонимание русской культуры, смешивая ложный эпос либретто Гедеонова с подлинной народно-сказочной 73 темой. В аналогичном случае и Сен-Леона («Конек-Горбунок»), так же как и Мейербера («Северная звезда»317), выручала их богатая иудейская интуиция. Петипа с ней совершенно не был знаком. Лишен был Петипа и чувства самокритики. В одном только автор прав. Петипа постоянно искал актуальной темы. Будучи абсолютно чужд своей второй родине — России и русскому народу, он мог думать, что «Млада» — это такая же популярная народная тема, как «Конек-Горбунок» (правда, Стасов отрицал народный характер этой сказки318). Эта ошибка с «Младой» очень многое может объяснить нам в психологии творчества Петипа.
Слонимский пишет: «Очистительный ветер повеял в императорском балете — ветер, поднятый дьявольскими верчениями итальянских танцовщиц. Позднее он переходит в бурю… Когда к итальянским танцовщицам присоединяется феноменальный танцовщик такого же (?) клана — Энрико Чекетти» (стр. 233). Итак, оказалось, что «очистительный ветер», или «гениально простой рецепт спасения хореографии», — заключается именно в «Мудрости Беретта», в возведении в принцип техники и низведении до ничтожества игровой выразительности319. Бедный читатель, что он поймет в таком «последовательном» изложении классических канонов хореографического искусства? Но слушайте дальше! «Это был (“очистительный ветер” и приезд Чекетти) последний удар по Петипа, удар, расшатавший весь фундамент петербургского балета и опрокинувший Петипа» (стр. 233).
Бедный Петипа! Бедный «вершитель судеб не только русской, но и “мировой хореографии”»! Однако, успокойтесь! Все эти ужасы не более как «отходная по романтизму» — эмоционально-живописный прием темпераментного публициста. Однако если бы это был только беллетристический аффект! Все это — неправда. Все это какая-то мелодраматическая «гофманиада». Все это опровергается любым справочником. Пускай читатель заглянет в книжку Д. Лешкова320 и убедится сам, что ни с Петипа, который продолжал ставить по одному, а то и по два балета в год, ни с петербургским балетом ничего не случилось.
По Ю. О. Слонимскому получается так, что Петипа с появлением Всеволожского должен был выбирать между «чинопочитанием» и «любовью к своим юношеским идеалам». Что разумеет автор под именем «юношеских идеалов Петипа»? Не те ли балетики-дивертисменты, которые он поставил в большом числе в Бордо, Мадриде и потом в России для своей жены? Петипа, видите ли, «всегда тяготел к содержательным, идейно-полноценным балетам» (по свидетельству С. Худекова — заметьте!), и Всеволожский, этот лукавый царедворец и дипломат, наделенный каким-то сверхковарством, путем разных дьявольских ухищрений принуждал бедного старого Петипа, сосредоточенного мечтателя, воспитанника строгой романтической школы Дидло — Перро, заняться увеселением «высочайшего двора и 17-и великокняжеских».
Автор так и пишет: «Исполнилось настойчивое желание Всеволожского: Петипа стал замечательным трубадуром российского самодержавия» и т. д. (стр. 237). Эта точка зрения подкрепляется цитатой из истории балета Худекова, который, как мы помним, был причислен Ю. О. Слонимским к авторам, олицетворяющим псевдонаучный метод буржуазного искусствознания, — «внеисторического и околопрофессионального». Вот эта цитата: «С 1888 года… Петипа как будто отрешился от своего прежнего направления. Он сделался мало разборчив в выборе сюжетов и 74 останавливается на совершенно бессодержательных мотивах» (стр. 256). Как будто уж все балеты Петипа раньше были очень содержательны? Чем «Спящая красавица» бессодержательней «Весталки» или «Баядерки»? Разве сюжет «Роксаны» или «Зорайи» более содержателен, чем гофманский «Щелкунчик» или прекрасные французские сказки о «Золушке» и «Синей Бороде». Не в этом дело, Петипа изменил не юношеским идеалам, а Худекову, который был долгие годы либреттистом Петипа. Он писал сценарии ко многим балетам Петипа, из которых последний был «Весталка», поставленный в 1888 г. С этого года Худеков больше не сотрудничает с Петипа, и тот делается «мало разборчив в выборе сюжетов»321.
Дальше мы узнаем, что, по желанию Всеволожского, Петипа открывает «скрепя сердце» «импорт иностранных знаменитостей». Почему же «скрепя сердце?» Из чего это вытекает? Во всяком случае, практика прошлых лет это отвергает.
«Обаяние танцовщицы, поданное в чувственных линиях сольных танцев, вот новый стиль работы обращенного Всеволожским придворного танцмейстера Петипа». Кто, кроме автора, может понять, что это за «чувственные линии» сольного танца? Укажите же скорее, где? когда? кто? Но автор стыдливо замолкает, тогда как должен был бы много и громко говорить об этом. Ведь это новая концепция эстетики Петипа! Надо привести факты, примеры этого танцевального жанра, который он обнаружил на сцене петербургского балетного театра Петипа. Но никаких доказательств автор не приводит. Опять вспоминается нам пресловутый редактор «Московских ведомостей» и его «эстетика» балетного искусства.
«Отныне в первые ряды допускаются свои танцовщицы только тогда, когда это будет угодно кому-либо из членов царствующего дома или завсегдатаев партера» (стр. 237). Почему же — «отныне»?
Как будто раньше русский балет не был знаком с этим печальным и позорным явлением. Мемуары балерины Е. О. Вазем, во всяком случае, подтверждают наше мнение о том, что если сообщение Ю. О. Слонимского базируется на действительных фактах, то ни Всеволожский, ни Петипа в этом вопросе не были зачинателями коррупции нравов придворного балета322. Во всяком случае, этот аморальный театральный быт никакого отношения к кривой творческого роста Петипа не имел.
Желание Слонимского во что бы то ни стало умалить фигуру бюрократа-чиновника, директора Императорских театров, гофмейстера Всеволожского, приводит к неверной оценке его деятельности как художественного руководителя театров. Надо откинуть эмоциональное восприятие истории. Сопоставляя Всеволожского с другими директорами, его предшественниками, надо отметить у него без всякого умаления, как это старается сделать Ю. О. Слонимский, те качества, которые делают из него крупного для своей эпохи передового театрального деятеля: его большую культуру, большой размах, авторитетность и эрудицию в вопросах искусства. Всеми этими качествами не обладал никто из его предшественников. Наконец, этот директор был настолько самостоятелен и принципиален в своих мнениях, что имел мужество противодействовать Победоносцеву. В своей книге Ю. О. Слонимский удачно приводит цитату из письма Победоносцева к Александру III, которое правильно рассматривается автором как программа театральной политики, преподанная царю всемогущим обер-прокурором синода323.
75 Если Победоносцеву удалось легко добиться запрещения «Купца Калашникова» в 1880 г., то он в конце концов терпит поражение при постановке «Власти тьмы» (1895 г.) в новое царствование Николая II324.
Заказывая оперы «Пиковую даму» и «Иоланту», также и балеты «Спящую красавицу» и «Щелкунчика» — П. И. Чайковскому, а позднее Глазунову — «Раймонду» и другие балеты, Всеволожский делал большое культурное дело. Выбор этих композиторов принадлежит ему. Как ни старалось «Новое время» пропагандировать музыку своего сотрудника — М. М. Иванова и острить над Глазуновым, что он «уху дик, а глазу нов», все же Всеволожский, заказав однажды Иванову музыку к «Весталке», больше его не беспокоил325.
Совершенно верно, что Всеволожский, этот маркиз-царедворец, нежно влюбленный во Францию Людовиков, не мог пройти мимо француза Петипа, который сам в какой-то мере являл собою блестящий осколок культуры XVIII века. Думаю, что будет правильнее, если мы предположим, что, встретившись на сцене театра, не Всеволожский подошел к Петипа, а наоборот, балетмейстер, француз по рождению, европеец по воспитанию и культуре, не считавший нужным даже скрывать своего презрения к России и русским, нашел наконец своего директора, близкого ему по вкусам, мироощущению и эстетическому восприятию.
Так наконец создается примечательный творческий треугольник, обеспечивающий законченность и целостность сценической композиции балета: автор либретто балета (он же художник) — Всеволожский, композитор — сперва Чайковский, потом Глазунов — и постановщик — Петипа. Правда, Слонимский говорит о расхождении Петипа с Чайковским. Если они и были, то, по-видимому, очень незначительные. Слонимский не мог убедительно доложить о них.
№ 20. Надежда Мариусовна Петипа, по мужу Чижова, дочь балетмейстера от второго его брака с Савицкой, поведала мне о печальной судьбе своей сводной сестры Марии Мариусовны Петипа.
Во время войны, возможно что в самом начале революции, Мария Мариусовна познакомилась с одним французским капитаном Х, который, несмотря на ее возраст, воспылал к ней страстью. Марии Мариусовне было в это время уже около шестидесяти!
Пользуясь всегда большим успехом и как актриса, и как женщина, она кроме особнячка в Саперном переулке приобрела довольно много драгоценностей. После Октября капитан Х предложил Петипа вступить с ним в брак и уехать во Францию, что она могла бы тогда легко сделать как жена французского офицера.
Незадолго до назначенного дня их отъезда капитан Х неожиданно заявил Марии Мариусовне, что некоторые обстоятельства вынуждают его одного немедленно покинуть Россию. Было решено, что она выедет со своей старушкой-няней спустя несколько дней. Во избежание всяких несчастных случайностей, вполне возможных в бурное время, переживаемое тогда Россией, капитан предложил взять с собой небольшой чемодан с наиболее ценными вещами Марии Мариусовны.
Она их отдала ему, и он уехал.
Путешествие Петипа произошло без каких-либо помех. По приезде в Париж она была встречена на вокзале капитаном, который отвез ее с няней на квартиру, снятую для нее в глухой части города.
76 Капитан объявил ей при этом, что есть очень серьезные причины, которые препятствуют тотчас объявить всем об их браке, и он принужден поэтому требовать у нее сохранения полной тайны. С этого дня Мария Мариусовна стала фактически заключенной, так как капитан не позволил ей выходить на улицу. По-видимому, те же «серьезные» причины мешали ему вернуть взятые у нее при отъезде из России драгоценности.
Такое положение не могло, конечно, долго продолжаться, и пленницы капитана начали протестовать. Прежде всего, они написали о своем печальном положении родным в СССР.
Вскоре после этого умерла старая нянька. В дальнейшем родным Марии Мариусовны стало известно, что она была объявлена капитаном сумасшедшей, что будто бы и заставило его принять меры к ее изоляции.
Версия о психической болезни Марии Мариусовны должна была удовлетворить некоторое возможное любопытство со стороны соседей и консьержа.
Некоторое время спустя, не получая известий от сестры, Надежда Мариусовна Чижова обратилась в Наркоминдел с просьбой узнать, жива ли она? По наведенным справкам оказалось, что Мария Мариусовна скончалась в полном одиночестве. Тогда же удалось выяснить, что капитан давно уже был женат и имел детей.
Родные Марии Мариусовны пожелали возбудить уголовное дело против капитана. В это время как раз восстановились более или менее нормальные дипломатические отношения с французским правительством, и НКВД не посоветовало родным Петипа начинать сенсационный процесс об ограблении и убийстве известной артистки французским офицером326.
Я познакомился с Надеждой Мариусовной Чижовой в 1937 году в связи с моей работой по исследованию творческой деятельности ее отца, балетмейстера Петипа. В балетной труппе она числилась как Петипа 3-я. Ее муж, архитектор, был сын скульптора, автора памятника Екатерине II в Петербурге. Надежду Мариусовну считали все очень неспособной к танцу. Выдвигал ее на сцене отец. Пробыла она в театре недолго. Лицом она была похожа на отца и на сестру. Так же как и у Марии Мариусовны, у нее было злое и презрительное выражение лица, характерное для всей семьи Петипа. У Марии было красивое лицо и «роскошные формы», ноги же очень худые, плоские, бесподъемные, с узкой ступней, типично французские.
Когда умер Мариус Иванович, вдова его с дочерью Надеждой и ее семьей поселилась в Москве ради здоровья самой младшей сестры327. Революция застала их на одном из курортов на юге. По возвращении домой в Москву, в Трехпрудный переулок, они были поражены представившимся им зрелищем. В их квартире разместился постой красной гвардии. Все вещи были вывернуты из шкапов и сундуков. Бумаги, письма, документы — весь архив Мариуса Ивановича был разбросан по полу, и по нему ходили, на нем лежали, мяли и рвали. Надежда Мариусовна бросилась просить защиты в Моссовет. Председателем его тогда был Каменев328. Надежда Мариусовна обратилась к нему со следующими словами: «Я дочь вам наверно совершенно неизвестного артиста балета Мариуса Петипа…» Каменев прервал ее: «Напрасно вы так думаете. Имя вашего отца мне хорошо известно. Мы, большевики, совсем не такие серые дикари, как это многие думают». Каменев дал 77 ей отряд красноармейцев для того, чтобы помочь вывезти все ее вещи, уцелевшие от разгрома. Вот тогда-то и явился А. А. Бахрушин, который забрал manu militari11* при содействии Красной Армии уцелевшие бумаги архива Петипа329.
№ 21. Сен-Бри я тогда мальчишкой ненавидел, как своего самого заядлого врага, и, по крайней мере, по сто раз в день протыкал его своей невидимой шпагой, спасая Рауля… на большом диване в кабинете отца.
№ 22. Однажды, будучи вечером всей семьей у наших родственников Иолшиных, старшее поколение заговорило о приехавшем в Петербург московском оперном театре, который дает с большим успехом оперу «Садко» Римского-Корсакова. Хозяин дома, быстрый в своих решениях, предложил нам всем тотчас же поехать в Консерваторию, где гастролировала тогда опера Мамонтова (1898 год).
П. С. Уварова была крупной фигурой в дореволюционном аристократическом обществе России. У нее были свои твердые принципы, от которых она не отказывалась ни при каких обстоятельствах. В этом упрямстве она порой доходила до преувеличений. Так, всем своим авторитетом она помешала городу Москве проложить трамвай на Красной площади. Она же не допускала у себя в доме, в Леонтьевском переулке, телефона. Лишь с большим трудом удалось ее сыну выпросить у нее позволения поставить аппарат где-то внизу, вдали, под лестницей, чтобы не беспокоить мать. Она, так же как и А. А. Иолшин, в век электричества объявила ему войну, и дом ее освещался по-старинному свечами. У нее были две внучки, барышни-невесты, Варя и Катя.
Для них устраивались балы. Боже, до чего было жарко в небольшом Леонтьевском доме, ярко освещенном люстрами со множеством свечей в них. Уварова любила охотиться. Она ходила стрелять медведей одна и не раз убивала их.
Наш родственник Иолшин не был лишен оригинальности.
Деспот у себя дома, он был замечательный прожектер и очень интересный человек. Родная дочь его Лидия ушла от него на другой день после похорон матери. Дни его протекали в непрерывной борьбе за проведение своих проектов в жизнь. Крупные средства своей жены он израсходовал на практическое осуществление своих идей.
Он был знающий инженер. Как-то он предложил правительству прорыть новый канал или углубить существующий вокруг Ладожского озера. Правительство сначала приняло его предложение и отпустило кое-какие средства. Но когда работа затянулась, то Иолшин перестал получать деньги от казны. Тогда он решил рыть канал на свои средства и, закончив работу, подал счет правительству, которое его оплатить отказалось. Дело перешло в суд. Началась тяжба, конец которой положила только революция.
Одновременно с рытьем Ладожского канала Иолшин усиленно предлагал воздвигнуть в Петербурге «Дом ветеранов войны», намечая построить его вдоль стен Петропавловской крепости, засыпав для этого ее окружающий ров.
Уже в советское время он проектировал подвесную электрическую дорогу из Москвы в Киев, что-то вроде трамвая-экспресс. Проекты Иолшина были всегда очень тщательно и детально технически разработаны, так что, представляя их, он 78 никогда не получал категорического отказа и жил надеждой когда-нибудь дождаться их реализации.
После я еще два раза ездил слушать «Садко». С этого времени музыка «Садко» сделалась для меня надолго критерием прекрасного. Со временем это впечатление сгладилось и уступило место другим. Тем не менее, и теперь, может быть больше, чем раньше, «Садко» остался дорог мне как образ, вызывающий в моем сознании ряд мыслей и чувств, неразрывно связанных с весенней порой моей жизни.
С этого времени у нас дома как-то особенно много стали исполнять музыку Римского-Корсакова.
Ее усиленным пропагандистом оказался кузен моей матери, Вл. Ал. Фроловский. Музыка «Садко» чередовалась с «Царской невестой» и «Шехеразадой». Бесспорно, что они оказали очень сильное влияние на мое музыкальное развитие. Я стал много и усиленно заниматься роялью с тем, чтобы самому исполнять наиболее ценимые мной пьесы.
№ 23. В книге Слонимского отношение Всеволожского к Петипа дано не в правильном освещении. «Все ниже и ниже, несмотря на смену руководства (стр. 224) падает хореографическое искусство…». «Скудеет репертуар».
Вот как оценивает Слонимский эпоху расцвета дарования Петипа, совпавшую с появлением в Императорских театрах фигуры Всеволожского. Впрочем, тут же (на стр. 224 в выноске) он пишет, как всегда, противореча себе: «в это же время Петипа реконструирует “Пахиту”, в которой он создает шедевр классического танца — превосходные вариации и… детскую мазурку — лучший балетный номер подростков дореволюционной сцены». Но дело, конечно, не в истинном положении вещей, а в том, что ему нужно зачем-то создать впечатление кризиса балетного искусства, долго подготовлявшегося и развившегося наконец в 80-х годах, чтобы изобразить почему-то Петипа близкого к отставке, потерявшего веру в себя, накануне творческого и материального краха. Все это неизвестно зачем ему нужно.
Дело не только в преувеличениях или сгущении красок. Это просто неверное, искаженное писание истории балетного театра.
Приход в театр Всеволожского ознаменовался рядом административных реформ, на которые Александр III дал свое согласие после доклада ему того же Всеволожского о состоянии Императорских театров. Конечно, новый директор, заменивший Кистера, постарался представить это состояние театра возможно более мрачным. В первую очередь Всеволожскому надо было доказать, что все, что делал его предшественник Кистер, было вопиюще плохо. Царю-патриоту Всеволожский доложил, что директор немец всячески подавлял русское искусство в интересах итальянского и французского театра. Хотя цифры того же самого доклада и опровергают это утверждение, однако Александр III, конечно, не мог не поддержать своего русофильствующего директора — того самого, который не любил ходить в театр русской драмы (Александринский), так как, по его словам, «там “пахло щами”». Впрочем, царский двор этот театр сам мало посещал, предпочитая ездить в оперу и балет. Поэтому так называемая «реформа русского театра» и началась с оперы. По-видимому, в то время никто из лиц официальных не ощущал кризиса балета, о котором пишет Ю. О. Слонимский, и поэтому никаких особых мер по его «спасению» не принималось.
79 «С 1881 по 1885 годы идет всего три новых балета». Прежде всего, не 3, а 4 балета, что за сезон совсем немало. Но дело не в этом, а в том, что именно в эти годы Петипа был занят постановками танцев в оперном театре, которые он сочинил… для десяти опер, о которых Слонимский умалчивает330. Где же здесь кризис творчества балетмейстера и пища для его «волнения и испуга»? В подтверждение своих слов Слонимский приводит еще цитату «просвещенного балетомана 80-х годов», не называя, к сожалению, его имени: «Бедный наш балет доведен до совершенного упадка. Публика посещает его мало. Сборы не велики». Официальная статистика12* театров говорит о том, что сборы по балету с 1881 по 1885 гг. были выше, чем в предыдущие годы (до Всеволожского), а с 1885 года резко повышаются и идут crescendo к 90-м годам331. Таким образом, справедливость и объективность ламентации почтенного любителя балета надо было бы Ю. О. Слонимскому проверить самому. При столь субъективном отношении автора приведенной цитаты к явлениям театрального быта делается понятным, что «просвещенный любитель балета» просмотрел появление Цукки в балетном театре, но совершенно непонятно, как это могло случиться с автором книги о «Мастерах балета».
Та манера («между прочим»), в которой Ю. О. Слонимский говорит о Цукки, и то, что он считает возможным объединить ее имя с «целой плеядой итальянских танцовщиц», а также с Беретта332, идеологом итальянской школы, указывает на то, что исключительное по силе экспрессии и реалистичности дарование Цукки осталось Слонимским недооцененным и, по-видимому, недостаточно понятым.
Для Слонимского Цукки явилась лишь поводом для сообщения о принципах итальянской системы хореографии, которые, заметим кстати, лежали вне эстетических мироощущений этой танцовщицы и которые она в своей артистической деятельности меньше всего обнаруживала. Не смешал ли он Цукки с какой-нибудь другой итальянской артисткой, может быть, с П. Леньяни, которая во многом воплощала в себе «идеалы» итальянского балета?
Неправда, что появление Цукки «нанесло удар авторитету Петипа, который аннулировал все», что сделал он за 36 лет работы на сцене русского балетного театра. К сожалению, появление Цукки особенного резонанса в балетном театре не имело. С ее отъездом все осталось по-старому. Также и на эстетические установки Петипа лирико-драматический стиль танцев Цукки не имел никакого влияния. Поэтому, конечно, никакого «удара» Цукки не нанесла Петипа, и его авторитет и самодержавное руководство балетом «остались, как были встарь». А между тем Цукки своим реалистическим стилем исполнения танцев и драматической игрой действительно ломала все представления об устоявшемся в балете хореографическом «добре и зле» и переакцентировала драматургию балетного спектакля. Большинство консервативно настроенной труппы считало Цукки чужеродным явлением, даже с примесью чего-то непристойного. Это «непристойное» в творчестве Цукки было бурлящее и кипящее ключом эмоциональное начало артистического дарования артистки. Действительно, Цукки была прежде всего артистка, а потом танцовщица, т. е. обладала качеством, меньше всего ценимым в балете Петипа, 80 «который», как выразился Г. Гейне о Мейербере, — «любил обращать всех людей в инструменты», служащие его творческим целям333.
№ 24. Г. Г. Исаенко334 мне рассказывал, что Всеволожский бывал на сцене крайне редко и появление его там расценивалось как событие чрезвычайной важности, остающееся надолго в памяти его подчиненных. Придя на сцену, Всеволожский всем, кто с ним здоровался, подавал руку — «чтобы не ошибиться» и никого не обидеть своим невниманием.
№ 25. Корвин-Круковский в годы революции был архитектором Государственного банка и жил в Москве335.
№ 26. О. В. Иславина была сестра М. В. Иславина, бывшего Новгородского губернатора, и в каком-то родстве с Львом Николаевичем Толстым и О. М. фон Мекк, рожденной Кирьяновой, женой Максимилиана Карловича фон Мекк. Позднее Иславина вышла замуж за Рыжова, директора Общества международных вагонов336.
№ 27. У нас в семье сохранились фотографии матери, снятые в этой роли. Она стоит около пианино в белом платье с большим стоячим воротником и рукавами в складку «medicis»337.
№ 28. Имение Волочаново, Волоколамского уезда. В начале 90-х годов оно было куплено родителями у Шереметьева, управляющего конторой московских Уделов.
№ 29. Шитов был приглашен расписывать стены зала в большом волочановском доме, только что перестроенном. Матери хотелось сделать из всего дома «нечто новое», не такое «как всюду». Интересная и увлекательная мысль получила на деле крайне случайное и несерьезное разрешение.
Приехал никому неведомый, скромный и тихий «художничек», как его все звали, и стал писать наивные и жалкие по мысли и выполнению сверхмодернистские закаты и восходы, которые потом не знали как спрятать и заделать. И вот, рядом с большой передней, действительно прекрасно расписанной по ярославским церковным образцам в древнерусском стиле с соответствующей тяжелой деревянной меблировкой из абрамцевских мастерских, появилась убогая «декадентская» роспись стен зала.
Незадолго до пожара нашего дома, случившегося в 1911 году зимой на Рождестве, я на свой риск начал исправлять декадентские панно Шитова. На фоне сделанных им закатов, ночей и рассветов я наметил сделать четыре времени года с постепенными их переходами в углах зала. Говорят, что очень неплохо, хотя, может быть, несколько академично, получилась у меня «осень», в виде желто-красных ветвей винограда, спускающихся на окна. Я получил общее одобрение моей работе. После этого я успел написать еще фантастический замок а-ла Васнецов, стоящий на скале на фоне сгущающихся сумерек вечера. Еще Шитовым были сделаны вдоль всех стен зала «панели» в 1/2 аршина высотой, орнамент из цветов мака, лилий, ирисов и тюльпанов. Это у него получилось довольно удачно, но написано было слабыми клеевыми красками, быстро осыпающимися со стен, и грубо по фактуре.
У нас сохранились фотоснимки всех стен зала; так же как и моих исправлений, но все потом бесследно пропало.
№ 30. В. В. Степанова много лет работала фельдшерицей небольшой земской больницы. Она была по своим политическим взглядам эсерка и последние годы жизни (начало 90-х годов) имела в Москве «легальную» квартиру для явок революционеров. 81 Степанова была одной из совладелиц известной в Москве «библиотеки Беляевых» у Никитских ворот, помещавшейся в разрушенном в октябре 1917 года доме, на месте которого ныне стоит памятник Тимирязеву.
Мать и сестра Степановой жили в комнате с террасой, выходящей на Тверской бульвар. Брат В. В. был педагог.
В этом же доме жила барышня, служившая в канцелярии женских курсов В. А. Полторацкой, помещавшихся в верхнем этаже наискосок в доме Скоропадского, где ныне кино. Эта девица в октябре 1917 года вместе с другими жильцами, спасаясь от выстрелов, провела почти трое суток в подвале своего дома, по грудь в воде, залившей нижнее помещение дома. Сильно заболев после этого, бедная девица вскоре умерла в крайне бедственном положении, имея только то, в чем она выползла из-под развалин дома.
№ 31. Новые жизненные условия, которые вскоре возникли в связи с разводом моих родителей и вторичным браком моей матери338, резко повернули интересы семьи в другую сторону. Наступил момент, когда нужно было думать о сохранении того имущества, которое еще оставалось от богатого прошлого.
Моя мать вся ушла в заботы о материальном благополучии дома и хлопоты по воспитанию детей. Это была коренная ломка всех установившихся ее привычек, взглядов, отношений. Все то, что моей матери — неопытной и абсолютно не подготовленной к жизни, удалось в это время сделать для семьи, — она сделала.
Требовать большего от молодой тридцатилетней женщины было бы невозможно.
Вскоре же после 1905 года перед матерью открылись новые заманчивые перспективы общественного служения. Здесь, как и всюду, она проявила широкий кругозор и понимание сути поставленных перед обществом задач. Здесь ей удалось выполнить весьма много, но об этом хотелось бы написать в другом месте.
Конец комментария к I главе «Воспоминаний зрителя».
1965 г., сентябрь. Корсакову. г. Петропавловск, Казахская ССР, ул. Ленина, 862.
3
АЛЕКСАНДР ГОРСКИЙ (1871 – 1924)
Опыт исследования творческой
деятельности балетмейстера
(По материалам и документам Государственного центрального театрального музея
им. Бахрушина)339
1939
1. Артистическая юность Горского
Балет конца XIX века «Русский балет Мариуса Петипа». Академизм. Обогащение театральной и танцевальной формы. Создание большого парадного спектакля (grand-spectacle). Развитие танцевальной техники. Гипертрофия роли балерины. Быт и закулисные нравы.
Воспитание балетного актера. Казенная балетная школа. Горский — воспитанник школы и артист балетной труппы Мариинского театра. Артистические вкусы и влияния.
82 2. Перевод Горского в Москву
Эстетический уровень московского балета. Балетмейстеры. Художники. Труппа и премьеры. Джури, Гримальди, Рославлева и Е. В. Гельцер340. Балеты: «Звезды»341 и др.
Балетная школа. Театральный быт. Зритель и его культура. Общественное лицо Москвы. Съезд театральных деятелей 1897 года. Речь А. П. Ленского. Новые веяния. Опера С. И. Мамонтова. Художественный театр. Волконский и Теляковский, пришедшие на смену Всеволожскому. Зависимость их от придворно-бюрократических кругов и верхушки крупной буржуазии. Отношение новой дирекции к Петипа342.
«Декаденты» Коровин и Головин в Большом театре. Их влияние. Обновление формы оперного и балетного спектакля. Шаляпин. Собинов. Борьба с рутиной и косностью.
3. Постановочная деятельность Горского
Москва. Петербург. Лондон. «Спящая красавица». «Дон Кихот» в Москве и Петербурге. Общественный резонанс. Пресса. Друзья и враги. Борьба нового с отживающим старым. Количество поставленных балетов. Их анализ. Хронология.
4. Горский и его балетная труппа и современники
Кордебалет. Солисты. Ученики Горского и старые кадры. Е. В. Гельцер, В. Д. Тихомиров, С. В. Федорова, М. М. Мордкин, В. А. Каралли, А. М. Балашова, В. А. Рябцев, А. Д. Булгаков, Фроман, Девильер, Рейзен и Адамович343.
Айседора Дункан. С. Дягилев. М. Кшесинская, А. П. Павлова, О. О. Преображенская, Т. П. Карсавина344.
М. Фокин — его эстетическая платформа. Субъективизм. Иллюзорность. Театральность. Изысканная отвлеченность. Стилизаторство.
5. Драматургия Горского
Ревизия эстетики Петипа и его режиссерских приемов. Отзвуки современности. Мхатовские тенденции в композиции балетного спектакля345. Искание новой театральности, поиски сценической правды. Спектакли «настроения». Работа над массовыми сценами. Актерское самочувствие. Борьба с премьерством и «традициями балерины».
Использование кордебалета как средство усиления драматического действия. Кордебалет — действующее лицо. Ансамбль. Массовые сцены. Роль декорации. Реформа костюма. Грим.
6. Хореография Горского
Подчинение танцевальной техники требованию современной драматургии. Техника не цель, а средство спектакля. Танец обогащается не технически, а эмоционально. Живописность танцевальной фактуры. Обвинение в «дунканизме» и дилетантизме.
Место балерины и солистов в балетном tutti (общем танце). Танцевальный контрапункт. Танцевальная полифония. Ритм танца и пантомимы.
Pas d’action (действенный танец). Его украшающее значение в танцевальной партитуре Петипа. Его особое кульминационное значение, разряжающее драматическое напряжение в композициях Горского.
83 Балетные pas de deux из салонных дуэтов (Петипа) превращаются в лирико-драматические танцевальные диалог («Нур», «Этюды», «Эвника», «Саламбо» и др.).
Значение национального (характерного) танца, усиливающего эмоциональное звучание хореографии Горского.
7. Стиль творчества Горского
Отсутствие единства формы спектакля. Стилистические зигзаги. Романтико-героические феерии. Сентиментально-лирические миниатюры. Импрессионистические композиции. Реставрации.
Эмоциональная основа композиции спектакля. Живописная трактовка танцевального действия. Красочность вместо симметрии в хореографической партитуре. Сложность орнаментики. Расточительность средств выразительности. Монументальность наряду со случайными эпизодами. Сентиментальная красивость. Вкусовые промахи.
Искренность и правдивость тона. Тяготение к минорной тональности. Отсутствие гротеска и природного юмора. Эротика без подчеркнутой сексуальности. Вакханалия. Реалистические тенденции. Их отражения в постановках. Их различные формы и проявления.
Основные стилистические группы постановок Горского
а) Балеты с реалистической трактовкой сюжета и хореографии.
б) Балеты, раскрывающие в конкретной сценической форме музыкальные образы.
в) Балеты старого репертуара, которые носят на себе в большей или меньшей степени следы реалистических мироощущений балетмейстера.
г) Балеты-реставрации, в которых художественная индивидуальность постановщика не обнаруживается.
Лозунг Горского: «Служу Правде и Красоте». Его философское раскрытие и практика.
8. Эстетика Горского и советский балет
Реалистические тенденции в практике советской хореографии. «Красный мак» — результат художественных вкусов, привитых театру Горским346. Сочность и красочность трактовки балетных образов. Взаимодействие мастерства и художественной интуиции.
Возобновление «Саламбо»347. Его неудача. Возобновление «Раймонды» и «Лебединого озера»348. «Дон Кихот» в Ленинграде. «Конек-Горбунок»349. Мертвые художественные схемы.
Самодеятельный Хореографический театр Парка культуры им. Горького. «Жизель» и другие постановки. Правда человеческих страстей. Искренность тона. Искусство молодости350.
1940. Июнь.
Г. Корсаков
84 4
АЛЕКСАНДР ГОРСКИЙ
Опыт сравнительной характеристики творческой деятельности московского
балетмейстера (1871 – 1924)351
1930-е
Ему не повезло. Хотя каждый человек сам кует свое счастье, однако бесспорно, что для того чтобы ему стать всемирно известным, обстоятельства сложились не в его пользу. Сейчас о нем или забывают в сутолоке новых театральных впечатлений или стараются не помнить — по причинам, не имеющим ничего общего с беспристрастным искусствоведческим анализом — о том, что он сделал для хореографического искусства.
Свет его имени померк в лучах более яркого балетного светила — Михаила Фокина. Такова судьба многих великих людей. Может быть, такова особенность человеческого сознания. Имя Карно, организатора побед революционной французской нации затемнилось именем Робеспьера и позднее Бонапарта. Имя Ламарка забылось после Дарвина. Заслуга Кронека, режиссера труппы герцога Мейнингенского, в утверждении реалистических тенденций в театре, умалилась позднейшими триумфами театра Станиславского и Немировича-Данченко.
Горский реформировал русский балет в духе импрессионистического драматизма. Еще довольно молодым он первый на императорской сцене дал более или менее законченное драматургическое выражение балетного спектакля [нового типа]. Он старался превратить балетный спектакль, состоящий из чередования танцевальных номеров (дивертисменты) в театр балета. Он был первый балетмейстер-постановщик, которому выпала честь доказать правильность формулы творческого эмоционального треугольника, положенного в основу всей современной сценической хореографии. Метод соавторства балетмейстера-художника-композитора был впервые применен в Большом театре директором Теляковским при участии Горского.
Однако честь этого талантливого почина до сих пор оспаривал у Горского Фокин, который на самом деле лишь гениально претворил в своих шедеврах художественную смелость московского мастера. Справедливость требует от нас указать на то, что Фокин получил от Горского уже готовую композиционную формулу балетного спектакля. Поэтому он и рисковал меньше, чем Горский, ломая эстетические устои старого балета. После ряда признанных побед московского балета Фокин смело мог идти на разрыв с традицией. И он порвал с ней, тогда как Горский старался примирить свое талантливое новое с бесспорно ценным старым, — Горский хотел поглотить старое содержание балета новой формой спектакля, его большим театральным размахом, его большим творческим диапазоном.
Две постановки Горского, хотя всех их у него было больше двадцати, поставили исторические вехи на пути развития русской хореографии. В 1900 году Горский ставит в Москве «Дон Кихота» в декорациях Коровина и Головина. Постановщик трактует этот старый балет М. Петипа чрезвычайно импрессионистично. Перед зрителем вставали картины живописной Испании одна ярче другой. Толпа на улице Севильи жила всеми присущими ей сменами настроений и оттенками характеров отдельных персонажей.
85 Хореографическое многообразие и колоритность формы танцев, без примеси принятой до того в театре поддельной «сусальной» этнографичности, были совершенно необычны. Причем классический танец сохранял в этой постановке все свои старые прерогативы господствовавшего стиля танца, давая обильный танцевальный материал для балерины и кордебалета.
В 1902 году Горский повторяет эту постановку на сцене Мариинского театра в Ленинграде. Критика обрушивается на балетмейстера, обвиняя его и дирекцию театра заодно в упадничестве, в извращении стиля классического балета, в уничтожении доброй традиции, одним словом, во всем том, в чем всегда упрекают смелое и талантливое новое начинание в театре. Старик Мариус Петипа также пролил слезу в своих мемуарах, сетуя на то, что Горский, его ученик, позволил себе переделать и исказить сочиненный им балет.
Между тем балетная молодежь и зритель с художественно развитым вкусом приветствовали смену устаревшей формы балета на более звучную и театрализованную. Яд сомнения в художественной правде старых хореографических канонов проник вместе с «Дон Кихотом» на Мариинскую сцену. Действие этого яда сказалось через несколько лет, когда Фокин приступил к работе над своими балетами особого симфонического жанра.
Еще это были скромные по объему и незаметные по имени — «Этюды» [1907 год] — вторая знаменательная постановка Горского, имевшая непосредственный отзвук в последующих постановках Москвы, Ленинграда и антрепризы С. П. Дягилева352. Этот дивертисмент, танцевальные номера которого связывались между собой одним лирическим настроением, с глубоко проникновенным, большим художественным темпераментом передавал картину, беспокоящую творческую фантазию балетмейстера: прелесть осеннего увядания, которая сменялась вдруг образами далекого античного прошлого, [а потом] мечтой о знойном юге, воспоминаниями об летней ночи. Вся композиция этого хореографического эскиза звучала как признания, как исповедь художника, который ни в каком другом капитальном своем труде не был таким откровенным, искренним и полнозвучным. Вся эта танцевальная фантазия была построена на драматической выразительности группировок на движениях кордебалетного ансамбля и поэтической грации танцев солистов, среди которых были такие, как Каралли, С. Федорова, Балашова, Мордкин. Новой здесь явилась как для императорской сцены, так и всего классического балета пластическая форма выражения большинства танцев: буколический танец «En orange», танец Анитры (Григ) и танец кордебалета, изображающий движение листьев, гонимых ветром. Классический танец в своем чистом виде фигурировал здесь лишь случайно («Вальс-каприз» Рубинштейна с В. Мосоловой). Очевидно, что вся композиция являлась особым эстетическим преломлением хореографической доктрины А. Дункан. Это был как бы перевод классического языка Дункан на терминологию современности.
Вся эта танцевальная картина показана на фоне сильно обветшалой декорации леса, — старого штампованного письма, несколько неожиданного для зрителя, уже избалованного особой колоритной живописью художников-импрессионистов.
Номера этого дивертисмента начинались и заканчивались полным затемнением сцены. Луч прожектора прорезывал густую тьму сцены и следовал за движениями танцующих.
86 Эта хореографическая безделушка открывала балету новые театральные перспективы. Она указывала на возможность построения вне обычных приемов балетной драматургии большого и эмоционального балетного спектакля, который немного спустя и был исполнен Фокиным.
В течение всего XIX века между Москвой и Ленинградом было лишь соперничество артистических имен. С момента появления Горского профессиональный спор за первенство на императорской сцене приобретает значение академической дискуссии об эстетике балетного театра, о драматургических возможностях хореографии.
Дело заключается в том, что Горский, во всяком случае в своих первых постановках, формально разделял сценические принципы старого классического балета. Он считал, что балетный спектакль строится исключительно на каком-либо драматическом тексте. Поэтому хореографический материал не мог существовать отдельно, сам по себе, в балетном спектакле и должен был служить целям драматизации действия. Но кроме того Горский подчинялся веянию времени, [влиянию зрителя], который хотел реалистического осмысления театрального представления во всех его видах. Во имя этих реалистических тенденций Горский отказывается от бездействующих статистов на сцене и требует актерской игры от самого малозначительного персонажа кордебалета. Здесь, может быть, не обошлось также без влияния близкого соседства театра Станиславского, в котором Горский около того же времени ставил танцы в драме «Пер Гюнт» Ибсена.
В балетах «Дочь Гудулы» («Эсмеральда»), «Золотая рыбка» и в особенности «Дон Кихот» — из первых его постановок, а в «Саламбо» и «Щелкунчике» из последующих, — этот принцип насыщения лирическим драматизмом танцев, увязывания их с драматической ситуацией фабулы и обыгрывания этих ситуаций мимирующим окружением кордебалета, — проведен Горским исключительно выпуклым.
Эти сценические принципы Горского разделяются всей труппой московского балета, и вся она от первой до последней танцовщицы хочет понять, что она танцует, хочет осмыслить свое движение и придать ему не только одно формальное изящество и грацию, но и эмоциональную звучность.
В 1904 году в Москву приезжает А. Дункан. Ее приезд совпадает с сильным, но непродолжительным увлечением художественных кругов России эллинизмом.
Этот новый Ренессанс, этот культ эллинического человека, проходил во всех выявлениях искусства — поэзии, литературе, живописи и, наконец, в хореографии. Конечно, Айседора в России находит ревностных почитателей ее идеи «свободного танца» и возрождения античной красоты. Эллинизм как культ человеческой красоты, как мечта об античной буколике, как на это уже указывалось, глубоко родственен Горскому. Он не раз возвращается в своем творчестве к сценическому воплощению этих своих настроений. Из них наиболее яркими выражениями эстетического «верую» Горского являются «Нур и Анитра», «Эвника и Петроний» (муз. Шопена), «Хризис»353 — последняя неосуществленная работа этого мастера на сцене Большого театра.
Если философские идеи Дункан не вносят никаких изменений в творческие принципы русского классического балета, то она сама, внешний вид ее танца резко влияет на форму балетного костюма, разрушая существующую балетную традицию. 87 И вот московский балет, во всех отношениях менее консервативный, чем ленинградский, с легкостью и даже с видимым удовольствием старается отказаться совсем от старой балетной тюники, драпируясь в костюм нового, греческого покроя, так облегчающего танцующим их движения и декоративно облегающего тело в его покое. Газовые и тарлатановые пачки (тюники) оставляются постановщиком лишь в балетах старого репертуара, да и они стилизуются в духе проникшего и на императорскую сцену импрессионизма.
Это направление в живописи быстро становится «господином положения» на московской балетной сцене. Ему покровительствует директор — Теляковский. Его всецело воспринимает балетмейстер Горский, будучи сам живописцем-колористом. И в балетах Горского художник становится главным персонажем спектакля.
Увлекаясь яркостью, красочностью, живописностью, Горский не всегда сохраняет творческий примат хореографии в балете, часто уступая его декоратору-живописцу. Таким образом, находящийся сто лет в забвении художник-декоратор оперно-балетной сцены как бы берет реванш и иногда утрирует свои красочные гармонии, забывая об актере, об идее спектакля…
«Декорации достойны осуждения, если они перестают служить анализу фактов и действующих лиц», — писал в свое время Э. Зола354. «Опасность грубого удовольствия для глаз» — в балетах Горского была налицо. Роскошные полотна Коровина и Головина перестали «воспроизводить среду в противовес человеческой личности» — о чем предостерегал великий французский натуралист.
Совсем обратное было в балетах Фокина. Художник — третье слагаемое творческой формулы современного балета — не подавлял хореографическое действие мощью своей фантазии, но помогал дать более сильный его контур.
Воспроизводимая художником «среда» дополняла и помогала раскрывать создаваемый актером образ. Правда, трактуемый более лирически, чем драматически («Петрушка», «Павильон Армиды», «Шехеразада»)355.
Но не только в этом расходились профессиональные принципы обоих мастеров. Горский с внешней, изобразительной стороны чувствует танец и все хореографические мизансцены как цветовой ансамбль, как живописные пятна, [его композиции] как стенная фреска, воздействующая своей эмоциональной колоритностью.
5
Из черновиков очерка
«АЛЕКСАНДР ГОРСКИЙ.
Опыт сравнительной характеристики…»356
[Фокин и Горский]
Для него [Фокина] имеет значение написанная движением линия, рисунок позы, проекция формы движения, на впечатление зрителя. Поэтому его хореография более графически изысканна, более легка, более тонко прочерчена. У Горского балет — большое живописное панно, у Фокина — изысканный рисунок. Оба мастера были импрессионистами в балетном театре. Горский создавал стиль лирико-драматического импрессионизма в балете, стиль своеобразного балетного реализма, стиль эмоциональной хореографии. Фокин почти совсем пренебрегал драматическим 88 элементом в балетном спектакле. По характеру впечатления от его спектакля его балет превращается в театр симфонических восприятий музыкально-лирических ощущений. По мимолетности впечатления спектакль Фокина глубоко скоротечен. Чувствуется, что балетмейстер является хозяином спектакля, подчиняя себе все прочие его элементы — музыку, действие и даже текст, тогда как у Горского хореография часто отрывалась от декоративного окружения и музыкального текста. Театральная эмоциональность достигалась Фокиным через ритм и темп движения, через сценическое окружение актера, но не через его ощущение сценического образа. Таким образом, в балете Горского мы постоянно видим актеров, тогда как у Фокина за редким исключением лишь виртуозных танцоров.
Различие между ними идет еще дальше в отношении их к балетному сюжету, к теме балета. Горский дает зрителю почувствовать-пережить тему, интимно согревая ее изнутри переживаниями актеров своей роли («Этюды», «Щелкунчик», «Эвника»). Фокин показывает лишь идею темы. В «Шопениане» — 1830-е годы, в «Павильоне Армиды» — гофманский сарказм. В «Петрушке» — настроение русской темы, [русский] мистицизм. Причем Ф. всегда показывает наше «сегодняшнее», современное ему отношение к теме, что для театра является органическим законом, по словам Вахтангова, а Горский дает личное, свое, субъективное истолкование темы, не всегда значительное и глубокое («Нур и Анитра», «Любовь быстра!») и поэтому и не всегда запоминающееся во времени. Отсюда та частая эпизодическая значимость постановок Горского в отличие от монументальности большинства созданий Фокина.
Эротика фокинских балетов символична как культ, как элемент нового Ренессанса в искусстве. Это эротика целой общественной формации, больших социальных пластов, сознающих культуру общества. Эротика Горского — крайне субъективна <…>
<О контактах Горского и Дягилева>
<…> Первый раз это было в 1908 г. перед началом первого «Русского сезона». Дягилев уехал из Москвы в СПб, имея полную договоренность по всем вопросам постановочной части с Горским. Этот последний остался ждать извещения о сроке начала репетиций и дне выезда в Париж. Случилось так, что Горский этого извещения от Дягилева не получил и узнал лишь несколько позднее, что балетмейстером с русской труппой уехал М. Фокин. Надо предполагать, что у Дягилева были достаточно серьезные основания для того, чтобы нарушить взятые им на себя обязательства по отношению к московскому балетмейстеру357. Причины эти еще неизвестны и сейчас о них можно только догадываться. Однако надо думать, что они не были ни принципиально творческого или художественного порядка, что подтверждается тем, что в 1912 году Дягилев снова привез Горскому на подпись контракт, отклоненный на этот раз самим мастером, чувствующим себя нездоровым и стремящимся ехать отдыхать в Крым358.
Это было уже после постановок Горского в Лондоне в 1911 г. в дни коронации короля Георга, где он в Альгамбре поставил свой новый балет «Сны». Вместе с ним успех спектакля разделяли московские балерины Гельцер, Адамович, Андерсон и [танцовщики] Тихомиров с Фроманом. Все они имели прекрасную прессу359.
89 [После революции. Конец пути]
После революции Горский получает ряд весьма лестных для артиста предложений начать работать в лучших театрах Европы360. «Какой театр в свете может предоставить мне как художнику лучшие условия для творческой деятельности, лучшую труппу, оркестр, сцену, чем Большой театр», — отвечает Горский приглашающим и остается в Москве, будучи патриотом своей сцены. Отрезанный грандиозной войной вместе с Москвой от благотворного для него солнца Крыма и Кавказа, он заметно теряет силы и начинает угасать.
С новой дирекцией театра Горский не умеет поставить себя в отношения, достойные большого мастера. Театр жестокая вещь — и для того, чтобы быть всегда первым и признаваемым авторитетом, Горскому надо было бы выработать в себе особую линию профессионального поведения, основанную на авторитете его прошлой деятельности. Он был артист, но не дипломат и еще менее боец. Большая внутренняя скромность, свойственная величию истинного таланта, принималась многими за слабость и признание собственной художественной беспомощности. Отсутствие уменья приспособляться и отстаивать свои творческие позиции сделало его мучеником, тогда как все его артистическое прошлое давало ему право стать подлинным героем московского балетного театра.
6
А. А. ГОРСКИЙ
(Творческий путь)361
1939 – 1940
А. А. Горский родился в СПБ в 1871 г. в семье бухгалтера крупной шелкопрядильной промышленной фирмы. Родители Горского были вполне материально обеспечены и в своем жизненном быту не чуждались художественных интересов.
Отец Горского362 любил театр, но особенное пристрастие имел к рисованию и вышиванию шелками. Его рукоделье не раз удостаивалось наград на выставках13*.
Мать Горского363 чувствовала необыкновенное влечение к танцам, так же как и к театру. С детства она мечтала пойти на сцену, но осуществить свое желание не могла, встретив противодействие со стороны своей матери [бывшей актрисы — зачеркнуто].
Слабое здоровье мальчика вынудило семью переехать на жительство на дачу в Стрельну, за город, ближе к морю. Здесь у А. А., поставленного в постоянное общение с природой, развилась особенно сильная любовь к цветам, которая не покидала его в течение всей жизни. Горский-отец старался развивать вкус своих детей. Он покупал художественные книги, посещал с детьми выставки, возил их в театр. Один из первых спектаклей, который видел маленький Шурик с сестрой, был, между прочим, балет «Дон Кихот». Играть дома в театр в эти годы стало любимой забавой детей Горских.
90 Однако проявление старых художественных зачатков пошло у Горского сначала по другому пути. Он увлекался тогда лепкой и рисованием, склонность к которым у него сохранилась в зрелых годах. Любил он также сочинять сказки и писать стихи. Все эти его художественные начинания всячески поощрялись старшими родными, но не особенно одобрялись врачами, рекомендовавшими мальчику избегать переутомлений. Горский рос хилым и слабым ребенком, несколько женственного склада. Это не мешало ему иметь твердый характер и настойчивость в достижении намеченной цели.
Театральная судьба Горского решилась вдруг. Родители предполагали отдать сына в реальное или коммерческое училище, а сестру Веру364, согласно постоянно высказываемому ею желанию — в Театральное училище. Однако когда инспектриса О. Б. Адамс365 увидела маленького Шурика, пришедшего проводить сестру на вступительные испытания, то уговорила родителей отдать и его в школу.
Несмотря на то что прием мальчиков был уже закончен, Горский был зачислен без каких-либо препятствий. Это было в 1880 году.
Первый год учебы, до своего перевода в постоянный штат воспитанников, Горский жил у инспектора школы И. С. Орлова366, а сестра Вера у О. Б. Адамс. В те годы произошло изменение учебной программы балетной школы, которая стала приравниваться к учебному курсу прогимназий. При Горском же произошло переименование драматического отделения в курсы, с полным отделением их от школы.
У Горского была не совсем обыкновенная для ребенка любознательность и познавательная способность. Рассказывают, что он был как бы одержим страстью «все знать». Обостренная любознательность в соединении с такой же чувствительностью его психики приводила иногда к курьезам.
Засыпая в своей постельке, мальчик любил повторять: «Я буду умным». Эта же фраза повторялась им иногда и во сне. Ее услыхала в первую же ночь пребывания Горского в семье Орлова жена инспектора и была очень заинтригована ее смыслом. Пришедшая утром навестить Шурика мать объяснила Орловой значение выкрикиваемых мальчиком слов.
Все школьные уроки живо интересовали Горского, особенно привлекала его физика и география. Но наибольшее усердие он проявлял в танцевальном классе. Его первым преподавателем танцев был Н. И. Волков367. В старших классах он стал заниматься у П. А. Гердта368. Учился он также у А. Н. Богданова369 и у Х. П. Иогансона370.
Мимику непродолжительное время преподавал М. И. Петипа. Свой предмет знаменитый балетмейстер вел весьма примитивно и, по-видимому, без достаточной любви к этому делу. Горский вспоминал, что уроки Петипа проходили очень бледно и по-картинному однообразно. Учащиеся выстраивались в одну линию, и Петипа начинал показывать «Я тебя люблю», «Я его люблю» и т. д. Также несложно показывал Петипа и жест. В его лексике условных балетных жестов было немного. Значительно живее проходили уроки, когда Петипа показывал какие-либо отрывки из балетов.
Горский, отмечая выразительность и ясность мимики самого Петипа, в то же время не одобрял автоматическую передачу ее ученикам. Горский считал, что каждый актер должен уметь искать и находить свои собственные средства выразительности. Однако впоследствии, уже будучи преподавателем и балетмейстером, 91 Горский не посягал на условный стиль и исторически сложившуюся манеру классического балетного жеста. Не «ломая традиции», он предоставлял каждому артисту свободно творить в рамках данного сценического образа.
Очень недолюбливал Горский в школе скрипку, которую он должен быть изучать. Он пристрастился самоучкой играть на рояле и в этом искусстве достиг заметных успехов. Однако он не любил афишировать своих знаний в этой области. Большую интимность вкладывал он в свои музыкальные импровизации на рояле, которые он очень любил.
Окончив школу, Горский не считал свое музыкальное образование достаточным для деятельности балетмейстера, к которой он вообще готовился с большой серьезностью, предъявляя к этой специальности большие и разносторонние требования. Он стал заниматься теорией и гармонией музыки. Занимался он вполне самостоятельно, лишь изредка показывая свои задачи по гармонии А. К. Глазунову, который хвалил их и советовал продолжать работать. С этого времени между Глазуновым и Горским устанавливаются добрые отношения, которые в дальнейшем закрепляются постановкой «Раймонды» и фрагментов 5-й симфонии в Большом театре, которым композитор дал весьма положительную оценку с точки зрения тех требований, которые он предъявлял к балетному искусству.
Очень усидчиво пробовал Горский работать и в области искусства живописи, которой он хотел себя целиком посвятить по окончании балетной школы. Он поступил даже в художественное училище барона Штиглица371, но через полгода оставил его. Любовь к театру оказалась сильнее, чем к искусству, в котором Горский вряд ли бы достиг тех высоких пределов, до которых он поднялся в хореографии.
Особенности стиля Горского как живописца, его пристрастие к красочной гамме при некотором наивном пользовании рисунком, не всегда безукоризненном ощущении формы и пренебрежении к контурам композиции, многое объясняет в манере Горского-балетмейстера, в его пользовании актерским материалом в постановочных работах.
Поскольку и в хореографии Горский повторяет особенности своего живописного стиля, можно предполагать, что в его творчестве преобладает живописная концепция искусства, при этом, по-видимому, Горский мыслит не как художник-график, а как живописец-колорист, для которого проблема цвета и колорита является решающей.
Но история искусств, в частности история балетного театра, в школе тогда не преподавалась. Между тем Горский остро ощущал потребность в изучении этих дисциплин. Его лучшим учителем и наставником в изучении искусств в основном являлся все же театр.
По своему положению учащиеся балетной школы стояли в самой непосредственной близости с Мариинским театром. Они были заняты как исполнители во многих операх и почти во всех балетах. Петипа любил пользоваться в своих композициях детьми как одним из украшающих орнаментов, оживляющих общий колорит хореографической картины. Кроме того, воспитанники школы регулярно посещали оперные и драматические спектакли.
Небезынтересно, что на будущего балетного режиссера, в искусстве которого постоянно проявлялись реалистические тенденции, наибольшее впечатление 92 произвела в драме — Стрепетова372, с ее своеобразным и темпераментным дарованием, а в опере — рельефные сценические образы, которые создавал Ф. И. Стравинский373.
На втором году пребывания Горского в школе состоялось его первое выступление на сцене в существовавшем еще тогда [петербургском] Большом театре, в опере «Бронзовый конь» Обера374.
Постоянно участвовал Горский и в массовых сценах кордебалета в Сен-Леоновском «Коньке-Горбунке». Более ответственный танцевальный номер, порученный Горскому, был танец «Домино» в нашумевшей в свое время феерии «Волшебные пилюли» (1886 г.)375.
Весной 1889 года, на выпускном экзаменационном спектакле он исполнял роль Гренгуара в «Эсмеральде». Горскому в это время было 17 лет14* 376.
По выходе из школы Горский был на общем основании зачислен в кордебалет с окладом в 600 рублей в год. В 1892 году он переводится в корифеи 2-го разряда, и в 1894 году — в корифеи 1-го разряда. В 1895 году Горский уже состоит танцовщиком-солистом 2-го разряда.
Как видно, прохождение Горского по иерархической лестнице балета проходило достаточно быстро.
В 1896 г. весной Горский посещает Москву вместе с балетной труппой Мариинского театра и принимает участие в ряде коронационных спектаклей: в «Лебедином озере», «Пробуждении Флоры», в «Жемчужине», данной для торжественного спектакля 17 мая в Большом театре377.
В этом же году дирекция театров ведет переговоры с Горским о записи танцев балета «Спящая красавица» по нотной графической системе В. И. Степанова378.
Горский вскоре после окончания школы начал усиленно интересоваться работами артиста балета Степанова, изобретавшего метод графической фиксации движения. Знакомство с системой Степанова побудило Горского начать изучать антропологию и анатомию. Вскоре Горскому настолько хорошо удалось освоить графический метод Степанова, что он взялся за преподавание его системы в школе. Это было в 1892 году, когда Степанов, тщетно добиваясь материальной поддержки со стороны своего театрального начальства, уехал экспериментировать в Париж, откуда он, впрочем, быстро возвратился, успев заинтересовать своими опытами ряд лиц ученого мира379. Степанов умер в 1896 году в Москве, в самый разгар работы по ознакомлению московской труппы со своим изобретением.
Громоздкую и несколько сложную для усвоения систему степановской записи Горский старался подавать своим ученикам, совмещая теорию с практическим ее прохождением на живых примерах380. Так, между прочим, был поставлен Горским его первый балет «Клоринда» на музыку Э. Келлера в экзаменационный спектакль в Михайловском театре (1897 г.)381.
Еще до начала преподавания записи движения Горский уже вел класс танцевальной техники параллельно с Э. Чекетти у младших учениц школы382. Позднее он делил эти школьные занятия с П. А. Гердтом, занимавшимся с мальчиками.
93 По-видимому, желая проверить ценность изобретения Степанова, директор театров кн. С. М. Волконский командировал Горского в 1898 г. в Москву для постановки балета «Спящая красавица» «по системе записи балетной азбукой»383. Однако досадное происшествие свело к нулю практическое значение командировки Горского.
Во время первой же репетиции «Спящей красавицы» Горский обнаружил исчезновение принесенного с собой экземпляра записи балета. Нисколько не смутившись и не подавая вида, что он заметил пропажу, Горский, продолжал репетировать и весь большой и хореографически сложный балет был поставлен меньше чем в две недели.
В этом факте очевидного похищения степановской рукописи (о чем Горский тогда никому не сообщил) не будет ошибкой усмотреть проявление тупого недоброжелательства наиболее косной и малокультурной части московской балетной труппы к молодому «столичному» артисту, «петербуржцу», и ни на чем не основанной неприязни этой категории артистов балета к ненужной и бесполезной с ее точки зрения «ученой затеи» дирекции театров, осуществляемой Горским.
Когда репетиции были перенесены уже на сцену, 15 декабря 1898 г. Горский счел нужным обратиться к труппе с небольшой речью. Она дает представление о том, какое значение придавал Горский своей деятельности постановщика-хореографа и как высоко расценивал он балетное искусство.
Вот текст этого обращения:
«Мои дорогие товарищи!
Сегодня впервые мы репетируем весь балет “Спящая красавица”, и сегодня впервые я вижу собранными здесь всех участвующих в нем.
Спешу передать вам глубокий поклон и сердечное приветствие от автора этого балета, славного художника Мариуса Ивановича Петипа, и я осмеливаюсь за него благодарить вас за то рвение, за то усердие, с которым вы при моей помощи старались воссоздать это хореографическое произведение. Я думаю, что здесь более чем уместно вспомнить скромного труженика, нашего сотоварища, покойного артиста Владимира Ивановича Степанова, всю свою недолгую жизнь положившего на дорогое ему искусство (он лежит здесь, у нас, в Москве).
Благодаря его изобретению я имел возможность записать это художественное произведение и в течение 9 дней (срок более чем короткий) в 17 репетициях передать его вам.
Теперь я позволю себе уже от своего имени благодарить вас за тот громадный труд, который вы вложили в разучивание этого балета.
В течение 9 дней вы дали мне в общей сложности от 42 до 50 рабочих часов — часов, преисполненных внимания. Вы помогли мне разрешить вопрос о постановке балета по записи.
Я более чем уверен, что придет время, когда артисты разучат такой же балет в еще более короткий срок при помощи партий, по которым они еще дома смогут познакомиться со своей ролью. Познакомиться, сознательно рассуждая, а не обезьянствуя, создавая, а не копируя данную роль.
От всей души и всего сердца благодарю вас всех, всех содействующих успеху моего труда. Первого труда, возрождающего пластическое искусство. Пусть оно гордо встанет в ряды изящных искусств.
94 Оно также будет иметь памятники своего существования, и пусть эти памятники служат руководящей нитью нашей будущей хореографической семьи»384.
Как известно, московская постановка «Спящей красавицы» почти целиком копирует постановку этого балета на Мариинской сцене. Те незначительные изменения в хореографическом тексте М. И. Петипа, которые наблюдались в новой московской постановке «Спящей красавицы», были допущены Горским сознательно385. Эти изменения коснулись прежде всего — в первом акте — адажио Авроры и четырех принцев386. Горский несколько усложнил этот танцевальный номер применительно к сильным техническим средствам балерины Рославлевой387. Точно также адажио в картине «Тени» [«Нереиды»] и вариация феи бриллианта в финале балета получили более сложный рисунок. Впоследствии, в 1906 году, Горский сократил I-й акт, выпустив танцы придворных дам388. В последнем акте тогда же выпущены были марш и танец Золушки389. Пропускался также первое время танец Людоеда и Мальчика-с-пальчик с братьями из-за неимения исполнителей-детей390.
Премьера «Спящей красавицы» состоялась 17 января 1899 года. Постановка этого балета была расценена театральной администрацией, так же как прессой и публикой, весьма положительно. До конца первого своего сезона «Спящая красавица» была показана 13 раз.
По-видимому, такой очевидный успех балета не мог не отразиться на смягчении оппозиционных настроений, существовавших в труппе Большого театра по отношению к Горскому. В. А. Теляковский в своих мемуарах отмечает «Спящую красавицу» как этапный спектакль, сильно повлиявший на рост творческих настроений московского балета в целом. Эта творческая атмосфера продолжалась в московском балете вплоть до постановки «Щелкунчика», [то есть до] 1920 года391, и свидетельствует о крупной индивидуальности Горского — мастера, который в течение двадцати лет мог вести за собой актерский коллектив, поддерживая в нем состояние артистического волнения.
Летом 1899 года Горский получил двухмесячный отпуск для поездки за границу. Он принимает участие в гастрольной поездке нескольких актеров петербургского балета в Будапешт (в их числе: Мария Петипа, братья Легат, Обухов, Тистрова, Борхард)392.
В 1900 году Горский стал числиться танцовщиком I-го разряда. Тогда же состоялся перевод Горского в Москву режиссером балетной труппы Большого театра, с окладом 3000 рублей в год.
За десятилетие своей службы на петербургской балетной сцене Горский выступил, по официальным данным, в 368 балетных спектаклях393. В опере Горский танцевал 173 раза и 7 раз в пьесе-балете Шаховского «Батюшкина дочка», в которой показывались две картины из балета «Своенравная жена». В этом спектакле Горский танцевал Классического гения.
Сравнительно с другими артистами балета, занимающими примерно такое же положение в труппе (А. В. Ширяев, братья Легат, Г. Кякшт394), он был занят очень много.
Первая роль, которую Горский исполнял по окончании школы (1889), была роль Скорохода в старинном одноактном комическом балете «Волшебная флейта» 95 Бернарделли, переставленном в 1892 году Л. И. Ивановым с вновь написанной музыкой Р. Дриго. Выбор Горского для исполнения роли Скорохода, требующей от актера значительной характерности с уклоном в гротеск, так же как и последующий его репертуар указывают на то, что Горский рассматривался руководством балета прежде всего как характерный танцовщик.
На следующий год Горский танцует шута в танце гистрионов в балете «Весталка» Петипа. До того этот танец был закреплен за Бекефи395. Тогда же в «Золушке» он исполняет Пьеро в характерном дивертисментном номере «Парижская ночь» вместе с Куличевской и Фонаревой, а в балете «Катарина» ([где в заглавной роли выступила] П. Леньяни) китайский танец с Куличевской и Ширяевым396.
Продолжая эту линию характерно-комических образов, начатую Скороходом и интерпретируемых Горским танцевально, следует назвать игривых сатиров: в «Тангейзере» (постановка [танцев] Л. И. Иванова, сезон 1893/94 г.397) и во «Временах года» вместе с А. В. Ширяевым, двух Арлекинов в балете «Арлекинада» Петипа и в «Испытании Дамиса» Петипа — Глазунова (1898/99). К этой же категории надо отнести и танец кукол Арлекина и Коломбины (бал. «Щелкунчик»), исполняемый Горским с Преображенской.
Несколько отдельно стоят в стилистическом ряду ролей Горского как деми-характерного танцора роли Никеза [в «Тщетной предосторожности»] и Ка-ке-ки-го в малоудачном балете «Дочь Микадо» Л. И. Иванова.
Трудно предположить, что Горский мог бы легко освоиться с примитивной и грубоватой комической тональностью роли инфантильного дурачка Никеза, так же как и умного простачка Гаврилы, который был ему поручен в «Коньке-Горбунке».
Гротесковая буффонада не была свойственна Горскому. Природной тональностью танцевальной стихии Горского был лиризм. Поэтому и основа его танцевальной характерности была лирическая.
Иногда, далеко не во всех характерных танцах, обнажались Горским присущие ему в те годы веселость, молодой задор и шутка, непременно окрашенные в эмоциональные цвета.
В классике Горский недостаточно хорошо умел маскировать свое актерское самочувствие эмоционально настроенного артиста. В нем было что-то, что нарушало традиционный канонизированный строй академического искусства танца. Это «что-то» могло быть приподнято-творческим состоянием танцующего артиста, в те годы довольно редко наблюдаемым на петербургской балетной сцене. Отсюда, по-видимому, проистекает та настороженность и двойственность, ощущаемая нами в отношениях балетмейстера Петипа к артисту Горскому. Между тем танец Горского хорошо интерпретировал форму классического движения. Он был пластичен, мягок, музыкален.
Легкость прыжка и легкость в преодолении технических трудностей — в соединении с его танцевальностью, несмотря на его деми-характерное амплуа, непременно побуждали Петипа поручать Горскому при наличии и других не менее квалифицированных танцоров также и классические танцевальные партии. Поэтому Горский танцует Иласа («Жертва Амуру») и Аквилона («Пробуждение Флоры»). Он исполняет классическое pas de trois и вариацию в адажио398 III-го акта «Лебединого озера», — вариацию, которую стареющему П. А. Гердту уже было трудно танцевать 96 самому399. Танцует Горский также grand pas hongrois15* и вариацию «четырех кавалеров» в последнем акте классической «Раймонды». Исполнение этого танца требует от танцоров владения безукоризненно чистым стилем классического танца. Этот танцевальный номер привлекает внимание зрителей и артистов тем, что в нем происходит как бы соревнование танцоров в лучшей классической форме движений. Здесь вместе с Горским танцуют С. и Н. Легаты, Кякшт, Облаков400.
Просматривая репертуар Горского, можно заметить, что он непрерывно переходит от одного танцевального жанра к другому. Не только в балетах разного стиля и характера, но даже в одном и том же балете он исполняет иногда совершенно различные по творческой настроенности партии. В «Лебедином озере» он танцует испанский танец одновременно с классическими танцами. В «Раймонде» он имеет одинаковый успех в бравурном сарацинском танце наряду с прославленной вариацией «четырех». Это обстоятельство говорит о большом сценическом диапазоне Горского. Однако надо иметь в виду, что комические роли (Никез, Гаврило, Скороход) не вносили никаких извивов в творческую направленность артиста как случайные, эпизодические партии. В годы его артистической деятельности классический танец являлся неизменно конечной целью его артистического пути. Думается, что не будет ошибкой счесть, что Горский одновременно обнаруживал равно мастерство как в классическом, так и в характерном танце. Стиль же его исполнения несколько предвосхищал по времени ту изысканно импрессионистическую манеру, которая пробовала обосноваться в Мариинском театре с появлением на его балетной сцене М. Фокина.
Репертуар характерных танцев, исполняемых Горским, был чрезвычайно велик. Это были мазурки, чардаши («Коппелия»), цыганские («Русалка», «Гугеноты»), испанские («Лебединое озеро»), мавританские («Раймонда») и мн. другие. Любил вспоминать Горский свое участие в «Пляске четырех лучников» в «Князе Игоре» в постановке Л. И. Иванова401. Из своих партнерш по характерному танцу он отмечал среди других темпераментную и оригинально своеобразную М. С. Скорсюк.
Положение Горского как артиста не сцене петербургского балета было хорошим. Оно могло бы быть лучше, если бы Горскому не мешала прирожденная скромность, отсутствие внешнего блеска в исполнении и того артистического апломба, который часто импонирует зрителю больше, чем подлинная артистичность.
Командировка Горского в Москву в декабре 1898 года для постановки «Спящей красавицы» резко изменила дальнейшую его судьбу. В Москве Горский знакомится с В. Ф. Гельцером, который предлагает ему занять место режиссера балетной труппы.
Горскому понравился патриархальный уклад московской жизни, большая ее демократичность сравнительно с бюрократической чопорностью Петербурга и не лишенная очарования простота московских нравов. Приняв предложение Гельцера и подготовив себе заместителя по преподаванию в балетной школе системы Степанова, на чем усиленно настаивал директор театров Волконский, он с 9 сентября 1900 года был переведен в Москву исполняющим обязанности режиссера и балетмейстера Большого театра. 1 января 1901 года Горский был утвержден в 97 должности режиссера. Однако он оставался им очень недолго. В сентябре того же 1901 года И. К. Де-Лазари был назначен режиссером балета402, а Горский обратился исключительно к постановочной деятельности. Балетмейстером в это время был И. Н. Хлюстин, занявший это место в 1898 году после ухода Мендеса403. Случилось так, что с переездом Горского в Москву Хлюстин стал часто болеть. Наконец, после утверждения Горского балетмейстером в 1902 году Хлюстин уехал за границу, где он потом стал руководителем балета Большой Парижской Оперы404.
Теляковский, симпатии которого были на стороне новых художественных веяний и тех идеалов, которые несли с собой художники группы «Мир Искусства», будучи назначен управляющим конторой московских казенных театров, пожелал освежить творческую атмосферу. В балете, где это было сделать легче, он довольно решительно сменил главное его руководство. На место В. Ф. Гельцера, И. Н. Хлюстина, дирижера С. Я. Рябова и машиниста-декоратора К. Ф. Вальца, пользовавшегося в ту глухую театральную пору большим авторитетом в балетных делах, имея для этого исключительно мало оснований, пришли новые люди405. Из петербургского балета явился молодой танцовщик-солист А. Горский. Из оркестра Малого театра появился его дирижер А. Ф. Арендс, добросовестный и знающий музыкант, не чуждый композиторства и хорошо известный в музыкальных кругах Москвы. Ближайшими советчиками В. А. Теляковского стали два художника, совсем чуждые до того театру — К. А. Коровин и А. Я. Головин. Они усиленно стали заниматься делами балета, в котором их высокое живописное мастерство могло особенно свободно развиваться. Имела влияние на судьбы балетного искусства и Г. Л. Теляковская, жена директора театров406, не лишенная художественного дарования и значительного вкуса.
В первый же сезон своего пребывания в Москве Горский развертывает интересную постановочную работу. Эта деятельность наступает для него несколько неожиданно. В самом начале репетиций возобновляемого «Дон Кихота» заболевает И. Н. Хлюстин и перед молодым артистом встает ответственная задача быстро приготовить большой и сложный балет, постановочный план которого не мог быть им заранее продуман. Теляковский пишет, что он дал тогда Горскому возможность «выдумывать и применять в этом балете все, что он найдет нужным, лишь бы все эти новшества не выходили из пределов художественности»407. Необходимо заметить, что не один Горский нес ответственность за создание нового балета. И А. Ф. Арендс, и К. А. Коровин, и А. Я. Головин, и вся труппа вместе с новым балетмейстером с большим творческим волнением готовились к выпуску этого спектакля408. С заметным интересом ожидали его появления и пресса, и театральные круги Москвы, заинтригованные деятельностью «кавалерийского полковника», ставшего во главе московских казенных театров. Ожидалось, что постановка «Дон Кихота» явится творческой декларацией театра, желавшего порвать со старыми академическими традициями казенных театров.
Премьера «Дон Кихота» состоялась 6 декабря 1900 года409. Партию Китри исполняла Рославлева.
Теляковский пишет, что представители художественной Москвы очень положительно отнеслись к тому новому стилю балетного спектакля, который им был показан в «Дон Кихоте». Однако большая часть прессы недоумевала, не зная, как 98 принять то новое, что они увидали в балете Горского. «Декадентство», в котором обвиняли художников Коровина и Головина, сводилось в общем к тому, что в «Дон Кихоте» были весьма сильно выявлены стилизаторские приемы обоих художников, отвергавших «серенькую» театральность старой школы декорационной живописи и утверждавших свою новую полносочную и жизнерадостную театральную культуру.
Для молодого балетмейстера даже было вполне естественно показать в своей первой большой работе свое отношение к старому балетному театру и противопоставить его новому искусству танца, созвучному современным художественным течениям. Однако для него самого в это время вряд ли новое искусство танца было уже вполне сформировавшейся эстетической категорией. Также невозможно было бы сделать какое-либо заключение о драматургических позициях Горского на основе одного лишь спектакля. В сценической переработке «Дон Кихота» чувствовалось больше юношеского задора, чем проявления законченной драматургической мысли балетмейстера. В «Дон Кихоте» более или менее отчетливо выявились лишь самые острые, бунтарские элементы его творческих концепций. Они имели внешний, поверхностный характер и ни в какой мере не затрагивали и не разрешали проблемы создания социально значимого танцевального искусства, проблемы, много лет уже стоявшей перед русским балетным театром.
Стилизаторский эклектизм в хореографии, который только в редких случаях мог бы преодолеть Горский, наличествовал и в «Дон Кихоте». Наблюдалось и смешение сценических приемов постановщика, подвергнувшего обработке лишь массовые, народные сцены. Классических танцевальных сцен рука режиссера не коснулась. Никакой стройной формы в композиции танцев Горским введено не было. Горский сам заявлял в печати, что он борется лишь с неприятной для него симметрией, что его интересует разнообразие в планировке танцевального материала, разнообразие в одновременном движении410. Разнообразие танцевальных движений танцующих ни в какой связи с музыкальным текстом у Горского не стояло. Никаких задач танцевального голосоведения в своих композициях Горский не разрешал. Тем не менее, необходимо отметить, что он прекрасно владел формой танцевального контрапункта, но очень редко применял его в своих композициях («Золотая рыбка», «Баядерка», 5-я симфония).
Кроме отсутствия симметрии в планировке танцев, поражала «знатоков» балета и быстрота темпов, темные южные гримы и парики, среди которых были «даже рыжие»! Удивляло и то, что кордебалет был одет в разные костюмы.
Скованно-размеренный, неторопливый ритм балета Петипа получил большую живость, игривость и жизнерадостность. В «Дон Кихоте» появился сценический ансамбль, которого не знал балетный театр Петипа. Активизировалась, а порою даже выдвигалась на первое место роль кордебалета.
Положительным фактом в новой постановке было наметившееся тогда впервые, а в дальнейшем еще более сильно закрепившееся творческое содружество балетмейстера с художником спектакля. Большую помощь оказывал Горскому и дирижер А. Ф. Арендс, с которым у Горского установилось тесное общение, основанное, так же как и в взаимоотношениях с К. А. Коровиным и его помощниками, на общности художественных вкусов.
99 Строгие музыкальные критики указывали на крайне пестрый монтаж партитуры балета, составленной из произведений разных композиторов. Происходило это от того, что в старых балетах, возобновляемых Горским, музыка имела лишь служебное назначение. Решающим моментом в выборе того или иного композитора для Горского было то эмоциональное впечатление, которое музыка вызывала у слушателей, давая в то же время и необходимое ритмическое сопровождение танцу.
Теляковский, отмечая значение «Дон Кихота» для поднятия творческого тонуса московской балетной труппы, писал, что «в театре одни новому радовались, другие, наоборот, принялись дискредитировать новый почин всеми имеющимися в их распоряжении средствами». «Балетная труппа в большинстве своем была на стороне Горского. Театральная администрация — явно против»411. Однако вскоре же «кассовый» успех должен был сломить и эту оппозицию412.
В «Дон Кихоте» Горский претворил интонации любезных его сердцу испанских народных ритмов.
Вряд ли Дон Кихот Горского ближе подошел к подлинной Испании Сервантеса, чем тот же персонаж в балете М. И. Петипа. Все, что Горскому удалось сделать в этом плане, — это показать новое, современное ему представление об Испании. Испанская хореография Горского получилась, может быть, еще менее испанской, чем у Петипа, но зато менее причесанной и менее комичной в своей изящной балетной грациозности413.
В 1902 году Теляковский перенес «Дон Кихота» на петербургскую балетную сцену, где этот балет просуществовал как образец «московской школы балета» до наших дней414.
Появление «Дон Кихота» на сцене Мариинского театра вызвало бурную дискуссию на страницах петербургской прессы. Большинство отзывов об этом балете можно рассматривать как курьезы журналистики. Острие оружия критиков было направлено не на сущность художественного явления, а на побочные обстоятельства и второстепенные детали. Эти газетные статьи в своем большинстве демонстрируют весьма невысокий уровень критической мысли и удивительную семейственность, царящую в газетно-театральном мире бюрократического Петербурга415.
Вот выдержки из статей «Старого балетомана» в «Петербургской газете» 21 и 22 января, [а также] 28 января 1902416.
«Тут все есть — и черти (? — Г. К.), и лошади, и волы [ослы], и цветы —… все, только нет одного — балета!
… Тщетно стал бы любитель искать в “Дон Кихоте” того благородного, ласкающего глаз искусства, на котором зритель отдыхает, получая чистое эстетическое наслаждение. Ничего этого нет. Ряд пестрых картин, пригодных как яркое зрелище быть поставленными в Народном доме на Петербургской стороне, а не на образцовой балетной сцене.
… Как ни энергично исполняли наши танцовщики танец тореадоров, но они ни в каком случае не могли заменить прелестного пола, чудесно и красиво “изображавшего” бой быков.
… Г-же Седовой не советуем надевать рыжего парика; впрочем, как бы ни оделась эта артистка, она, благодаря своему таланту, везде успех будет иметь»417.
100 «… Площадь — декорация Головина. Ярко и безобразно. Такая мазня показывалась в балагане Малафеева. На заднем фоне флагштоки с желтыми висящими полотнами — идеал безвкусицы.
… Костюмы на “толпе” пестры и почти все — разные. Рябит в глазах, и многие из них совсем не к лицу даже слывущим за красавиц артисткам. Так, прелестную г-жу Васильеву нарядили в желтое, красное и ярко-зеленое — желтки со шпинатом!
… В каждом движении г-жи Преображенской сказывается ее артистическая натура. Позы ее дерзки до перла создания… Г-жи Павлова и Егорова были очень авантажны, но длинные юбки мешали им танцевать» и т. д.418
«“Дон Кихот” же топорной работы Горского произвел на меня вчера еще более удручающее впечатление. Это лубочная, ярко размалеванная картина, в которой вы тщетно будете разыскивать главной, центральной фигуры, то есть первой танцовщицы»419.
«В Мариинском театре, где публика воспитана на строго классических началах благородного искусства, всякие новшества в “декадентском” стиле едва ли и нужны. Первый опыт в этом направлении доказал его несостоятельность, потому надо только желать, чтобы образцовая наша балетная сцена не увлекалась этим деланным “натурализмом”, который в действительности даже не воспроизводит “натуры”, а прямо-таки искажает ее»420.
И еще одна рецензия о «Дон Кихоте» того же «Старого балетомана» от 14 октября 1902 года. Начинается она так: «Бинокли балетоманов как бы по команде сразу направились на сцену. Ожидали выхода долгое время болевшей любимицы публики, г-жи Кшесинской 2-й. Интересовались появлением артистки, чтобы увидеть, насколько отразилась болезнь как на ней лично, так и на ее таланте.
Браво! Браво!.. — гулко пронеслось по Мариинскому театру.
Она выпорхнула и остановилась, низко посылая поклоны и приветливую улыбку направо и налево.
— Значительно пополнела!.. Но как идет к ней испанский костюм! Чарующие глазки, оживленные жесты и прежняя энергия в движении и в мимике!!.»
И дальше:
«Насколько я наслаждался в “Дон Кихоте” нашим балетным персоналом, подобного которому нет во всем мире, настолько же мне приходилось скорбеть, глядя на бесформенность коровинских декораций и на отступления в стряпне г. Горского от того благородного стиля, к которому нас приучили вековые балетные традиции».
Резко отличается от обычных балетных рецензий своим тоном и широтой постановки вопроса статья Ал. Бенуа в журнале «Мир искусства»421. Бенуа считает, что шумиха, поднятая в печати по поводу постановки «Дон Кихота», является плодом недоразумения.
«Новая постановка возбудила немало толков и, скорее можно сказать, возмутила нашу публику, нежели понравилась ей».
Далее Бенуа старается установить, насколько «Мир искусства» может считать постановку «Дон Кихота», осуществленную при участии художников К. А. Коровина и А. Я. Головина, действительно своей постановкой и насколько она приближается к его художественной платформе.
101 Бенуа задает вопрос — удовлетворяет ли постановка «Дон Кихота» тех, кто составляет группу «Мир искусства». «На постановку “Дон Кихота” положено столько таланта, все в этом балете носит отпечаток художественности, художественного темперамента, она так отличается от обычного казенного типа наших постановок, что как-то неверно будет сказать, что постановка эта нам не нравится.
Разумеется, это — искусство, это не мучительно тоскливый трафарет, здесь нет невыносимо-безвкусных декораций шишковского покроя, шаблонно скроенных костюмчиков, монотонных мертвых хороводов.
На сцене живые краски, настоящее солнце, настоящая луна, большое оживление, много веселья, много непосредственности. <…> Живая струя искусства впущена в затхлую атмосферу нашего театра».
Однако Бенуа считает, что эта живая струя бьет несколько беспорядочно, и предлагает обратить ее в настоящую реку, в правильный канал, который орошал бы Императорский театр. Бенуа склонен думать, что постановка «Дон Кихота» скорее не постановка, а «только ловко набросанный, яркий, чуть-чуть даже “трескучий” эскиз постановки».
«Нам кажется, что вообще пробавляться эскизами, хотя бы и очень колоритными, теперь уже более не время», нужно, чтобы «эскизы-эмбрионы превратились во что-то более зрелое и совершенное».
Бенуа негодует на «вздорность» самого балета. Крупное дарование настоящих художников Головина и Коровина потратилось на недостойное. «Повод», по которому они работали, — желание воспроизвести на сцене милую их сердцу Испанию — был слишком сам по себе ничтожен.
«Мы, впрочем, совершенно недоумеваем, к чему вообще был возобновлен такой невозможный балет, как “Дон Кихот”. Мы слышали, что побудительной причиной тому было желание дать что-либо “для детей”. <…> Но, Боже мой, какой же это детский балет, где на сцене все время действует несчастный страдалец-сумасшедший, где вдобавок нет никакой завязки, никакой фабулы, где весь фантастический элемент как-то притянут и скорее относится к патологии?»
«В былое время герой Сервантеса умирал на сцене и все, как мне помнится, кончалось каким-то полу-грустным апофеозом, чуть ли не взятием на небо этого благородного испанца. Теперь уничтожен этот слишком “не балетный” конец и все с бала у герцогини просто отправляются спать. Не спорю, оно не так грустно, но зато всякий драматический смысл исчез и остался какой-то вздор».
«Рядом с гг. Коровиным и Головиным в “Дон Кихоте” в первый раз выступил перед петербургской публикой г. Горский — московский балетмейстер, молодой и талантливый человек, пожелавший произвести в танцах ту же реформу, которую попробовали совершить в декорациях названные художники. Затея самая симпатичная. Наш знаменитый балет, лучшая, если не единственная гордость русской сцены перед Европой…»422
Очень быстро, всего через полтора месяца после «Дон Кихота», Горский успевает приготовить новый большой балет «Лебединое озеро» (художники А. Я. Головин, К. А. Коровин и Н. А. Клодт). Одетту и Одиллию танцевала А. А. Джури423.
«Лебединое озеро» не принадлежит к тем работам Горского, которые принесли ему известность как постановщику424.
102 Танцевальная программа Горского почти в точности повторяет петербургскую постановку этого балета. Тем не менее, московское «Лебединое озеро» как спектакль сильно отличался от его академического прототипа425. В основном Горский значительно усилил лирическую основу этого балета. Такая трактовка стала еще более рельефной, когда Горский запустил танцевать этот балет В. А. Каралли, слабая техника которой искупалась непосредственностью молодости, необыкновенной артистической обаятельностью426.
«Лебединое озеро» сделано было Горским в свободной манере, с сильным модернистическим уклоном в ее внешней декоративной части. Фактура хореографии балета совсем была лишена петербургской академической сухости. Контуры танцевальной партитуры «Лебединого озера», особенно первых двух актов балета, в сравнении с теми же сценами Иванова — Петипа, казались расплывчатыми427. Линии танцевальных мизансцен не всегда были строго прочерченными. Танцевальная площадка чрезмерно заполнялась кордебалетом428. Планировка мизансцен грешила отсутствием художественной логики. Все это вместе взятое вносило непривычную для глаза дезорганизацию в стройность композиционной формы. Таким образом, характерный для режиссерского искусства Горского «беспорядок на сцене», замеченный А. Бенуа еще в «Дон Кихоте», имел место и здесь.
Известный писатель по вопросам театрального искусства С. М. Волконский заметил по поводу «Лебединого озера» Горского, что в нем при многих его зрелищного порядка достоинствах наблюдается «обидное чередование искусства с неискусством». Слишком много, замечал Волконский, в этой сценической работе Горского, впрочем, так же как и в работах других постановщиков балетов, случайного, непродуманного или незамеченного, или, что еще хуже, отнесенного ими к неважным деталям хореографического спектакля. «Как будто в театре может быть что-либо второстепенным или маловажным, незначительным», — говорил Волконский. По отзыву этого же теоретика театра при жизни Горского лучшими Одеттами и Одиллиями, наиболее близко подошедшими по своему сценическому облику к музыкально-лирическому стилю этого балета, были В. А. Каралли и Е. М. Адамович429.
Горский изменил петербургский финал «Лебединого озера», заставив Одетту и принца погибнуть в волнах озера430. Там же ввел он забытую Петипа и Ивановым полную ритуальной обреченности «Лебединую песнь» — танец Одетты, выдающийся по красоте мелодии (английский рожок) и трагической экспрессивности431.
Свой второй московский сезон Горский начинает в Новом театре возобновлением «Клоринды». В этом же спектакле идет новый для Москвы балет «Очарованный лес»432 и дивертисмент, составленный Горским, как все его дивертисменты, из сочиненных ad hoc16* танцевальных номеров, в целом образующих законченную хореографическую сюиту. Обращает на себя внимание музыка этих сюит Горского.
Стиль «Клоринды», «Очарованного леса» и тогда же, в 1901 году, поставленного балета «Волшебные грезы» не представляет собой нового слова в балетной драматургии и лишь варьирует старую академическую форму классического балета Петипа — Иванова433.
103 Появившегося в ноябре 1901 года нового «Конька-Горбунка»434 Коровин и Горский постарались перенести из плана псевдонародной манежно-цирковой феерии в область большого театрального искусства. У Горского сценарий Сен-Леона остался в общем без изменений. Программа же танцев его была совершенно переделана435. Неприкосновенными остались лишь танцевальные сцены Царь-девицы у Хана и за небольшим исключением характерные танцы финального дивертисмента.
Новые режиссерские приемы постановщика, еще не сформировавшиеся в законченную систему, находят свое выражение в живой эмоциональной подаче старой лубочной темы Сен-Леона и в усиленной стилизации внешности спектакля. Здесь так же, как и в «Дон Кихоте», повышенная активность кордебалета и, хотя и несколько ограниченно, ставится проблема сценического ансамбля.
В течение следующего года Горский углубленно занимался подготовкой своего первого большого балета — мимодрамы «Дочь Гудулы», для которой музыка тогда же была написана А. Ю. Симоном436.
Желая изучить обстановку старого Парижа, проникнуть в атмосферу французского Средневековья, величаво показанного В. Гюго в его романе, Горский с Коровиным летом 1902 года отправляются в Париж.
Несмотря на тщательную проработку режиссерского сценария, на его историческую достоверность, на безукоризненную сыгранность всех участников постановки, на волнующе прекрасное перевоплощение С. В. Федоровой в образ Эсмеральды, на мастерство В. Ф. Гельцера, умевшего в роли священника Клода Фролло заставить трепетать своих товарищей на сцене, — все же спектакль этот прочного успеха не имел. Публика сдержанно относилась к необычайному по форме балетному спектаклю, в котором пантомима получала значительное преобладание над танцем.
Излишне натуралистическая обработка некоторых мизансцен, длинноты, затягивающие темпы спектакля и обременяющие его ритм, недостаточно значительная и малоподвижная музыка крайне отяжеляли спектакль и сделали его, невзирая на редкое в балетном театре творческое напряжение всех его участников, — малоинтересным и малопонятном для рядового зрителя.
Консервативная пресса (особенно «Новое время» и «Московские ведомости») встретила первую монументальную работу Горского с подчеркнутой враждебностью.
Сенсацию произвел патетически написанный фельетон Юр. Беляева «Балет или каторга?»437. Эта статья с предельной ясностью выражала отношение консервативно настроенного зрителя-обывателя к балетному искусству, к этому «милому, беспечному искусству», которое обратилось у Горского «в хронику человеческих страданий».
Юр. Беляев возмущался «варварским упадничеством» постановщика, допустившего на балетную сцену «застеночную эстетику» и даже кровь (на лице истерзанной [нрзб.] Эсмеральды), недоумевал критик и по поводу той чрезмерно большой роли, которую предоставил Горский в этом балете народу — кордебалету. «Вся толпа танцевала». А когда вышла на сцену Эсмеральда-балерина, то ее не было заметно, она терялась в толпе. Действительно, «толпа» вела себя в этом спектакле настолько не по-балетному беспокойно и неизящно, что, когда Николай II приехал смотреть «Дочь Гудулы», Горскому было приказано убрать наиболее острые и рискованные мизансцены кордебалета, так же как и сцену наказания Квазимодо438.
104 Тем не менее, сам Горский высоко расценивал эту свою постановку и много лет спустя упоминал о ней как об одной из лучших своих работ439.
Несмотря на спорность спектакля «Дочь Гудулы», значение его для истории хореографического театра не может быть оспариваемо. В нем Горский пожелал утвердить впервые на русской казенной сцене право пантомимы на равноправное сосуществование с другими театральными жанрами.
Продолжая линию стилизаторских реставраций в духе модного тогда «русского модерна», Горский показывает в октябре 1903 года «Золотую рыбку»440.
В этом спектакле произошло первое ощутительное столкновение традиций старого классического балета с реалистическими вкусами постановщика и с импрессионистической манерой живописи Коровина, увлекательно написавшего декорации этого балета.
Большой успех имела С. В. Федорова, исполнившая трудную мимическую роль Старухи.
В хореографии «Золотой рыбки» было много чрезвычайно удачных мест: адажио картины «в цветах», с заслуживающей удивления контрапунктической обработкой его коды; танец «волн» кордебалета, игра рук которого с неповторимой выразительностью передавала взлеты и падения водяной стихии.
Разностильный характер танцевальной партитуры, что неизбежно проистекало из самого сюжета балета, такая же случайно подобранная музыка, без всякой внутренней художественной связи (Минкус, Серов, Лист, Брамс, Конюс, Блейхман и т. д.441), сильно обесценивали спектакль, делая его легковесным и менее значительным, чем он мог бы быть по качеству своей хореографии.
Значительно более длительный и серьезный успех имел балет «Волшебное зеркало»442, свободный от указанных выше недостатков «Золотой рыбки», но и не имеющий ее хореографических достоинств.
Так же как и «Золотая рыбка», написанный на тему сказки Пушкина (авторы С. М. Волконский443 и М. И. Петипа), балет этот первоначально потерпел крупную неудачу на сцене Мариинского театра444, главным образом из-за интриг, возникших по поводу нового стиля декораций и костюмов А. Я. Головина, совершенно по-новому трактовавшего роль художника в создании балетного спектакля. Лишь перенесенное на московскую балетную сцену «Волшебное зеркало» было оценено по достоинству в новой музыкальной аранжировке А. Ф. Арендса и в новой хореографической редакции Горского. Больше, чем в «Лебедином озере», Горский сумел в своей новой работе найти способ подачи классического стиля танца, не вступающего в конфликт с своеобразной импрессионистической музыкой А. Н. Корещенко и таковой же живописью А. Я. Головина445.
Любопытно сопоставить, как расценивался этот балет петербургской театральной критикой и московской.
«Балет “Волшебное зеркало” поставлен при самых неблагоприятных условиях… Они заключаются, во-первых, в неважной музыке, лишенной всякого колорита и характера. О мелодии помышлять нечего… Другая невзгода для балетмейстера — это ультра-декадентские декорации», — писал NN. (Петербургская газета. 1903. № 40. 10 февраля)446.
«… Благодаря кисти художника г. Головина и музыке композитора г. Корещенка, и интерес, и красота — все это пропало и расплылось в сером, бесформенном 105 фоне их неудачной работы… Костюмы, так же как и в “Дон Кихоте”, пестрят в глазах негармоничным смешением всяких цветов, не говоря уже о странном их подборе: они все неопределенных тонов: то зеленовато-серый, то желто-голубой, то красно-розовый… В балете существуют известные условности, которые нельзя нарушать… Что касается музыки… общее же впечатление бесцветно; ритм какой-то неопределенный; мотивы не оригинальны и тусклы», — [вторил ему] А. (Суворин?)447 (Новое время. 1903. № 9677. 11 февраля).
«… Трудно было верить своим глазам, глядя на декадентские декорации г. Головина… Написать что-либо подобное “всерьез” — прямо-таки невозможно. Очевидно, художник, да простят мне тени Рафаэля и Микель-Анжело, Брюлова, Делароша, Ван Дейка и Айвазовского, что я осмеливаюсь называть г. Головина тем почетным именем, которым они гордились при жизни, — очевидно, г. Головин нарочно издевался и над петербургской публикой, и над управлением Императорских театров, и над критикой, и над самим собой, наконец. Иначе нельзя объяснить дерзость, с которой он развесил куски грязного полотна под видом “роскошных” садов, [“волшебных” дворцов и т. п.]…
… Где вы, времена Минкуса, Лядова и Пуни, когда балетную музыку писали “не мудрствуя лукаво”. Грациозная мелодия, живой, задорный ритм, национальная окраска народной песни в характерных танцах, свежесть и веселость, подчас даже остроумие и чувство, не глубокое, конечно, но бесхитростно-искреннее чувство — большего от балета никто не ожидал и не требовал» (подчеркнуто мною. — Г. К.). Балетоман (Заря. 1903. № 2. 2 марта).
Так писали про декорацию и музыку «Волшебного зеркала» в Петербурге.
«В “Волшебном зеркале” есть музыка, как я ее понимаю, музыка, своими особенностями не ушедшая в сторону от той, что слышим в симфонических собраниях, музыка серьезная, интересная, выразительная, красочная.
Она для мимических сцен, для оркестровых ландшафтов.
А в то же время танец не загнан; обильно, напротив, представлен. И он, порхая, резвясь, собираясь в красивые группы… неразлучен с звуками грациозными, нарядными, безупречно музыкальными, чуждыми ремесленных приемов… И для глаз, и для слуха красив новый балет.
Над его декорациями работал такой художник, как Головин. <…>
Много изящного, талантливого, стильного и даже сильного в постановке: Вся эта игра цветов пленяет. Декорации, костюмы изумительны. И что-то в них свежее, — даровитый призыв к чему-то новому…
Балет Корещенко — вклад в репертуар, вклад солидный и желательный!» Семен Кругликов (Русское слово. 1905. № 52. 23 февраля).
Так писал один из наиболее известных московских критиков. Его оценка совпадала с мнением публики. Со своего первого же сезона в Москве балет «Волшебное зеркало» стал одним из наиболее посещаемых, прочно войдя в репертуар.
Обильный по числу сданных работ сезон 1904/1905 года Горский заканчивает постановкой «Коппелии» для бенефиса Е. В. Гельцер. В «Коппелии» Горский не меняет ни Нюитеровской программы этого балета448, ни классического французско-петербургского стиля его танцев, ни общего академически сдержанного характера всей постановки М. И. Петипа на Мариинской сцене.
106 Наконец в следующий сезон Горский показывает «Дочь фараона»449 — одну из капитальнейших своих работ, в которых стилизаторские тенденции доведены балетмейстером до своего наиболее полного раскрытия. Экзотика, место действия и фантастичность темы дают широкий простор для взлета творческой мысли балетмейстера.
В начале работы над «Дочерью фараона» у Горского обнаружилось резкое расхождение с некоторыми артистами Большого театра — в отношении художественной интерпретации темы балета. Горский предполагал совершенно отказаться от классических танцев, заменив их пластическими плясками в стиле Дункан, приняв за основу их движений элементы египетской фресковой живописи, с их утрированной условностью поз. Это желание Горского встретило решительное возражение со стороны балерины Е. В. Гельцер и В. Д. Тихомирова. Они протестовали против изменения классической основы танцев одного из лучших балетов Петипа, не без основания, впрочем, указывая на то, что музыка Пуни не является достаточно подходящей для реставрации танцев этнографически верного древнеегипетского стиля, в каком Горский себе представлял постановку «Дочери фараона».
В эти годы Гельцер и Тихомиров возглавляли оппозиционное течение в труппе московского балета, направленное против крайностей, как им казалось, новаторских приемов Горского.
1905 год был годом наибольшего обострения противоречий, возникших в балетной труппе. По сути дела спор шел между сторонниками старой академической балетной драматургии и тем стилем балетных спектаклей, которые Горский утверждал на сцене Большого театра.
Значительную долю недоразумений между руководителем балетной труппы и ее ведущими персонажами (Гельцер, Мосолова, Тихомиров) надо отнести на счет покровительственного отношения Горского к способной молодежи балета, находящейся под значительным влиянием эстетических вкусов балетмейстера-новатора.
В этой борьбе «отживающего старого с новым», как формулирует В. А. Теляковский — сущность разногласий в московском балете, Горскому оставалось отстаивать свои художественные концепции не так уж часто. «Дон Кихот», «Дочь Гудулы», «Нур и Анитра», «Жизель» и «Этюды», «Шубертиана», «Любовь быстра!», «5-я симфония»). Приходилось терпеть и поражения, особенно когда спор переносился на решение управления конторы театров («Баядерка»). В большинстве же случаев достигалось компромиссное решение («Саламбо», «Эвника», «Дочь фараона»).
Оставляя в стороне элемент личного порядка (взаимное как будто «непризнание»), который занимал большое место в отношениях балетмейстера с первой артисткой балета Большого театра, надо признать, что влияние консервативно настроенной группы на дела балета могло иметь и положительное значение, поскольку Гельцер и Тихомиров сдерживали иногда совершенно безграничные взлеты фантазии Горского и возвращали ее творческий полет с заоблачных высот на землю.
Гельцер, как все крупные артистические индивидуальности, требовала особенного сценического материала для раскрытия характерных особенностей своего дарования. Между тем ее стиль артистки героического пафоса, хранящей сценические заветы, идущие к нам от двух Колосовых, Семеновой — Каратыгина, не всегда укладывался и не всегда подходил к тому художественному обрамлению, которое 107 мог ей дать Горский, по своим эстетическим воззрениям на балетное искусство стоявший на иных художественных позициях.
В. А. Теляковский довольно подробно описывает конфликт московского балетмейстера с труппой, разыгравшийся на фоне отголосков революционных событий 905 года. Он цитирует между прочим письмо Горского, в котором артист выражает крайнее беспокойство по поводу своей ответственности за судьбу балетного искусства450. Горский был озабочен желанием части труппы создать комитет для управления делами балета. Он сомневался в его целесообразности и той пользе, которую комитет мог бы принести театру, встав в зависимость от лиц, желающих «стереть с лица московской сцены его, балетмейстера Горского, и дирижера А. Ф. Арендса». Горский боялся, что его «пятилетняя работа над созданием художественного балета», его «маленькое, но честное имя», «его картины, его мысли, его грезы, будут втоптаны в грязь». Письмо написано искренно, взволнованно и с достоинством. Теперь для нас, знающих о растерянности правящих кругов в те дни, кажется несколько наивным обращение Горского за помощью к Теляковскому, который сам тогда был бы рад принять помощь, чтобы усидеть на своем директорском кресле.
Отношение Гельцер к Горскому как к режиссеру начало меняться после совершенно заново поставленного балета «Раймонда»451. Гельцер, танцевавшая этот балет в Петербурге в оригинальной редакции Петипа452, очень [враждебно — зачеркнуто] неприязненно встретила тот эмоционально-лирический характер, который явился основным тоном этой постановки Горского. Однако под влиянием крупного успеха, который она имела в этом балете, уже без всякой предвзятости приветствовала следующую за «Раймондой» постановку балета «Саламбо», в которой ее мастерство артистки романтического предания имело возможность всесторонне развернуться.
Осенью 1907 года453 С. П. Дягилев вел переговоры с Горским о поездке его в Париж. Однако беседы эти не привели ни к каким конкретным результатам, так как Дягилев, прервав переговоры с Горским, пригласил Фокина, только что вступившего на поприще балетмейстера454. Существенной для понимания творческих мировоззрений Горского этого периода является постановка «Жизели» и танцевальной сюиты-дивертисмента, названного им «Этюды»455.
«Жизель» была показана, в отличие от прочих возобновлений антикварных древностей балетной сцены, без облачения ее в новые цветистые современные одежды. Наоборот. Из декорационных складов театра были извлечены самые ветхие декорации, наивные и примитивные по живописи, они наиболее убедительным образом переносили зрителя в обаятельную театральную обстановку 1840-х годов456. Тем не менее, А. А. Плещеев был прав, когда восторженно писал о свежести и удивительной молодости этого спектакля ([Вечерняя] газета «Время», Москва, 1916 год457). Это была одна из наиболее взволнованно написанных критических статей старого журналиста.
Рационалистические концепции Горского, сурово осужденные в то время критикой из лагеря «Мира искусства», привели здесь к созданию одного из наиболее реалистических спектаклей московского балета458. Отдельные эпизоды постановки благодаря редкой для балета драматической актерской технике Каралли и Мордкина склонялись к натуралистической их трактовке, однако романтическая 108 поэтичность «Жизели» от этого не пострадала. Горский показывал «Жизель» почти как бытовую драму. Трудно было предположить, что балет этот мог бы иметь другой стиль. Особенно затруднительным было бы назвать его «классическим», поскольку его классическая форма находилась в строгом подчинении у его драматического содержания459.
Сценической убедительности этой хореодрамы способствовала необыкновенная искрометность и непосредственность самой Жизели, — в лице В. А. Каралли, и великолепного графа Альберта — артиста редкого сценического темперамента М. М. Мордкина. В «Дочери Гудулы» и «Золотой рыбке» Горский раскрыл далеко выходящее за пределы обычного сценическое дарование С. В. Федоровой. В «Жизели» зритель увидел необыкновенно симпатичное дарование молодой артистической пары — Каралли и Мордкина. «Жизель» Горского была настолько волнующе прекрасна, что зрителю пришлось простить ему грубую стилистическую ошибку 2-го акта — модернизированных виллис460.
В «Этюдах» Горский хотел продемонстрировать зрителю свою веру в эмоционально оправданный танец. Эта танцевальная сюита скреплялась воедино одной тематической мыслью. «Этюды» — это танцевальные грезы Горского. Это хореографическая новелла о старом парке.
… Осенний ветер крутит опавшие листья (Этюд c-mol А. Г. Рубинштейна)461. Спускается ночь. Листья затихают, сбившись к подножию старых деревьев. Из сумрака парка один за другим выступают образы давно забытого прошлого.
Вот сцена из античной буколики. Это парк влюбленных (Балашова и Мордкин). (Муз. Гиро). Ее сменяет пара в меланхолической мазурке Шопена (Каралли и Волинин). За ней проносится в бравурном вальсе другая (В. Мосолова и Новиков). (Муз. А. Г. Рубинштейна). Вот Анитра (С. В. Федорова). Но ветер снова потревожил листья… Они встают и опять кружатся в причудливом хороводе…462
Несмотря на некоторую случайность в подборе танцевальных номеров и связанную с этим пестроту стиля, эта хореокомпозиция Горского должна быть поставлена по выразительности танцевальных образов и силе созданного ею настроения рядом с прославленными шедеврами русского танцевального искусства — такими как «Вальс снежинок» («Щелкунчик»), «Вакханалия» (Глазунова) и «Половецкими плясками» (Фокина)463.
Вся эта сюита овеяна лирической умиротворенностью. Это та тихая, философическая грусть, которая идет от озаренного поэтической мудростью Тютчева. Нигде после Горский не был столь значителен, как здесь, в этих простых и незначительных по масштабу этюдах, которые могли бы стать эскизами к большой хореографической поэме, которой никогда не было суждено осуществиться. «Этюды» явились синтезом художественных мировоззрений Горского, которые художник концентрировал на своем представлении о правде и красоте в искусстве.
Начиная с «Этюдов» в танцевальных образах Горского усиливается эротическая тональность. По своей природе Горский был сексуалист. Поэтому эмоциональное восприятие жизни явилось для него естественным. Поэтическая, возвышенная «влюбленность» была основным тоном его жизни.
Теляковский писал о Горском, что «безусловно честный, поэт, преданный свому делу и неутомимый работник, он вообще был оригинальный человек. Всегда озабоченный, 109 с блуждающими глазами, нервный, восприимчивый и увлекающийся… Увлекался он и балетными артистками, но увлекался как мечтатель и фантаст… и по большей части без взаимности… как артист и художник он был человеком выдающимся и глубоко несчастным»464. Многочисленные отзывы современников о Горском подтверждают в общем характеристику, данную ему Теляковским. Надо, впрочем, заметить, что искусство танца было самым постоянным предметом увлечения Горского. Множество прочих объектов, заставлявших трепетать его сердце, больше испепеляло душу артиста, чем окрыляло его бодрой уверенностью в жизненной борьбе.
Эротизм был той почвой, на которой произрастал цветок искусства Горского. Это не была изысканно-пряная, острая и в то же время одурманивающая эротика балета Дягилева и тех балетмейстеров, которых воспитала школа «Мира искусства». Эротика Горского не знала изощренных и соблазнительных положений, оргаистической разнузданности, ритуальной суровости и все испепеляющих стихийных порывов. Эротическое начало эстетики Горского не вырывалось из глубин его творчества при ослепительном свете зажженных факелов и оглушительных звуках фанфар, при соприкосновении с которым все должно было пасть ниц и признать его верховную и всенаправляющую силу.
Эротические идеалы Горского были намного проще, интимнее и скромнее. Эротика Горского была жизнерадостной, полносочной и оптимистичной. Проявлялась она у Горского достаточно примитивно и элементарно. Будучи свободной от элементов трагизма и жестокости, она поражала своей наивностью и сентиментальностью. В ней было совсем мало чувственности и много глубокого чувства.
Поэтому нет ничего удивительного, что в танце Горского преобладает эмоциональное начало, которое по концепции Горского является стимулом танцевального движения. Однако эротический тонус в течение всего творческого пути Горского имел не одинаковое напряжение. Эротическое начало проявлялось сильнее в тех случаях, когда приглушалось с детских лет взращенное Горским в себе рационалистическое понимание искусства, то, что Горский называл «правдой» в искусстве, антитезой которого являлась «красота» его.
Первой такой постановкой, в которой Горский попробовал смело заговорить на языке чувства, была хореографическая картина «Нур и Анитра»465. Тут он делает интересную попытку резко отступить от старых форм балетного театра. «Нур и Анитра» имеет сплошное хореодействие, не прерываемое ни мимическими сценами, ни вставными танцами. В «Нур и Анитре» Горский отказывается и от классического стиля танца с его технологией и сценической атрибуцией (пачки и танцевальные башмаки, открытая сценическая площадка).
В прессе и в зрительских кругах раздавались голоса, осуждающие чрезмерную будто бы вольность групп и поведения персонажей балета, несовместимых со строгими традициями Императорского театра466. По непонятной оплошности постановщика резким диссонансом прозвучало в этом спектакле его оформление. Новый стиль хореографии Горского не мог находиться в гармонии с убогой арочной декорацией «германского» леса, украшавшего когда-то балетные творения Рейзингера, Богданова, Мендеса467. Также и традиционные для Большого театра оперные кушетки, на которых посредине сцены располагались «девы», соблазняющие 110 своими чарами «воинов», могли вызвать упрек не только в безвкусии. Неряшество в оформлении этого оригинального по замыслу, но несколько скороспелого детища Горского способствовало вынесению ему сурового приговора. Несмотря на протесты балетмейстера, обиженного обвинениями его в порнографии, и композитора Ильинского, балет был снят после третьего представления468.
Классическую «Раймонду», поставленную в 1908 году, Горский оживил подчеркиванием ее лирического плана. Импрессионистические звучания колоритной партитуры Глазунова находят свое выражение в живописной фактуре танцев. Им [звучаниям] вторит Коровин, способствуя своей темпераментной кистью созданию на сцене ощущения своеобразного «праздника жизни».
Трудно определить, что именно в спектакле «Раймонды» являлось наиболее привлекательным. Бесспорно одно. Бессюжетный балет ожил. Бездействующие персонажи очеловечились и заиграли. Горскому удалось усилить аромат обаятельной средневековой легенды, акцентировав лирический элемент балета, несколько замороженный у Петипа чопорной строгостью академического стиля.
«Саламбо» — один из немногих оригинальных больших монументальных балетов Горского. Появившийся в 1910 году балет этот должен быть поставлен в ряд наиболее значительных произведений московского балетмейстера. По своей сценической форме «Саламбо» принадлежит к балетам старого репертуара, продолжая линию постановок grand spectacle Петипа, с большой и сложной хореографической партитурой и достаточно ординарно составленным сценарием. Большое место занимала условная балетная пантомима. Она значительно отяжеляла ритм спектакля. Следует признать, таким образом, что и в своем собственном оригинальном творчестве Горский принципиально не отвергал, подобно Фокину, эту старую форму балетного спектакля469.
В этом балете особенно рельефно выявился присущий драматургии Горского живописный прием насыщения сцены красочными пятнами.
Сложные группировки и мизансцены кордебалета, а также его танцы составляли одно живописное целое с характером стиля декораций Коровина. Эстетическое единомыслие балетмейстера и художника привело к положительному результату.
Сам Горский отмечал, что в «Саламбо» традиции старого классического балета были еще очень сильны470. В нем очень отчетливо выступали традиции старого романтического балета Дидло в современном своем виде, эволюционирующем в сторону феерии как чисто зрелищного спектакля. Саламбо — балерина является центральной ведущей партией. В то же время старые балетные формы омолаживались новыми драматургическими приемами балетмейстера, в которых сценический ансамбль, так же как в свое время в «Дочери Гудулы», занимает первое место.
В «Саламбо» зрелищный момент спектакля вступал в соревнование со сценической правдой, с той романтической «правдой человеческих страстей», которую с большой экспрессией несли в спектакле ведущие персонажи балета (Гельцер, Каралли, Тихомиров, Мордкин). Однако в равной мере успеху спектакля содействовали все его участники. В этом умении Горского пробудить творческое самочувствие всего артистического коллектива была одна из замечательных особенностей «балета Горского». Успех Горского это почти всегда успех балетного коллектива, в котором претворяется личная, субъективная воля постановщика.
111 В плане технологическом надо отметить, что в «Саламбо» в равной мере встречаются танцы «на пальцах», так же как и «полупальцы» в мягких сандалиях. Но и классическая часть хореографии балета получила новую направленность. Кульминационным моментом балета была лирико-драматическая танцевальная сцена соблазнения (adagio) Мато и похищения у него Саламбо покрывала Танит471.
Несколько жидкая музыка А. Ф. Арендса не всегда с должной силой способна была поддержать постановщика в наиболее ответственные моменты спектакля. Менее оригинальным, чем всегда, был К. А. Коровин. Раздавались голоса, указывающие на желательность перенесения хореографического действия «Саламбо» на несколько сценических площадок (Журнал «Рампа». 1910. № 3. Стр. 43. Рецензия Ник. Ва-вич). Этого требовал как будто монументальный стиль самого спектакля. Действительно, расположение многих мизансцен по вертикали позволило бы внести не только разнообразие в композицию массовых сцен, но и избавило бы постановщика от нареканий в отсутствии четкой формы композиции, в непроработанных контурах ее и, в конечном счете, парировало бы обвинения в умалении силы впечатляемости от больших масс исполнителей, теряющихся в беспорядочной, асимметричной планировке сцены.
Тем не менее, балет обещал войти в репертуар. Однако его постигла злая судьба. Декорации «Саламбо», так же как и ряд других постановок Горского, погибли в 1915 году в пожаре декорационных складов Большого театра472.
Балет «Аленький цветочек» (муз. Гартмана) явился как для театра, так и для Горского лишь проходящим эпизодом. Согласно установившейся практике в казенных театрах, оперно-балетные спектакли, почему-либо не понравившиеся в СПб, пересылались на московскую сцену473.
Появление «Аленького цветочка» в Большом театре, в противоположность «Волшебному зеркалу», было встречено сдержанно. По-видимому, тяжеловесное либретто и весьма посредственная музыка не могли вдохновить постановщика, так же как и артистов. Горский, переделавший либретто заново, вернул ему русский стиль сказки Аксакова. Между тем костюмы и декорации Коровин делал в духе раннего итальянского Возрождения. Ни музыка, ни хореография не имели русской национальной специфики.
В 1911 году весной Горский ездил в Лондон для постановки в театре Альгамбра балетного спектакля, приуроченного к торжествам коронации Георга V474.
По договору с театром Горский поставил там балет «The Dance Dreams» («Танцевальные грезы»), либретто Эмэбль (Amable) и Е. Г. Райн, художник Комэли (Comelly)475. Музыка для балета была смонтирована дирижером Бинг[ом] из сочинений самых разнообразных композиторов (Бинг, Рубинштейн, Шопен, Пуни, Блейхман, Глазунов, Брамс, Дриго, Луиджини и др.)476. Большинство танцевальных номеров были взяты Горским из его московских постановок. По существу, «The Dance Dreams» был богато обставленной феерией, в которой ряд разнохарактерных танцев был объединен и скреплен крайне примитивным сюжетом, обычным для заграничных мюзик-холлов.
В «The Dance Dreams» участвовали кроме английского кордебалета московские артисты Е. В. Гельцер, В. Д. Тихомиров, Е. Андерсон, Е. Адамович, Новиков и Жуков. Эта работа Горского имела доброжелательный отзыв в английской прессе, как известно, очень скупо рецензирующей хореографическое искусство477.
112 В «Корсаре», представленном публике 15/I 1912 г., оба мастера, Горский и Коровин, опять находят, после неудачного «Аленького цветочка», тему, их волнующую и вдохновляющую. Как это было уже не раз при возобновлении других старинных балетов, в «Корсаре» Горский обнаружил свое уменье облечь архаический сюжет в современные одежды, показав его в сочных и ярких тонах.
Об этой работе Горского М. М. Ликиардопуло писал: «В “Корсаре” Горского и Коровина дан образец… частичной совместной работы (композитор, художник и балетмейстер), и полученный результат уже громаден. Такой цельности зрительных впечатлений, такой гармонии человеческих тел и красок, такого слияния линий движения с линиями декораций давно в балете не получалось» (Журнал «Студия». 1912. № 17)478.
Сохранив те танцы, которые крепко вошли в словарь балетной классики (Forban и Petit Corsaire), Горский добавил к мелодраматической сцене освобождения Медоры большое хореографическое панно «Грезы о рае» (муз. Пуни и Шопена), заменившее «Оживленный сад» Петипа479. Бесспорному успеху «Корсара» содействовали героически трактованный Е. В. Гельцер образ Медоры, классически очерченный В. Д. Тихомировым облик Конрада и рельефный юмор В. А. Рябцева.
Интересно проследить ту борьбу за реформу костюма, грима и танцевальной обуви, которую вел Горский начиная с первых дней своей работы в Большом театре. В «Дон Кихоте», «Лебедином озере», «Золотой рыбке», «Коньке-Горбунке» Горский уступает традиции условной тарлатановой тюники. В «Дон Кихоте» он показывает [танец] серпантин, на который, так же как и на стильные парики испанок, обрушивается с негодованием консервативная газетная критика480. Вызывают недовольство и удлиненные юбки и тюники481. Эта реформа вообще принимается плохо и не без борьбы со стороны ведущих балетных артисток (Кшесинской, Гельцер и др.).
В «Дочери фараона» эта балетная удлиненная юбка-тюника приобретает условно стилизованный вид: она удлиняется по бокам ее и эта форма сохраняется в дальнейшем и в ряде других балетов Коровина. В «Жизели» (II акт) Горский впервые вводит в классическом танце длинные, малопривлекательные по линиям хитоны-рубашки. Эти псевдоантичные хитоны, видоизменяясь в зависимости от стиля и характера танца, остаются и в последующих стилизованных постановках Горского. Бесспорно, костюм этот, сделанный из самой легкой ткани, облегчает движения танцующих и значительно более очерчивает линию фигуры. Е. В. Гельцер надевает новый костюм (рубашка-хитон) лишь начиная с «Раймонды», где она появляется в нем в I акте в картине «Сон». Но уже в «Корсаре» балерина не танцует ни одного классического танца в балетной «пачке».
С. В. Федорова, одна из ревностных последовательниц А. А. Горского, в «Дочери Гудулы», чтобы оттенить цыганский характер этой партии [Эсмеральды], носит башмаки с каблуком и выходит в последнем акте мимодрамы босая (в розовом трико) и в грубой холщовой рубахе, желая утрированно подчеркнуть этим натуралистическим приемом историческое правдоподобие постановки.
Во всех балетах, [поставленных] до «Саламбо», сохраняется Горским старый балетный башмак. В «Саламбо», так же как в «Корсаре», «Эвнике», «Баядерке», наблюдается совместное пользование балетным башмаком и сандалией, в зависимости от характера танца, который у Горского определяется не только стилем всей 113 постановки, но и эмоциональным состоянием танцующих персонажей. Поэтому и античная девушка в «En orange» («Этюды»), и Эвника, и Саламбо становятся на пальцы, когда это вызвано их настроением. На этом основании также сохраняется классический башмак и в 5-й симфонии Глазунова, хотя характер этой танцевальной пьесы далек от изысканного пафоса классического стиля танца и насквозь проникнут эпическим спокойствием и тем строем чувств, который можно назвать античной простотой (simplicitatis antiqua).
В начале сезона 1912 года [Горский] сочинил танцы для «Пер Гюнта» (муз. Э. Грига), поставленного в Художественном театре482… Анитру, один из излюбленных Горским танцевальных образов, к которому он неоднократно возвращался, исполняла А. Коонен483. Театральная критика в лице Слонимской не одобрила «театральность» этой восточной сцены, носящей «неприятный привкус опереточной “пряности”»484. Слонимская отмечает также «согнутые под углом кисти рук у Анитры». «Согнутые кисти» или «приподнятые» при опущенных вниз руках появились в балете как результат стилизованных постановок Горского. Эта усвоенная стилистическая деталь надолго сохранилась в манере держать себя на сцене у большинства московской балетной труппы.
У Горского наблюдалось иногда стремление к «красивости», переходящей порой в слащавость («Золотая рыбка», «Нур и Анитра», «Баядерка» 1907 г.485, «Эвника», «Любовь быстра!», «Тщетная предосторожность»). Поэтому некоторые из перечисленных работ Горского в Большом театре располагались на грани между большим искусством и той опереточной театральностью, о которой пишет Слонимская. В последнюю минуту почти всегда спасала Горского или традиционная танцевальная культура исполнителей, или живописное окружение этих «поскользнувшихся» opus’ов балетмейстера. Артисты Художественного театра, получившие совсем другое театральное воспитание в области искусства движения, придерживались [другой] пластической системы и явились дилетантами в исполнении хореографии Горского, имевшей годами слагавшуюся классическую основу и требовавшей другие приемы сценической выразительности.
В октябре 1912 года Горский заключил с С. П. Дягилевым договор на постановку за границей весной 1913 года хореографической драмы «Красная маска» («Маска красной смерти») по рассказу Э. По, либретто и музыка Н. Н. Черепнина. Однако, заболев в начале 1913 года, он должен был отказаться от выполнения этого контракта486.
Той же осенью поставленные Горским танцы персидок (Гельцер, Адамович, Девильер [и другие]) в опере «Хованщина» были расценены в театральных кругах Москвы как выдающееся театральное явление487.
Наконец, после почти двухлетнего перерыва Горский показывает сразу три свои работы: «Шубертиану», «Любовь быстра!» и «Карнавал»488. Этот спектакль открывает новую страницу в деятельности балетмейстера.
Первый период постановочной деятельности балетмейстера проходил под знаком осмысления танцевального действия, попутно с разрушением старой академической эстетики балета и очеловечивания его сценических образов. Таковы были все его работы, за исключением «Коппелии», «Арлекинады», «Аленького цветка», «Волшебного зеркала» и небольших одноактных балетов, поставленных для Нового театра.
114 Одновременно в московском балетном театре происходил усиленный процесс стилизации. Балетный репертуар создавался главным образом по принципу интересного объекта для стилизаторской деятельности Коровина — Горского. Так, были заново реконструированы многие старые балеты. Одновременно в свод драматургических законов Горского была включена формула эмоциональной обработки танцевальных образов и оживления сценического действия (ансамбль, ритм, темп и пр.). Форма танцевального спектакля в общем оставалась прежней формой старого классического балета.
Если раньше Горский пользовался в своих постановках классической музыкой эпизодически, от случая к случаю, как бы лишь пробуя свои силы в раскрытии музыкальных образов средствами хореографии, то начиная с «Шубертианы» весь новый его репертуар строится исключительно на этом драматургическом принципе.
К таким постановкам нового музыкального направления следует отнести: «Эвнику» (Шопен), 5-ю симфонию (Глазунов), «Ночь на Лысой горе» (Мусоргский), «En blanc» (3-я сюита Чайковского), «Ночь в Мадриде» (Глинка), «Щелкунчик» (Чайковский) и не получившие сценического осуществления «Тамара» (Балакирев), «Хризис» (Глиэр)489. Заканчивается этот цикл хореоработ Горского, созвучных с симфоническим характером музыки, танцевальной интермедией Моцарта «Les petits rien»490.
Необходимо заметить, что Горский, как правило, не стремится ни к передаче формы музыкального произведения, ни к фиксации его ритмов. Он передавал свои субъективные ощущения от слышанной им музыки. Таким образом, эти работы Горского можно рассматривать как импрессионистические импровизации или этюды настроения.
По своей форме «Шубертиана» может быть названа своеобразной четырехчастной хореографической балладой, что особенно подчеркивается ее лирико-эпическим характером. В ней тема народных эпических сказаний об Ундине перемежается с собственно Шубертовскими музыкальным образом Лесного царя. Романтическая фантастика всегда была близка Горскому («Клоринда», «Эсмеральда», «Жизель», «Нур и Анитра», «Саламбо»). С годами он, все больше и больше удаляясь от сентиментальности, углублялся в ирреальный мир мечтаний и грез («Эвника», «Шубертиана», «Хризис», «Тамара», «Пир короля», «Шопениана», 3-я сюита).
Танцы «Шубертианы» имели классическую основу. Стиль оформления приближался к раннему итальянскому Возрождению. Впрочем, покрой костюмов не мог бы быть присвоен ни определенной эпохе, ни какой-либо народности.
Балет этот, очень высоко расцениваемый самим постановщиком491, вызвал разноречивую критику, особенно среди музыкантов, часть которых осуждала Горского за вольность в обращении с классической музыкой и несоответствие сценического действия с характером и ритмом музыкального сопровождения. Указывалось между прочим, что «Marche militaire» («Военный марш») с его подчеркнуто танцевальным ритмом послужил аккомпанементом для мимической сцены492.
Постановка «Любовь быстра!» должна рассматриваться как дань запоздалого увлечения балетмейстера бывшего модным в начале века [искусством] «скандинавского модернизма». Хореография «Любовь быстра!», довольно грубоватая и безвкусная, приближалась к жанру так называемых танцевальных лубков-миниатюр. Не 115 всегда поэтому танцевальные образы этого балета могли находиться в гармонии с музыкой, самим композитором помещаемой в разряд симфонической.
В музыкальной партитуре угрюмая суровость чередуется с улыбчатой веселостью, искренней и правдивой, не допускающей ни манерности, ни навязчивой слащавости. Вносило фальшивые интонации утрирование ставшего трафаретным «северного» стиля движений: пятки врозь, носки внутрь, утиная походка, неуклюжесть и акцентированная развязность жестов.
Музыкальные образы, созданные в «Симфонических танцах» Григом, были намного сочнее, ярче и монументальнее, чем танцевальные образы Горского. Музыкальное восприятие балета было намного сильнее хореографического. Плохо помог здесь Горскому и Коровин, давший нейтральный по краскам и безразличный по настроению, шаблонно-балетный эскиз «берега моря».
В стихотворном либретто этого балета, написанном Горским в грузной форме восьмистопного хорея, нет тех неприятных недочетов, которые наблюдались в его инсценировке493. Правда, оно, так же как и другие стихотворные опыты Горского, не имело особенных поэтических достоинств. Но тон его и настроение близки эпической простоте музыки Грига.
Ряд дивертисментных номеров объединен был Горским единой темой в «Карнавале», в котором прошли перед зрителем различные танцующие маски. Чтобы подчеркнуть единую художественную мысль, положенную в основу этого дивертисмента, Коровиным была написана новая декорация улицы итальянского городка.
В конце сезона 1913/14 года Горский поставил «Вакханалию» в опере «Тангейзер». Сделана она была в совсем необычной для оперной сцены свободной манере. Строго размеренное хореодействие происходило одновременно на нескольких танцевальных площадках Грота Венеры, поднимающегося уступами в глубину. Преимущество нескольких сценических планов для оживления композиции сказалось в ряде крепко запечатлевшихся в сознании зрителя скульптурных групп и пластических эпизодов, гармонично сливающихся с музыкальной тканью увертюры Вагнера. Кроме «Трех граций», движения которых трактованы были Горским в стиле классической хореографии, остальные детали картины были разрешены пластически, отнюдь не снижаясь при этом до стиля шаблонно оперных вакханалий494. Такую дешевую, академически пошлую вакханалию с зажженными курильницами, кушетками и падающими с колосников бумажными цветами можно было видеть в опере «Нерон» в 1907 году495. Это была одна из ошибок А. А., основанная на недостаточно критическом отношении к окружающей его хореографию обстановке, к неумению иногда ориентироваться в [сценической] среде.
Весною 1914 года Горский совершил большую заграничную поездку. Он побывал во Франции, Англии, Италии, Испании. Начавшаяся война принудила его вернуться.
В ноябре этого же года Горским были показаны «Половецкие пляски» в «Князе Игоре» (художник Коровин), впоследствии повторенные в 1920 году, но уже в обрамлении подновленных и сборных декораций. Эти пляски, несмотря на то что они были очень эффектны, прошли малозамеченными. Отсутствие оргиастической стихийности, составлявшей природу этой пляски в фокинской ее интерпретации, сделало «Половецкий стан» Горского пресным и менее ярким произведением в ряду других его первоклассных работ этого периода496.
116 14 декабря 1914 года состоялось возобновление «Конька-Горбунка». Этот спектакль явился юбилеем А. А. Горского в связи с его двадцатипятилетним пребыванием на балетной сцене (1889 – 1914).
Публичного чествования А. А. не состоялось. Военная обстановка также не способствовала тому, чтобы бенефис Горского получил в театральных кругах более громкий резонанс497.
Тем не менее, в этот день Горского вспоминали многие, в том числе А. К. Глазунов, В. И. Немирович-Данченко, Н. А. Попов, П. А. Оленин, О. О. Садовская498.
Среди приветствий, полученных А. А., обращало на себя внимание поднесенное артистом балета В. А. Рябцевым, который в остроумной стихотворной форме перечислял основные работы юбиляра-балетмейстера. Последняя строфа обращения Рябцева ярко характеризует Горского как художника — идеалиста-романтика:
… Осенних листьев смутный
хоровод…
Не так ли дни мелькали перед нами?
Но неизменно ты, как Дон Кихот,
Служил мечте — своей прекрасной даме499.
В возобновленном «Коньке-Горбунке» Горский переставил I-й акт, показав в нем две жанровые танцевальные сцены: базар в деревне и в городе. Pas de deux (музыка П. И. Чайковского) на дне моря он заменил новым pas de trois — «Океан и две жемчужины»500.
В перегруженном танцевальным материалом «Коньке-Горбунке» танец жемчужин, являясь всего лишь хореографическим эпизодом, занимает чуть ли не первое место. «Жемчужины» имеют строго законченную композиционную форму. Классическому трио Горский сумел придать живой и непосредственный характер, отнюдь не снижая качество хореографии.
Новым явился и татарский танец (музыка Золотаренко), пришедший на смену венгерскому танцу Брамса501.
В тяжелые для России дни военных поражений Горский остается верен себе, «служа мечте — своей прекрасной даме». Кроме создания нескольких танцевальных номеров, вошедших в цикл «Танцев народов», Горский ничем не проявил своего отношения к происходящим грозовым событиям. Среди «Танцев народов» особенно выделялся [«Гений Бельгии»], исполняемый Е. В. Гельцер с волнующей экспрессией и присущей ей особенной концентрацией энергии502.
В течение сезона 1915/16 гг. Горский успевает дать два новых хореографических произведения: «Эвника и Петроний» и «5-я симфония» (муз. Глазунова). Принадлежа к серии античных реминисценций балетмейстера, оба они стилистически близки вакханалиям Горского.
«Эвника и Петроний» — балет в 2-х действиях, сочинен на музыку Шопена, аранжированную и оркестрованную А. Ф. Арендсом. Был он показан 8/XI 1915 года в традиционный день бенефиса кордебалета. «Эвника» давалась обычно вместе с большим сборным дивертисментом. Новые декорации для «Эвники» написаны были Ф. А. Лавдовским и Б. О. Вороновым-Гейкблюмом в обычной для усвоенной тогда Большим театром импрессионистической манере503. Подражая К. А. Коровину, 117 новые художники504 в этом балете не внесли никаких изменений в композицию сценической площадки, которая оставалась такой же ординарной, как в других балетах Горского — Коровина. Несмотря на античный характер всей пьесы, Горский сохранил для танцев в «Эвнике» элементы классической хореографии (пальцы), которая удачно сочеталась Горским с чисто пластическими формами танцевальных движений. «Эвника», так же как и «Саламбо», принадлежит к тем балетам, о которых Горский писал, что в них «традиции балерины сказались очень сильно». В самом деле, «Эвника» — это балет для балерины, в котором она, так же как и в «Саламбо», ведущая фигура спектакля. Оба балета создавались балетмейстером для В. А. Каралли, тонкое сценическое дарование которой Горский ставил очень высоко. Однако по установившейся практике первые спектакли этих балетов вела Е. В. Гельцер, с желаниями которой балетмейстер должен был считаться505.
В «Эвнике» сюжет раскрывается в пантомиме, так же как и средствами танцевального искусства. В этом последнем тоне предсмертный танец Эвники (этюд [ля минор, Op. 25. № 4]506) по своему драматическому напряжению должен быть отмечен как одно из наиболее сильных произведений Горского.
По поводу приспособления музыки Шопена к интерпретации темы «Эвника и Петроний» мы находим запись А. А. Горского в его альбоме рисунков. Вот что он пишет:
«Почему я для балета “Эвника и Петроний” выбрал музыку Шопена? Что общего между древним Римом и мелодиями Шопена — пастушечьей свирелью и фортепьяно? Дорогие друзья! Изображая чудную поэму любви Эвники и Петрония, полную беспредельной ласки; изображая дом Петрония, насыщенный запахами фиалок, полный красоты и изящества; изображая прекрасные, полные возвышенности и благородства чувства таких же людей, как и мы, хотя и закутанных в тоги, — чьи же мелодии взять для сопровождения — разве в музыке Шопена не чувствуется все это? Я говорю — да! В ней все это чувствуется!
Я не археолог и не гробокопатель и из бездушных кусков не склеиваю бездушных ваз. В бездушных изображениях я только угадываю дух красоты, претворяя в своем я — дух красоты, не опошленный кривляниями пьяных сатиров и непристойными движениями разнузданных вакханок под дикую первобытную музыку древнего Рима.
А. Горский
8 ноября 1915 г.
Москва»507.
В «5-й симфонии» Глазунова сюжет только намечен. Античная поэтика, как мы видели, всегда была близка Горскому. «5-я симфония» — это поэма античной радости, пластически передающая сменяющиеся настроения симфонии Глазунова508. Однако Горский далек от мысли ритмически или танцевально интерпретировать ее симфоническую форму. Точно так же остаются вне внимания Горского мелодические перипетии и тематические коллизии симфонии, никакой хореографической фиксации они не подвергаются. Этот композиционный тезис [принцип] Горского подтверждается, между прочим, и тем, что балетмейстер берет лишь три части симфонии, отказываясь от первой, что было бы совершенно недопустимо, 118 если бы постановщик увязывал движение с мелодическим, звуковым строем музыкальной пьесы. Горский довольно близко подходит к передаче прозрачно-светлого тона и эпически спокойного настроения, присущего характеру музыки Глазунова. Живописные приемы постановщика здесь опять первенствуют над графичностью и линейностью композиции. «5-я симфония» показывается Горским как большое по масштабу, импрессионистически написанное панно.
К этой своей работе Горский пытался возвращаться еще позднее, чтобы заново проредактировать ее509.
Появление балета «Баядерка» в революционные дни ломки старинных устоев общественно-политической жизни России во многом совпадает по своему значению для искусства русского театра с постановкой «Маскарада» (худ. А. Я. Головин510) на Александринской сцене.
Оба эти спектакля подводят некоторый итог художественного пути, проделанного театром в новом, XX веке. Оба они говорят о замечательных формальных достижениях драматического и балетного искусства. Оба они поражают своей изысканной внешностью, оставляя совершенно в стороне сущность, содержание, социальную значимость, идейную направленность театрального искусства. Оба эти спектакля, являясь наиболее художественно завершенными работами крупнейших мастеров декорационной живописи Головина и Коровина, дожили до наших дней как непревзойденные памятники своей эпохи, как произведения редкой живописной техники и большой театральной культуры. Однако их режиссерская трактовка не может считаться равноценной с их декорационным обрамлением. Как в «Маскараде», так и в «Баядерке», выхолощена была романтическая душа этих произведений. На первое место выдвигалась проблема красивой развлекательности. Остро-романтическая тема явилась лишь поводом для «великолепного спектакля».
В «Баядерке», данной 9 марта 1917 года, в бенефис кордебалета, мы наблюдаем отказ или, вернее, забвение провозглашенного балетмейстером лозунга служения правде искусства.
На протяжении всей постановочной деятельности Горского обе части его эстетической формы «искания Правды и Красоты» в искусстве взаимно один другой дополняли и, что особенно важно, редко вступали между собой в единоборство, дружелюбно уступая друг другу место. И в «Баядерке» драматическая «правда» робко скрывалась за «красотой» хореографии Горского.
Вопреки сценической логике мы обнаруживаем центральное место хореодействия «Баядерки» не совпадающим с его драматической сюжетной кульминацией (по Худекову — Петипа идущей crescendo к концу балета), а в чисто формальном моменте спектакля — в большом танцевальном allegro кордебалета (III-й акт), которое по своим хореографическим, ритмическим и живописно-композиционным достоинствам бесспорно должно быть признано одной из лучших работ Горского этого плана.
Декорация этого же III-го акта, сделанная Коровиным с предельной силой концентрации творческой воли, по интенсивности цвета, изысканности красочной гаммы и колориту (зеленый, белый, синий, черный), по силе света и своеобразной оригинальности формы стилизованных костюмов, детально разработанных и строго скоординированных с графикой танцевальных движений, должна быть 119 отнесена к наиболее совершенному из всего того, что было написано этим художником для балетной сцены.
Постановка «Баядерки» повторяла давно известные классическому балету мотивы grand spectacle М. И. Петипа, от которых она, впрочем, выгодно отличалась легкостью своей фактуры и, как всегда у Горского, — более живым ритмом. Несколько изменилась программа танца — [она] приобрела у Горского большую стройность. Однако, как и в других балетах старого репертуара, идея драматургического произведения отодвигалась им на второй план, заслоняясь чисто внешними моментами постановки.
Старая «Баядерка» была овеяна лучшими традициями романтического театра, следовать которым призывал Петипа его сценарист С. Н. Худеков. Новая «Баядерка», лишенная Горским финальной картины «Возмездия»511, — отдавала танцевальной стихии господство над «правдой человеческих страстей» балетного театра Дидло — Перро.
Вряд ли поэтому А. Левинсон мог бы написать по поводу новой «Баядерки» то, что некогда писал о стиле Горского-постановщика:
«Реформа Горского заключается в посильном сокращении классических па, им принципиально отвергаемых в драматизации действия, и в преобладании этнографического духа. В последней области Горский является мастером, но примитивный и узкий рационализм его общих концепций имеет чисто отрицательное значение. Суетное и наивное желание мотивировать каждое движение танца свидетельствует об абсолютном непонимании внепсихологического значения балета. Этому балетмейстеру не дают спать лавры драматических режиссеров-натуралистов. Во всем чувствуется сдвиг в сторону драмы, и драмы вчерашнего дня»512.
«Дальнейший шаг к преобразованию балета в обстановочную драму в мейнингенском стиле — это сокращение элементов классической хореографии…»513.
Мы видим теперь, что предсказания Левинсона не оправдались. Горский не пошел за мейнингенцами и не стал на позицию отрицания классических элементов танца.
Натуралистические тенденции, о которых пишет Левинсон, обнаружились впервые у Горского в «Дочери Гудулы» и являлись следствием ранних эстетических мировоззрений молодого и недостаточно опытного балетмейстера.
Кроме «Дочери Гудулы» натуралистические ощущения могли возникать у зрителя только в тех балетах, в которых с особенной силой могло проявляться незаурядное актерское мастерство С. В. Федоровой, М. М. Мордкина и В. А. Рябцева.
Так, глубоко вдумчивая реалистическая игра С. В. Федоровой и резко очерченный В. А. Рябцевым образ шута в «Золотой рыбке» могли восприниматься на фоне общей иллюзорности как проявления натуралистических тенденций постановщика.
В «Жизели» артистический темперамент Мордкина в любовных сценах с Каралли — Жизелью (особенно во II-м акте) увлекал его за пределы реалистического толкования спектакля в сторону натуралистической драмы514.
В равной мере Коппелиус в исполнении В. А. Рябцева заставлял зрителя по-новому взглянуть на значимость балетного искусства515.
Таким образом, Горскому можно поставить в вину только то, что он всемерно поощрял и раскрывал не обойденные артистически индивидуальности, стремясь 120 к очеловечению балетных образов, к оживлению балетного искусства, к приобщению его к серьезным театральным жанрам.
Удалив из либретто «Баядерки» тему возмездия, Горский приблизил этот балет к современным мироощущениям зрителя, но в то же время лишает его остроты драматических ситуаций516.
Вызывает некоторое недоумение отношение Горского к либретто старых балетов, им возобновляемых. Переделывая весь их хореографический текст, он никогда не вносил исправлений в их либретто, не только не желая давать им более реальную или правдивую обработку, но даже отказывая им в элементарной сценической логике. Начиная прологом балеты «Дон Кихот» и «Дочь фараона», неизвестно почему Горский отказывается показать их эпилоги и тем самым логично завершить сценическое действие. При полной перестановке «Щелкунчика» не коснулась рука балетного режиссера-рационализатора малоубедительной редакции финала этого балета. Между тем, если обратиться к собственным оригинальным работам Горского, то там мы обнаружим вполне закономерное и последовательное построение сюжета. Мы видим также, что его симфонические танцевальные опусы не лишены тематической ясности и не являются лишь эстетической абстракцией.
Влад. Королевич писал тогда же17* о спектакле «Баядерки», что «классический балет, несмотря на новые веяния в хореографии (Дункан, Фокин), оставался и после прекрасно поставленной “Баядерки” у разбитого корыта старого балетного искусства»517.
Новых горизонтов в искусстве балета «Баядерка», конечно, не открывала. Но она явилась поводом для Горского показать, какие безграничные возможности еще таило в себе старое искусство балета. В ней, обогащенная творческой изобретательностью мастера, ожила классическая форма танца.
Для московского балета постановка «Баядерки» не была абсолютно новой. Горский уже ставил этот балет по программе Петипа в 1904 году518. Затем «Баядерка» была им поставлена в 1908 году в совсем переработанном виде519. Горский согласился показать ее тогда в сборных декорациях. Таким образом, им была допущена та же ошибка, которая стала фатальной для его «Нур и Анитры». Новая хореография, окруженная совсем чуждой ей по духу театральной средой, выглядела чахлым тепличным цветком, наивным и жалким. Успеха она не имела. Во время работы Горского над «Баядеркой» 1917 года у него произошел инцидент, имевший крупные последствия. Горский вместе с Коровиным решили показать последний акт в виде «индусского рая», используя для костюмов теней баядерок старинные восточные миниатюры-лубки. Удлиненная форма этих костюмов, несколько непривычная и не совсем подходящая для классических танцев, отяжеляя их движения, была неодобрительно встречена Е. В. Гельцер и В. Д. Тихомировым. Дирекция театра предложила Горскому переделать этот акт, облегчив костюмы и стиль движения танцев. Горский отказался. Тогда картину «Теней» переставил Тихомиров, сохранив для нее в основном прежний петербургский план М. И. Петипа520. Поэтому некоторое отсутствие цельности в стиле постановки «Баядерки» является следствием 121 соединения в одном спектакле разных по эстетическим мировоззрениям художников-постановщиков (Петипа — Горский — Тихомиров).
Горский сохранил в танцевальной программе «Баядерки», так же как он это делал при возобновлении и других старых балетов Петипа, некоторые его номера, ставшие классическими, эстетические достоинства которых Горский признавал и расценивал высоко. Это были «Джампэ» — танец баядерок; «Ману» — танец девушки с кувшином на голове в сопровождении двух девочек — воспитанниц балетной школы; индусский танец — динамичный и темпераментный, имевший во все времена сценической жизни «Баядерки» шумный успех. Между тем автор этих танцев — М. И. Петипа — в афише спектакля указан не был. Об этом [в других случаях] подробно пишут в своих мемуарах и сам Петипа, и В. А. Теляковский. Конечно, зная Горского как деликатного, чуткого и воспитанного человека, трудно допустить у него наличие злой воли или агрессивной недоброжелательности в игнорировании авторства Петипа. Будет более правильным предположить, что «фантаст» и «мечтатель» Горский старался уклоняться от всего того, что заставляло его соприкасаться с «прозой жизни». А таковой для него, бесспорно, являлись всякие переговоры и объяснения с конторой театров.
Если бы Петипа, игнорировавший процесс эволюции театрального искусства, внимательно пригляделся бы к тому, как переставляет Горский его балеты, он убедился бы в том, что московский балетмейстер заимствует у него лишь тему балетов. Для Горского темы балетов Петипа и прочих классиков являлись не более как поводами для создания ряда живописных хореографических картин разных стилей: испанского («Дон Кихот»), русского («Конек-Горбунок» и «Золотая рыбка»), египетского («Дочь фараона»), романтического («Раймонда», «Лебединое озеро», «Волшебное зеркало»), восточного («Баядерка»). В этом и сказалась стилизаторская сущность реформы Горского.
В балетном театре нарушение авторского права всегда составляло как бы «традицию». Поскольку до сих пор нет точного метода фиксации балетного спектакля, он представляет собой целый ряд наслоений творческой фантазии нескольких поколений балетмейстеров. Многое переделывается и переставляется исполнительницами ведущих партий применительно к характеру их дарования. Петипа в «Корсара» Мазилье вставил «Оживленный сад», в «Эсмеральду» Перро — pas de six (музыка Дриго). Сам Петипа пишет в своих воспоминаниях, как он обошел запрещение Перро танцевать сочиненный им танец и как суд оправдал его521.
[Из черновиков]522
Наступил октябрь 1917 года. Горский очень искренно приветствует приход власти Советов. Он полон желания работать с ними. Действительно, Горский принимает весьма активное участие в преобразовании балета Большого театра, в делах его школы. При ближайшем участии Горского составляется проект нового положения об управлении балетом и школой. По его инициативе при театре намечается к открытию студия для совершенствования методики и для режиссерских экспериментов523.
Сезон 1917/1918 гг. прошел без новых балетных постановок.
122 [Из подготовительных материалов.
Черновик письма А. А. Горского Е. К. Малиновской
24 марта 1919 г.]524
Очень извиняюсь за письмо, хотел сегодня быть у Вас лично, но вчера прихворнул и сегодня боюсь выходить на воздух. А поговорить с Вами есть о чем, и я давно собирался. Первое — это, конечно, театр студии, за который нам очень попадает от приверженцев старого, и по первым спектаклям, конечно, они правы, но сразу начать новое мы не могли. Сейчас мы приготовили новый спектакль, если и не совсем студийного характера, то все же довольно близко, а именно «Эвника и Петроний» с исполнителями, которые не выступали в Большом театре. Но, к несчастью, наше интересное дело застопорилось и уже третью неделю не можем его дать. Опускаются руки, и думается, что говорить о хорошей музыке легко, а провести ее трудно. Хорошая музыка требует тщательной отделки и срепетовки [с оркестром?], а хорошие пьесы требуют обстановки [так же как] работа с [балетной] молодежью — многих репетиций. Теперь все это наладилось, и после «Эвники» предполагаем дать «Тамару» Балакирева, «5-ю симфонию» Глазунова, «3-ю сюиту» Чайковского525, но все эти пьесы требуют любовного отношения, а его я в Советах театра не вижу, не видят его и артисты, которые, несмотря на экивоки со стороны некоторых членов труппы (не хочу их называть), пошли за нами и работают, а спектакля дать мы не можем, и нет уверенности в нас, в том, что в будущем на нас будут смотреть не как на самозваных пришельцев и рыб, бьющихся об лед, а как на добросовестных работников с законным делом. И я обращаюсь к Вам с просьбой помочь нам и поддержать нас в этом деле своим участием, добрым словом и даже разрешением расходов, главным образом по декоративной части. Думаю, что должны быть привлечены и молодые художники, хотя бы из бывших строгановцев, там был специальный декоративный класс. У нас нет знакомства, мы нигде не бываем, нет времени, да и негде теперь встретиться: кафе нам не по средствам — сидим без хлеба. Простите, что я так просто пишу Вам, как думаю.
Вам, наверно, странно, что я пишу Вам, а не говорю в Совете526, но я не умею говорить как оратор, а потом там опера, опера и опера, и всякое хозяйственное, и добраться до дел художественных, до дел сцены там трудно, а может быть, и невозможно. Я не жалуюсь на Совет, избави Бог, но мне обидно до глубины души за сцену, за то, что делается на ней и для чего, в сущности, и существует все остальное. Я пробовал говорить, но ничего из этого не выходило, я и перестал. Сейчас делаю, что могу. Ушел в интересную для меня работу. Но мне уже жаль и артистов, как, например, Адамович, потративших силы и не могущих их проявить, и проявить должным образом спокойно, так и себя, ибо боюсь, что наше новое дело не то что погибнет, а зачахнет, как чахнут у нас многие начинания не рутинерского направления. Мы умеем только работать, любя искусство, желая ему всего нового, и не умеем разговаривать. И тут нужна Ваша помощь, а мы на нее ответим еще более интенсивной и новой работой. Нужны и музыкальные силы, какие-то вечера, где молодые композиторы могли бы проявить себя, а мы с ними знакомиться, а то ведь нам наговорили много, выругали нас, как только могли, мы, развесив уши, слушали, но дальше этого не пошло, ибо достать этого ничего нельзя, и на пороге нового 123 сезона сидим опять у нашего старого разбитого корыта527. Реально нового ничего. Очень, очень печально.
Теперь о Большом театре. По наведенным мною справкам, музыкальный материал «Красных масок» и к 1 мая готов быть не может. Во вторник я получу точные сведения и сообщу Вам. «Жар-птицы»528 наполовину материал есть, а наполовину нужно искать, и это тоже займет время не менее месяца со дня заказа, который еще не сделан, так как мне не доставили сметы. Вероятно, во вторник я получу и ее. Голейзовский вчера жаловался мне на предубеждение к его постановке труппы, но я ему советовал не обращать внимания. Я это все испытал, когда мне удавалось проводить что-нибудь свое. Но он нервничает. Легат очень беспокоится о своей работе529, а я не знаю, что ему сказать. Для меня очевидно, что все намеченное выполнено быть не может, и мне очень нужно знать Ваше об этом мнение. На последнем совещании было высказано мнение, что с монтировочной стороны может быть реализован «Щелкунчик» к 15 апреля530, а затем все силы будут напряжены для «Красных масок»531. Я думаю, что можно еще провести и «Пир короля» (не для меня, а для композитора, который уже пять лет ждет увидеть на сцене свое произведение532). Арапов533 показывал мне эскиз, который мне в общем понравился, за некоторыми несущественными изменениями. Правда, это не Бакст, Бенуа, Добужинский534 и т. п., нет смелости размаха, но привлечь тех, очевидно, трудно. Вот почему я прошу Вас привлечь к работе в Студии художников-молодежь. Может быть, и среди них окажутся талантливые, ведь проявлять себя в декоративной живописи можно только в театре при всех условиях представления. Вы говорили Легату о Студии, но он, конечно, просит дать ему проявить себя в Большом театре, и я не знаю, что ему отвечать и назначать ли репетиции. Он представил состав участвующих для большой сцены, который для сцены Студии, конечно, не годится.
Сегодня в Совете будет поднят вопрос о дальнейших гастролях Гельцер и лишних спектаклях против контрактных для Балашовой. Мое мнение таково: Балашовой, конечно, спектакли нужно продлить и оплачивать их так же, как Гельцер.
Без Гельцер обойтись можно — а может быть, и нужно, иначе для молодежи дорога опять будут закрыта535. В Комитете балета536, где обсуждался уже этот вопрос, я, каюсь, голоса своего не поднимал, ибо в присутствии ее мужа Тихомирова это делать без скандала почти невозможно, тем более, что это мое личное мнение; большинство за приглашение обеих.
После совещания Балета с музыкальными деятелями, которое, к сожалению, никак не удается повторить, я получил письмо от Ипполитова-Иванова537. Он написал балет «Барсова кожа» на сюжет грузинского поэта Шота Руставели. Я думаю, что это произведение следует прослушать. Поэма дает яркий этнографический образчик Востока, а, насколько я знаю, Ипполитов-Иванов хорошо знает мелодии Кавказа538, так как то, что он уже дал, — прекрасно. Прибавляю здесь его требования к балету:
а) умно разработанный сюжет,
б) красота пластических движений,
в) точная этнографичность,
г) хорошая музыка, написанная настоящим композитором, а не полумузыкантами вроде Минкуса и Пуни.
124 В сущности то же, что и наша группа говорила прошлой весной, от которой остался один я. Между прочим, он упоминает еще, что музыка балета должна быть смешанного типа: симфонического и танцевального, но требование серьезной музыки не должно переходить в скуку и должно действовать на душу и воображение. Я думаю, что это ближе подходит к симфонической и даже беспрограммной музыке.
Теперь я хочу поговорить о себе в этом сезоне. На сегодня я все выполнил то, о чем говорил весной539, несмотря на все трудности и потери времени в Советской работе, и мне очень хотелось бы знать мое будущее и, по возможности, ранее540. Лично мне, конечно, хочется работать, но работать то, к чему лежит душа. За 18 лет работы я сделал только 6 пьес, которые были моими, и только 4, в которых традиции балерины мне совсем не мешали.
Эти пьесы 4:
«Эсмеральда»
«Шубертиана»
«5-я симфония» Глазунова
«Любовь бы[стра!]»
В остальных двух традиция сказывалась очень сильно. Это «Саламбо» и «Эвника», которая сделана мною теперь заново для Студии.
Мне хотелось бы работать в Большом театре, но только как художник, вне всяких административных работ, которые мешают выявлению, отнимая время, ни к чему не приводя. Хотелось бы работать в условиях покоя, возможного с теми, кто пойдет за мною. Предоставьте мне также возможность работать в Студии, но в Студии оборудованной, где будет возможность серьезной работы с молодежью, чтоб это были не случайные выступления в истрепанных балетах, а новых исканиях правды и красоты. Традиции б[алеринского?] балета еще живут и душат, борьба не закончена, но я хотел бы бороться только на сцене, а не в словесных спорах, диспутах, где, конечно, сильнее тот, кто говорит. Но, верьте мне, дело от разговора далеко, и красиво или, вернее, вовремя сказанное не значит сделанное.
А. Горский
125 Комментарии
Вступительная статья
1 Римский-Корсаков Г. А. Моим детям. Цит. по: П. И. Чайковский — Н. Ф. фон Мекк: Переписка: В 4 т. / Сост., науч.-текстол. ред., коммент. П. Е. Вайдман. Челябинск, 2007. Т. 1. С. 555.
2 Как вспоминал Г. А. Римский-Корсаков, это произошло при деятельной поддержке директора Дома-музея П. И. Чайковского в Клину Н. Т. Жегина.
3 См.: Римский-Корсаков Г. А. Н. Ф. фон Мекк и ее семья // П. И. Чайковский — Н. Ф. фон Мекк: Переписка. Т. 1. С. 575.
4 Там же. С. 477.
5 В 1937 – 1939 гг. были, например, приобретены мемуары И. Ф. Кшесинского и летопись петербургского балета за 1899 – 1913 гг. Н. И. Носилова. См.: Кшесинский И. Ф. Несколько выписок из моих мемуаров, соприкасающихся с воспоминаниями о Мариусе Петипа. Кн. I. Маш. — ГЦТМ. Ф. 134. Оп. 1. Ед. хр. 2. КП 91615. (Запись в книге поступлений: «Куплено у И. Ф. Кшесинского. Акт № 378 от 25/II 1937 г.»). Сведений о том, когда и как попала в ГЦТМ вторая книга мемуаров Кшесинского (ГЦТМ. Ф. 134. Оп. 1. Ед. хр. 3. КП 137480), носящая заголовок «Мемуары з. а. Республики, солиста Ленинградского академического балета И. Ф. Кшесинского», не найдено. Носилов Н. И. Летопись петербургского балета. 1899 – 1917. — ГЦТМ. Ф. 532. Ед. хр. 60. КП 176000. (Запись в книге поступлений от 17 января 1940 г.: «Приобретено у автора 21/VIII 1939 г. Вторичная присылка по почте из Ленинграда».)
6 Слонимский Ю. И. Мастера балета. Л., 1937.
7 Очевидно, Г. А. Римский-Корсаков и Ю. И. Слонимский были лично знакомы, поскольку Слонимский работал с материалами архива Петипа в ГЦТМ.
8 См.: Римский-Корсаков Г. А. Критический разбор книги Ю. И. Слонимского «Мастера балета». Маш. — ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 25; Он же. Чайковский, Петипа и др. Маш. — ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 26.
9 См.: Римский-Корсаков А. Г. Из архива семьи // П. И. Чайковский — Н. Ф. фон Мекк. Переписка. Т. 1. С. 487. Черновик этого письма датирован А. Г. Римским-Корсаковым ноябрем 1960 г., речь в нем идет о рукописи «Н. Ф. фон Мекк и ее семья».
10 Обширные материалы семейного архива Корсаковых, опубликованные в первом томе переиздания переписки П. И. Чайковского и Н. Ф. фон Мекк (см.: Римский-Корсаков А. Г. Из архива семьи // П. И. Чайковский — Н. Ф. фон Мекк. Переписка. Т. 1) доказывают, что Г. А. Римский-Корсаков отдал в ГЦТМ сокращенный вариант воспоминаний, очевидно, рассчитывая на публикацию. В частности, в машинописи ГЦТМ отсутствует пассаж о том, что отец автора, А. А. Римский-Корсаков, ухаживал за балериной В. А. Трефиловой и готов был драться из-за нее на дуэли с С. Н. Худековым (Там же. С. 479, ссылка 116). См. также запись в дневнике М. И. Петипа от 13 января 1904 г.: «Худекова отлупил палкой тот, кто сейчас с Трефиловой. Браво!» (Мариус Петипа: Материалы. Воспоминания. Статьи / Сост. и примеч. А. Нехендзи; предисл. Ю. И. Слонимский. Л., 1971. С. 90). Главы об оперном театре и о любительских спектаклях, которые устраивала в Петербурге и Волочаново мать автора, С. К. фон Мекк, менее подробны и красочны, чем в вариантах, оставшихся в семейном архиве (Там же. С. 465 – 467). У комментариев к «Запискам…» — двойная функция. В них частью вынесены полемические статьи 126 самого автора, но иногда спрятаны целиком «неблагонадежные» документы, например воспоминания В. С. Гадона, состоявшего в свите императрицы Марии Федоровны и репрессированного в 1937 г.
11 См.: Блок Л. Д. По поводу возобновления «Лебединого озера» // Классический танец и современность: Сб. / Вступ. статья В. Гаевского. М., 1987. В этой статье, написанной в 1932 г., Блок писала: «… второй акт “Лебединого”, такой, как он есть, во всем его мощном театральном воздействии, — органическое целое, не поддающееся анатомированию без риска убийства», но найти среди современных авангардистов «художника, мыслящего простодушно и бесхитростно, как мыслил театр девяностых годов, — дело заведомо невозможное» (Там же. С. 440). Вынашивавший планы постановки «Пиковой дамы» П. И. Чайковского Вл. И. Немирович-Данченко, споря с трактовкой Мейерхольда (1935), писал: «В конце концов после многолетних дум я предпочитаю всецело базироваться на Чайковском — постольку с Пушкиным, поскольку Пушкин у Чайковского остался. <…> Что Чайковский упорно несся к Пушкину, борясь со своим братом, — считаю решительно неправдой. Этим хотят оправдать себя, якобы возвышая Чайковского. И валят на невооруженного славой Модеста. Братья, конечно, сговаривались, Пушкиным они пользовались для большого оперного спектакля в Мариинском театре, для Фигнера, для Медеи, для Яковлева, для театра, руководимого Всеволожским, для “Двора” Александра Третьего, где, в особенности в женской половине, Чайковский был любимейшим композитором. Мои личные воспоминания и об этой театральной эпохе и о встречах с обоими Чайковскими непоколебимо убеждают меня в этом. Пушкинский рассказ был только “сюжетом”, скелетом фабулы. Хотелось композитору нарисовать и Летний сад, и дать детский хор (легкий зуд от любимой им “Кармен”), и интермедию (Всеволожский сам рисовал эскизы), и надо было написать большую партию Медее Фигнер, и вывести петербургский свет, и лейб-гвардейцев с их квартирами в казармах и пр., и пр. Никакой узды Пушкина братья не чувствовали. Да, конечно, композитор находил вдохновение во многих страницах рассказа, в его напряженности, в драматизме. Но стихийно это переносилось в другую атмосферу. Драма сочинялась Модестом без глубокой проникновенности в Пушкина.
Я никогда не мог отделаться от ощущения громадной духовно-художественной связи “Пиковой дамы” с Петербургом эпохи Александра III, — поскольку эта эпоха отражалась при императорском оперном театре — дирекции Всеволожского» (Музей МХАТ. Н.-Д. № 177/2).
12 См.: ГЦТМ. Ф. 134. Оп. 1. Ед. хр. 2 и 3. Мемуары написаны в 1936 г., приобретены ГЦТМ в 1937 г. См. также коммент. 256.
14 Римский-Корсаков Г. А. Творчество Горского. Доклад и прения по докладу. 25 мая 1939 г. Маш. — ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 5. Л. 28.
15 Римский-Корсаков Г. А. Записка о составе и задачах Балетного коллектива Большого театра под руководством А. А. Горского. Автограф. — ГЦТМ. Ф. 77. Ед. хр. 60.
16 Передавая в ГЦТМ собранные в его архиве документы этого периода, Римский-Корсаков сопроводил их пояснением: «Коллектив нашел сильную поддержку в орг. отделе Рабиса, но принужден был прикончить свою работу после того, как Е. К. Малиновская запретила артистам принимать участие в каких-либо посторонних организациях — “мешающих” творческой работе Большого театра и отвлекающих артистов от их “дела”» (ГЦТМ. Ф. 77. Ед. хр. 60).
17 127 ГЦТМ. Ф. 77. Ед. хр. 197 и 198.
18 Римский-Корсаков Г. А. Моим детям. Цит. по: П. И. Чайковский — Н. Ф. фон Мекк: Переписка. Т. 1. С. 547.
19 См. коммент. 361.
20 См.: Балетмейстер А. А. Горский: Материалы. Воспоминания. Статьи / Сост. и коммент. Е. Суриц, Е. Белова. СПб., 2000. С. 189 – 193. Далее: Горский. 2000.
1
Вопросы к истории
ленинградского балетного театра второй половины XIX в.
21 Автограф. — ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 19.
22 Отношение царей… — «Царями» в конце XIX – начале XX вв. называли всех представителей царской династии, включая великих князей и членов их фамилий.
23 Имеются в виду французские хореографы, коллеги и соперники М. И. Петипа по работе в Императорских театрах, Перро Жюль-Жозеф (1810 – 1892) и Сен-Леон (Saint-Léon) Артюр (наст. имя и фам. Мишель, Шарль Виктор Артюр, 1821 – 1870). Перро работал в России (1848 – 1859), Сен-Леон — в 1859 – 1869 гг.
24 Русские хореографы, работавшие в одно время с Петипа или под его началом на Императорских сценах Петербурга и Москвы: Ширяев Александр Викторович (1867 – 1941) — танцовщик, хореограф, исполнитель и постановщик характерных танцев, в 1901 – 1905 гг. — второй балетмейстер петербургских театров; Иванов Лев Иванович (1834 – 1901) — танцовщик и хореограф, с 1885 по 1901 г. — второй балетмейстер петербургских театров; Богданов Алексей Николаевич (1830 – 1907) — танцовщик и хореограф, с 1860 — режиссер петербургского балета, в 1882 – 1889 гг. — возглавлял московский балет; Хлюстин Иван Николаевич (1882 – 1941) — танцовщик московских театров с 1875 г., балетмейстер — с 1898 г. В 1903 г. уехал за границу. В 1911 – 1914 гг. — балетмейстер Парижской оперы, в 1914 – 1931 работал (с перерывами) в труппе Анны Павловой.
25 Перечислены наиболее влиятельные петербургские балетные критики конца XIX – начала XX в.: Плещеев Александр Алексеевич (1858 – 1944), Скальковский Константин Аполлонович (1843 – 1906), Светлов (наст. фам. Ивченко) Валериан Яковлевич (1860 – 1940); Волынский (наст. фам. Флексер) Аким Львович (1861 – 1926).
26 Перечислены ведущие балерины петербургского и московского балета конца XIX – начала XX вв.: Соколова Евгения Павловна (1850 – 1925) — артистка петербургского балета (1869 – 1886); Брианца Карлотта (1867 – 1930) — итальянская танцовщица, гастролировала на петербургской императорской сцене (1889 – 1891); Никитина Варвара Александровна (1857 – 1920) — артистка петербургского балета (1877 – 1893); Цукки Вирджиния (1847 – 1930) — итальянская танцовщица, выдающаяся мимистка, гастролировала на петербургской императорской сцене (1885 – 1888); Леньяни Пьерина (1863 – 1923) — итальянская танцовщица, в 1893 – 1901 гг. прима-балерина петербургских Императорских театров, первая исполнительница партий Сандрильоны в «Золушке» (в которой впервые на русской сцене выполнила 32 фуэте), Одетты — Одиллии в «Лебедином озере» (1895), Раймонды (1898) и др.; Кшесинская Матильда Феликсовна (1872 – 1971) — артистка петербургского балета с 1890 г., балерина с 1895 г., с 1904 г. — 128 на положении гастролерши, последний раз выступила в Мариинском театре в 1917 г.; Павлова Анна Павловна (Матвеевна) (1881 – 1931) — артистка петербургского балета с 1899 г., с 1906 г. на положении гастролерши, последний раз выступила в Мариинском театре в 1913 г.; Преображенская Ольга Иосифовна (Осиповна) (1871 – 1962) — танцовщица петербургских Императорских театров с 1889 г., с 1896 г. солистка, с 1900 г. балерина, с 1909 г. на положении гастролерши, в 1920 г. оставила сцену; Гельцер Екатерина Васильевна (1876 – 1962) — артистка московского балета с 1894 г. (в 1896 – 1898 выступала в Петербурге), прима-балерина Большого театра, дочь В. Ф. Гельцера.
27 Перечислены артисты и театры, оказавшие глубокое влияние на реформы в русском балете:
… приезд Айседоры Дункан… — Дункан Айседора (1877 – 1927) — американская танцовщица, впервые приехала в Россию в 1904 г., в 1905 – 1913 г. выступала в Москве и Петербурге.
… гастроли русского балета (Дягилев)… — вопрос сформулирован некорректно, Петипа в конце 1900-х почти все время проводил в Крыму и едва ли мог видеть даже первый «Русский сезон» (1909).
Фокин Михаил Михайлович (1880 – 1942) — артист петербургского балета, балетмейстер. В отличие от Горского, к Фокину Петипа относился благосклонно. См: Фокин М. М. Против течения. Л., 1981. С. 91 – 92. Ответ Н. А. Бакеркиной (см. коммент. 30) также это подтверждает.
28 … к системе Степанова. — См. коммент. 378. Заключение М. И. Петипа о работе В. И. Степанова см.: Мариус Петипа: Материалы. Воспоминания. Статьи. С. 121 – 122.
29 По утверждению Ф. В. Лопухова, А. В. Ширяев ставил отдельные характерные танцы (например, чардаш в «Раймонде») «под маркой Петипа» (См.: Лопухов Ф. В. Шестьдесят лет в балете. Л., 1966. С. 85). С этим, вероятно, и связано появление отдельного вопроса о Ширяеве.
30 В фонде Корсакова сохранились ответы Н. А. Бакеркиной (ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 107):
«[Ответы балерины] Н. А. Бакеркиной
[1935 г.]
1) Петипа — классический танцовщик в молодости, позднее — характерный (испанские танцы) и актер на драматические и характерные роли.
2) Превосходный танцовщик-режиссер, создавший эпоху в русской хореографии своими балетами.
3) Исключительный мастер постановки танцев. Его стиль можно видеть по его балетам, идущим в Ленинграде (“Спящая красавица”, 2 д. “Лебединого озера”, “Корсар”, “Баядерка”, “Талисман”, “Жизель” и др.).
4) Преподавать в театральной школе прекратил уже в 80-х гг. Его домашняя ученица — его дочь Мария Мариусовна Петипа.
5) Пользовался общим уважением как талантливый балетмейстер и заслуженный человек.
6) Ученик и последователь Перро, Сен-Леона, с последним успешно соперничал.
7) Кроме вышеуказанных — “Дочь Фараона”, “Царь Кандавл” (называл его “грехом своей молодости”), “Зорайя”, “Дон Кихот”, “Роксана”, “Трильби”, “Дочь снегов” и много других.
8) Неудачны: из старых “Ливанская красавица”, из более поздних “Синяя борода”, “Волшебное зеркало”.
129 9) Пользовался постоянно советами историка и критика Серг. Ник. Худекова. Заимствовал движения у других — артистов и постановщиков.
10) Весь арсенал классических танцев и па.
11) Пользовался помощью Л. И. Иванова и А. В. Ширяева.
Богданов был московским балетмейстером (балет “Светлана”), также и Хлюстин (“Звезды”).
12) Признавал обе школы, отдавая преимущество французской.
13) Ценили, слушались и уважали.
14) За 60 лет пребывания в России изменял свой стиль в зависимости от требования моды.
15) В закулисных [средах] интриги были постоянны, установить об участии в них П. невозможно.
16) Директор театров, Худеков, балетоманы Скальковский, Безобразов и др.
17) Знания — не очень глубокие; если интриговали, то для выдвижения своих пассий.
18) [нет ответа]
19) Относился по заслугам к каждой при постановке для них балетов.
20) Влияние несомненное. [нрзб.] итальянск. фуэте, двойные и тройные туры и т. п. технические трудности.
21) Сам Петипа пропагандировал характерные танцы, в которых сам был мастером танцев. В школе характерного класса не было. Репетировал их Ширяев.
22) Из новых русских композиторов уважал Глазунова, с которым вместе работал; живописью не интересовался (декорац. частью балета ведал директор театра Всеволожский). К Худ. театру Станиславского не имел никакого отношения; Дягилевского балета не видал; Горского не любил, но раннего Фокина ценил.
23) В запись танцев Степановым, Горским и Сергеевым не вмеш[ив]ался.
24) Выше указаны балеты Петипа, сохранившиеся в советском балете. В операх они переработаны другими балетмейстерами.
25) Только по административной линии.
26) Фаворитизм всегда был (напр., Кшесинская).
27) Балетами цари интересовались и одобряли постановки Петипа.
28) Балет “На перепутье” (не успешный) и возобновление старых (напр., “Наяда и рыбак”) и др.
29) Поднятие балета и классического танца на такую высоту, которая создала русскому балету мировую славу, на которой другим оставалось его только поддерживать. Все, что в балете имеется до сего времени, питается его дрожжами. Эпохой Петипа в балете — вся вторая половина XIX века (начиная с балерины Фанни Эльслер) и начало XX века».
Далее следует приписка Г. А. Римского-Корсакова: «Писал Н. И. Носилов под диктовку Н. А. Бакеркиной. В 1935 году Г. А. Корсаков обратился к Бакеркиной с просьбой дать характеристику балету Петипа. Н. А. ответила на заданные ей вопросы» (Там же. Л. 2 об.).
Бакеркина Надежда Алексеевна (1866/9 – 1940) — артистка балетной труппы Большого театра (1886 – 1896) и Мариинского театра (1896 – 1907). См. о ней также коммент. Г. А. Римского-Корсакова № 14 в док. 2 и коммент. публикатора 259, 260.
Ответы Бакеркиной заинтересовали составителей сборника «Мариус Петипа. Материалы. Воспоминания. Статьи» (1971), которые сняли с него копию, но в издание документ включен не был. Одной из причин, по-видимому, было то, что вопросы оставались в личном архиве Г. А. Римского-Корсакова (см.: ОР СПбГТБ. Ф. 22. Оп. 5. Ед. хр. 114).
130 2
Записки петербургского зрителя
31 Машинопись с правкой автора: ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 1.
32 … мои родители… — Римский-Корсаков Алексей Александрович (1860 – 1920) — артиллерист, предводитель дворянства Зубцовского уезда Тверской губернии; фон Мекк (по второму мужу Голицына) Софья Карловна (1867 – 1935) — дочь Н. Ф. фон Мекк.
33 К. Р. — вел. кн. Константин Константинович Романов (1858 – 1915) — член Императорского дома, президент Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1889), поэт, переводчик и драматург.
34 По-видимому, имеется в виду публичное представление «Гамлета» в Императорском Эрмитажном театре, данное 17 февраля 1900 г. С. М. Волконский воспоминал: «Великий князь не имел, при чарующей прелести в жизни, актерских способностей; он на сцене был вял, водянист, с плохим произношением; окружающее было не лучше; в общем, впечатление тоскливое, удручающее» (Волконский С. М. Мои воспоминания: В 2 т. М., 1992. Т. 1. С. 43). Иного мнения держался Н. В. Дризен: «Игра его, нужно признаться, не отличалась техническим совершенством. Для этого, прежде всего, не хватало ему голоса (он был несколько глухого тембра, с ясно выраженным английским акцентом в речи), а затем отсутствовала свобода движений. Впрочем, эти недостатки с лихвой окупались одушевлением царственного артиста. Я думаю, партнерам великого князя было легко с ним играть. Он поражал их вдохновением, увлекал сознательностью переживаемых моментов» (Дризен Н. В. Встречи с К. Р.: (Из воспоминаний) // Исторический вестник. 1915. Т. 142. № 12. С. 816).
35 Юрьев Юрий Михайлович (1872 – 1948) — актер. На Александринской сцене дебютировал 30 августа 1893 г. в пьесе «Недоросль» Д. Фонвизина, исполнив роль Милона. Из другой версии воспоминаний следует, что речь идет не об этом дебюте, а о выступлении Юрьева в «Гамлете», где тот сыграл роль Лаэрта (впервые — 19 ноября 1893 г.) (см.: Римский-Корсаков Г. А. Н. Ф. фон Мекк и ее семья // П. И. Чайковский — Н. Ф. фон Мекк: Переписка. Т. 1. С. 452).
36 Чайковский Модест Ильич (1850 – 1916) — драматург, либреттист, брат композитора.
37 Савина Марья Гавриловна (1854 – 1915) — актриса Александринского театра.
38 Сальвини Томмазо (1829 – 1915) — итальянский трагик, гастролировал в России в 1880, 1882, 1885 и 1900 – 1901 гг. Бернар Сара (1844 – 1923) — французская актриса, гастролировала в России в 1881, 1892 и 1908 г.; Режан (наст. Габриэль-Шарлотт Режю, 1856 – 1920) — французская актриса, гастролировала в России в 1897, 1899, 1901 и 1910 г. Дузе Элеонора (1858 – 1924) — итальянская актриса, гастролировала в России в 1891 – 1892 и 1908 г.
39 Панаева-Карцева Александра Валерьяновна (1853 – 1942) — певица (сопрано), первая исполнительница многих романсов П. И. Чайковского и партии Татьяны Лариной в его опере «Евгений Онегин» (концертное исполнение, 1879 г.). В 1886/1887 под псевдонимом Сандра принимала участие в спектаклях Московской частной оперы С. И. Мамонтова, в 1893 г. дебютировала в Мариинском театре. В 1893 – 1916 гг. давала частные уроки. С. М. Волконский вспоминал: «Она была дочерью очень богатого отца, который не хотел, чтобы она выступала на сцене. Годы шли, и время проходило в томительной борьбе. Вдруг отец лишается всего состояния; он вынужден согласиться. <…> Ее публичная карьера прекратилась, едва начавшись. Никогда закат не был так печален, потому 131 что никогда не был он так внезапен. Она вышла замуж за человека много моложе ее — Георгия Павловича Карцева; он служил, она давала уроки пения. <…> Но — такова сила искусства — когда мы говорим “Панаева”, мы видим не жизнью сломленную женщину, не увядшую певицу и не безутешную мать, а мы видим блистательное видение, редчайшую художницу, неповторимое явление» (Волконский С. М. Мои воспоминания. Т. 1. С. 145).
40 Фон Мекк Надежда Филаретовна (1831 – 1894) — меценат, покровитель П. И. Чайковского.
41 Чайковский Петр Ильич (1840 – 1893) — композитор. Опера «Евгений Онегин» написана в 1878 г., в Мариинском театре впервые представлена 19 октября 1884 г., здесь же 31 декабря 1890 г. состоялась премьера «Пиковой дамы». Балет «Лебединое озеро» написан Чайковским в 1876 г. для Большого театра (премьера — 20 февраля 1877 г.), в Мариинском театре впервые представлен 15 января 1895 г. в постановке М. И. Петипа и Л. И. Иванова (либретто в редакции М. И. Чайковского), ставшей классической. В партии Одетты — Одиллии выступила П. Леньяни. Глазунов Александр Константинович (1865 – 1936) — композитор. Балет «Раймонда» на либретто Л. А. Пашковой и М. И. Петипа (с участием И. А. Всеволожского) написан им в 1897 г., в постановке М. И. Петипа впервые представлен в Мариинском театре 7 января 1898 г. В заглавной партии — П. Леньяни.
42 В этот период нашей богатой и независимой жизни в Петербурге… — Имеются в виду 1890-е гг.
43 Голейзовский Касьян Ярославич (Карлович) (1892 – 1970) — артист балета, балетмейстер.
44 Сосед отца по креслу в балете № 11 Ф. Е. Чаплин… — Ошибка памяти. Имеется в виду Чаплин Ермолай Николаевич (1857 – 1905), весьма примечательная личность в Петербурге и его балетных кругах. А. Н. Бенуа обрисовал его в своих воспоминаниях как «очень крупного, очень плотного господина с усами и бакенбардами на широком, типично русском лице», «великого мастера на всякие пикантные анекдоты» и «eine feiner Konditor», т. е. тонкого знатока (см.: Бенуа А. Н. Мои воспоминания: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 110). Д. И. Лешков писал: «Когда в 1905 году скончался почт-директор Чаплин, просидевший в балете в 1 ряду 28 лет, то из-за его кресла в кабинете директора театров чуть не дошло дело до драки. Предполагалось одно время разыграть его в лотерею…» (Лешков Д. И. Партер и карцер: Воспоминания офицера и театрала. СПб., 2004. С. 139). Чаплин занимал пост почт-директора с 1903 г.
45 Фигнер Николай Николаевич (1857 – 1918) — оперный певец (тенор). Пел в Мариинском театре (1887 – 1904, 1907) и в Большом театре (1905 – 1907).
46 Отсылка к первой сцене романа, в которой парижская толпа заполняет все пространство вокруг Дворца правосудия и близлежащих зданий, чтобы поглазеть на процессию шутов и мистерию, а особо дерзкие школяры-студенты взбираются на карниз Дворца, чтобы задирать оттуда народ в зале и на площади.
47 Фра-Дьяволо — главный герой одноименной оперы Д. Обера.
48 Ныне набережная Лейтенанта Шмидта. Г. А. Римский-Корсаков описывает дорогу в Мариинский театр от Васильевского острова, где жила тогда его семья.
49 Дриго Риккардо (Ричард Евгеньевич) (1846 – 1930) — итальянский композитор и дирижер. С 1886 по 1920 г. служил в Мариинском театре.
50 См., например, гравюру Ф. С. Козачинского (1893), воспроизведенную в «Ежегоднике Императорских театров» (Сезон 1897/1898. СПб., 1899. С. 71).
51 132 В другом варианте мемуаров: «По воскресеньям у нас происходил так называемый “танцкласс”. Артист Федоров 2-й преподавал нам бальные танцы. Не скажу, чтобы мы с восторгом занимались танцами. Но на эти уроки приезжали наши двоюродные сестры и братья и кое-кто из знакомых. Обычными посетителями наших танцклассов были Оля и Нюся Римские-Корсаковы, Ася и Сергун Римские-Корсаковы, Лида Иолшина. Промучившись час над освоением разных плиэ и глиссэ, мы потом устраивали игры…» (Римский-Корсаков Г. А. Н. Ф. фон Мекк и ее семья. Цит. по: П. И. Чайковский — Н. Ф. фон Мекк. Переписка. Т. 1. С. 447).
52 … артист Петербургского балета Ф. Ф. Гельцер, родной брат В. Ф. Гельцер и дядя Е. В. Гельцер. — Имеются в виду: Гельцер Федор Федорович (1839 – ?) — артист петербургского балета (1858 – 1889); Гельцер Василий Федорович (1840 – 1908) — артист московского балета, педагог, в описываемое время режиссер балетной труппы Большого театра (1894 – 1901); Гельцер Екатерина Васильевна (1876 – 1962) — артистка московского балета, дочь В. Ф. Гельцера, прима-балерина Большого театра.
53 Федоров Леонид Иванович (1871 – ?) — артист петербургского балета (1889 – 1909).
54 Римский-Корсаков Борис Алексеевич (1885 – 1920) — старший брат мемуариста. В 1906 – 1912 гг. жил в Париже, посещал занятия в Сорбонне.
55 Е. В. Гельцер выступала в Мариинском театре с 1896 по 1898 г., после чего вернулась в Москву. Таким образом, описываемую поездку на курорт в Шварцвальд (Германия) можно отнести к 1896 г., когда Г. А. Корсакову было 5 лет.
56 По-видимому, одной из любимых книг мемуариста в описываемое время были «Дети капитана Гранта» Жюль Верна.
57 Балет «Конек-Горбунок» по сказке П. П. Ершова на музыку Ц. Пуни, впервые представленный в Петербурге в 1864 г. балетмейстером А. Сен-Леоном, был возобновлен на сцене Мариинского театра в сезон 1895/1896 гг. Постановку, данную в бенефис П. Леньяни 6 декабря 1895 г., осуществил Мариус Петипа, «причем он включил сюда несколько новых танцев, а некоторые из прежних изменил» (Ежегодник Императорских театров: Сезон 1895/1896. СПб., 1897. С. 242).
58 Кшесинский (наст. фам. Кржесинский-Нечуй) Феликс (Адам-Валезиуш) Иванович (Янович) (1823 – 1905) — артист петербургского балета с 1853 г. до конца жизни. В описываемое время выступал в основном в мимических ролях.
59 Чардаш на музыку Второй рапсодии Ф. Листа (S. 244/2) был впервые показан в балете «Конек-Горбунок» 11 октября 1900 г. (солисты — О. О. Преображенская, Е. К. Обухова, А. В. Ширяев, А. Бекефи и 14 пар кордебалета). Ныне редко исполняемый, этот номер входит в фонд классического наследия. Идею постановки этого номера, возможно, подсказал Л. И. Иванову директор Императорских театров С. М. Волконский, писавший в своих мемуарах, что впервые чардаш был исполнен на гала-спектакля в Петергофском театре по случаю приезда персидского шаха как вставной номер в «Коньке-Горбунке»: «Это было очень задорно, очень захватывающе. Этот номер так и остался вставленным в “Конька-Горбунка” и удержался на сцене и после моего ухода. Николай II был очень доволен чардашем и вообще был в этот день в прелестном настроении» (Волконский С. М. Мои воспоминания. Т. 2. С. 154). В газетных отчетах, однако, указывалось, что на гала-спектакле исполнялись отдельные акты из «Синей бороды» и «Пахиты» (см., напр. [Б. п.] Пребывание персидского шаха // Санкт-Петербургские ведомости. 1900. № 185. 9 июля. С. 3 – 4).
133 Оценка Римского-Корсакова совпадает с мнением В. М. Красовской, видевшей в чардаше пример «самостоятельной, чрезвычайно типичной для Иванова трактовки музыки, давшей симфонизированный характерный танец» (Красовская В. М. Русский балетный театр второй половины XIX в. Л., 1963. С. 396). Как следует из дальнейшего изложения, не отказывая Иванову в таланте и отдельных удачах, Римский-Корсаков не считал его крупной фигурой и даже в «Лебедином озере» ставил идеи Петипа выше озарений его сопостановщика во второй картине (см. с. 20, 57 – 58).
60 Абзац намечен автором к сокращению.
… рапсодию, поставленную А. А. Горским в 1920 г. с Е. И. Долинской и С. В. Чудиновым… — В авторитетном списке работ Горского постановка «Венгерской рапсодии» отнесена к декабрю 1921 г. (см.: Горский. 2000. С. 356).
Долинская Елена Ивановна (1887 – 1962) — артистка балета Большого театра, балетмейстер, под чьим руководством были возобновлены в 1930 – 1950-е гг. классические постановки А. А. Горского; Чудинов Сергей Васильевич (1889 – 1970) — артист балета Большого театра (1907 – 1949).
61 В машинописи ошибочно — «6-ю рапсодию».
Кригер Викторина Владимировна (1893 – 1978) — артистка балета Большого театра в 1910 – 1920, 1925 – 1931, 1934 – 1948 гг. В 1929 г. организовала собственную труппу «Московский художественный балет».
62 Возможно, Г. А. Римский-Корсаков несколько преувеличивает равнодушие, с которым зал встречал «Рапсодию» Голейзовского, так как это был один из ударных номеров в концертном репертуаре балерины. А. М. Мессерер, который в 1929 г. участвовал в гастролях Кригер по странам Балтии, вспоминал: «Ее [Кригер] программа включала в себя и классику, и характерный танец, и номер на музыку Второй рапсодии Листа, интересный своей драматической концепцией. Он начинался танцем, выражавшим мрачное, удрученное настроение, которое разрешалось взрывом дикого, страстного веселья» (Мессерер А. М. Танец, мысль, время. М., 1990. С. 130).
63 Дивертисмент в Новом театре был дан 5 сентября 1901 г. и включал несколько номеров в постановке А. А. Горского. Помимо названного «Вальса-фантазии» Глинки «серьезную» музыкальную основу имели «Полонез» (на музыку Ф. Шопена), «Мазурка» (Г. Венявского), «Танец мушкетеров» (Ф. Шуберта), «Танец Анитры» (Э. Грига). Причем «Танец Анитры» ранее показывался 20 апреля того же года на сцене Большого театра в бенефис вторых режиссеров и артистов оперной, балетной и драматических трупп (другой «серьезный» номер этого дивертисмента — «Чардаш» И. Брамса).
64 К моменту приезда А. Дункан в Россию в 1904 г. в ее репертуаре были танцы «Лунный свет», «Менуэты», «Патетическая», «Симфония № 7» на музыку Л. ван Бетховена, «Нарцисс», «Военный полонез», «Прелюды», «Ориенталь» Ф. Шопена, «Менуэт» К. В. Глюка (из оперы «Орфей»), «Марш Ракоши» Ф. Листа, «Голубой Дунай» И. Штрауса и др.
65 … образ Иванушки, который создавал В. А. Рябцев, так же как и привлекательный вид А. М. Балашовой, — Царь-Девицы… — Рябцев Владимир Александрович (1880 – 1945) — артист балета Большого театра с 1898 г., прославился исполнением мимических и характерных партий. В роли Иванушки Рябцев впервые выступил в 1902 г.; Балашова Александра Михайловна (1887 – 1979) — артистка балета Большого театра с 1905 г. Партию Царь-девицы впервые исполнила в 1906 г.
66 134 … художниками Бочаровым, Ламбиным и Андреевым… — Бочаров Михаил Ильич (1831 – 1895), Ламбин Петр Борисович (1862 – 1923), Андреев Иван Петрович (1847 – 1896) — декораторы петербургских Императорских театров.
В «Лебедином озере» декорация 1-й картины 1-го действия («Парк перед замком») была написана И. П. Андреевым по эскизу М. И. Бочарова, 2-й картины 1-го действия («Дикая местность на берегу озера») — М. И. Бочаровым, 2-го действия («Готический зал») — Г. Левотом, 3-го действия («Пустынная местность близ лебединого озера») и апофеоз — М. И. Бочаровым. Неясно, в какой связи упомянут П. Б. Ламбин, — ему принадлежал лишь рисунок с декорации апофеоза, помещенный в «Ежегоднике Императорских театров». (См.: Ежегодник Императорских театров: Сезон 1894/1895. СПб., 1896. С. 214).
67 Согласно программкам дореволюционной постановки Большого театра, ее завершала «сцена, в которой злой гений силою своих чар заставляет озеро затопить берег. Зигфрид и Одетта погибают в волнах». См. также коммент. 427 – 431.
68 Для постановки 1901 г. декорации I и II акта были написаны А. Я. Головиным, III и IV — К. А. Коровиным. В 1912 г. декорации по эскизам К. А. Коровина исполнили: 1, 2 и 4 действия — Н. А. Клодт, 3-е действие — М. Н. Яковлев. Картина бури в финале в обоих случаях устраивалась К. Ф. Вальцем.
69 Булгаков Алексей Дмитриевич (1872 – 1954) — артист петербургского балета (1889 – 1909), участник «Русских сезонов» Дягилева (1909 – 1914). В 1911 – 1949 гг. артист, с 1913 по 1917 г. главный режиссер балетной труппы Большого театра. Первый исполнитель роли Ротбарта в постановке М. И. Петипа — Л. И. Иванова (1895).
70 Шаляпин Федор Иванович (1873 – 1938) — певец (бас-баритон). На сцене Мариинского театра партию Мефистофеля в опере Ш. Гуно «Фауст» впервые исполнил 4 сентября 1895 г.
71 У А. А. Плещеева, смотревшего московскую постановку 1912 г., сложилось обратное убеждение: «Злой гений, кстати сказать, ярко и выразительно изображаемый г. Булгаковым, выдвинут Горским, а на петроградской сцене этот демон ничтожен и незаметен» (Плещеев А. А. «Лебединое озеро»: (Письмо из Москвы) // Вечернее время. П., 1916. № 1379. 3 февр. С. 4). Очевидно, образ, созданный А. Д. Булгаковым, вписывался в режиссерский замысел А. А. Горского, обогащая и усиливая его.
72 Костюмы двух дореволюционных постановок «Лебединого озера» в Большом театре — 1901 и 1912 гг. — были сделаны по эскизам К. А. Коровина. С. С. Мамонтов в отчете о премьере 1900 г. писал, что Ротбарт в 3-м был «снабжен громадной рыжей бородой и типичной шапкой с торчащими ушами, причем исполняющий эту роль г. Кувакин пониманием чувства меры в игре производит серьезное впечатление» (Сергей Матов [Мамонтов С. С]. «Лебединое озеро» // Россия. 1901. № 644. 9 февр. С. 4).
73 В этом году Г. А. Римский-Корсаков переехал из Петербурга в Москву, где после развода с А. А. Римским-Корсаковым проживала его мать.
74 Тихомиров Василий Дмитриевич (1876 – 1956) — артист московского балета (1893 – 1935), педагог, балетмейстер, муж Е. В. Гельцер.
75 Обыгрываются музыкальные темповые указания: poco a poco, con brio e anima, буквальное значение в переводе с итальянского: «с постепенным нарастанием, с волненьем и душой».
76 Премьера постановки М. И. Петипа в Мариинском театре состоялась, как уже было указано, 7 января 1898 г.; премьера версии А. А. Горского, о которой рассказывает Г. А. Римский-Корсаков, — 30 ноября 1908 г. в Большом театре.
77 135 Шапорин Юрий Александрович (1887 – 1966) — композитор и дирижер. По собственному признанию, Г. А. Римский-Корсаков познакомился с ним еще в 1910-е гг. В 1930-х гг., когда Шапорин поселился в Доме-музее П. И. Чайковского в Клину, общение стало постоянным.
78 Сотрудничество Петипа и Глазунова действительно складывалось трудно: «Просто ужасно сочинять балет, имея дело с композитором, который заранее продал его издателю и напечатал», — жаловался Петипа (Мариус Петипа: Материалы. Воспоминания. Статьи. С. 124). «У нас постоянно столкновения», — признавался Глазунов (цит. по: Глазунов: Исследования, материалы, публикации, письма: В 2 т. М., 1959. Т. 1. С. 74). Однако историю, рассказанную Шапориным, можно понимать и как свидетельство о тембровых предпочтениях балетмейстера: ранее, работая над «Спящей красавицей», Петипа в сцене «Нереид» заменил написанную П. И. Чайковским музыку вариации Авроры, где также солировал гобой, на музыку вариации феи Золота из последнего акта.
79 … «глазу нов, а уху дик». — Авторство этого каламбура, широко разошедшегося в дореволюционной прессе и среди музыкантов, молва приписывала директору Московской консерватории В. И. Сафонову, будто бы так откликнувшемуся на Шестую симфонию Глазунова (1896).
80 Арендс Андрей (Генрих) Федорович (1855 – 1924) — композитор, дирижер, скрипач. В 1900 – 1924 г. — главный дирижер балета Большого театра. Первое представление «Раймонды» 30 ноября 1908 г. давалось в его бенефис.
81 Г. А. Римский-Корсаков основывается на рассказах В. А. Горской, сестры балетмейстера. В письме к нему она писала также, что Горский «очень хорошо знал теорию и гармонию музыки и даже писал музыкальные задачи, которые одобрял Глазунов» (Горская В. А. Письмо к Г. А. Корсакову. 12 – 13 октября 1940 г. — ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 15). См. также коммент. 361.
82 Очевидно, имеется в виду использование хитонов а-ля Дункан, так как удлинение юбок вызвало протест у балерин и балетоманов еще во время постановки «Дон Кихота» (1900), о чем пишет и сам Римский-Корсаков.
83 Ср.: «Очень хорош костюм г-жи Балашовой — capricieuse orientale, да и танцевала молодая балерина превосходно, с заметным, но умеренным влиянием Айседоры Дункан» (МАТОВ [Мамонтов С. С.]. «Раймонда» // Русское слово. 1908. 2 дек. С. 5).
84 Имеется в виду № 35 партитуры: Rapsodie — Danse des enfants. Н. Н. Вашкевич писал: «В повторении “Раймонды” в бенефис кордебалета 7 декабря — был вставлен № г-жи Каралли и г. Мордкина — это прелестная венгерка, и оба исполнителя бисированы» (Ник. Ва[шке]вич. Балет // Рампа. 1908. № 17. С. 269 – 270).
85 … танец Гельцер «Гений Бельгии»… — См. коммент. 502.
86 В хореографию вариации четырех кавалеров Горский внес изменения позднее, возможно уже после 1917 г. Так, А. В. Кузнецов вспоминал, что они касались «главным образом позировки. Продолжая уже упоминавшуюся нами линию на возможно большую национальную окраску, он заменил в первом движении вариации две руки вперед в лежачем арабеске характерной позой — одна рука, открываясь выше плеча, ведет движение, вторая кладется на бедро. Антраша-сис он заменил двойным голубцом в воздухе в прямом прыжке, что также подчеркивало венгерский характер вариации. В средней части вариации кабриоли с углов остались, а следующие за ними мелкие заноски были 136 заменены Горским на характерную позировку в позах полуарабеска, в которой танцующие как бы обращались то к народу, то друг к другу» (Горский. 2000. С. 269 – 270).
87 Карикатура Легатов… — См.: Легат Н. Г. и С. Г. Русский балет в карикатурах. СПб., 1903. Легат Николай Густавович (1869 – 1937) — танцовщик, хореограф, педагог, с 1910 г. был главным балетмейстером Мариинского театра. Легат Сергей Густавович (1875 – 1905) — артист петербургского балета (1894 – 1905).
88 … танец (Panaderos) <…> был Горским переставлен. — В версии М. И. Петипа панадерос исполняла пара солистов (танцовщик и танцовщица) с аккомпанементом из 17 танцовщиц. В версии А. А. Горского — парой солисток (танцовщик и танцовщица) с аккомпанементом 20 артистов (10 танцовщиц и 10 танцовщиков). Петипа Мария Мариусовна (1857 – 1930) — выдающаяся характерная танцовщица, дочь балетмейстера. Первая исполнительница панадероса в «Раймонде». Об А. П. Павловой см. коммент. 26. Впервые исполнила панадерос в 1906 г. Федорова Ольга Васильевна (1882 – 1942) — характерная танцовщица, артистка московского (с 1900 г.) и петербургского (1909 – 1928) балета. В Петербурге к ней перешел характерный репертуар М. М. Петипа. В 1910 – 1920-е гг. считалась специалисткой по исполнению панадероса из «Раймонды» в хореографии М. И. Петипа. Об С. В. Чудинове см. коммент. 60. Козлов (1-й) Федор Михайлович (1882 – 1956) — воспитанник Московского театрального училища, артист петербургского (1901 – 1904) и московского (1904 – 1910) балета.
89 Голов Георгий Иванович (1885 – 1918) — художник-декоратор Большого театра (1905 – 1918).
90 Балет М. И. Петипа «Спящая красавица» на музыку П. И. Чайковского (программа И. А. Всеволожского и М. И. Петипа) был впервые представлен на сцене Мариинского театра 3 января 1890 г. Пролог («Дворец Флорестана») оформил Г. Левот, 1-е действие («Дворцовый сад») — М. И. Бочаров и И. П. Андреев, во 2-м действии картину «Лесная местность» и панораму — М. И. Бочаров, «Внутренность дворца Спящей красавицы» — К. М. Иванов, 3-е действие («Эспланада дворца короля Флорестана») и апофеоз — М. А. Шишков. Костюмы по рисункам И. А. Всеволожского исполнили: мужские — И. И. Каффи, женские — Е. М. Офицерова и Е. Т. Иванова.
Один из самых репертуарных балетов Мариинского театра 1890-х гг., в 1900 – 1905 гг. «Спящая красавица» шла здесь сравнительно редко: по одному представлению в 1901 и 1902 гг., два — в 1905 г.
91 В дневнике П. И. Чайковский записал: «2 января [1890 г.] Вторник. Репетиция балета с Государем. “Очень мило”!!!!! Его Величество третировал меня очень свысока. Господь с ним» (Чайковский П. И. Дневники. М.; Екатеринбург, 2000. С. 231).
92 Премьера «Спящей красавицы», перенесенной в Большой театр А. А. Горским, состоялась 17 января 1899 г. В программках спектакля недолгое время имелась следующая приписка: «На московской сцене балет поставлен под руководством артиста Императорских СПб. театров г. Горского по системе записи балетной азбукой В. И. Степанова». В 1899 г. программа танцев в точности следовала петербургской, сокращения начались позднее (см. коммент. 100, 101, 385 – 390).
93 Всеволожский Иван Александрович (1835 – 1909) — дипломат, литератор, художник, директор Императорских театров (1881 – 1899), инициатор постановки «Спящей красавицы», «Лебединого озера», «Раймонды», директор Эрмитажа (1899 – 1909). О том, что жена Всеволожского Екатерина Дмитриевна принимала участие в художественной стороне постановок Императорских театров, ничего не известно. В. П. Погожев вспоминал, 137 напротив, слова Всеволожского: «Какое счастье, Владимир Петрович, что наши с вами жены, не путались, подобно Полине [Пчельниковой] и Гурли [Теляковской] в театральные служебные дела» (Из фонда В. П. Погожева. Письма и воспоминания / Публ. Т. Д. Золотницкой // Из фондов кабинета рукописей Российского института истории искусств / Сост. и отв. ред. Г. В. Копытова. СПб., 1998. С. 49).
Для московской постановки «Спящей красавицы» в Большом театре из Петербурга были присланы копии эскизов И. А. Всеволожского, сделанные Е. П. Пономаревым (его имя и фигурировало на афише). Женские костюмы по этим копиям выполнила А. Ф. Иващенко, мужские — И. И. Неменский. Рецензент «Московского листка» писал 27 января 1899 г., что костюмы «… несмотря на отсутствие дорогих материй, недурны по подбору цветов, но, уступая в блеске петербургским <…> мало сказочны и фееричны» (Дон Кихот [Мухин Д. И.?] По театрам // Московский листок. 1899. № 27. 27 янв. С. 3).
94 Пролог («Зал во дворце Флорестана») в постановке Большого театра оформил И. Ф. Савицкий, 1-е действие («Дворцовый сад») — И. М. Смирнов, во 2-м действии картину «Лесная местность» и панораму — А. Ф. Гельцер, картину «Опочивальня королевны Авроры» — П. Ф. Лебедев, 3-е действие — П. П. Сергеев. Машинами ведал К. Ф. Вальц. Панорама к «Спящей красавице» считается одной из вершин творчества А. Ф. Гельцера. См. также коммент. № 11 Г. А. Римского-Корсакова.
95 Некрасова Ольга Владимировна (1868 – 1948) — артистка балета Большого театра (1886 – 1924). В архиве Г. А. Римского-Корсакова сохранилась открытка 1939 г., подписанная ею и В. А. Горской (ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 16).
96 … почему-то прервал репетиции и уехал в Петербург. — Документальных подтверждений не выявлено, но можно заметить, что параллельно в Петербурге готовился прощальный бенефис Л. И. Иванова, данный 18 декабря 1899 г.
97 … Горский хорошо изучил систему записи театральных движений («хореографию»), изобретенную артистом балета Степановым… — См. док. 6 и коммент. 378 – 383.
98 Рославлева Любовь Андреевна (1874 – 1904) — артистка балета Большого театра в 1892 – 1904, прима-балерина. В архиве Горского в Музее ГАБТ хранится нотация вариации Авроры в 3-м акте, сочиненной им для Л. А. Рославлевой.
99 На афише дореволюционной петербургской и московской постановок номер назывался «Появление тени Авроры и ее свиты», а кордебалет изображал «нимф». Общепринятое современное название этой картины — «Нереиды», реже — «Дриады».
100 На самом деле все упомянутые танцы присутствовали в постановке 1899 г., и до 1904 г. исключения номеров носили случайный характер. Так, согласно программкам, на спектакле 15 декабря 1899 г. не исполнялись танцы Золушки и принца Шармана, а также Мальчика-с-пальчик и его братьев. В спектакле 6 декабря 1901 г. пропускался все тот же танец Мальчика-с-пальчик и его братьев, а также танец Голубой птицы и принцессы Флорины.
Возобновляя балет в 1904 г., Горский сократил танцы начала 2-го действия (менуэт, крестьянскую фарандолу), увеличив число участников игры в жмурки; в 3-м действии были изъяты танец Золушки и принца Шарман, марш и сарабанда, но расширен pas d’action, получивший название «Танец принцессы Авроры и принца Дезире со свитами фей». В нем помимо главных героев участвовало 28 танцовщиц (см., напр., программку спектакля 23 февраля 1905 г. в ГЦТМ). Через несколько лет хореограф упразднил свиты и вновь исправил название — на «Танец принцессы Авроры и принца Дезире с феями» (три феи драгоценных камней).
101 138 Ср. у А. В. Кузнецова: «Должен сказать, что “Спящая красавица”, пожалуй, единственный спектакль, перенесенный Горским с весьма незначительными изменениями в целом и некоторыми корректурами хореографического текста, на которые такой мастер бесспорно имел право. <…> В остальном действие и танцы шли в той же последовательности почти без заметных для меня переделок. Образ феи Карабос в точности повторял петиповский, только ее свита у Горского состояла из одних крыс и мышей, не было уродов с фальшивыми деревянными ручками. Может быть, это было лучше, локальнее и сказочнее. <…> Взрослых пажей, уносивших Аврору в I-м акте после укола веретеном и танцующих антрэ перед па де де в последнем, у Горского тоже не было. Аврору уносили принцы-женихи, так же как в последующей постановке А. Мессерера. В остальном — вальс с гирляндами и детьми, четыре солистки — придворные дамы в черном, выход и вариация Авроры, ее адажио с принцами, появление Карабос в плаще и пр., — все было. В последнем акте Горским был изъят действительно неинтересный танец Золушки и принца Фортюне, принц Дезире хотя тоже не имел вариации, но танцевал коду. Делал в ней двойные туры три раза и заключал пируэтом. Помнится, мне показалось малоинтересным, когда я увидел “па мазурки” и маленькие голубцы, исполнявшиеся из стороны в сторону принцем Дезире в постановке Петипа в костюме и парике Людовика-Солнце. Эпилога в виде живой картины — фея Сирени против феи Карабос — тоже не было. О картине “дриад”, как она была поставлена Горским, я судить не могу, но знаю со слов артисток, что, например, вариация Авроры была другая, лирическая, а не та, что идет в постановке Петипа, начинающаяся с больших батманов-балотэ» (Горский. 2000. С. 257 – 258).
102 Согласно плану-заказу М. И. Петипа, он задумывал показать в апофеозе «Спящей красавицы» «Аполлона в костюме Людовика XIV, озаренного солнцем и окруженного феями» (Мариус Петипа: Материалы. Воспоминания. Статьи. С. 136). В музыке этого номера П. И. Чайковский цитирует неофициальный гимн королевской Франции «Марш Генриха IV». Политический подтекст, очевидный на премьере 1890 г. (в 1891 г. будет заключен русско-французский союз), в 1900-е гг., по-видимому, не читался.
103 Кашкин Николай Дмитриевич (1839 – 1920) — музыкальный критик, друг П. И. Чайковского и автор воспоминаний о нем. В рецензии, посвященной постановке Большого театра 1899 г., Н. Д. Кашкин писал: «Покойный Чайковский был большим любителем балета и хотя очень мало понимал в пуантах и элевациях, но поэзия танца его пленяла, а также пленяла столь доступная балету фантастическая окраска сюжета, свободно открывающая композитору мир грез и воспоминаний о волшебных сказках, слышанных в детстве. Чайковский не понимал научно-дидактических сюжетов, как и сильных драматических; для него балет был волшебным сном, которому он отдавался вполне. Таким волшебным сном была для него и “Спящая красавица”, сюжет которой тесно связан с детскими воспоминаниями едва ли не каждого из нас» (Н. Дмитриев [Кашкин Н. Д.]. Театр и музыка // Московские ведомости. 1899. № 19. 19 янв. С. 4).
Эта идея есть тема борьбы добра и зла, тема торжества света над тьмой. — Ср. у Ю. И. Слонимского: «Для Чайковского сюжет “Спящей красавицы” — только сказка, шутливо ласковый фон, на котором движутся оптимистически выраженные музыкальные идеи — борьба солнца, света, счастья с мрачными холодными силами природы» (Слонимский Ю. И. Мастера балета. С. 242). Можно предположить, что имя 139 Кашкина возникло у Г. А. Римского-Корсакова по ошибке и следует читать — «как об этом пишет Слонимский».
104 Сказание о воине Зигфриде, пробуждающем красавицу-валькирию от волшебного сна, распространено в германском эпосе, но имя героини в них — Сигрдрифа или, в более поздних вариантах Брунгильда (также и в опере Р. Вагнера). Кримхильда — бургундская принцесса, вышедшая замуж за Зигфрида вопреки дурным пророчествам, — героиня другого сказания.
105 Вальс снежинок в хореографии Л. И. Иванова уже в 1910-е гг. расценивался как шедевр. А. Л. Волынский писал: «… в заключительной коде пластического действия метель закручивает пляшущий хаос в большую группу пирамидального рисунка. Снежинки замирают сугробом, убаюкиваемые вьюгой. Так из небольших хороводиков, крестиков, звезд и пересекающихся линий Лев Иванов сложил одно из явлений “Щелкунчика” в гармонии с музыкой Чайковского, представляющий шедевр звукописи в полном смысле этого слова. Балетмейстер ощутил и пережил все ее красоты и передал их на сцене хореографическими полутонами, овеянными тихой поэзией. Танец снежинок почти гениален по своей структуре, сложной на вид, но в сущности азбучно простой в своей основе, как и все вообще, что одухотворено талантом свыше» (Волынский А. Л. Вальс снежинок: (Лев Иванов) // Биржевые ведомости. 1913. № 13858. 18 нояб. С. 5. Цит. по. Волынский А. Л. Статьи о балете / Сост., вступ. статья, коммент., список статей Г. В. Добровольская. СПб., 2002. С. 116).
106 По-видимому, имеется в виду давнее возобновление оперы «Евгений Онегин» в сезон 1900/1901 гг. (премьера 31 октября 1900 г.). Режиссер О. Палечек. Танцы поставлены Л. И. Ивановым. По случаю 200-го представления оперы новые декорации 1-й картины создал П. Б. Ламбин, 2-й картины — А. С. Янов, 3-й картины — Г. П. Каменский, 4-й картины — М. Яковлев по рисунку А. С. Янова, 6-й картины — О. К. Аллегри. Новые костюмы были сделаны по рисункам Пономарева. См.: Ежегодник Императорских театров: Сезон 1899/1900. СПб., 1900. С. 99 – 118.
107 Шишков Матвей Андреевич (1831 или 1832 – 1897) — художник, декоратор Императорских театров с 1857 г.
108 Иванов Константин Матвеевич (1859 – 1916) — художник, декоратор Императорских театров (1883 – 1908). В «Щелкунчике» оформил первую («Зал в доме президента Зильбергауса») и третью («Дворец сластей — Конфитюренбург») картины.
109 «Вертер» Ж. Массне в постановке В. П. Шкафера (1904) был перенесен из Нового театра на сцену Большого и показан в сборных декорациях (премьера — 16 октября 1907 г.).
Вальц Карл Федорович (1846 – 1929) — декоратор, машинист Большого театра с 1861 г.
110 Далее в основном тексте следует полемика с работой Ю. И. Слонимского «Мастера балета» (1937), где Корсаков цитирует и пересказывает положения своей неопубликованной работы «Чайковский, Петипа и другие» (1938) (см.: ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 25). Выделено публикатором в отдельный комментарий, учитывая обращение Г. А. Римского-Корсакова с другими большими фрагментами этой же статьи, вынесенными им в коммент. 11 и 19.
111 Теляковский Владимир Аркадьевич (1860 – 1924) — управляющий московскими Императорскими театрами (1898 – 1901), директор Императорских театров (1901 – 1917).
… об антиэстетичном виде танцующих бриошей. — См. об этом: Теляковский В. А. Воспоминания. Л., 1965. С. 148.
112 140 М. И. Чайковский писал о премьере, состоявшейся 6 декабря 1892 г.: «Балетом дирижировал Дриго и в музыкальном отношении провел его прекрасно. Декорации и костюмы блистали ослепительной роскошью и изяществом. В антракте вызывали много композитора, балетмейстера, исполнителей, и тем не менее чувствовалось, что в целом вещь мало понравилась. На этот раз кроме сюжета, слишком отступавшего от балетных традиций и в течение всего первого действия давшего главную роль не балеринам, а детям, виноват был во многом и балетмейстер. Дело в том, что во время постановки “Щелкунчика” М. Петипа был тяжело болен и его место занял Л. Иванов, прекрасный знаток дела, но лишенный нужной для такой необычайной программы изобретательности и фантазии. Там, где все дело было только в танцах, т. е. во второй картине первого действия и во втором, — он исполнил свою задачу превосходно, но все детские сцены ему не удались совершенно, меньше всего — война мышей и игрушек. Вышло неясно, вяло, не смешно и неинтересно. Грузная и некрасивая фея Драже — Дель Эра, несмотря на совершенство и грацию техники, испортила впечатление второго действия. Тонкие красоты музыки не могли тоже сразу быть оценены, и надо было много времени, чтобы утвердить потом “Щелкунчик” в репертуаре» (Чайковский М. И. Жизнь Петра Ильича Чайковского: В 3 т. М.; Лейпциг, [1902]. Т. 3. С. 579). К этому абзацу М. И. Чайковским, однако, сделано примечание сноска: «Теперь, при несколько измененной постановке первого действия и с феей Драже — Преображенской балет этот очень нравится публике» (Там же).
113 «Дочь фараона» — балет М. И. Петипа на музыку Ц. Пуни (программа Ж. Сен-Жоржа по роману «Мумия» Т. Готье), впервые представленный на петербургской сцене 18 января 1862 г. Неоднократно возобновлялся, М. Ф. Кшесинская выступала в главной партии Аспиччии с 1898 г.
114 … у знаменитой петербургской портнихи Эстер, сводницы и аферистки. — Имеется в виду портниха Александра Ивановна Цеховая (Эстер), которая держала в Петербурге салон дамских мод на Караванной, 18, под названием «Эстер», где клиентки могли расплатиться за роскошные платья в буквальном смысле натурой. Цеховая была замешана в аферах, широко обсуждавшихся в прессе, как, например, дело Гурко, мотивы которого, по мнению исследователей, нашли отражение в романе «Хлеб насущный» (1907) И. Ясинского и, возможно, даже в пьесе «Зойкина квартира» М. А. Булгакова.
115 Ср., например, запись в дневнике М. Ф. Кшесинской от 15 февраля 1892 г.: «Утренний спектакль “Спящая красавица”. Я приехала в театр за полчаса до начала. Оделась и причесалась я очень небрежно, потому что я была в полной уверенности, что на пролог никто [из интересных — зачеркнуто.] не приедет. Когда я была уже почти одета, я услышала, как кто-то сказал, что сейчас начнут и что Ц[аревич] уже выехал из дворца. Этого уж я совсем не ожидала, и скажу откровенно, я не особенно обрадовалась, я не хотела, чтобы Ц. меня видел в “Спящей”, я так не люблю в ней танцевать, ни одного хорошего танца» (ГЦТМ. Ф. 134. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 29 об.). В записи за следующее число отношение к танцу как средству кружить головы выражено еще откровеннее: «Когда я шла в театр, я готова была заплакать; я так боялась! вдруг плохо протанцую, тогда все пропало! А протанцевать плохо мне было немудрено, так как я очень устала за всю неделю да и здоровье мое плохо. И одеваться стала раньше обыкновенного, чтобы все успеть сделать и быть интереснее. На пролог Цари не приехали, и я уже подумала, что мне нарочно сказали, что они будут» (ГЦТМ. Ф. 134. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 22).
116 141 Сравнивая двух премьерш, В. А. Теляковский противопоставляет М. Г. Савину М. Ф. Кшесинской:
«М. Г. Савина отлично играла и была бесспорно прекрасная артистка.
М. Кшесинская прекрасно танцевала и была также бесспорно выдающаяся русская балерина.
Обе они свое главное дело делали хорошо, и осуждать их в театре как артисток не будем. Вне театра действия их нас мало касаются, мало ли кто и что вне театра делает в нашем обширном отечестве.
М. Савина любила жизнь вообще, а сцену особенно. М. Кшесинская любила балет вообще, а жизнь высочайшую особенно.
Для первой успех на сцене был главной целью, для второй успех на сцене был средством: стремления ее были более грандиозны и обширны, и роль только балерины, хотя и выдающейся, не удовлетворяла ее смолоду.
М. Савина умерла, принадлежа до последнего часа сцене — отдав сцене сорок лет жизни.
М. Кшесинская уже на тринадцатом году службы вышла по собственному желанию из состава балетной труппы. Силы свои она берегла для другой цели. М. Кшесинская была женщина бесспорно умная. Она отлично учитывала как сильные, так в особенности и слабые стороны мужчин, этих вечно ищущих Ромео, которые о женщинах говорят все, что им нравится, и из которых женщины делают все, что им, женщинам, хочется» (Теляковский В. А. Воспоминания. С. 34).
117 Очевидно, что присутствие «царей» в зрительном зале для М. Ф. Кшесинской (но, видимо, не для нее одной) составляло едва ли не главный интерес спектакля (ср. коммент. 115). Но балерина весьма зорко следила и за тем, что происходило на галерке. Как вспоминала ее завсегдатай, в будущем ведущая актриса Александринки Е. И. Тиме, принадлежавшая к партии поклонниц П. Леньяни, «после отъезда Леньяни в Италию Кшесинская самоуверенно взялась танцевать все партии своей соперницы. Она делала это весьма неудачно. Без церемоний выпускала технически трудные места, недоделывала туры, хитрила. Кавалеру приходилось всячески выручать ее. Клакеры по-прежнему шумели и кричали “браво!”, а мы шикали в ответ. Шикание как выражение неудовольствия или протеста в императорских театрах запрещалось. Однажды к нам подошел человек в жандармской форме и попросил пройти в контору полицмейстера. Нас хотели задержать. Так бы и случилось, если бы не вмешательство неизвестного лица, которое засвидетельствовало, что мы являемся дочерьми тайного советника профессора Ивана Августовича Тиме, и взяло нас как бы “на поруки”. Мы на некоторое время присмирели, но потом опять взялись за свое и шикали вовсю. Несмотря на это, вскоре на одном из любительских концертов сестры Тиме получили после выступления большую корзину цветов. В ней лежала визитная карточка с надписью: “Матильда Феликсовна Кшесинская вас очень благодарит”» (Тиме Е. И. Дороги искусства / Лит. запись Ю. Л. Алянского; предисл. А. А. Яблочкиной и П. А. Маркова. М.; Л., 1962. С. 55).
118 Утверждение об охоте всего семейства Кшесинских на Николая не подтверждается фактами. Будет несправедливым упрощением сводить к одному циническому расчету прихотливую гамму чувств, надежд, амбиций и увлечений, которые владели самой М. Ф. Кшесинской. Безусловно, со школьной скамьи она мечтала познакомиться с 142 каким-нибудь великим князем, но ей посчастливилось летом 1890 г. познакомиться с самим наследником. Когда весной 1892 г. начались их встречи, она записала в дневнике: «Ники мне привез брошку, но я не взяла. Я от него ничего не хочу, только бы он меня любил. Я хочу сохранить чистое святое к нему чувство, не оскверняя его никакими материальными выгодами» (запись от 28 апреля 1892 г. — ГЦТМ. Ф. 134. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 42). Цинична запись от 15 декабря того же года: «… теперь я сделалась требовательнее, мне не может быть весело там, где только простые смертные» (Там же. Л. 54 об.). Нравственные колебания Николая приводят ее в отчаяние и пробуждают азарт: одна из последних записей в дневнике датирована 21 января 1893 г.: «… вернувшись домой, я села писать Ники письмо и горько, горько над ним плакала. Нет, я заставлю Ники полюбить меня, как я хочу» (Там же. Л. 62).
119 Кшесинская Юлия Феликсовна (1866 – 1969) — артистка петербургского балета, сестра М. Ф. Кшесинской. Зедделер Александр Логгинович (1868 – 1924) — офицер лейб-гвардии Преображенского полка. Свадьба Ю. Ф. Кшесинской и А. Л. Зедделера состоялась в 1902 г.
Даже будучи преображенцем, А. Л. Зедделер при всем желании не мог воздействовать на Николая в интересах Кшесинской. Связь с ней (записки, письма, обмен карточками, сообщение о маршрутах прогулок и часе свидания) будущий царь держал через лиц, которым доверял, прежде всего, через гусарского офицера Евгения Волкова.
120 Кшесинский Иосиф (Михаил) Феликсович (1868 – 1942) — артист петербургского балета (1886 – 1905, 1914 – 1928). На самом деле, его имя нечасто упоминается в дневнике сестры.
121 Источник сведений не установлен. Возможно, здесь искаженно передан другой рассказ Кшесинского, относящийся к событиям 1905 г. В изложении артиста В. А. Теляковский будто бы предлагал ему разные блага, лишь бы тот отказался от протестной деятельности и повлиял своим авторитетом на остальных, но артист ответствовал, что «никогда своею совестью не торговал и предателем не был и не буду» (ГЦТМ. Ф. 134. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 9 – 10).
122 В мемуарах И. Ф. Кшесинский пишет о том, что он, как многие его одноклассники (среди них был, например, В. И. Степанов), получил второе образование — лесника: «… мне удалось много в жизни посвятить охоте и природе, изучить в совершенстве кинологию <…> Сибирь чуть ли не всю перерезал пешком, Среднюю Азию по всем ее проходимым и проездным путям» (ГЦТМ. Ф. 134. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 15 – 16).
123 Минина Евгения Николаевна (1874 – 1942) — дочь прима-балерины Императорских театров и педагога Е. П. Соколовой (в замужестве Мининой).
См. о ней также: Римский-Корсаков А. Г. Из архива семьи // П. И. Чайковский — Н. Ф. фон Мекк: Переписка. Т. 1. С. 477 (имя ошибочно дано как «Елена»; Дудинская Н. Жизнь в искусстве: Воспоминания. СПб., 1999. С. 11).
124 … Дверь из комнаты дочери они заменили портьерой… — В данном случае рассказана откровенная сплетня. Поверив в перспективу романа с наследником, Кшесинская поселилась отдельно от родителей, сознавая, что встречаться с ним в родительском доме «немыслимо» (см.: Кшесинская М. Ф. Воспоминания // Подгот. текста, коммент. и подбор ил. И. Клягиной; предисл. В. Гаевского. М., 1992. С. 43 – 44). Сами же эти встречи вплоть до 1893 г. носили характер невинного флирта, о чем ниже пишет сам Г. А. Римский-Корсаков.
125 Н. Н. Фигнер предупреждал Кшесинскую, что великие князья «Михайловичи» следят за Николаем (см. запись в ее дневнике от 8 января 1893 г.). Имя М. И. Петипа в копии 143 дневников, снятых В. А. Рышковым, не упоминается. Возможно, Г. А. Римский-Корсаков спутал балетмейстера с его дочерью Марией Мариусовной, немало досаждавшей Кшесинской. Ср. запись от 11 апреля 1892 г.: «Ники обещал завтра приехать непременно в балет и прийти на сцену. Я его очень просила не подавать руки Марии Петипа… Я ее ненавижу, противную сплетницу…» (ГЦТМ. Ф. 134. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 38).
126 Ср. продолжение записи от 11 апреля 1892 г.: «Ники [уехал очень поздно — зачеркнуто] был у меня довольно долго, он хотел еще остаться, но боялся, так как он теперь живет с Папá в Зимнем дворце, куда возвращаться очень поздно опасно, там все шпионы [по его словам — зачеркнуто]». Или запись от 13 апреля того же года: «Папá уехал в Варшаву, и теперь больше свободы. Сегодня в Царском селе карусель, Ники туда едет» (ГЦТМ. Ф. 134. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 38, 38 об.).
127 Великие князья «Михайловичи»… — Имеются в виду двое из шести сыновей вел. кн. Михаила Николаевича (1832 – 1909), последнего сына императора Николая I: Николай (1859 – 1919) и Сергей (1869 – 1918), увлекавшиеся Кшесинской.
128 Когда будущая царственная чета летом 1894 г. находилась в Англии, Алиса Гессенская (Александра Федоровна) сделала приписку к будничной записи в дневнике Николая от 8-го июля 1894 г.: «Мой дорогой мальчик, всегда неизменный, всегда единственный. Доверься мне и верь в свою девочку, которая любит тебя так преданно и глубоко, что не может об этом рассказать. Язык слишком беден, чтобы выразить мою любовь, восхищение и уважение. Что в прошлом, то в прошлом, и никогда больше не вернется. Мы можем спокойно оглянуться назад. Мы все в этом мире подвергаемся искушениям, и когда мы молоды, мы не всегда можем противостоять им и побороть их. Но когда мы каемся и возвращаемся на путь истины, Бог прощает нас. “Если мы исповедуем грехи, то Он остается верен своему завету и сразу прощает нам наши грех”. Бог прощает тех, которые исповедуют свои прегрешения. Прости мне то, что я написала, я лишь хочу, чтобы ты был уверен в моей любви к тебе и в том, что я люблю тебя еще больше с тех пор, как ты рассказал мне эту маленькую историю. Как же глубоко тронула меня твое доверие! Я молю Бога, чтобы я всегда была его достойна. Да благословит тебя Господь, бесценный Ники!» (Дневники императора Николая II: 1894 – 1918 / Отв. ред. С. В. Мироненко. М., 2011. Т. 1. С. 93 – 94; см. также: ГАРФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 233. С. 11). Об отношении Николая II к М. Ф. Кшесинской в последующие годы С. М. Волконский вспоминал: «… государь вмешивался в мелочные подробности балетного репертуара и даже распределения ролей. Это было всегда ради удовлетворения какого-нибудь желания Кшесинской; это всегда сопровождалось какою-нибудь несправедливостью по отношению к какой-нибудь другой танцовщице. Сам государь не знал, что творит несправедливость. Он исполнял чужую просьбу, и просьба ему докладывалась в такой форме, что несправедливость оставалась сокрыта» (Волконский С. М. Мои воспоминания. Т. 2. С. 160).
129 «Алиса ему очень нравится, он говорил мне об этом раньше, и я серьезно начинаю его к ней ревновать», — записала М. Ф. Кшесинская 21 апреля 1892 г., прочитав дневник Николая. Беспокойство ее вызвала запись от 1 апреля 1892 г.: «… Весьма странное явление, которое я в себе замечаю: я никогда не думал, что два одинаковых чувства, две любви одновременно совместимы в душе. Теперь уже пошел четвертый год, что я люблю Аликс Г[ессенскую] и постоянно лелею мысль, если Бог даст, на ней когда-нибудь жениться! На следующую зиму я сильно влюбился в Ольгу Д[олгорукую] теперь, 144 впрочем, это прошло! А с лагеря 1890 года по сие время я страстно полюбил (платонически) маленькую Кшесинскую. Удивительная вещь наше сердце! Вместе с этим я не перестаю думать об Аликс» (цит. по: Мироненко С. В., Перегудова З. И., Андреев Д. А., Хрусталев В. М. Дневники императора Николая II: История изучения, публикации // Дневники императора Николая II. Т. I. С. 16).
130 Сын Кшесинской Владимир родился в 1902 г., получив в 1911 г. по Высочайшему указу фамилию Красинский, отчество Сергеевич и потомственное дворянство. Впрочем, молва приписывала отцовство вел. кн. Андрею Владимировичу. В своих воспоминаниях Кшесинская подтвердила эту версию, заявив, что Сергей Михайлович лишь «взял вину» на себя.
131 … различными поставками и финансовыми аферами. — В ГЦТМ в архив А. А. Горского попала вырезка статьи из неопознанной газеты под названием «Тайны М. Ф. Кшесинской». В ней отражены реалии весны 1917 г. Журналист С. Фрид получил разрешение на доступ в брошенный М. Ф. Кшесинской особняк и смог изучить ее корреспонденцию и документы. Его внимание привлекли полушифрованные письма и телеграммы вел. кн. Сергея Михайловича («Мешок выслан на имя Веденяпина с вечерним скорым поездом»; «Прошел границу пешком, пока все благополучно», и т. п.), доказывающие, что «г-жа Кшесинская участвовала в крупных коммерческих делах, пользуясь услугами и влиянием великого князя» (ГЦТМ. Ф. 77. Ед. хр. 163).
132 Вел. кн. Андрей Владимирович (1879 – 1956) — четвертый сын великого князя Владимира Александровича и Марии Павловны, внук Александра II. Эмигрировал в 1920 г., брак с Кшесинской последовал в 1921 г.
133 Имеется в виду картина «Тени» из балета М. И. Петипа «Баядерка» на музыку Л. Минкуса (программа М. И. Петипа и С. Н. Худекова), впервые представленного в петербургском Большом театре 23 января 1877 г. В постановке Петипа «Тени» предшествовали заключительной картине — бракосочетания Солора с Гамзатти и разрушения храма. «Тени» превратились в завершающую картину московской постановки только с 1907 г. См. коммент. 134.
134 Исчезновение из московской постановки «Баядерки» финальной картины «возмездия» было технической случайностью, а не сознательным выбором балетмейстера. Начиная с сезона 1907/1908 гг. прекратилась пересылка из Петербурга «полной обстановки», включая машин разрушения храма последнего акта. Из-за этого «московской режиссуре пришлось довольствоваться тем, что нашлось под руками. “Компилятивная обстановка” же нанесла явный художественный ущерб балету. По указанной причине был выкинут последний акт — разрушение храма» (Евг. Ш[ест]ов. «Баядерка» и «Нур и Анитра»: Спектакль 2 декабря // Театр. 1907. № 121. 4 дек. С. 13). Отказ от последнего акта стал постоянным, вызвав изменение драматургии, главной темы и жанра «Баядерки».
135 … авторское право собственности в балетном театре. — Ср. в конце док. 6 абзац, начинающийся словами: «В балетном театре нарушение авторского права всегда…»
136 «Царь Кандавл» — один из ранних балетов М. И. Петипа на музыку Ц. Пуни (1868), обновленный им в 1891 г. «Сандрильона» («Золушка») — балет на музыку Б. Фитингоф-Шеля, программа Л. Пашковой, хореография М. И. Петипа, Л. И. Иванова и Э. Чекетти (1893). «Синяя Борода» — балет на музыку П. П. Шенка, хореография М. И. Петипа (1896). «Гарлемский тюльпан» — балет на музыку Б. Фитингоф-Шеля, программа Л. И. Иванова, хореография М. И. Петипа и Л. И. Иванова (1887).
137 145 Шенк Петр Петрович (1870 – 1915) и Фитингоф-Шель Борис (1829 – 1901) — композиторы.
138 Имеется в виду Иванов Михаил Михайлович (1849 – 1929) — композитор, музыкальный критик газеты «Новое время». Для Императорских театров написал балет «Весталка» (программа С. Н. Худекова), поставленный М. И. Петипа и показанный 17 февраля 1888 г. в Мариинском театре. Пропагандировал симфоническую музыку, один из немногих музыкальных критиков, приветствовавших появление «Спящей красавицы» на сцене Императорских театров в 1890 г.
139 «Коппелия» была возобновлена в Мариинском театре 26 января 1894 г. в бенефис П. Леньяни. На афише указывалось: «Танцы поставлены балетмейстером М. И. Петипа, возобновлены балетмейстером Э. Чекетти», однако очевидно, что Чекетти не ограничился возобновлением.
140 Имеется в виду представление «Коппелия» 25 февраля 1905 г. Этот балет постоянно шел в Москве с 1882 г. См. также коммент. 142.
141 «Саламбо» — балет А. А. Горского на музыку А. Ф. Арендса, впервые представлен в Большом театре 10 января 1910 г. Об отношении Е. В. Гельцер к этой постановке см.: Горский. 2000. С. 124 – 130.
142 … Гельцер выбрала «Коппелию» <…> элементы французского и итальянского стиля танца. — «Технически трудные моменты в танце удавались легко и непринужденно в связи с присущей кокетливой грацией и воздушностью», — писал в 1907 г. о Е. В. Гельцер — Сванильде Е. Шестов, упоминая о «грациозной и не без брио» манере исполнения болеро. Со временем эта манера — очевидно, под влиянием Горского — несколько изменилась, и в 1911 г. тот же Шестов писал о «характерных угловато-размашистых манерах испанки-простолюдинки». Разнообразие отличало и игру Гельцер: «В первом акте она — женщина, которую гложет подозрение об измене. Во втором — это ребенок, собирающийся совершить занятную шалость и не знающий удержу» (Театр. 1915. 31 марта – 1 апр.).
143 Об А. Сен-Леоне см. коммент. 23.
Нюиттер Шарль (1828 – 1899) — французский либреттист и переводчик, автор либретто «Ручья» Л. Делиба — Л. Минкуса и «Коппелии» Л. Делиба, а также оперетт Ж. Оффенбаха, Ф. Эрве, Ш. Лекока и др., архивист Парижской оперы.
Предположение о том, что Сен-Леон не участвовал в создании либретто «Коппелии», имеет мало оснований. Более того, Сен-Леон позволял себе диктовать волю и композиторам, будучи сам разносторонне музыкально одаренным балетмейстером и скрипачом-виртуозом. В архиве Сен-Леона в Библиотеке-Музее Парижской оперы сохранились ноты чисто инструментальных произведений, например вариации на темы Глинки, позволяющие думать, что он сам сочинял музыку. См. также: Свешникова А. Петербургские сезоны Артура Сен-Леона: 1859 – 1870. СПб., 2008.
Вопросы, поднятые Г. А. Римским-Корсаковым о «Коппелии» в петербургской постановке, сохраняют свою актуальность до настоящего времени, осложняясь проблемой редакции 1894 г.
144 Балет «Маркобомба, или Сержант-волокита» на музыку Ц. Пуни впервые поставлен в России Ж. Перро в Петербурге в 1854 г. Показан в бенефис Л. И. Иванова 5 декабря 1899 г. Балет Г. Оге «Роберт и Бертрам, или Два вора» на музыку И. Ф. Шмидта и Ц. Пуни создан в 1841 г., в России впервые поставлен в 1858 г. в Петербурге, на обеих столичных сценах шел в постановке Ф. И. Кшесинского.
145 146 Похожий эпизод, впрочем, был и в «Эсмеральде» Ж. Перро, возобновленной Петипа в том же 1899 г. в Мариинском театре.
146 Абзац намечен автором к сокращению.
Шатин Анатолий Васильевич (1904 – 1972) — артист балета, балетмейстер и балетный педагог, один из организаторов в 1933 г. балетной школы и театра «Острова танца» в ЦПКиО им. Горького, где он был руководителем отделения классического танца, а в 1937 – 1941 г. — художественным руководителем театра. Г. А. Римский-Корсаков участвовал в работе секций школы и хореологической лаборатории «Острова танца», писал либретто, организовывал диспуты и дискуссии по истории балетного театра и т. п. В архиве Римского-Корсакова сохранились стенограммы читанных там докладов Н. А. Попова, В. П. Ильина, В. П. Ивинга и собственные. (См.: ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 77 – 79 и др.).
«Маркобомба» на музыку С. А. Халатова в постановке А. В. Шатина и режиссуре Е. В. Яворского была впервые показана «Островом танца» 8 августа 1936 г.
Соображения Г. А. Римского-Корсакова о музыке «Маркобомбы» и об этой постановке см.: ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 67 и 68.
147 Эльслер Фанни (наст. имя Франциска, 1810 – 1884) — танцовщица и балетмейстер. В 1848 – 1851 гг. гастролировала в России. Тезис автором не раскрыт.
148 Из дневников Петипа за 1903 – 1905 гг. видно, что это не так. Скажем, он близко к сердцу принимает поражения русского флота в войне с Японией: «Ужасное известие. Адмирал Макаров натолкнулся на мину и погиб. Корабль потонул. Масса погибших, сын великого князя Владимира ранен» (Мариус Петипа: Материалы. Воспоминания. Статьи. С. 94).
149 «Пираты» — балет с таким названием среди работ М. И. Петипа отсутствует. Возможно, имеется в виду балет «Бандиты» на музыку Л. Минкуса, поставленный 26 января 1875 г. в петербургском Большом театре.
150 Вазем Екатерина Оттовна (1848 – 1937) — артистка петербургского балета (1867 – 1884), первая исполнительница главных партий в балетах, созданных М. И. Петипа в эти годы, автор ценных воспоминаний (См.: Вазем Е. О. Записки балерины Санкт-Петербургского Большого театра: 1867 – 1884. Л., 1937).
151 Гарнье Шарль (1825 – 1898) — французский архитектор эпохи эклектики, историк искусства. В 1861 г. выиграл конкурс на проект нового здания Парижской оперы, которое открылось в 1875 г.
Карпо Жан-Батист (1827 – 1875) — французский скульптор. Фасад Парижской оперы украшает скульптура Карпо «Танец» (ряд других скульптур создали Ж.-Б. Клагман, Ш.-А. Гюмери, Э. Милле).
152 Неясно, какие здания имеются в виду. Дворец М. Ф. Кшесинской находится на Большой Дворянской улице (ныне улица Куйбышева). Он построен в 1904 – 1906 гг. в стиле «северный модерн» архитектором А. И. фон Гогеном. Рядом с ним находился особняк барона В. Э. Брандта (1909, архитектор Р.-Ф. Мельцер), ныне они объединены в одно здание.
153 Очевидно, автор пересказывает слух, имевший хождение в театральной среде.
Прошение о «праве принятия присяги на подданство России вместе с детьми» М. И. Петипа подал в дирекцию Императорских театров 26 августа 1892 г. (РГИА. Ф. 497. Оп. 5. Ед. хр. 2467. Л. 319). В справке к прошению указывалось, что «артисты-иностранцы представлены на принятие присяги на подданство России рапортом от 147 15 февраля 1888 г. за № 310, но до сего времени разрешения не последовало» (Там же). В справке перечислены дети от второго брака балетмейстера, которые должны были принять подданство вместе с отцом: «Сын Виктор родился 20 января 1878 года. Дочь Любовь родилась 1 июля 1880 года. Сын Марий родился 5 января 1884 года. Дочь Вера родилась 13 сентября 1885 года» (Там же. Л. 321). Таким образом, принятие этого решения никак не могло быть связано с воинской повинностью сыновей (впоследствии Марий, как пишет его сестра Вера, «пристрастился к военной службе», но по отбывании повинности это увлечение прошло). После долгой паузы Административный отдел Кабинета Его Величества ответил 8 февраля 1893 г., что «к принятию присяги на подданство России Балетмейстером Императорских С.-Петербургских Театров французским гражданином Мариусом Петипа препятствий не встречается», но «что же касается принятия в русское подданство детей просителя, то ходатайство об этом, на основании ст. 1015 т. IX Св. Зак. о сост. изд. 1876 г., — не может быть осуществлено». 26 февраля 1893 г. И. А. Всеволожский подал на этот счет ходатайство от своего имени, в котором ссылался на «примеры разрешения, с ВЫСОЧАЙШЕГО соизволения через Г. Министра Внутренних Дел принять Русское подданством вместе с семейством: в 1874 г. Капельмейстеру русской оперы Направнику и в 1892 г. Артисту-скрипачу Кристману» (Там же. Л. 327).
Из попавшей случайно в дело М. И. Петипа в РГИА паспортной книжки его сына Виктора Мариусовича следует, что результат обращения Всеволожского был отрицательным, так как Виктор принял присягу только 14 декабря 1900 г.
М. И. Петипа был приведен к присяге на подданство России 8 января 1894 г.
154 В 1862 г. была поставлена «Дочь фараона» на музыку Ц. Пуни. В том же 1862 г. началось осуществление проекта Парижской оперы, одобренного годом ранее.
155 На самом деле этот одноарочный мост через Сену между Домом инвалидов и Елисейскими полями был заложен в 1896 г. в ознаменование франко-русского союза. Строительство по проекту инженеров Ж. Резаля и А. Альби завершено в 1900 г. Техническим достижением на время постройки считалась низкая высота моста (менее 6 метров), вызванная требованием не допустить перекрытия вида на Елисейские поля.
156 Семирадский Генрих Ипполитович (1843 – 1902) — польский и русский художник, один из крупнейших представителей академизма.
157 Мейербер (Meyerbeer) Джакомо (наст. Якоб Либман Бер, Jacob Liebmann Beer; 1791 – 1864) — немецкий и французский композитор.
158 По воспоминаниям В. П. Погожева, И. А. Всеволожского задевало, когда его фамилию писали «Всеволожский», а не «Всеволожской» (Из фонда В. П. Погожева: Письма и воспоминания. С. 45). В научной литературе, однако, прижилось написание «Всеволожский».
159 «Дочь фараона» поставлена Петипа в 1862 г., «Царь Кандавл» в 1868-м, «Дон Кихот» в 1869 г. в Москве, в 1871 г. в Петербурге, «Баядерка» в 1877 г.
160 Имеется в виду издание: Мемуары Мариуса Петипа, солиста Его Императорского Величества и балетмейстера Императорских театров. СПб., 1906.
161 В воспоминаниях В. А. Теляковского подобный эпизод не упоминается.
162 Вспомним «Баядерку», «Нур и Анитру» в Большом театре и «Тщетную предосторожность» в балете Элирова! — Имеются в виду возобновление «Баядерки» Л. Минкуса и премьера «Нур и Анитры» А. А. Ильинского, показанные 2 декабря 1907 г., а также 148 «Тщетная предосторожность», показанная 18 октября 1920 г. на сцене Театра Корша труппой «Молодой балет» (Первой школы балетного искусства Э. И. Элирова). «Баядерка» и «Нур и Анитра» давались в сборных декорациях с 1907 г. (см. об этом также коммент. 134). Согласно мемуарам О. В. Некрасовой, «Тщетную предосторожность» Горский ставил «по своему сценарию с собственными декорациями» (ср.: Горский. 2000. С. 198). Элиров (наст. фам. Векштейн) Эдуард Иванович — балетмейстер. В 1923 – 1925 гг. был директором Петроградского хореографического техникума. В первой половине 1920-х гг. — руководитель труппы «Молодой балет». В 1925 г. после гастролей в Харбине остался в эмиграции.
163 Имеется в виду эпизод из мемуаров М. И. Петипа, где тот рассказывает о возобновлении «Девы Дуная» по желанию императора Александра II, который видел этот балет в детстве. В изложении Петипа директор театров К. К. Кистер в свойственной ему манере отказал в средствах на «роскошное» возобновление, что будто бы вызвало неудовольствие царя: «Г-н Петипа, танцы вы поставили прелестно, но, право же, ни в одном, самом захолустном театре не увидишь таких ужасных декораций и костюмов» (Мариус Петипа: Материалы. Воспоминания. Статьи. С. 52 – 53).
164 Премьера «Волшебного зеркала» с музыкой А. Н. Корещенко и в декорациях А. Я. Головина состоялась 9 февраля 1903 г. в прощальный бенефис М. И. Петипа.
Головин Александр Яковлевич (1863 – 1930) — художник, главный декоратор петербургских Императорских театров с 1902 г.
Об отношении М. И. Петипа к декорациям А. Я. Головина см. в его дневнике и мемуарах: Мариус Петипа: Материалы. Воспоминания. Статьи. С. 55 – 56, 61 – 62, 68, 70 – 71.
165 Указания, которые Петипа делал Чайковскому о характере музыки для его балетов. — Имеются в виду планы-заказы к «Спящей красавице» и «Щелкунчику». См.: Мариус Петипа: Материалы. Воспоминания. Статьи. С. 129 – 144. План-заказ «Щелкунчика» впервые был опубликован М. И. Чайковским, настаивавшим, что подобные указания не только не стесняли, но «окрыляли» композитора. (См.: Чайковский М. И. Жизнь Петра Ильича Чайковского. Т. 3. С. 498).
166 Пуни Цезарь (1802 – 1870), Минкус Людвиг (1826 – 1917) — балетные композиторы Императорских театров.
167 Ср. в мемуарах И. Ф. Кшесинского: «К музыке Петипа был очень требователен и для балета требовал помимо мелодии особой ритмики. <…> Раньше чем приступить к постановке балета он часами просиживал с композитором у рояля, вслушивался, смаковал, указывал на необходимые изменения…» (ГЦТМ. Ф. 134. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 6 об. – 7).
168 Перечислены балеты, программу к которым сочинил М. И. Петипа. О «Щелкунчике», из-за болезни Петипа поставленном в 1892 г. Л. И. Ивановым, см. коммент. 112. «Времена года» и «Испытание Дамиса» на музыку А. К. Глазунова были впервые представлены на сцене Эрмитажного театра в 1900 г.
169 … «Коппелия», [«Джиоконда»]. — «Джоконда» — опера А. Понкиелли, для которой М. И. Петипа дважды — в 1883 и 1888 гг. — сочинял танцы, главным из которых является Танец часов в 3 действии. Сложно сказать, почему название оперы оказалось вычеркнуто. Танец часов есть и в «Коппелии» Л. Делиба — автор имеет в виду постановку М. И. Петипа 1884 г., где в нем было занято 12 солисток.
170 … Радина, Мария Петипа и Скорсюк. — Радина Любовь Петровна (1838 – 1917) — танцовщица петербургского балета (1855 – 1885), вопреки утверждению автора Радина 149 была не только характерной, но сильной классической танцовщицей и мимисткой, исполняла заглавные партии в балетах «Сатанилла», «Катарина, дочь разбойника» и др., на преимущественно характерный репертуар перешла в 1870 – 1880-е гг. О М. М. Петипа см. коммент. 88. Скорсюк Мария Сергеевна (1872 – 1901) — артистка петербургского балета (1890 – 1901), характерная танцовщица, успешно соперничавшая с М. М. Петипа, партнерша А. А. Горского.
171 См. архив Петипа в ГЦТМ. Ф. 205. Ед. хр. 485 (лестница в «Раймонде») и Ед. хр. 226 (Заметки к 1 картине — состав участников, монтировка и рисунок майского дерева). Рисунок с майским деревом факсимильно воспроизведен в изд.: Мариус Петипа: Материалы. Воспоминания. Статьи. С. 214.
172 «Царица льдов» — имеется в виду балет «Дочь снегов» (программа и хореография М. И. Петипа), представленный в петербургском Большом театре 7 января 1879 г., где во втором действии использовались (не без накладок) различные эффекты только что проведенного в Большом театре электричества.
173 «Бабочка» — балет М. И. Петипа (программа Ж. Сен-Жоржа и М. И. Петипа), впервые представленный в петербургском Большом театре 6 января 1874 г.
174 См. Мариус Петипа: Материалы. Воспоминания. Статьи. С. 60 – 61.
175 О Н. А. Бакеркиной см. коммент. 30.
Насилов (Носилов) Николай (Нил) Иванович (1887 – 1942) — балетовед, балетный критик. Сын прима-балерины Императорских театров Е. О. Вазем.
Мы не находим никого из больших театральных художников, таких как Роллер, Бочаров, Шишков, в числе его друзей. — Из мемуаров И. Ф. Кшесинского следует, что причиной этого была, напротив, заинтересованность Петипа в оформлении, соединенная со свойствами характера: «Петипа в своем таланте был заносчив и нетерпим, подчас сцеплялся с декораторами-художниками, как то: с Бочаровым, Шишковым или электротехником Шишко, а то с главным машинистом Роллером и Бергером, и во время больших репетиций у них происходили бурные сцены; лишь со стариком Вагнером (декоратор-художник) не спорил, с которым он был очень деликатен. Этого подчиненного и великого мастера своего дела все почитали, все любили» (ГЦТМ. Ф. 134. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 4).
В 1890-е гг. М. И. Петипа в плане декораций и костюмов полагался на вкус и советы И. А. Всеволожского, которого определенно можно считать крупным театральным художником. См., в частности, материалы Петипа в ГЦТМ (напр., к «Раймонде») и с известными оговорками — ответ Н. А. Бакеркиной на пункт 22 анкеты Г. А. Римского (коммент. 30). Бакеркина, в частности, могла не знать о подготовительной работе Петипа в музеях, которая также видна по его архиву.
176 Любопытно замечание В. Я. Светлова об обстановке «Спящей красавицы», сделанное уже в эмиграции: «При директорстве Теляковского пришлось сделать всю обстановку заново, так как декорации обветшали, а костюмы истрепались окончательно. Новая обстановка была поручена академику К. А. Коровину. На этот раз не могло быть и речи о выписке материалов из Лиона и затрате сорока тысяч рублей, в каковые, как говорили, обошлась первая постановка. Бюджет Императорского Двора был “забронирован” от покушений Государственной думы при условии его стабильности; при малейшем увеличении он подлежит обсуждению Государственной думы; министерство ни под каким видом не могло допустить этого. Поэтому по ведомству Императорских театров 150 соблюдался строгий режим экономии, и Теляковский проводил его неукоснительно, найдя в лице своего художественного советника К. А. Коровина большую поддержку: Коровин в своих блестящих постановках умел достигать значительного сокращения расходов. Он заставлял шить костюмы из самых обыкновенных дешевых материалов, раскрашивая их до полной иллюзии дорогих тканей; цветные камни он заменял кусочками фольги; эффект при соответствующем освещении получался поразительный, столь же поразительный, как и экономия» (Светлов В. Я. «Спящая красавица» // Возрождение. Париж, 1933. № 2831. 3 марта. С. 5).
177 Эпизод с «голубым трико» действительно есть в мемуарах В. А. Теляковского, но суть и детали его переданы Г. А. Римским-Корсаковым весьма приблизительно. Певец, а именно Б. Б. Корсов, вызвал возмущение К. А. Коровина тем, что в его присутствии называл А. Я. Головина «бездарным художником». На это Коровин резко возразил: «Когда носят голубое трико в “Гугенотах”, тогда о художестве говорить не приходится! Вы в живописи ровно ничего не понимаете и понимать никогда не будете!» (Теляковский В. А. Воспоминания. С. 118).
178 … подобно Новерру <…> дело, начатое в русском балете Дидло. — Новерр Жан-Жорж (1727 – 1810) — французский хореограф и теоретик балета, автор трактата «Письма о танце». Дидло Карл (Шарль-Луи) (1767 – 1837) — французский танцовщик и хореограф, основоположник петербургского балета, который возглавлял в 1816 – 1833 гг.
179 До 1904 г. в Мариинском театре опера «Руслан и Людмила» шла в постановке 1886 г., обновленной в 1892 г. в честь 50-летней годовщины первой постановки этого сочинения М. И. Глинки.
180 Теляковский очень гордился этой постановкой. — В. А. Теляковский вспоминал: «Крупным событием было также коренное возобновление оперы “Руслан и Людмила” в 1904 году. К обсуждению этого вопроса в 1903 году были привлечены все выдающиеся музыкальные и художественные авторитеты, начиная с Н. Римского-Корсакова, А. Глазунова, К. Коровина, А. Головина и кончая В. Стасовым, московским критиком профессором Кашкиным и всеми капельмейстерами во главе с Э. Направником. Первое заседание этой комиссии подробно было описано Кашкиным в “Московских ведомостях”. Заседание это он назвал историческим и небывалым в истории русской оперы» (Теляковский В. А. Воспоминания. С. 141).
181 Мельников Иван Александрович (1832 – 1906) — оперный певец (лирико-драматический баритон), солист Мариинского театра (1867 – 1892). Числясь в труппе, 1890-е гг. он уже не появлялся на сцене. Стравинский Федор Игнатьевич (1843 – 1902) — оперный певец (бас), отец композитора И. Ф. Стравинского. С 1876 г. и до конца жизни — в Мариинском театре. Главным исполнителем партии Руслана в годы, к которым относятся первые театральные впечатления мемуариста, был Василий Семенович Шаронов (1867 – 1929), оперный певец (баритон), служивший в Мариинском театре с 1895 по 1927 г.
182 Литвин Фелия Васильевна (наст. имя и фам. Франсуаза-Жанна Шютц, 1861 – 1936) — оперная певица (сопрано); Ершов Иван Васильевич (1867 – 1943) — оперный певец (тенор), солист Мариинского театра (1895 – 1929); Больска (урожд. Скомпская) Аделаида Юлиановна — оперная певица (сопрано), солистка Мариинского театра (1897 – 1918); Серебряков Константин Терентьевич (1852 – 1919) — оперный певец (бас), солист Мариинского театра (1887 – 1911); Чернов (наст. фам. Эйнгорн) Аркадий Яковлевич (1858 – 1904) — оперный певец (баритон), солист Мариинского театра (1886 – 1900).
183 151 … мы попали на оперу «Далибор» Сметаны. — Опера Б. Сметоны была поставлена в Мариинском театре в 1899 г.
184 Имеется в виду сцена встречи Милады с Далибором в 3-й картине 2 акта.
185 Как-то мы экспромтом поехали слушать оперу «Садко»… «Три богатыря» Васнецова — Имеется в виду постановка оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко» в Московской частной оперы С. И. Мамонтова. Премьера состоялась 26 декабря 1897 г. в Москве на сцене Театра Солодовникова. Основным автором оформления был К. А. Коровин, ему помогали С. В. Малютин и, по свидетельству Ф. И. Шаляпина, М. А. Врубель. Врубель также создал костюм Н. И. Забеллы-Врубель, В. А. Серов — костюм Ф. И. Шаляпина.
Секар-Рожанский (наст. фам. Рожанский) Антон Владиславович (1863 – 1953) — оперный певец (лирико-драматический тенор), солист Московской частной оперы С. И. Мамонтова (1896 – 1901); Забелла-Врубель Надежда Ивановна (1868 – 1913) — оперная певица (лирико-колоратурное сопрано), солистка Московской частной оперы С. И. Мамонтова (1897 – 1902), Мариинского театра (1904 – 1910). «Садко» с их участием шел во время первых гастролей Частной оперы в Петербурге на сцене Большого зала Консерватории (23, 26 февраля, 6 и 26 марта 1898 г.). Тот же год указывается в авторском комментарии № 22.
Однако персональная выставка В. М. Васнецова в залах Академии художеств открылась 14 февраля 1899 г. Возможно, Г. А. Римский-Корсаков смотрел «Садко» 23 марта 1899 г. во время повторных гастролей мамонтовцев (Забелла и Секар-Рожанский в них не участвовали) либо, напротив, впечатления 1898 г. наложились на восприятие выставки.
186 Правомерность этой ассоциации признавал автор музыки «Садко». Находясь под сильным впечатлением от выставки В. М. Васнецова и его «Трех богатырей», Н. А. Римский-Корсаков говорил друзьям: «По-моему, эта выставка вся сплошь какая-то вдохновительная». (См. Гозенпуд А. Н. А. Римский-Корсаков: Темы и идеи его оперного творчества. Л., 1957. С. 133).
187 Премьера «Снегурочки» Н. А. Римского-Корсакова в Московской частной опере С. И. Мамонтова состоялась в 1885 г.
188 Направник Эдуард Францевич (1839 – 1916) — дирижер, композитор, музыкальный деятель. Первый капельмейстер (главный дирижер) Мариинского театра с 1869 г.
189 Палечек Осип (Йозеф) (1842 – 1915) — оперный певец, в 1900 – 1915 гг. режиссер оперы Мариинского театра.
190 «Евгений Онегин» (режиссер И. М. Лапицкий) — первая постановка Театра музыкальной драмы, существовавшего в Петербурге в 1912 – 1922 гг. Он открылся ею 11 декабря 1912 г.
191 Лапицкий Иосиф Михайлович (1876 – 1944) — оперный режиссер.
192 … «Онегина» дал у себя в студии Станиславский. — Премьера «Евгения Онегина» П. И. Чайковского в постановке К. С. Станиславского состоялась 15 июня 1922 г. Периодически возобновляемый, этот спектакль являлся визитной карточкой сначала Оперной студии К. С. Станиславского, а затем Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко.
193 Хохлов Павел Акинфеевич (1854 – 1919) — оперный певец (баритон), солист Большого (1879 – 1881, 1882 – 1886, 1889 – 1900) и Мариинского (1881, 1887 – 1888) театров.
194 Грызунов Иван Васильевич (1879 – 1919) — оперный певец (лирический баритон). В 1904 – 1908 и 1909 – 1915 гг. — солист Большого театра (дебютировал в партии Онегина).
195 152 «Пиковая дама» на сцене Мариинского театра имела «балетный» вид. — Премьера «Пиковой дамы» на сцене Мариинского театра состоялась 7 декабря 1890 г. В «Ежегоднике Императорских театров» подчеркивалось, что она была подготовлена «с особенною тщательностью» (Ежегодник Императорских театров: Сезон 1890/1891. СПб., 1892. С. 169). Декорации были выполнены В. В. Васильевым, А. С. Яновым, Г. Левотом, К. М. Ивановым, И. П. Андреевым. Танцевальную интермедию «Искренность пастушки» ставил М. И. Петипа.
196 Джури Аделина Антоновна (1872 – 1963) — артистка балетной труппы Большого театра (1891 – 1902).
… проделали такой опыт. — Возможно имеется в виду школа «Остров танца» в ЦПКиО им. Горького, в которой А. А. Джури была педагогом, а Г. А. Римский-Корсаков руководителем хореологической лаборатории. По-видимому, речь идет об учебном спектакле, так как среди танцев, поставленных здесь Джури в 1936 – 1937 гг., «Татьяна в усадьбе Онегина» не значится. (См.: Souritz E. Moscow’s Island of Dance. 1934 – 1941 // Dance chronicle. 1994. Vol. 17. No l. P. 86).
197 Либретто сохранилось в архиве Г. А. Римского-Корсакова (ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 54 и 55).
198 Премьера оперы в режиссуре И. М. Лапицкого состоялась 12 октября 1914 г.: «Стильная и интересная постановка “Пиковой дамы” в театре Музыкальной драмы, видимо, заинтересовала нашу публику», — констатировал рецензент «Биржевых ведомостей» (1914. № 14532. 3 дек. С. 6).
199 Возобновление «Евгения Онегина» было показано в Большом театре 24 апреля 1933 г. Постановщик — Л. В. Баратов, балетмейстер А. И. Чекрыгин, художник И. М. Рабинович, дирижер В. Л. Кубацкий.
200 Кистер (Кюстер) Карл — управляющий контролем и кассой Министерства Императорского двора и директор Императорских театров (1875 – 1881).
201 Погожев Владимир Петрович (1851 – 1935) — чиновник дирекции Императорских театров с 1881 г., соавтор проводимых И. А. Всеволожским реформ, историк петербургских театров.
Имеется в виду издание: Погожев В. П. Экономический обзор десятилетия Императорских С.-Петербургских театров после реформы 1882 года. СПб., 1892.
202 В «Раймонде» первоначальное либретто Л. А. Пашковой прошло через редактуру И. А. Всеволожского и М. И. Петипа. «Миллионы Арлекина» («Les millions d’Arlequin»; также «Арлекинада») — балет на музыку Р. Дриго по программе и в хореографии М. И. Петипа, впервые представленный на сцене Эрмитажного театра 10 февраля 1900 г. (премьера в Мариинском театре — 13 февраля 1900 г.).
203 Премьера чеховского «Иванова» в Александринском театре состоялась 31 января 1889 г., «Чайки» — 17 октября 1896 г. Подробнее об истории подготовки постановок см.: Чепуров А. А. А. П. Чехов и Александринский театр на рубеже XIX – XX веков: 1889 – 1902. СПб., 2006.
204 См.: К. П. Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки / Предисл. М. Н. Покровского. М.; Пг., 1923. Т. 1. Полутом 2. С. 648 – 651 Маш. копия этого письма есть в архиве Г. А. Римского-Корсакова (ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 119). В декабре 1886 г. М. Г. Савина просила «Власть тьмы» у Л. Н. Толстого для своего бенефиса, но тогда же драма была запрещена к представлению. Друзьям Л. Н. Толстого удалось организовать чтение «Власти тьмы» у министра Императорского двора и уделов И. И. Воронцова-Дашкова 153 в присутствии Александра III, который как будто не возражал против подготовки спектакля (читал пьесу А. А. Стахович). 10 февраля начальник Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистов, посылая «Власть тьмы» К. П. Победоносцеву, сообщал ему, что «старания некоторых господ увенчались успехом. Вчера г. Всеволожский объявил нашему цензору г. Фридбергу, что “государь император приказал поставить пьесу графа Толстого на сцене императорских театров”» (Там же. С. 687). Ознакомившись с пьесой, Победоносцев написал Александру письмо с мнением о драме («искусство писателя замечательное, но какое унижение искусства. Какое отсутствие идеала…») и выражением категорического протеста против ее постановки на Императорской сцене, которая «уже упала очень низко». Получив 19 февраля 1887 г. письмо от царя с уверениями, что речь шла только «о пробном представлении без публики, чтобы решить, возможно ли ее давать или совершенно запретить» (Там же. С. 643), Победоносцев поспешил успокоить Феоктистова, на что последний ответил: «Чрезвычайно рад тому, что известие, сообщенное Всеволожским нашему цензору, не вполне подтверждается. А между тем в газетах уже напечатано распределение ролей между актерами. Очевидно, это делается не без косвенного участия театральной дирекции. <…> было бы в высшей степени оскорбительно, если бы подобные вещи считать пригодными для императорских театров, и жаль, что граф Воронцов-Дашков и Всеволожский не понимают этого; иначе они не подали бы мысль о необходимости устроить какую-то пробу». (Там же. С. 687). Источник цитаты о «театральной сирене» не установлен.
205 Гедеонов Степан Александрович (1816 – 1878) — директор Императорских театров (1867 – 1875), сын А. М. Гедеонова. См. также коммент. 213.
206 Дневники И. А. Всеволожского за 1876 – 1877, 1901 – 1905 и 1907 гг. хранятся в РГИА (Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 1 – 6).
207 Работы К. А. Скальковского с приводимыми сведениями не выявлено. В. А. Теляковский оценивал стоимость ремонта ниже более чем в два раза: «Главной ошибкой И. А. Всеволожского было закрытие Большого театра, этого лучшего здания из всех петербургских Императорских театров после Александринского. Большой театр требовал ремонта, который определялся в сумме около 900 000 рублей. Денег пожалели, и театр был сломан, причем стены оказались столь прочны, что взрывать их пришлось динамитом. Вместо театра построено было здание консерватории с ужасным театральным залом» (Теляковский В. А. Воспоминания. С. 29).
208 О П. А. Гердте — см. коммент. 368.
209 Сведения об условиях контрактов первых сюжетов петербургского балета Е. О. Вазем, Е. П. Соколова и П. А. Гердта в 1870-е гг. взяты Г. А. Римским-Корсаковым из книги А. А. Плещеева «Наш балет» (1896) и двухтомника «Материалы по истории русского балета» (1938 – 1939). См.: Плещеев А. А. Наш балет. СПб., 1896. С. 210, 214; Материалы по истории русского балета: 200 лет Ленингр. гос. хореогр. училища. 1738 – 1938: В 2 т. / Сост. М. Борисоглебский. Л., 1938 – 1939. Т. 1. С. 249 – 250, 253 – 254, 263.
210 Самойлов Василий Васильевич (1813 – 1887) — актер, в драматической труппе петербургских Императорских театров с 1835 г. Покинул ее в 1875 г. из-за отказа К. К. Кистера утвердить ему оклад в 12000 р. Васильев Павел Васильевич (1832 – 1878) — актер, в драматической труппе петербургских Императорских театров с 1860 по 1874 г.
См. также: Вольф А. И. Хроника петербургских театров. СПб., 1884. Ч. 3. С. 55 – 56.
211 154 В. П. Погожев, автор фундаментальных документальных монографий по истории Императорских театров, писал: «С первого момента выделения театрального управления в самостоятельное учреждение выдвигается вопрос о средствах на содержание Императорских театров, а с ним вместе — фатальное в истории Императорских театров явление дефицитов. Дефицитам постоянно и неуклонно противопоставляется ряд различных сменяющих друг друга мероприятий и реформ, знаменующих собою хроническую борьбу двух непримиримых в театральном деле начал: с одной стороны — стремления к блестящей постановке театра, а с другой — преследование экономических задач. В этой полутрстолетней борьбе затрачена масса сил и энергии, утоплено много добрых и талантливых начинаний, загублено много недюжинных репутаций; но победителем в ней всегда оставались долги и дефицит Дирекции» (Погожев В. П. Проект законоположений об Императорских театрах. Сост. по поручению министра Имп. Двора: В 3 т. СПб., [1900]. Т. 1. С. 9 – 10).
212 Борх Александр Михайлович (1804 – 1867) — директор Императорских театров (1863 – 1867). Согласно таблице «Сумма передержек», опубликованной В. П. Погожевым, в 1863 г. дефицит по всем Императорским театрам и школам составлял 542 805 р., в 1864 г. — 636 352 р., в 1865 г. — 567 320 р., в 1866 г. — 593 475 р., в 1867 г. — 407 892 р. См.: Погожев В. П. Проект законоположений об Императорских театрах. Т. 3. С. 455.
213 В «Проекте…» Погожева приводятся цифры снижения дефицита по санкт-петербургским театрам с 336 172 р. в 1870 г. до 50 566 р. в 1873 г. (Там же. С. 541).
214 Парадоксальным образом, В. П. Погожев в своем «Проекте…» приводит две цифры дефицита в последний год директорства Кистера, которые резко противоречат друг другу: 529 000 р. (Т. 1. С. 9) и «сбережение» по бюджету санкт-петербургских театров в 12 603 р. (Т. 3. С. 541). Сбережение достигалось не только сокращением расходов, но и увеличением доходной части с помощью различных налогов и сборов на частные зрелища и т. п.
215 Г. А. Римский-Корсаков полемизирует с общепринятой версией, но документальных сведений, показывающих, что при Кистере воровство достигло особенных масштабов, не выявлено.
216 См.: Погожев В. П. Экономический обзор десятилетия Императорских С.-Петербургских театров после реформы 1882 года. СПб., 1892; Он же. Проект законоположений об Императорских театрах. Т. 1. С. 10.
217 Более развернутый вариант воспоминаний о драматических спектаклях, организованных С. К. фон Мекк, см.: Римский-Корсаков А. Г. Из архива семьи // П. И. Чайковский — Н. Ф. фон Мекк. Переписка. Т. 1. С. 459 – 460, 465 – 468.
218 Имеется в виду Англо-бурская война (1899 – 1902).
219 Сведений об этих спектаклях в прессе не выявлено.
220 Яворская Лидия Борисовна (1871 – 1921) — актриса, основатель и руководитель Нового театра в Петербурге (1901 г.), часто выступала в концертах и гастролировала.
… «Разбитую вазу»… — Имеется в виду стихотворение Сюлли Прюдома «Разбитая ваза» («Не тронь ее, она разбита…») в переводе А. Н. Апухтина.
221 Мелисанда в «Принцессе Грёзе» Э. Ростана и Раутенделейн в «Потонувшем колоколе» Г. Гауптмана — одни из самых известных ролей Л. Б. Яворской, впервые сыгранные в Театре Литературно-художественного общества (в 1896 и 1897 гг. соответственно).
222 Имеется в виду пьеса Э. Легуве «Анна де Кервилер».
223 155 Попов Николай Александрович (1871 – 1949), режиссер, драматург, театральный деятель, ученик Станиславского; полковник Жерве — установить, о ком идет речь, не удалось. История с актером, в «Царе Борисе» А. К. Толстого вместо реплики «Я — папский нунций» провозгласившим «я пупский нанций», вошла в дореволюционный театральный фольклор и была увековечена в «Вампуке, Принцессе африканской».
См. также: Римский-Корсаков А. Г. Из архива семьи // П. И. Чайковский — Н. Ф. фон Мекк. Переписка. Т. 1. С. 460.
224 Братом актера Александринского театра Юрия Васильевича Корвин-Круковского (1862 – 1935) был архитектор Василий Васильевич Круковский (1861 – после 1916). В авторском коммент. 25 говорится об архитекторе Московской конторы государственного банка — т. е. о Сергее Сергеевиче Корвин-Круковском (1874 – 1937), который проживал в Москве и был архитектором Главного казначейства.
225 По-видимому, имеется в виду Ратаев Леонид Александрович (1857 – 1937) — деятель российского политического сыска, в 1902 – 1905 гг. — заведующий заграничной агентурой, непосредственный начальник Азефа. Ратаев действительно увлекался театром, писал пьесы и участвовал в спектаклях петербургского Малого театра.
226 См.: Щеглов Ив. Красный цветок: Драматический этюд в 1 д. // Щеглов И. Новые пьесы. СПб., 1900. С. 1 – 26.
227 Сазонов Николай Федорович (1843 – 1902) — актер и режиссер Александринского театра с 1864 г., режиссер различных великосветских и любительских представлений.
228 Ционглинский Ян (Иван) Францевич (1858 – 1912) — польский и российский художник, один из основателей «Мира искусства», с 1888 г. профессор Рисовальной школы при Императорском обществе поощрения художеств, жил в Петербурге. Как отмечает биограф художника, «… любовь Ционглинского к музыке и театру положила начало его общению с музыкантами, композиторами, певцами и артистами, и также побудила к созданию портретов выдающихся деятелей музыкальной культуры» (Гуреневич М. Петербургский живописец с сердцем Шопена // Наше наследие. 2008. № 86. С. 140). Среди них — портрет певца И. В. Ершова и композитора С. В. Рахманинова.
229 Очевидно, имеется в виду Шитов Сергей Федорович (1880 – 1942) — художник, в 1896 – 1903 гг. — ученик Московского училища живописи, ваяния и зодчества.
230 Гайдебуров Павел Павлович (1877 – 1960) — актер и режиссер, создатель Передвижного театра. В хронологии выступлений П. П. Гайдебурова волочановские спектакли не присутствуют. (См. также: Римский-Корсаков А. Г. Из архива семьи // П. И. Чайковский — Н. Ф. фон Мекк. Переписка. Т. 1. С. 466.)
231 Имеется в виду Степанова Варвара Васильевна. См. о ней также: Римский-Корсаков А. Г. Из архива семьи // П. И. Чайковский — Н. Ф. фон Мекк: Переписка. Т. 1. С. 353, 432 – 433, 466, 471 – 472, 476, 483, 484.
232 Имеется в виду Кремлевский (наст. фам. фон Эльтерман) Федор Иванович (1867 – ?), державший небольшие антрепризы в провинции.
233 Репина Вера Ильинична (1872 – 1948) — дочь И. Е. Репина, выпускница драматических курсов Петербургского театрального училища в 1898 г. В «Волшебном вальсе» играла Верочку. См. Ходотов Н. Н. Близкое — далекое / Предисл. Я. О. Малютина, подгот. текста и примеч. Г. З. Мординсона. 2-е изд., испр. и доп. Л.; М., 1962. С. 45, 59.
234 Имеются в виду следующие одноактные пьесы: «Волшебный вальс» А. Шмидтгофа, «Жена напрокат» С. Рассохина, «Из-за мышонка» А. Розо (переделка Л. К. М[аевского]).
235 156 Возможно, речь идет об актере Иване Ивановиче Судьбинине (1866 – 1919).
236 Сведений обнаружить не удалось.
237 Племянник П. И. Чайковского Владимир (Боб) Львович Давыдов покончил жизнь самоубийством в 1906 г. Хранители Дома-музея в Клину утверждают, что портрет Ю. М. Юрьева пострадал от действий анархиста Дорошенко, поселившегося здесь с семьей в 1917 г. и до своего ареста в 1918 г. имевшего обыкновение по утрам расстреливать картины. (См. также: Римский-Корсаков А. Г. Из архива семьи // П. И. Чайковский — Н. Ф. фон Мекк: Переписка. Т. 1. С. 452).
238 См. также: Римский-Корсаков А. Г. Из архива семьи // Там же. С. 441. В указанном очерке имя Крутовой дается как «Антонида».
239 Картины маслом, изображающей спектакль Александринского театра 1880-х гг., в отделе декорационно-изобразительных материалов ГЦТМ не обнаружено. Возможно, речь идет о работе художника Нестеренко, изображающей сцену из «Ревизора» московского Малого театра (1888).
240 Постановка Большого театра, показанная в Москве 11 января 1881 г., «в отношении внешней обстановки», по отзыву современника, выделялась «костюмами, точно воспроизводившими эпоху двадцатых годов. До этого даже “Горе от ума” давалось в костюмах современных» ([Б. п.] Санкт-Петербургская опера // Ежегодник Императорских театров: Сезон 1900/1901. СПб., [б. г.] С. 106. О премьере Мариинского театра (19 октября 1884 г.) в той же статье сказано, что с внешней стороны последующие постановки получили «куда более тщательную и роскошную обстановку» (Там же. С. 107).
241 Варламов Константин Александрович (1858 – 1915) — артист петербургской драматической труппы с 1875 г. В «Ревизоре» лучшим созданием Варламова был Осип, которого он играл с 3 июня 1875 г. Петрушка — персонаж «Горя от ума» А. С. Грибоедова. С 30 августа 1887 г. Варламов исполнял роль Городничего. Давыдов Владимир Николаевич (наст. Горелов Иван Николаевич, 1849 – 1925) — артист петербургской драматической труппы (1880 – 1886, 1888 – 1924). На Александринской сцене роль Городничего впервые исполнил 31 августа 1884 г. М. Г. Савина играла Марью Антовновну с 23 января 1881 г., роль была ее шедевром.
242 В «Пиковой даме» Н. Н. Фигнер исполнял роль Германа, М. И. Фигнер — Лизы, И. А. Мельников — графа Томского. Мравина (наст. фам. Мравинская) Евгения Константинова (1864 – 1915) — оперная певица (сопрано), солистка Мариинского театра (1886 – 1900). Мравина не была занята в «Пиковой даме». Автор, очевидно, имеет в виду исполнительницу партии графини Марию Александровну Славину (1858 – 1951) — певицу (меццо-сопрано), солистку Мариинского театра (1879 – 1917).
243 Волконский Сергей Михайлович, князь (1860 – 1937) — театральный деятель, критик, литератор, директор Императорских театров с 22 июля 1899 по 7 июня 1901 г.
244 Луначарский Анатолий Васильевич (1875 – 1933) — революционер, драматург, литератор, критик, нарком просвещения (1917 – 1929).
245 … «реконструкция» «Спящей красавицы» в Большом театре в 1937 г. — Имеется в виду постановка А. М. Мессерера, А. И. Чекрыгина и Б. А. Мордвинова в декорациях И. М. Рабиновича, премьера которой состоялась 20 декабря 1936 г.
246 … Фокин <…> «Спящая красавица» (1914 г.)… — Ошибка: «Спящая красавица» в декорациях и костюмах К. А. Коровина была возобновлена на сцене Мариинского театра Н. Г. Сергеевым (первый спектакль 16 февраля 1914 г.).
247 157 Доре Густав (1832 – 1883) — французский художник, иллюстратор. Рисунки Доре к «Божественной комедии» Данте М. И. Петипа использовал в картине «Тени» «Баядерки», отсюда ассоциация Г. А. Римского-Корсакова.
248 Ларош Герман Августович (1845 – 1904) — музыкальный и литературный критик, композитор, друг П. И. Чайковского. Слонимский склеивает цитату из отдельных выражений, не передавая сути высказывания Лароша: «В заключение балета [“Щелкунчик”] авторы тряхнули стариной и устроили пеструю этнографическую выставку (танцы: испанский, арабский, китайский, русский трепак, французская полька и контрданс), для музыкальной иллюстрации которых Чайковский, по обыкновению, не пустился в археологию, не зарылся в музеи или библиотеки, а написал, как Бог на душу положил. Китайцы, между прочим, вышли особенные, без всяких признаков китайской музыки. Общее впечатление восхитительно» (См. Ларош Г. А. Чайковский как драматический композитор // Ежегодник Императорских театров: Сезон 1893/1894. Прилож. 1. СПб., 1895. С. 178).
249 Стасов Владимир Васильевич (1824 – 1906) — музыкальный и художественный критик, историк искусства.
250 Блазис Карло (1795 – 1878) — танцовщик, балетмейстер, теоретик балета. В 1861 – 1863 гг. работал в московском Большом театре и Театральном училище.
251 О легкомысленном характере планирования репертуара Красносельского театра см. также мемуары И. Ф. Кшесинского (ГЦТМ. Ф. 134. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 9 об. – 12).
252 «Очарованный лес» на музыку Р. Дриго и «Гарлемский тюльпан» Б. Фитингоф-Шеля — балеты, для которых Л. И. Иванов сочинил программу и хореографию. Оба поставлены в 1887 г. (сопостановщиком «Гарлемского тюльпана» был М. И. Петипа). «Грациелла» — балет А. Сен-Леона на музыку Ц. Пуни. Возобновленный Л. И. Ивановым в 1900 г., он сохранялся в репертуаре Мариинского театра вплоть до сезона 1918/1919 гг.
253 А. В. Ширяев потратил много труда, чтобы зафиксировать этот танец в виде своего рода раскадровки мультфильма. Кроме того, его сохранил в своей постановке «Щелкунчика» Дж. Баланчин (Нью-Йорк Сити балле, 1954).
254 Имеется в виду детская французская песенка «Кадеруссель — большой чудак».
255 Романов Борис Григорьевич (1891 – 1957) — артист и балетмейстер петербургского балета в 1909 – 1920 гг. Смирнова Елена Александровна (1888 – 1934) — артистка петербургского балета в 1906 – 1920 гг. Советскую Россию они покинули в 1920 г. О Б. Г. Романове и Е. А. Смирновой см. также коммент. 67 в публ. писем Н. Г. Сергеева к А. К. Шервашидзе в наст. изд.
256 Изложенное Г. А. Римским-Корсаковым вызывает недоумение. Подлинные дневники и копии, снятые с них В. А. Рышковым, хранятся в ГЦТМ в фонде М. Ф. Кшесинской (Ф. 134). Частично опубликованы (Дневник Матильды Кшесинской / Публ. И. П. Гамулы // Театральная жизнь. 1991. № 1. С. 21 – 22; № 2. С. 20 – 21). Загадкой является то, что, например, помимо экземпляра дневника за 1886 – 1887 гг. (с 9 декабря 1886 по декабрь 1887 г.), хранящегося в ГЦТМ (Ф. 134. Оп. 1. Ед. хр. 4), в ЦНБ СТД РФ оказался другой экземпляр, охватывающий период с 9 декабря 1886 по 28 марта 1887 г. Изложение одних и тех же событий в обоих экземплярах отличается нюансами. Вариант ЦНБ СТД РФ опубликован (см.: В поисках минувшего: Из жизни Русского зарубежья: Очерки. Беседы. Документы / Авт.-сост. В. П. Нечаев. М., 2011. С. 260 – 292). Некоторые детали наводят на мысль, что М. Ф. Кшесинская могла восстанавливать полную картину того или иного дня по более кратким записям. В РГАЛИ находится также дневник за 1886 – 1887 гг. на польском языке (Ф. 2602. Оп. 1. Ед. хр. 2).
158 Жевержеев Левкий Иванович (1881 – 1942) — коллекционер, меценат, искусствовед, библиофил, первый главный хранитель организованного в 1918 г. в Петрограде театрального музея.
257 Семенова Марина Тимофеевна (1908 – 2010) — балерина ленинградского Государственного академического театра оперы и балета (ГАТОБ) и Большого театра, ученица А. Я. Вагановой.
258 Голицын Петр Павлович, кн. (1868 – 1930) — генерал, меценат. Среди балетных артисток и артистов имел прозвище Пика Голицын.
259 Педагоги и артисты Большого театра, заставшие Н. А. Бакеркину, утверждали, напротив, что той удалось выдать настоящие драгоценности за бутафорские, избежав реквизиции.
260 М. Ф. Кшесинская вспоминала: «У нас на сцене была переведенная после коронации из Москвы танцовщица Бакеркина. Она сразу сошлась с одним старым генералом, занимавшим довольно высокое положение, но несимпатичным и ужасным циником. Только теперь, в эмиграции, почти полвека спустя, читая воспоминания Карсавиной, я узнала впервые, как Бакеркина, с которой я была в хороших отношениях, истолковала ей мой подарок. Бакеркина старалась объяснить ей, что театр — это гнездо интриг и не надо верить в добрые намерения людей. “Почему ты думаешь, — сказала Бакеркина Карсавиной, — Кшесинская подарила тебе этот костюм?” — намекая своим вопросом, что в моем жесте надо искать скрытую мысль. Но Карсавиной мой костюм очень нравился, она была немного смущена щедростью подарка и моим к ней вниманием. Бакеркина добавила не без ехидства: “Посмотри на себя в темно-лиловом цвете — этот цвет годится лишь для обивки гробов, а не для костюма молодой барышни”.
Бакеркина была известна в Петербурге еще и тем, что ее постоянно приглашали продавать шампанское на благотворительных вечерах, и она никого не пропускала мимо своего стола, чтобы не заставить выпить бокал вина, она даже хватала за рукав тех, кто намеревался пройти мимо, и, невзирая на денежное положение своей жертвы, часто отбирала последнее в пользу благотворительной кассы, сдачи никогда она не давала. Она не была элегантной и красиво не одевалась, но была всегда аккуратно прибранной. На эти благотворительные вечера она нацепляла на себя всевозможные брошки, и одна брошка непременно свешивалась на лоб» (Кшесинская М. Ф. Воспоминания. С. 88 – 89).
261 Один из разделов статьи С. Фрида «Тайны М. Ф. Кшесинской» (см. коммент. 131) посвящен домашним тратам: «Обойдя все покои г-жи Кшесинской, мы нашли свыше двадцати томов, оказавшихся записными тетрадями, а в них такие записи: “За шляпу — 115 руб. Костюм С. — 500 руб. Человеку на чай — 10 коп. Борная кислота — 15 коп. Вове — 5 коп”. Такими записями испещрены все тетради балерины-миллионерши». Имущественно-хозяйственные документы М. Ф. Кшесинской дореволюционного периода см.: РГАЛИ. Ф. 2602. Оп. 1. Ед. хр. 11 – 24.
262 Беременность М. Ф. Кшесинской пришлась на сезон 1901/1902 гг., который она официально пропустила. Назначение И. А. Всеволожского в Эрмитаж состоялось в 1899 г., таким образом, неудовольствие императрицы поведением М. Ф. Кшесинской во время беременности никак не могло быть тому причиной. См. также коммент. 129, 130.
263 Гадон Владимир Сергеевич (1860 – 1937) — С 1891 по 1903 г. — адъютант вел. кн. Сергея Александровича, в 1903 – 1904 гг. состоял при нем, в 1904 – 1906 гг. — командир лейб-гвардии Преображенского полка. В 1905 г. был зачислен в Свиту Его Величества, в 1906 г. 159 уволен в связи со случаем неповиновения в 1-м батальоне полка. В 1912 г. восстановлен в свите, в 1917 г. вышел в отставку. В октябре стал научным сотрудником Исторического музея в Москве, в 1920-е гг. несколько раз ненадолго подвергался аресту. В 1924 г. выслан из Москвы в Вологду. В 1931 г. вернулся, зарабатывал переводами и частными уроками. Арестован и расстрелян в 1937 г. на Бутовском полигоне (см. также: Любимова К., Головкова Л. Казненные генералы — http://archive.martyr.ru/content/view/8/18/).
По-видимому, Г. А. Римский-Корсаков был автором литературной записи воспоминаний В. С. Гадона, которые поступили в музей при его участии в 1937 г. и хранятся в Собрании воспоминаний и мемуаров ГЦТМ (Ф. 533. Ед. хр. 5 – 6).
264 Сергей Александрович, вел. кн. (1857 – 1905) — пятый сын Александра II, московский генерал-губернатор, убит в 1905 г. в результате покушения И. П. Каляева. Каляев Иван Платонович (1877 – 1905) — революционер, террорист и поэт.
265 На самом деле речь идет о спектакле «Царь Борис» по пьесе А. К. Толстого. В тексте воспоминаний В. С. Гадона это событие, как и здесь, отнесено к концу царствования Александра II, после окончания Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг., и звания упоминаемых лиц соответствуют этой эпохе. Однако постановка «Царя Бориса» на сцене Эрмитажного театра в режиссуре Н. Ф. Сазонова и с А. А. Стаховичем в заглавной роли была осуществлена в январе — феврале 1890 г., т. е. в следующее царствование. Участие Александра III в репетициях освещено в дневнике С. И. Смирновой-Сазоновой. 11 числа она записала, что у мужа, Н. Ф. Сазонова, «теперь под командой сыновья и дочери его начальства: Воронцова[-Дашкова] и директора. Они участвуют в “Царе Борисе”» (ИРЛИ. Ф. 285. Ед. хр. 35. С. 350). 15 января: «Государь б[ыл] на репетиции в Эрмитаже. Видел между проч[им] народ[ную] сцену. Чт[обы] поддать жару, Н. [Ф.] сам пошел в толпу и надорвал себе голос. Госуд[арь] позвал его и с четверть часа гов[орил] с ним. С нашего режиссера мигом вся усталость слетела» (Там же. С. 359). 18 января 1890 г.: «Государь второй раз б[ыл] на репетиции и даже в роли режиссера: следил с книжкой в руках и делал замечания актерам». Режиссера Александр III спросил, «нельзя ли иначе трон поставить», но, выслушав возражения, не стал настаивать (ИРЛИ. Ф. 285. Ед. хр. 35. С. 363 – 365). 20 января: «В январе государь записн[ой] театрал: редкий вечер не проведет в театре. А сегодня т[ак] и весь день! С репетиции “Царя Бориса” прямо в Александринку на “Кому весело живется”» (Там же. С. 370). В записи за 26 января о первой генеральной репетиции: «Пиеса началась в 7 часов и кончилась 20 минут второго. Хуже всех играла и больше всех успех имела дочь Стаховича, картав. барышня, не выговаривавшая ни л, ни р. Но у нее б[ыла] самая эффектная роль Марфы. Играли вообще по-любительски, никто не выдвинулся. Зато костюмы б[ыли] богатейшие, на одной царице на 200 т. бриллиантов, декорации — просто картины; посуда настоящая, золотая и серебряная. Б[ыли] и трубн[ые] звуки, и колокола, и духовн[ое] пение. Государь смотрит пьесу четверт[ый] раз и все с одинаков[ым] интересом, он, к[ак] видно, волнуется за братьев. Нескол[ько] раз ходил за кулисы, заметил Н. [Ф.], что он велик[их] князей мало нарумянил, жаловался, что мало аплодируют, объяснял это тем, что в публике все дамы. Лучше всего вышла народ[ная] сцена и последняя — смерть Бориса. Большой антракт б[ыл] один» (Там же. С. 377). Вторая генеральная 30 января прошла без царя: «Б[ыли] промахи. В одной картине хватились Семена Годунова, ему надо выходить, а его нет, он где-то наверху. Кто-то из действ[ующих] лиц догадался перехватить его слова. В публике это вряд ли заметили, но за кулисами сенсация! Сергей Александрович 160 недоволен; это к[ак] раз его сцена. Потом Стахович запоздал. Он все пьет для храбрости и должно б[ыть] перепустил. Наконец два солдата из охраны прошли мимо окон. Одного из них Н. [Ф.] едва оттащил» (Там же. С. 385 – 386). О спектакле 31 января Сазонова пишет, что «все прошло гладко». Наконец, 2 февраля: «Н. [Ф.] опять приглашен к высоч[айшему] столу и ужинал в Герб[овом] зале. Мне государя просто жалко: он седьмой раз смотрит Царя Бориса! Теперь он охотнее проводит время за кулисами. В перв[ом] представлении он б[ыл] недоволен, что подняли занавесь без него, а теперь, узнав, что занавесь поднята, когда он еще за кулисами, говорит:
— И отлично сделали!
Или станет в кулисе, когда действие началось, и говорит:
— Я хочу их напугать.
Долго гов[орил] с Н. [Ф.]. Спрашивал, кто играл Царя Бориса на Казен[ной] сцене и на слова Н. [Ф.], что эта пиеса никогда не шла, утверждал, что сам ее видел, но потом вспомнил, что это б[ыл] не “Царь Борис”, а “Смерть Иоанна Грозного”» (Там же. С. 392).
См. также: Сидоренко Л. Будущий царь в роли Онегина // Санкт-Петербургские ведомости. 2012. № 24. 10 дек.
266 Ср. в машинописи: «Все приглашенные в нем [спектакле] участвовать, а их было около 300 человек, были любителями, и даже толпу и народ изображали воспитанники корпусов морского и пажеского. Младшие братья Государя, Сергей и Павел Александровичи, взяли на себя роли: Царевича Феодора (В. кн. С. А.) и Принца Датского Христиана (В. Кн. П. Ал.). Женские роли были распределены между дамами и девицами общества, принимавшими уже раньше участие в любительских постановках. Но главная конечно задача была найти Царя Бориса — выбор пал на старого любителя сцены, много игравшего и даже написавшего несколько имевших успех пьес, — Александра Александровича Стаховича. При выборе его, вероятно, руководились воспоминаниями о его прежних сценических успехах, но, вероятно, тоже упустили из виду, что он давно уже сошел со светской сцены, постарел, поселился безвыездно в деревне и занялся исключительно своим конским заводом.
И вот, когда на приглашение исполнить роль Царя Бориса — он радостно откликнулся и появился на первой общей считке, то все были удручены его дряхлым видом, хриплым голосом, частым откашливанием и невнятным произношением.
Но дело было сделано, и никто не решился огорчить старика отказом. — Следующая маленькая сценка может хорошо охарактеризовать впечатление этой первой считки, сын его, Алексей Александрович, кавалергардский тогда офицер, а затем артист нашего Московского Художественного театра, человек талантливый и остроумный, на вопрос одного из присутствующих на считке лиц: — “Откуда выкопали такого старика”… — ответил не сморгнув: “я и сам его в первый раз в жизни вижу”. — Итак, спектакль состоялся. Режиссировал артист Александринского театра Сазонов. Но и Государь три раза днем посетил репетиции и, сидя в полутемном, пустынном зале, делал громко свои замечания, как например мне, игравшему роль Австрийского посла, сказал: “Говорите громче, Вас плохо слышно”» (ГЦТМ. Ф. 533. Ед. хр. 6. Л. 1 – 2). Ср. коммент. 265.
267 [В 18]50-е годы офицеры Преображенского полка часто устраивали в своих казармах 1-го батальона на Миллионной улице любительские спектакли <…> «Не взыскивать! Я сам вызвал реплику». — Оба рассказа выдержаны в духе анекдотов о Николае I, в которых царь наряду с прямотой и суровостью наделен живостью реакций и здравомыслием. 161 В мемуарах и свидетельствах зафиксированы благотворительные спектакли преображенцев 30, 31 января и 2 февраля 1856 г. Характерно, что такой надежный мемуарист, как В. В. Верещагин (1842 – 1904), двоюродный брат С. С. Гадона, в 1850-е гг. находившийся в Петербурге под его постоянной дружеской опекой, ничего не пишет о любительских спектаклях в николаевское царствование (см.: Верещагин В. В. Детство и отрочество художника. М., 1895. Т. 1). Зато он подробно и достоверно вспоминает детали представлений 1856 г.: «В Преображенском полку был устроен в этом году театр; шла “Странная ночь”, “А. и Ф.” и “Приключенье на водах”. Режиссером был приглашен старик [Петр Андреевич] Каратыгин, а главными исполнителями были брат мой [Сергей Станиславович] с женой [Софьей Сергеевной] и штабс-капитан [Константин Михайлович] Ушаков. Слушая, как С. С. твердил монологи князя в “Странной ночи”, я так выучил их, что даже теперь помню почти все». На первом представлении «должны были присутствовать Государь и почти все Царское Семейство» — т. е. уже взошедший на престол Александр II. В анекдот о Николае I, разрешившем накладку словами «Сережа, она готова…», трансформировался следующий эпизод, известный в пересказе Верещагина: «Фелиси Буховецкая, приятельница [моей] кузины Софьи Сергеевны, была немало сконфужена за этот вечер: она попросила не забыть оставить ей билет, ей оставили — рядом с Государем. Она рассказывала, что во втором выходе [в “Странной ночи”], где кузине моей нужно быстро переодеваться и где поэтому между Г[адоном] и Ушаковым сцена велась умышленно долго, раздался громкий шепот: “Сережа, я здесь!” — Это С[офья] С[ергеевна] давала знать мужу, что она готова — будто бы Государь улыбнулся».
«Бедность не порок» написана А. Н. Островским в 1853 г., напечатана в начале 1854 г.
«С пальцем десять, с огурцом пятнадцать!..» — выражение парикмахеров, зазывавших клиентов, у Островского «с пальцем девять».
268 По всей видимости, рассказ В. С. Гадона относится к августу 1915 г. 8/21 августа Мария Федоровна отметила в дневнике: «Павел Бенкендорф посетил меня после долгого перерыва. Мы оба были в отчаянии от ужасных сообщений с фронта и других вещей, которые происходят и о которых говорят. Прежде всего это то, что злой дух Гр[игория] вернулся, а также что А. [Александра Федоровна] хочет, чтобы Ники взял на себя Верховное командование вместо великого князя Николая Николаевича, нужно быть безумным, чтобы желать этого!» (Дневники императрицы Марии Федоровны: (1914 – 1920, 1923 гг.) / Сост., предисл. И коммент. Ю. В. Кудриной. М., 2005. С. 88 – 89). 12/25 августа царь приехал к Марии Федоровне на Елагин остров: «Ники пришел со своими четырьмя девочками. Он начал сам говорить, что возьмет на себя командование вместо Николаши, я так ужаснулась, что у меня чуть не случился удар, и сказала ему все: что это было бы большой ошибкой, умоляла его не делать этого, особенно сейчас, когда все плохо для нас, и добавила, что, если он сделает это, все увидят, что это приказ Распутина. Я думаю, это произвело на него впечатление, так как он сильно покраснел. Он совсем не понимает, какую опасность и несчастье это может принести нам и всей стране» (Там же. С. 89).
18/31 августа 1915 г.: «В 3 3/4 Ксения и я поехали в Царское село попытать еще раз счастья. Ники был в Кронштадте и приехал только в 7 часов. Мы пили чай у Аликс, которая говорила обо всем, за исключением того, что меня беспокоило. Имела возможность поговорить с ним, но без результата. Вернулась домой в 9 часов» (Там же).
162 Председатель Государственной думы М. В. Родзянко запомнил визит к нему Марии Федоровны: «Я слышала, что вы имеете намерение говорить о Распутине Государю. Не делайте этого. К несчастью, он вам не поверит, и к тому же это его сильно огорчит. Он так чист душою, что во зло не верит» (Там же. С. 598).
269 Одиночество проходит лейтмотивом в дневнике Марии Федоровны за 1915 г. Запись за 24 декабря 1914/6 января 1915 г.: «Сегодня в церковь ходила одна. Какое же в этом году печальное Рождество! Сильное чувство одиночества! Раньше такого ощущения у меня никогда не было!» (Там же. С. 80).
270 … у Вас есть сестра… — Иордан (урожд. Гадон) Софья Сергеевна (1854 – ?).
271 Николай Николаевич старший, долгие годы сожительствовавший с артисткой балета Числовой… — Вел. князь Николай Николаевич старший (1831 – 1891) — сын императора Николая I и Александры Федоровны, российский государственный деятель, генерал-фельдмаршал. Числова Екатерина Гавриловна (1846 – 1889) — танцовщица петербургских Императорских театров (1864 – 1875). Официально вел. князь был женат на герцогине Александре Фридерике Вильгельмине, старшей дочери герцога Ольденбургского Константина Фридриха Петра, имел от нее двоих детей. По воспоминаниям современников, связь вел. князя и Е. Г. Числовой «имела характер брака» (слова В. Д. Новицкого), она родила ему пятерых детей.
272 Шувалов Петр Андреевич (1827 – 1889) — граф, русский государственный и военный деятель, дипломат. В 1866 – 1874 гг. — шеф жандармов и главный начальник III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. См. также коммент. 287.
273 Описываемые события относятся к 1874 г., т. е. к царствованию Александра II. Вел. кн. Николая Константиновича не только объявили сумасшедшим, но и всерьез «лечили»: обливали ледяной водой и держали в смирительной рубахе. Несмотря на заключения врачей, он продолжал считаться душевнобольным вплоть до 1917 г.
274 Первой женой царя была Мария Александровна (1824 – 1880), в девичестве принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа Софья Мария Гессен-Дармштадтская. Свою любовницу и будущую вторую жену — княжну Екатерину Михайловну Долгорукую (1847 – 1922) вместе с детьми Георгием, Ольгой и Екатериной Александр II поселил в Зимнем дворце в 1879 г.: «в комнатах третьего этажа Западного фасада Зимнего дворца» (Зимин И. Зимний дворец. Люди и стены: История императорской резиденции: 1762 – 1917. СПб., 2013. С. 98).
275 … Александр II отдалил от дворца своих младших детей Павла и Сергея, которые уехали за границу, на юг Франции. — Отъезд великих князей Сергея (1857 – 1905) и Павла (1860 – 1919) Александровичей из Зимнего был связан, главным образом, с их совершеннолетием. Из опубликованных фрагментов дневника вел. кн. Сергея Александровича известно также, что он с сестрой Марией посещал княгиню и ее детей в Зимнем дворце, не испытывая к ним антипатии (см.: Зимин И. Зимний дворец. Люди и стены: История императорской резиденции: 1762 – 1917. С. 98). Во фразе Г. А. Римского-Корсакова в причудливо-искаженном виде отражена история вел. кн. Павла Александровича. Тот действительно имел обыкновение отдыхать на юге Франции, а в 1902 г., женившись вторым браком на О. В. Пистолькорс, «разведенной жене одного полковника», был вынужден «покинуть пределы России и переселиться на неопределенное время в Париж» (Вел. кн. Александр Михайлович Романов: Книга воспоминаний. М.; СПб., 2009. С. 165 – 166). Причиной было то, что «великие князья не 163 могли жениться на особах неравнородных, т. е. не принадлежавших к владетельным домам Европы, а женщины, состоявшие в разводе, не имели права приезда ко двору» (Там же. С. 165).
276 Великий князь Александр Михайлович вспоминал: «Долгая совместная жизнь нисколько не уменьшила их взаимного обожания. В шестьдесят четыре года Император Александр II держал себя с нею как восемнадцатилетний мальчик. Он нашептывал слова одобрения в ее маленькое ушко. Он интересовался, нравятся ли ей вина. Он соглашался со всем, что она говорила. Он смотрел на всех нас с дружеской улыбкой, как бы приглашая радоваться его счастью, шутил со мною и моими братьями, страшно довольный тем, что княгиня, очевидно, нам понравилась» (Там же. С. 68).
277 Юрьевский Георгий Александрович (1872 – 1913) — сын императора Александра II и княжны Е. М. Долгорукой.
278 Имеется в виду Оболенский Николай Николаевич (1833 – 1898), командующий Преображенского полка (1876 – 1887).
279 По всей вероятности, имеется в виду Шебеко Николай Игнатьевич (1834 – 1905), с 1866 г. состоявший адъютантом шефа жандармов П. А. Шувалова.
280 Владимир — вел. кн. Владимир Александрович (1847 – 1909), Александр — Александр Александрович (Александр III). В лейб-гвардии преображенцев (как и других полков) великих князей зачисляли, как правило, с рождения. Не был упомянут вел. кн. Алексей Александрович (1850 – 1908), который с рождения был зачислен в Морской гвардейский корпус. Подобный разговор мог иметь место в 1880 г., но вообще приводимый исторический анекдот в большей степени отражает отношение к Юрьевской и ее детям среди сторонников твердой морали внутри императорской семьи и в свете, так как, по многим свидетельствам, публичная инициатива «узаконения своих морганатических детей» принадлежала самому Александру II, приводя Юрьевскую в «величайшее смущение» (см.: Вел. кн. Александр Михайлович Романов: Книга воспоминаний. С. 68).
281 Г. А. Юрьевский был прикомандирован ко 2-му эскадрону лейб-гвардии гусарского полка только в 1897 г. Находясь с матерью во Франции с 1881 г., он окончил Сорбонну (1891), а вернувшись в Россию, сначала служил на флоте (1892 – 1894). Вопреки приписке о «дуэли», Юрьевский благополучно вышел в отставку в 1908 г. и умер своей смертью.
282 Вел. кн. Александр Михайлович вспоминал, что «губительное влияние» княгини было «темой всех разговоров» зимою 1880 – 1881 гг.: «Как всегда бывает в подобных случаях, женщины были особенно безжалостны к матери Гоги. Руководимые уязвленным самолюбием и ослепленные завистью, они спешили из одного великосветского салона в другой, распространяя самые невероятные слухи и поощряя клевету». Поводом для обвинений было ее покровительство графу М. Т. Лорис-Меликову, в конце 1880 г. представившему императору «проект коренной реформы русского государственного устройства, в основу которого были положены принципы английской юстиции».
283 Флигель-адъютант — младшее звание, которое присваивалось штаб- и обер-офицерам армии и флота, состоявшим в императорский свите. В воспоминаниях графиня М. Э. Клейнмихель даже названа фамилия одного из тех, кто попал во флигель-адъютанты, «протанцевав котильон с царицей», — некий кавалергард Николаев (Клейнмихель М. Э. Из потонувшего мира. Берлин, 1923. С. 122).
284 Ошибка памяти — крушение произошло в 1888 г.
285 164 «Священная дружина» — тайная монархическая организация, созданная в 1881 г. после гибели Александра II для борьбы с революционным террором и на следующий год распавшаяся.
286 См. коммент. 272.
287 Амосова Анастасия Николаевна (1834 – 1882), по словам Е. О. Вазем, «дама очень представительная и эффектной сценической наружности. Она была близка стяжавшему довольно плачевную славу дипломата и жандарма графу П. А. Шувалову, оставила сцену рано и рано же умерла» (Вазем Е. О. Записки балерины Санкт-Петербургского Большого театра: 1867 – 1884. Л., 1937. С. 181 – 182).
288 Грейг Самуил Алексеевич (1827 – 1887) — государственный деятель, в 1874 – 1878 гг. — государственный контролер, в 1878 – 1880 гг. — министр финансов.
289 … женился на артистке Александровой… — На самом деле С. А. Грейг женился на танцовщице Александре Петровне Макаровой (1828 – 1898).
290 … двух дочерей, замужем за графом Канкриным и графом Штейнбоком… — Имеются в виду: Грейг Юлия Самуиловна (1856 – не ранее 1895) и ее первый муж Канкрин Георгий Александрович (1851 – 1897); Грейг Александра Самуиловна, фрейлина, и ее муж Стенбок Герман Карл (1847 – 1904).
См.: http://www.mycity.kherson.ua/journal/letopis4/admir.html
291 Улан Пентержевский… — По-видимому, опечатка. В «Памятной книжке Варшавской губернии на 1874 г.» среди чиновников особых поручений при наместнике Царства Польского указан Иван Александрович Пенхержевский. Театралом, однако, был не он, а Михаил Александрович Пенхержевский, корнет лейб-гвардии Уланского полка, впоследствии генерал-майор. См. о нем в публ. дневников К. П. Колзакова: Чистова И. С. Дневник гвардейского офицера // Лермонтовский сборник. Л., 1985. С. 152 – 180. (Отчество в публикации указано неверно).
Берг Федор Федорович (наст. Берг Фридрих Вильгельм Ремперт, 1794 – 1874) — граф, генерал-фельд маршал, государственный и военный деятель, дипломат, географ, и. д. наместника Царства Польского (1863 – 1866).
292 … граф Николай Алексеевич Адлерберг (сын тогдашнего министра Двора)… — Очевидно, имеется в виду Николай Александрович Адлерберг (1844 – 1904), сын Александра Владимировича Адлерберга (1818 – 1888), занимавшего эту должность министра двора и уделов в 1870 – 1881 гг. Н. А. Адлерберг был зачислен в лейб-гвардии Преображенского полка в 1862 г.
293 Фуллон Иван Александрович (1844 – 1920) — градоначальник (т. е. начальник полиции) Петербурга в 1904 – 1905 гг. С. Ю. Витте отзывался о нем как о человеке «порядочном во всех отношениях, крайне воспитанном, милом, но совершенно чуждом и полицейскому духу, и полицейским приемам, и полицейскому характеру», который был бы «гораздо более на своем месте, если бы, например, заведовал петербургскими институтами» (Витте С. Ю. Воспоминания, мемуары: В 2 т. / Предисл. М. И. Покровского; вступ. замеч. И. В. Гессен; предисл. гр. М. И. Витте. М., 2001. Т. 1 С. 488). Уволен после событий 9 января 1905 г.
294 … женился потом на дочери генерал-адъютанта Галла. — Галл Евгения Александровна (1854 – 1914).
295 Фуллон же прожил со своей балериной-женой до конца жизни, имея двух сыновей… — В справочнике «Весь Петербург» в 1910-е гг. женой И. А. Фуллона указывалась Надежда Александровна Фуллон. По всей вероятности, молодой преображенец женился на 165 Надежде Александровне Александровой (1849 – ?) — танцовщице петербургского балета (1867 – 1887). Сыновья: Фуллон Федор Иванович (1869 – 1942), выпускник Пажеского корпуса, полковник, георгиевский кавалер; Фуллон Александр Иванович (1868 – 1941), выпускник Александровского лицея, плоцкий губернатор.
296 См.: [Дружинин А. В.?] Фельетон. Несколько слов о благотворительных спектаклях, данных с благотворительною целью в Детском Приюте Лейб-Гвардии Преображенского Полка // Русский инвалид. СПб., 1856. № 31. 8 февр. С. 1 – 2. Фельетон посвящался благотворительным спектаклям преображенцев 30, 31 января и 2 февраля 1856 г. «Русский инвалид» впервые в своей истории дал театральную рецензию, что само по себе было событием и о чем анонимный автор заметки сообщал в предуведомлении. Исполнены были пьесы: «Приключение на искусственных водах» П. А. Каратыгина, «Путаница» и «Аз и Ферт» П. С. Федорова, «Странная ночь» А. М. Жемчужникова — на русском языке; водевили-пословицы (proverbe) «Домашняя дипломатия» (La diplomatie du Ménage) К. Бертон, «Книга III, глава I» (Livre III, Chapitre I) Дюбиссона и «Обмануться в расчетах» (Compter sans son hôte) А. Броан — на французском языке. «Горя от ума» А. С. Грибоедова преображенцы в эти дни не играли, но С. С. Гадон заслужил горячее одобрение военного рецензента: в роли Городового из «Приключения на искусственных водах» Гадон, по словам журналиста, «… был бесподобен и по живой, нимало не принужденной игре, и по превосходному исполнению куплетов, которых здесь на его долю бездна…» (Там же).
Автором рецензии, возможно, был писатель, переводчик, литературный и театральный критик А. В. Дружинин. 18 января 1856 г. он отметил в своем дневнике: «Вчера на вечере Самсонов, Гадон и разные преображенцы упросили меня съездить к Тимму. Дело в том, что у них домашний театр в пользу приютов, и по хлыщеватости, свойственной всему человечеству вообще и Преобр[аженскому] полку в особенности, им желательно видеть свой фестиваль описанным и нарисованным. Отчего же не потешить человечество?» (Дружинин А. В. Полинька Сакс: Дневник / Сост., вступ. статья, примеч. Б. Егорова. М., 1989. С. 366). 2 февраля Дружинин сделал такую запись: «В четверг, [сего дня], был домашний спектакль в Преображ[енском] полку. Все шло очень хорошо, особенно искусными оказались m-me Мёрдер и так называемый Гадон. <…> M-me Гельфрейх вовсе не хороша собой, она, однако, может нравиться <…> M-me Лярской я не дождался. Видел еще Грейга и разных более или менее хлыщеватых мужей и дам». (Там же. С. 368 – 369).
297 Среди исполнителей, упомянутых автором заметки в «Русском инвалиде»: Гадон Сергей Станиславович (1824 – ?), его жена Софья Васильевна (урожд. Лихардова), Клейнмихель Николай Петрович (1837 – 1878), Мёрдер Зинаида Петровна, Ушаков Константин Михайлович (1826 – 1873), Гельфрейх (урожд. Виллие) Елена Яковлевна (1833 – 1921), жена преображенца А. Б. Гельфрейха, Демидов Григорий Александрович (1837 – 1870), Вонлярский (Фонлярский) Федор Ардалионович (1833 – 1903), его жена Вонлярская (Фонлярская, урожд. Уварова) Мария Федоровна (1835 – 1872), а также К. П. Веймарн, Н. П. Потулов и М. Е. Львова, дополнительных сведений о которых найти не удалось.
298 Верещагин Василий Васильевич (1842 – 1904) — живописец и литератор, художник-баталист. С. С. Гадон приходился ему кузеном по линии матери, Софьи Васильевны Гадон, урожденной Верещагиной (1800 – 1824). «Тетушка родила сына, впоследствии красавца-преображенца, и от родов отдала Богу душу», — писал художник. «После отца и 166 матери мне ничья память так не дорога, как моей милой няни и моего дорогого кузена Г. — он был старшим братом, другом, наставником и товарищем моим» (Верещагин В. В. Детство и отрочество художника. С. 27, 106). Его воспоминания о спектаклях преображенцев, игранных зимой 1856 г., см.: Там же. С. 212 – 213.
299 «Сцена была устроена превосходно; занавес, кулисы и костюмы актеров не оставляли желать лучшего. Это роскошное убранство залы простыми полковыми средствами сделано под руководством К. П. Веймарна (полковой казначей) и С. С. Гадона, показавшего замечательное сценическое дарование», — писал рецензент «Инвалида» (См.: [Б. п.] Фельетон. Несколько слов о благотворительных спектаклях, данных с благотворительною целью в Детском Приюте Лейб-Гвардии Преображенского Полка // Русский инвалид. СПб., 1856. № 31. 8 февр. С. 1).
300 Художник Шарлемань… — Неясно, о ком из представителей французской художественной династии, обосновавшейся в Петербурге, идет речь. Так, карандашный «Набросок к занавесу для любительского театра в Преображенском полку на Миллионной улице в Санкт-Петербурге» при поступлении в ГЦТМ записан как работа «Шарлеманя-отца», т. е. архитектора Иосифа Ивановича Шарлеманя (1782 – 1861). Его младший сын Адольф Иосифович Шарлемань (1826 – 1901), график и живописец Его Величества, много работал для театра. В 1856 – 1859 гг. он находился за границей, но точные даты его отъезда не установлены, и это оставляет простор для предположений, что он мог видеть благотворительные спектакли преображенцев в 1856 г. и зарисовать декорированный ими учебный зал.
301 … по просьбе офицеров сделал эскизы, занавес, а также нарисовал несколько сцен из всех пьес (находятся теперь в театральном музее Бахрушина). — Рисунки, связанные с представлениями «любительского театра в Преображенском полку на Миллионной улице в Санкт-Петербурге» поступили в ГЦТМ, как представляется, двумя партиями. Набросок и эскиз занавеса, рисунок учебного зала Преображенского полка, декорированного в 1856 г. офицерами, приобретены 8 июня 1937 г. Другую партию составляют сцены из всех пьес, упомянутых в рецензии «Русского инвалида», она обозначена в книгах музея как «из старых поступлений». Не исключено, что в ГЦТМ через В. С. Гадона попали копии рисунков Шарлеманя, сделанные В. В. Верещагиным: «Художник Шарлемань по просьбе офицеров полка нарисовал театральный зал, очень эффектно убранный преимущественно братцем же, также несколько сцен из всех пьес. Я перерисовал для братца некоторые из этих рисунков и перерисовал так недурно, что Шарлемань не хотел верить, когда ему сказали, что это делал тринадцатилетний художник. — “Да покажите вы мне этого мальчика”, говорил он братцу» (Верещагин В. В. Детство и отрочество художника. С. 209).
302 Имеется в виду Большой театр Женевы (Grand théâtre de Geneve), построенный в 1879 г. и являющийся точной копией здания Парижской оперы.
303 Данный тезис дискуссионен. Городской (Оперный) театр в Киеве построен по проекту В. А. Шретера, в 1897 г. выигравшего международный конкурс, и характерен для данного архитектора, проектировавшего также Мариинский театр.
Оперный театр в Одессе построен по проекту венских архитекторов Фердинанда Фелльнера (Ferdinand Fellner, 1847 – 1916) и Германа Гельмера (Hermann Hellmer, 1849 – 1919), определивших европейский стиль театрального строительства во второй половине XIX – начале XX в. Основанное ими архитектурное бюро Fellner & Helmer спроектировало множество театральных зданий и концертных залов в городах Австро-Венгрии, Германии, Швейцарии, Болгарии и России.
304 167 См. также коммент. 327.
305 … с каким высокомерием и презрением относился Петипа к русским артистам балета. — Указанный пассаж, в котором акцент сделан на «русских артистах», а не на тех артистах, кто манкировал требования хореографа, целиком остается на совести автора, так как удовлетворение и даже восхищение исполнением тех же артистов Петипа выражал на своем курьезном русском языке. Петипа, вообще легко увлекавшемуся и раздражавшемуся во время репетиций, были свойственны обычные артистические слабости. В театре он, как вспоминал И. Ф. Кшесинский, «любил во всем и всем подчеркнуть свое величие и недосягаемость, но зато бывал в гостях у своих товарищей (исключительно у первачей) обворожительно восхитителен, весел, мил, приветлив, жив, юмористичен, <…> одно слово, француз-джентельмен» (ГЦТМ. Ф. 134. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 7). Вера Петипа вспоминала о неудачных попытках отца изучать русский язык: «Он выучивал речи по-русски, пытался говорить, но всегда это выходило смешно, и он замолкал» (Мариус Петипа: Материалы. Воспоминания. Статьи. С. 251). В этом отношении Петипа представлял разительный контраст Сен-Леону, который, как утверждала Е. О. Вазем, уже через год после первого приезда в Петербург «объяснялся, читал и писал по-русски» (Вазем Е. О. Записки балерины Санкт-Петербургского Большого театра… С. 57).
306 Перечислены ранние одноактные балеты-дивертисменты Петипа «Звезда Гренады» (1855), «Венецианский карнавал» (1859), «Терпсихора» (1860), «Рабыня» (1868), «Парижский рынок» (23 апреля 1859 г.), а также насчитывавшие два и более действий «Голубая георгина» (12 апреля 1860 г.), «Ливанская красавица» (12 декабря 1863 г.) — на музыку Ц. Пуни, «Роза, фиалка и бабочка» (8 октября 1860 г.) — на музыку П. Ольденбургского.
… в которых даже критик Плещеев должен был признать <…> чрезмерное увлечение показом главной танцовщицы… — По-видимому, имелось в виду описание балета «Флорида» (1866), который «оказался не из важных и носил характер дивертисмента», но исполнительница заглавной партии М. С. Петипа была показана балетмейстером «во всевозможных видах» (Плещеев А. А. Наш балет. СПб., 1896. С. 183).
307 Перечислены постановки: М. М. Фокина — «Петрушка» на музыку И. Ф. Стравинского (1911), А. А. Горского — «Этюды» на музыку разных композиторов (1907), «Нур и Анитра» А. А. Ильинского (1907), «Любовь быстра!» на музыку Э. Грига (1913), «5-я симфония» на музыку А. К. Глазунова (1916), «Щелкунчик» П. И. Чайковского (1919), 3-я сюита П. И. Чайковского (1921).
308 Рейзингер Вацлав (Венцель) (1827 – 1892) — австрийский хореограф, работал в Большом театре (1873 – 1878).
309 Вероятно, имеется в виду Гаэтано Вестрис (полн. фам. и имя Вестрис, Гаэтано Аполлине Бальдассарре, 1729 – 1808) — итальянский и французский хореограф, танцовщик и педагог, знаменитый не только танцами (современники называли его «бог танца»), но и хвастливыми высказываниями, например: «Есть только три великих человека в Европе — Фридрих II Прусский, Вольтер и я».
310 См.: Вольф А. И. Хроника петербургских театров. СПб., 1884. Ч. 3. С. 150.
311 Катков Михаил Никифорович (1817 или 1818 – 1887) — публицист, издатель, литературный критик. В 1863 – 1887 гг. — редактор-арендатор официальной газеты «Московские ведомости». Разговор с Катковым о балете, по словам Г. А. Лароша, имел место в 1869 г. 168 (см.: Ларош Г. А. Чайковский как драматический композитор // Ежегодник Императорских театров: Сезон 1893/1894. Прилож. 1. СПб., 1895. С. 163), относя его к 1869 г., Г. А. Римский-Корсаков ссылается на издание: Игорь Глебов [Асафьев Б. В.] Лебединое озеро: Ленинградский Государственный Академический Театр Оперы и Балета им. С. М. Кирова. 4-е изд. Л., 1937. С. 15.
312 Балет Петипа «Дочь фараона» поставлен в 1862 г., «Царь Кандавл» — в 1868 г., «Камарго» в 1872 г., «Баядерка» в 1877 г., «Весталка» в 1888 г., «Спящая красавица» в 1890 г., «Раймонда» в 1898 г. и «Волшебное зеркало» в 1903 г.
313 … сказал о Мейербере <…> Беле. — Имеется в виду речь, которую произнес на заседании Академии изящных искусств Франции 28 октября 1865 г. археолог, постоянный секретарь Академии Шарль-Эрнест Бёле (1826 – 1874): «Отбирать, отбирать повсюду и создавать новые красоты при посредстве старых элементов — таков закон эпох, хотя и плодотворных, но наследующих великим столетиям… Мейербер воплощает этот эклектизм с мощью, в которой ему еще не было равных. Он говорит на языке, нравящемся нашему времени, языке сложном, полном реминисценций и нарочитостей, утонченном, красочном, более обращенном воображению, чем трогающем сердце. Сделавшись эклектиком, Мейербер стал французом» (Цит. по: Штейнпресс Б. С. Музыка XIX века: Классицизм и романтизм. М., 1968. С. 115 – 116).
314 К этой фразе Г. А. Римским-Корсаковым сделана сноска, частично дублирующая уже приведенные им сведения (см. коммент. 310): «“Конек-Горбунок” — 169 раз. “Дочь фараона” — 154. “Корсар” — 83. “Дон Кихот” — 76. Всего балетов за это время было поставлено 48. (“Хроника Вольфа”) Среднегодовое число спектаклей: “Конек-Горбунок” — 9,3, “Дочь фараона” — 7,7, “Корсар” — 3,5» (См.: Вольф А. И. Хроника петербургских театров. СПб., 1884. Ч. 3. С. 150 – 151).
315 Там же. С. 131.
316 «Млада» — балет М. И. Петипа на музыку Л. Минкуса (программа С. А. Гедеонова), впервые поставленный в Петербурге в 1879 г. Об отношении Петипа к сценарию Гедеонова и о задачах, которые он решал в «Младе», см. исслед.: Яковлева Ю. Ю. «Млада» (1879, 1892, 1896): Проблемы авторедакций // Балетмейстер Мариус Петипа: Статьи, исследования, размышления С. 118 – 146.
317 «Северная звезда» (L’étoile du nord) — комическая опера Дж. Мейербера о Петре I, впервые поставленная в Опера-Комик 16 февраля 1854 г. и по популярности соперничавшая в то время с «Трубадуром» Дж. Верди. Танцы при постановке ее в 1883 г. на петербургской сцене были сочинены М. И. Петипа.
По-видимому, говоря об «иудейской интуиции», Г. А. Римский-Корсаков имеет в виду способность авторов приноравливаться к местным обычаям и вкусам публики. Оба произведения — и «Конек-Горбунок», и «Северная звезда» — имели успех у зрителя в противоположность «Младе».
318 Источник сведений, приводимых Г. А. Римским-Корсаковым, разыскать не удалось. В литературно-критическом наследии В. В. Стасова «Конек-Горбунок» П. П. Ершова упоминается в статье «Виктор Михайлович Васнецов и его работы». Сравнивая циклы иллюстраций В. М. Васнецова и Р. К. Жуковского к «Коньку-Горбунку», появившихся в один и тот же год (1872), Стасов ставит иллюстрации Васнецова «бесконечно выше» и «по художественности, и по фантазии, и по расположению сцен, и по знанию всех подробностей русской народной жизни и обстановки». Сказка Ершова, однако, в этой 169 статье не разбирается (см.: Стасов В. В. Статьи и заметки, не вошедшие в собрания сочинений: В 2 т. / Сост. О. И. Гапонова и А. Н. Щекотова; под общ. ред. В. М. Лобанова. М., 1952. Т. 2. С. 165).
319 В «Мастерах балета» Ю. И. Слонимский цитирует интервью с итальянской танцовщицей и педагогом Катериной Береттой (1839 – 1911), где та провозглашает приоритет техники над мимикой и с большим скепсисом отзывается о способности современных ей «мимов» выразить что-либо с помощью своего искусства. «“Мудрость” Беретта, — заключает Слонимский, — была именно в том, что она ничего почти не изобрела. Она лишь возвела в принцип то, что считалось до сих пор подсобным, — технику и низвела до ничтожества только то, что, угасая, еще казалось главным, — игровую выразительность», — пишет исследователь (Слонимский Ю. И. Мастера балета. С. 232). Источник указан Слонимским неверно, точная ссылка: Балетный мирок: К приезду Дель-Эры // Театральный мирок. 1886. № 1 (16). 3 мая. С. 1. Также и само интервью цитируется неточно.
320 Имеется в виду издание: Лешков Д. И. Мариус Петипа: 1822 – 1910: К столетию его рождения. П., 1922. Список сочинений и постановок М. И. Петипа с 1838 по 1904 г. в хронологическом порядке: С. 58 – 71.
321 Взаимная обида проявилась, например, в полемике об авторстве программы «Баядерки» (См.: Петербургская газета. 1900. № 377. 7 дек.). Характерна также реакция М. И. Петипа на инцидент между Худековым и А. А. Римским-Корсаковым, отцом мемуариста: «13 января [1904] Худекова отлупил палкой тот, кто сейчас с Трефиловой. Браво!» (Мариус Петипа: Материалы. Воспоминания. Статьи. С. 90).
322 См., напр.: Вазем Е. О. Записки балерины Санкт-Петербургского Большого театра: 1867 – 1884. Л., 1937.
323 Г. А. Римский-Корсаков имеет в виду следующее место из «Мастеров балета»: «Все должно говорить, как выражался К. П. Победоносцев, идейный руководитель Александра III, — “об идеальном чувстве без реальности и ужасов в сюжете”» (Слонимский Ю. И. Мастера балета. С. 236). Слонимский указывает (Там же. С. 281), что цитирует письмо Победоносцева по изданию: К. П. Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки. Цитата искажена, в ней соединены отдельные выражения из переписки К. П. Победоносцева и Александра III о «Власти тьмы» Л. Н. Толстого в феврале 1887 г.: «Всякая драма, достойная этого имени, предполагает борьбу, в основании которой лежит идеальное чувство», — утверждал Победоносцев, на что Александр III отвечал, что драму Л. Н. Толстого «на сцене давать невозможно, она слишком реальна и ужасна по сюжету» (Там же. С. 648, 643). См. также коммент. 204.
324 «Купец Калашников» — опера А. Г. Рубинштейна по поэме М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (либретто Н. И. Куликова). Премьера состоялась в Мариинском театре 22 февраля 1880 г., по совпадению — в день казни революционера И. О. Млодецкого, покушавшегося на жизнь министра М. Т. Лорис-Меликова. Это вызвало гнев наследника, устроившего выговор директору Императорских театров К. К. Кистеру: «“Как вам не стыдно давать в день казни революционера оперу, где царь приказывает казнить своего верноподданного!”» (Вальтер В. Г. Антон Рубинштейн // Бирюч Петроградских Государственных театров. 1918. № 5. С. 45). Кистер немедленно снял «Купца Калашникова» с репертуара. Ссылаясь на свой разговор с Э. Ф. Направником, Вальтер писал, что Александр III 170 сохранил отрицательное мнение об опере и ее авторе, заступницей которого выступала императрица Мария Федоровна. 10 января 1889 г. «Купец Калашников» был возобновлен по ее инициативе в Мариинском театре в связи с юбилеем композитора, но так как Рубинштейн отказался вносить в свою оперу изменения, последовал новый запрет и до революции на императорской сцене она более не давалась.
«Власть тьмы» Л. Н. Толстого была поставлена 16 октября 1895 г. в театре Литературно-художественного общества (петербургском Малом театре) с П. А. Стрепетовой в роли Матрены.
325 Иванов Михаил Михайлович (1849 – 1927) — композитор и музыкальный критик. См. также коммент. 277 к публ. Нижинская Б. Ф. Дневник (1919 – 1921); трактат «Школа и Театр Движений» в наст. изд. О «Весталке» см. также статью Е. И. Бобровой в кн.: Балетмейстер Мариус Петипа: Статьи, исследования, размышления. С. 73 – 190.
326 Рассказ Н. М. Петипа-Чижовой передан мемуаристом недостоверно. После революции М. М. Петипа осталась в России. В 1919 г. ее лишили пенсии в 2000 р. Оставшись без средств, в 1920 г. она «поступает на работу в качестве преподавательницы в б. Институт Музыкального Просвещения, где работает 2 года, до тех пор, пока болезнь не лишила ее возможности работать» (см.: ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 69. Ед. хр. 3430). С 1924 г. по 1927 г. тянулось дело о персональной пенсии М. М. Петипа, в которой ей первоначально отказали, несмотря на ходатайства ГАТОБа, Наркомпроса и других организаций. Опротестовав отказ, Наркомпрос в 1927 г. сумел выбить балерине очень скромную пенсию в 50 р. ежемесячно. По-видимому, это было последним доводом в пользу эмиграции. На «Личной карте инвалида, испрашивающего назначения персональной пенсии или пособия» М. М. Петипа, хранящейся в ГАРФ, имеется штамп «За неявкою в получ. пенсии снять с 1 января 1929 г.» (см. ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 69. Ед. хр. 3430. Л. 2). М. М. Петипа умерла в Париже 16 января 1930 г. В. Я. Светлов в некрологе писал: «Года два тому назад ей удалось покинуть Советскую Россию» (цит. по: Дунаева Н. Л. Мария Мариусовна Петипа: Пунктир судьбы // Страницы истории балета: Новые исследования и материалы. СПб., 2009. С. 89 – 102).
327 … вдова его… — Савицкая Любовь Леонидовна (1854 – 1919) — танцовщица московского и петербургского балета (1868 – 1888).
… с дочерью Надеждой и ее семьей… — Имеются в виду Петипа Надежда Мариусовна (1874 – 1945) — дочь М. И. Петипа, танцовщица Мариинского театра в 1903 – 1907 гг.; Чижов Константин Матвеевич (1874 – 1946) — ее муж, военный инженер, а также их дети — Надежда (1896 – 1977), Борис (1898 – 1955) и Ксения (1905 – 1975), впоследствии связавшие свою судьбу с драматическим и балетным театром.
… ради здоровья самой младшей сестры. — Петипа Вера Мариусовна (1885 – 1961) — дочь М. И. Петипа, танцовщица Мариинского театра в 1903 – 1907 гг.
328 Каменев Лев Борисович (наст. имя и фам. Розенфельд Лейба Борухович, 1883 – 1936) — советский партийный и государственный деятель, председатель Моссовета с октября 1918 г. по 1926 г.
329 Бахрушин Алексей Александрович (1865 – 1929) — московский купец, меценат, создатель театрального музея, который с 1913 г. носит его имя.
330 См.: Лешков Д. И. Мариус Петипа: 1822 – 1910: К столетию его рождения. С. 63 – 64.
331 Г. А. Римский-Корсаков ссылается на книгу: Погожев В. П. Экономический обзор десятилетия Императорских С.-Петербургских театров после реформы 1882 года. СПб., 1892. 171 Погожев приводит следующие цифры среднего сбора по балетному спектаклю: в 1880 г. — 1242 р.; в 1883 г. — 1437 р.; в 1884 г. — 1438 р.; в 1885 г. — 1731 р.; в 1886 г. — 2228 р.; в 1887 г. — 1992 р.; в 1889 г. — 1481 р.; в 1890 г. — 2282 р.; в 1891 г. — 2057 р. Тем не менее, сопоставляя эти данные с числом балетных представлений, численностью труппы и средней годовой стоимостью содержания каждого артиста, он приходит к выводу о том, что «невыгодность содержания балетной труппы с годами возрастает и в этом отношении балет в сравнении с драмой и оперой представляет явление обратное. <…> Отсюда вывод: балет как самостоятельный род представлений не имеет своей постоянной публики, подобно тому как она существует для оперы и драмы; интерес балетных представлений, несмотря на высокую (сравнительно с Западной Европой) постановку в Императорских театрах, поддерживается либо приглашением одной исключительной звезды, либо роскошной постановкой, в связи с музыкальным достоинством балета. Те требования, которые предъявлялись прежде по отношению к классическому балету, и на высоте которых стоит до сего времени подготовка балетных артистов в школе, отошли на задний план. В настоящее время на Западе балет ассимилировался с феерией; это явление, с которым должны считаться Императорские театры и идти ему навстречу» (Там же. С. 38 – 39). Переходя к мерам для «повышения характеристики эксплуатации» балетной труппы, Погожев пишет: «Признав, на основании десятилетнего опыта, что значение классического балета и спрос на него угасли, следует рассматривать балетную труппу, главным образом, как необходимый аксессуар оперы и всячески утилизировать эту труппу, приурочивая спектакли ее по преимуществу к зрелищам. На этом основании репертуар балета следует рассматривать как элемент, подчиненный составу труппы, т. е. сообразовать не состав артистов с репертуаром, как это принято в других труппа, а, наоборот, — репертуар с составом артистов. Такой оборот вопроса приведет к постановке в балетные спектакли при отсутствии выдающейся балерины, балетов-феерий, с роскошной внешней обстановкой и с участием, где нужно, драматических и даже оперных сил, — а при наличности балерины, тех балетов, которые отвечают лучшим сторонам ее таланта, т. е. балета с мимикой, если она хорошая мимистка (как Цукки) или с трудными па и вариациями, если таковые составляют ее специальность» (Там же. С. 41 – 42).
332 См. коммент. 319.
333 Издание, по которому Г. А. Римский-Корсаков цитирует Г. Гейне, не выявлено.
334 Исаенко Григорий Григорьевич (? – 1928) — воспитатель Петербургского театрального училища с 1888 по 1917 гг.
335 Корвин-Круковский в годы революции был архитектором Государственного банка и жил в Москве. — См. коммент. 224.
336 Рыжова (урожд. Иславина) Ольга Владимировна (1878 – 1966) и Рыжов Александр Николаевич (? – 1923) — инженер путей сообщения, директор Международного общества спальных вагонов, по сведениям справочника «Весь Петроград за 1915 год», проживали по адресу: Ковенский пер., 2. После революции эмигрировали во Францию, упоминаются в справочнике: Незабытые могилы / Сост. В. Н. Чуваков. М., 2005. Т. 6. Кн. 1. С. 336. См. о них: Последние новости. Париж. 1923. № 1086. 7 нояб.; Русская мысль. Париж. 1966. № 2564. 3 янв. Иславин Михаил Владимирович (Васильевич) (1864 – 1942) — государственный деятель, новгородский губернатор в 1913 – 1917 гг. Эмигрировал во Францию.
337 172 См.: Римский-Корсаков А. Г. Из архива семьи // П. И. Чайковский — Н. Ф. фон Мекк: Переписка. Т. 1. С. 422.
338 … вторичным браком моей матери… — После развода С. К. фон Мекк вышла замуж за Дмитрия Михайловича Голицына (? – 1912), с которым у Г. А. Римского-Корсакова не сложились отношения.
3
Александр Горский (1871 – 1924).
Опыт исследования творческой деятельности балетмейстера
339 Автограф — ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 9. Л. 1 – 4 (Правленая и завизированная автором машинопись). На л. 5 – 8 — список иллюстративных материалов. Публикуется впервые.
В ГЦТМ сохранились также два других документа с тезисами о творчестве А. А. Горского. Оба они, по-видимому, относятся к 1938 – 1939 гг., когда Г. А. Римский-Корсаков готовил доклады о Горском, прочитанные в мае 1939 г. Период ученичества в них пропущен, но классификация постановок сопровождается названиями. В документе, озаглавленном «Творчество Горского. Тезисы» (ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 4), их перечень более точен и свободен от ошибок (в частности, не упоминается балет И. Н. Хлюстина «Волшебные грезы», который Римский-Корсаков какое-то время приписывал Горскому):
«а) Монументально-“обстановочные” балеты стиля Петипа. (“Дочь фараона”, “Дон Кихот”, “Корсар”, “Баядерка”, “Саламбо” и др.).
б) Романтические балеты:
(“Дочь Гудулы”, “Жизель”, “Раймонда”, “Лебединое озеро”, “Шубертиана”).
в) Сентиментально-лирические миниатюры:
(“Клоринда”, “Этюды”, “Нур и Анитра”, “Эвника”).
г) Симфонические танцевальные опусы в импрессионистическом стиле:
(“Любовь быстра”, “5-я симфония”, “3-я сюита”, “Ночь на Лысой горе” и др.)» (Там же. Л. 1).
Также более четко и подробно предложен к разработке сюжет «Горский — Фокин»: «Различные эстетические платформы. Разное отношение к спектаклю. Искусство Горского исходит из сознания объективной реальности его. У Горского нет противопоставления искусства действительности. Стиль хореографии Фокина: Эстетика “Мира искусства”. Изощренная театральность. Мистическая фантастика. Образы схемы. Яркая сексуальность. Кордебалет-фон. Спектакль “для себя”.
Реализм Горского и абстракция Фокина. Демократизм Горского и аристократизм Фокина. Монументальность [стиля балетов] Горского и эпизодичность Фокина» (Там же. Л. 2). Заметим, что в отличие от написанного в док. 5 об «эпизодической значимости (курсив мой. — С. К.) постановок Горского» и «монументальности большинства созданий Фокина» в тезисах доклада слово «монументальный» применяется исключительно для характеристики художественного стиля балетов.
Документ, озаглавленный «Тезисы к докладу Г. Корсакова о “Творчестве Горского”» (ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 6), содержит некоторые важные мысли, не вошедшие в другие конспекты: «Творчество Горского не испытывает влияния модных течений, как то: символизма, кубизма, урбанизма и пр. Горский в стороне от вопросов временного, злободневного порядка (сравни Петипа). Режиссерские планы Горского и темы работы. Работа с актером. Индивидуальное искание образа. Отказ от подражания. Горский 173 ставит спектакль для танцующей артистки. Отсутствие видимости работы постановщика» (Там же. Л. 3).
340 Перечислены прима-балерины, определявшие лицо Большого театра в конце XIX – начале XX в. О А. А. Джури, Е. В. Гельцер, Л. А. Рославлевой см. коммент. 26, 98, 196. Гримальди Энрикетта (1872 – 1919) — итальянская балерина, служила в Большом театре (1901 – 1905).
341 Балет «Звезды» на музыку А. Ю. Симона по либретто К. Ф. Вальца (премьера 25 января 1898 г.), поставленный И. Н. Хлюстиным, имел крупный успех у зрителя и держался в репертуаре до 1902 г.
342 Возможно, составляя свой план исследования, Г. А. Римский-Корсаков брал за образец изданный в 1929 г. двухтомник Н. Д. Волкова «Мейерхольд», в котором искания режиссера были принципиально представлены в контексте каждого дореволюционного сезона. В частности, о докладе А. П. Ленского см.: Волков Н. Д. Мейерхольд: В 2 т. Л., 1929. Т. 1. С. 76 – 78.
343 О Е. В. Гельцер, А. М. Балашовой, В. А. Рябцеве и А. Д. Булгакове см. коммент. 26, 65 и 69. О В. Д. Тихомирове см. коммент. 74; Федорова (Федорова 2-я) Софья Васильевна (1879 – 1963) — артистка московского балета (1899 – 1919), характерная танцовщица и мимистка; Мордкин Михаил Михайлович (1880 – 1944) — артист московского балета (1900 – 1910, 1912 – 1918 и 1922); Каралли (Коралли) Вера Алексеевна (1889 – 1972) — артистка московского балета (1906 – 1918).; Фроман Маргарита Петровна (1890 – 1970) — артистка московского балета (1909 – 1921); Девильер Екатерина Львовна (1891 – 1959) — артистка московского балета (1908 – 1919); Рейзен Мария Романовна (1892 – 1969) — артистка московского балета с 1909 г.; Адамович Елена Михайловна (1890 – 1974) — артистка московского балета (1908 – 1936). Г. А. Римский-Корсаков написал о ней неопубликованную биографию, машинопись которой сохранилась в его архиве (ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 33) и в личном архиве Е. Я. Суриц.
344 См. док. 1 и коммент. 26.
Карсавина Тамара Платоновна (1885 – 1978) — артистка петербургского балета в 1902 – 1918 гг., с 1912 г. — прима-балерина, с 1909 г. — участница постановок «Русского балета» Дягилева.
345 В письме Г. А. Римскому-Корсакову от 12 – 13 октября 1940 г. (ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 15) В. А. Горская называет спектакли МХТ, оказавшие наибольшее влияние на брата: «Юлий Цезарь», «Пер Гюнт», «Вишневый сад», «Анатэма». Этот факт, не привлекавший ранее внимания исследователей, открывает перспективы для предметного сопоставительного анализа.
346 «Красный мак» — балет Р. М. Глиэра на либретто М. Ю. Курилко. Хореография Л. А. Лащилина (1-й и 3-й акт) и В. Д. Тихомирова (2-й акт), декорации М. Ю. Курилко. Премьера — 14 июня 1927 г. Считался этапным в плане разрешения революционной современной темы на академической балетной сцене, однако хореографической стилистикой и способом построения сюжета опирался на традицию балетов XIX в., вызывая насмешки деятелей левого искусства.
347 «Саламбо» А. Ф. Арендса (в музыкальной редакции В. В. Небольсина) был возобновлен 14 июня 1932 г. балетмейстером И. А. Моисеевым.
348 Возобновление «Раймонды» и «Лебединого озера». — «Раймонда» была возобновлена в Большом театре Е. И. Долинской в 1932 г., «Лебединое озеро» — в 1937 г. (кроме последней картины, поставленной заново А. М. Мессерером).
349 «Дон Кихот» и «Конек-Горбунок» в петроградском ГАТОБе в 1920-е гг. возобновлял Ф. В. Лопухов. Хореограф ставил своей целью восстановить «ряд мелких деталей, типичных для Горского искрометных огоньков» (Лопухов Ф. В. Пути балетмейстера. Л., 1925. С. 17).
350 174 Самодеятельный Хореографический театр Парка культуры им. Горького. — Имеется в виду театр «Остров танца», существовавший в 1930-е гг. в Москве в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Г. А. Римский-Корсаков, несомненно, считал театр, в жизни которого он принимал большое участие, продолжателем традиций, заложенных Горским. В этом театре все тоже было «очень свежо, искренно, молодо» (слова Римского-Корсакова о «Щелкунчике» Горского, см. коммент. 530). О театре см. статью Е. Я. Суриц в энциклопедии «Русский балет» (1997) и журнале «Dance Chronicle» (Souritz E. Moscow’s Island of Dance: 1934 – 1941 // Dance chronicle. 1994. Vol. 17, No l. P. 1 – 92). См. также коммент. 146 и 196.
«Жизель» в хореографии А. А. Горского была возобновлена в «Острове танца» А. В. Шатиным при участии учеников и артистов Горского, участников его спектакля в Большом театре и театре сада «Аквариум» М. Р. Рейзен, В. В. Кудрявцевой, И. Е. Сидорова, В. И. и А. И. Шелепиных, И. Ф. Блохина и И. В. Смольцова. Премьера 1 (предположительно) июня 1939 г. Декорации и костюмы Н. Бессарабовой (костюмы 1-го акта по эскизам В. В. Дьячкова), Жизель — Клавдия Рыхлова, Альберт — Николай Суворов, Ганс — Владимир Куликов. Спектакль имел большой успех. См.: Римский-Корсаков Г. А. О балете «Жизель». Машинопись. — ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 27; Souritz E. Moscow’s Island of Dance. 1934 – 1941 // Dance Chronicle. 1994. Vol. 17, No l. P. 64 – 71.
4
Александр Горский
Опыт сравнительной характеристики творческой деятельности московского
балетмейстера
351 Автограф — ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 2. Л. 1 – 9 в авторской нумерации. Архивная нумерация не проставлена.
352 «Этюды» <…> непосредственный отзвук в последующих постановках Москвы, Ленинграда и антрепризы С. П. Дягилева. — См. коммент. 462.
353 Подготовленная А. А. Горским постановка балета «Хризис» на музыку Р. Глиера была показана в начале мая 1921 г. на генеральной репетиции в Большом театре, но в репертуар не вошла. См. о ней Горский. 2000. С. 180 – 182, 192.
354 Имеется в виду статья Эмиля Золя «Декорации и бутафорские принадлежности», входящая в его сборник «Натурализм в театре» (1881): «Декорации расширяют область драмы, выводя в театре саму природу в ее действии на человека. Они достойны осуждения, как только переходят за пределы этой научной функции, как только перестают служить анализу фактов» (цит. по: Яковлев М. А. Теория драмы: Главные этапы ее исторического развития. М., 1927. С. 120).
355 Перечислены балеты М. М. Фокина: «Павильон Армиды» на музыку Н. Н. Черепнина (сценарий и декорации А. Н. Бенуа), впервые показанный 25 ноября 1907 г. в Мариинском театре; «Шехеразада» на музыку Н. А. Римского-Корсакова (сценарий и декорации Л. С. Бакста; премьера — 4 июня 1910 г., Русский балет Дягилева на сцене Парижской оперы), «Петрушка» на музыку И. Ф. Стравинского (сценарий А. Н. Бенуа и И. Ф. Стравинского, премьера — 13 июня 1911 г., «Русский балет» Дягилева на сцене театра Шатле, Париж, в ГАТОБ — 20 ноября 1920 г.).
175 5
Из черновиков очерка
«Александр Горский. Опыт сравнительной характеристики…»
356 Автограф — ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 2. Л. 5 – 6 в авторской нумерации. Архивная нумерация не проставлена.
357 Договоренность, о которой говорит Римский-Корсаков, могла быть достигнута в конце ноября — начале декабре 1908 г., когда Дягилев приезжал в Москву на премьеру «Раймонды» в новой постановке Горского, впервые показанной 30 ноября: «В театре присутствовал франко-русский импресарио г. Дягилев, и говорили, что он весной повезет целиком в Париж “Раймонду” в московской постановке», — сообщал С. С. Мамонтов в своей рецензии (Матов [Мамонтов С. С.] «Раймонда» // Русское слово. 1908. 2 дек. С. 5).
Планируя свой первый оперно-балетный сезон, Дягилев отводил «Раймонде» едва ли не центральное место.
Еще в сентябре 1908 г., не видя постановки Горского, Дягилев обратился с письмом к премьеру петербургского балета П. А. Гердту, исполнявшему в «Раймонде» роль Абдерахмана, с приглашением «принять участие в предстоящей поездке»: «Спектакли состоятся в парижском Муниципальном театре между 25 апреля и 3 июнем русского стиля 1909 года, в количестве десяти балетных представлений, из которых 5 раз дана будет “Раймонда”. Для этого балета я и прошу Вашего участия в одной из Ваших самых блестящих ролей» (РГИА. Ф. 497. Оп. 5. Ед. хр. 712. Л. 129-б. Цит. по: Дунаева Н. Л. Из истории русского балета: Избранные сюжеты. СПб., 2010. С. 126). Возможно, письмо написано под впечатлением от просмотра спектакля 21 сентября 1908 г. в Петербурге. Свое намерение импресарио подтвердил московской газете «Театр» 1 ноября (см.: Театр. 1908. № 281. 1 нояб.). Нотный материал «Раймонды» фигурировал в «Условиях, заключенных дворянином Дягилевым с Попечительным советом для поощрения русских композиторов и музыкантов» (см.: Дунаева Н. Л. Из истории русского балета: Избранные сюжеты. С. 126).
В таком контексте Горский приглашался в качестве постановщика «Раймонды», т. е. действительно балетмейстера практически всего сезона, хотя буквальный перенос новой версии был едва ли возможен из-за сложности декорационной установки, — в «Раймонде» Горский и Коровин впервые в балете применили «чистую перемену» (см. док. 2). Свидетельство Римского-Корсакова о «полной договоренности» Горского с Дягилевым (по крайней мере, насчет «Раймонды») вызывает доверие, так как он пишет, очевидно, со слов самого Горского. Едва ли Дягилев стал бы договариваться и о постановке, вызвавшей его неприятие. Поэтому отказ Дягилева от «Раймонды» и от услуг Горского приходится искать прежде всего в позиции А. Н. Бенуа, настаивавшего, по свидетельству С. Л. Григорьева, на показе в Париже балетной программы и при этом критически относившегося к Горскому со времени постановки «Дон Кихота».
Бенуа специально ездил в Москву смотреть «Раймонду» после Дягилева. Он присутствовал, очевидно, на третьем представлении — 17 декабря (с В. А. Каралли и М. М. Мордкиным). Отрицая петербургскую постановку М. Петипа, Бенуа не изменил своего взгляда и на творчество Горского. По его мнению, хореограф поставил себе неоправданно узкую задачу — дать «внешнюю оживленность, иллюзию жизни», а это «еще более огрубило балет, сделало из него какой-то пестрый, суетливый базар, окончательно 176 не вяжущийся с музыкой». Сам Бенуа представлял себе совершенно другую постановку: «хореографическую сюиту», ряд сцен в «средневековом духе» (Речь. 1908. № 315. 22 дек. С. 2). В итоге балетмейстером «Русских сезонов» стал М. М. Фокин, а «Раймонда» была представлена в Париже лишь отдельными фрагментами: чардашем и венгерским гран-па.
358 О планах Дягилева пригласить А. А. Горского вместо Фокина, с которым у него осложнились отношения, известно благодаря письму И. Ф. Стравинского Н. К. Рериху от 10 июля 1910 г. по поводу задуманного ими балета «Весна священная»: «Он [Дягилев] думает, что если с Фокиным не удастся примириться, то он [Дягилев] будет работать с Горским, о котором я впервые услышал. Быть может, Горский гений, но не думаю, что Дягилеву было [бы] безразлично потерять Фокина» (Стравинский И. Ф. Переписка с русскими корреспондентами: (Материалы к биографии): В 2 т. / Сост., текстол. ред. и коммент. В. П. Варунца. М., 1998. Т. 1. С. 226).
Контракт на постановку балета «Маска красной смерти» с либретто и музыкой Н. Н. Черепнина, предложенный Дягилевым Горскому, сохранился в архиве балетмейстера (ГЦТМ. Ф. 77. Ед. хр. 98; опубликован: Горский. 2000. С. 138 – 139). Он датирован 12 октября 1912 г. и подписан только С. П. Дягилевым.
359 О балете А. А. Горского «Танцевальная греза» (The Dance Dream) см. коммент. 475. О Е. В. Гельцер, В. Д. Тихомирове и Е. М. Адамович см. коммент. 26, 74, 343.
Андерсон Елизавета Юрьевна (1890 – 1973) — артистка балета Большого театра в 1906 – 1918 гг.
… с Фроманом… — Ошибочно упомянут Макс Фроман — танцовщик, участник «Русского балета» Дягилева, в постановке Горского не участвовавший. Скорее всего, имелся в виду Жуков Леонид Алексеевич (1890 – 1951) — артист балета Большого театра (1909 – 1926; 1931 – 1934; 1942 – 1946).
360 После революции Горский <…> в лучших театрах Европы. — Документального подтверждения этому обнаружить не удалось.
6
А. А. Горский (Творческий путь)
361 Автограф. — ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 2. Л. 1 – 63 в авторской пагинации и несколько листов вставок без таковой (авторская пагинация сбивается, архивная не проставлена). Рукопись с многочисленными исправлениями. Фрагмент от слов «Вся эта сюита овеяна лирической умиротворенностью» до «строится исключительно на этом драматургическом принципе» набран также на печатной машинке (ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 3). Фрагмент от слов «По выходе из школы в 1889 г. Горский был на общих основаниях зачислен в кордебалет» до «подлинная артистичность» опубликован под названием «Горский-исполнитель» в кн. Горский. 2000. С. 80 – 82. Полностью публикуется впервые.
Датируется по содержанию. Воспроизводя обращение А. А. Горского к труппе Большого театра: «Сегодня впервые мы репетируем весь балет “Спящая красавица”…» (см. также коммент. 384), Римский-Корсаков делает приписку: «цитируется по черновику, находящемуся в Музее ГАБТ». В 1940 г. этот документ был приобретен ГЦТМ (Акт № 1827 от 20/XII 1940). Признавая эпохальное значение «Маскарада», поставленного в 1917 г. в Александринском театре В. Э. Мейерхольдом в декорациях А. Я. Головина, Римский-Корсаков избегает называть имя опального режиссера, который был арестован 20 июня 1939 г. В рукописи не нашли отражения некоторые события и проблемы, 177 сформулированные в плане издания монографии о Горском, датированном июнем 1940 г. (см. док. 3). Ряд признаков (подбор цитат, некоторые заключения) в работе Г. А. Римского-Корсакова указывают на его знакомство с докладом В. П. Дитиненко, поступившим в ГЦТМ в октябре 1938 г. (две первые части и рукопись начала третьей) и датируемым 1933 г.
Причина, по которой Дитиненко взялась за доклад о балетмейстере, не установлена, но, готовя его в 1932 – 1933 гг., она в первую очередь опросила В. А. Горскую и выдвинутых Горским балерин, его сторонниц в труппе О. В. Некрасову, В. Н. Светинскую, Е. М. Адамович (см.: ГЦТМ. Ф. 77. Ед. хр. 49 – 51, 53 – 58). В докладе, посвященном главным образом началу творческого пути хореографа, важны детали, которые запомнились Дитиненко в личном общении с собеседницами:
«Родился А. А. Горский в Ленинграде в 1871 г. Отец его был бухгалтером и в то же время художником-самоучкой, прекрасно рисовал как любитель и вышивал шелками. Последнее было его любимым занятием, не только в свободные от службы вечера, но часто и ночи напролет просиживал он за художественными вышивками. Мать А. А. занималась домашним хозяйством, но также проявляла большую склонность к вышиванию, особенно художественно выполняла работы гладью. Но самое большое наслаждение испытывала она в танцах, на всех вечеринках была первой танцовщицей и танцевала до упаду. Всем бальным танцам она сама выучила детей, их было двое, А. А. и сестра его В. А., на два года моложе.
В семье жила еще сестра матери А. А., имевшая на детей очень большое влияние, она была прекрасным педагогом и после смерти сестры заменила детям мать.
Семья жила тихой патриархальной жизнью, зажиточно. Отец часто уезжал в производственные командировки в Москву, и дети росли главным образом под женским влиянием. Но в свободное время отец водил детей в музеи, на разные художественные выставки, все виденное пояснял, и дома также велись постоянные разговоры в связи с теми или иными художественными впечатлениями. Развивая в детях художественный вкус, приучая их любить картины с раннего детства, отец А. А. прививал еще и любовь к театру, с которым А. А. познакомился с самого раннего детства и очень любил. Таким образом, атмосфера семьи помимо уюта и довольства была связана еще и с культурой.
А. А. был очень слабого здоровья с детства, малокровен, очень долго хворал — нарывы на голове. И врачи предписали ему жить не в самом Ленинграде, а в окрестностях у моря, — надо было лечиться морскими купаньями. Семья переехала на жительство в Стрельну и там А. А., постепенно поправляясь, имел возможность окунуться в жизнь природы, которую очень любил. Часами просиживал он на берегу моря, наблюдая 178 пароходы и вообще жизнь моря, взращивая грядки в саду и огороде у себя дома, чрезвычайно с детских лет любил цветы и особое пристрастие проявлял к кружевам, которые пленяли его своими затейливыми рисунками и красивой формой. Часто украшал он себя ими и куклы сестры и с сожалением вздыхал, что родился мальчиком, а не девочкой, потому что девочки могут наряжаться в такие красивые вещи. Любил играть с сестрой в куклы, главным образом он устраивал кукольные комнаты, расставляя в них кукол, эти группировки в самых различных позах с постоянными перестановками были любимым занятием мальчика, в чем можно усматривать его первые творческие проблески будущего балетмейстера, особенно чувствующего женские танцы и с раннего детства тяготевшего к женскому началу, которое в нем самом на протяжении всей жизни превалировало над мужским. Танцы очень любил с раннего возраста, обычно после оперных и балетных спектаклей воспроизводил дома все виденное вместе с сестрой, играя в театр.
Но насколько сестра еще с четырех лет тянулась к балету, категорически заявив родителям, что она, когда вырастет, будет только балериной, настолько А. А. мальчиком не мечтал о карьере в балетном деле; напротив, он производил впечатление исключительно одаренного ребенка в области рисования, которое очень любил, выводил самые затейливые орнаменты акварельными красками, иллюстрировал сказки Пушкина, зарисовывал с натуры любимые им цвета, море, пароходы и все явления и предметы, окружающие его.
Рисунки эти производили впечатление на взрослых и ему предсказывали большое будущее как талантливому художнику и меньше всего предполагали в нем такого же талантливого балетмейстера.
Детское творчество А. А. проявлялось в его играх в строительство. Детей водили в гости в семью знакомого архитектора, у которого было несчетное количество всевозможных кубиков разноцветной окраски. Мальчик чрезвычайно увлекался всякими сложными сооружениями домов, дворцов, мостов, что превышало его интерес к различным заводным игрушкам, которые он любил приводить в действие, комбинируя одни с другими на разных местах. В этом моменте также можно отметить зародыши будущего организатора всяких балетных построений, требовавших своей декоративной рамы и вещественного вообще оформления. В этом отношении можно отметить большую фантазию в особенно остроумно придуманной им игре в крушение парохода, где он проявил большую изобретательность для шестилетнего ребенка, придумав такую конструкцию расстановки стульев, скрепленных веревками, долженствующими изображать пароход, что, когда потянуть за кончик веревки, все сооружение должно было мгновенно рухнуть. Эта творческая игра особенно запоминалась сестрой А. А., так как он задолго готовился к тому эффекту, какой должен был получиться у зрителей; он впервые в данной игре хотел показать родителям и близким их друзьям некое зрелище, удивить их “театральным действом”, ему нужна была и оценка его маленького изобретательства, в чем также можно подметить задатки будущего организатора балетных спектаклей. Но в ту пору именно данная возможность его творческого пути никому не приходила в голову, называли его маленьким художником и даже скульптором, намечались задатки дарования и этого порядка, что позже и проявилось в зрелые годы, наряду с мастерством художника, такого же самоучки, как отец. Лет шести А. А. вылепил из снега очень оригинальный 179 и красивый рыцарский стул, облил его водой и сделал резным, с гордостью усадив на него сестру, как на трон. Этот стул производил художественное впечатление, и приходили им любоваться, как большим скульптурным мастерством такого еще маленького ребенка.
Творческие проявления в детстве наблюдались и в области литературной. А. А. не только любил читать сказки, но сам их придумывал, и не только рассказывал, но пытался их писать, так же как и стихи.
Увлекался с детских лет еще разными техническими поделками, что в будущем получило и практическое применение в обиходе жизни, любил сооружать какие-то колесики, машины и т. д., зарисовывая их как модели.
Все впечатления детства вообще отразились в будущем на общем оформлении костюмов и декораций в сотрудничестве с Коровиным и Головиным и в своих позднейших произведениях он давал много цветных рисунков. Художественный вкус вырабатывался таким образом с раннего детства, а любовь к сказкам впоследствии сказалась также на его постановках, которые были у него большей частью сказочного характера.
Ввиду слабого здоровья врачи советовали родителям отдавать мальчика попозже в ученье и избегать всякого умственного переутомления, но любознательность его была так велика, что он умудрялся перечитать массу книг, несмотря на запрет, похищал у отца газеты и журналы из кабинета, жадно все поглощая, особенно интересовался всеми художественными журналами и иллюстрациями. Родители предполагали отдать его в Реальное или Коммерческое училище, а позже дать ему возможность художественного образования, но совершенно неожиданно и случайно А. А. очутился в балетной школе тогдашнего Императорского театра, поступив в нее девяти лет.
Дело было так: мать повела сестру А. А. на экзамен в театральную школу, так как девочка упорно добивалась того, чтобы стать танцовщицей, и в качестве сопровождающего пошел на экзамен и А. А. Инспектриса Ольга Борисовна Адамс заинтересовалась, почему же и брат не идет вместе с сестрой. Мать пояснила, что сына отдавать в балетную школу не собирается и что он не выказывал никакого желания быть танцором. Но инспектрисе так понравился А. А. своим изящным видом и ловкими движениями, что она настойчиво просила мать Горского отпустить его вместе с сестрой на экзамен, чтобы попробовать, как инспектрисе казалось с первого беглого взгляда, дарование именно в данной области. И А. А. пошел на экзамен вместе с сестрой. Несмотря на то что прием для мальчиков был уже закончен, инспектриса после очень удачного экзамена обещала принять его независимо от общего приема, лишь бы только родители согласились оставить его в балетной школе.
Судьба А. А. таким образом была решена. На другой день он, принятый в школу, шел утром вместе с сестрой на новое жительство, торжественно неся под мышкой взятую из кабинета отца огромную для его маленького роста книгу “Физику”, особенно им облюбованную еще давно; на эту книгу он всегда смотрел с особым благоговением, она символизировала для него всю ту премудрость, какую должен он был познать за стенами родительского дома. На общее удивление, почему он принес с собой именно такого характера книгу, не отвечающую по содержанию его возрасту и такого большого объема, он сумел найти отпор, [используя эту] книгу на своем новом местожительстве как некий талисман.
180 Он очень мечтал стать “умным”, и любимой похвалой для него в родительском доме было “ты умный”. Это очень интересная деталь из его детской жизни, так как и тут можно видеть те зародыши большого познавательного интереса с широким кругозором недюжинного ума, ярко выявившегося в будущем у А. А. Направленность его мысли была в том, чтобы “стать умным” и “все знать”. Маленький мальчик с большой книгой под мышкой в первую ночь засыпая на чужом уже месте, громко прокричал привычную для него фразу в момент засыпания “я буду умным”, чем удивил жену инспектора, старушку, не понимавшую, что такое он выкрикивает в полусонном уже состоянии. На другой день пришедшая осведомиться о сыне мать пояснила, в чем дело.
Первый период детства закончился. Начались годы ученья.
А. А. Горского, так же как и сестру его, не сразу приняли на казенный счет в интернат, а лишь через год. Жили же они оба — А. А. у инспектора Ивана Сергеевича Орлова на квартире, а сестра его у инспектрисы Ольги Борисовны Адамс — на равных половинах. У инспектрисы подготовлялись к 1-му классу театрального училища десять девочек, все они и жили у нее, некоторые от нее же ходили в театральное училище, которое помещалось в том же коридоре. Занятия с девочками вела приемная дочь инспектрисы, солистка Софья Викторовна Петрова, отдельно танцами занималась артистка Савельева.
Домой детей отпускали раз в неделю и на 2 недели на Рождественские и Пасхальные каникулы. Ходили в своих платьях, форма надевалась только при поступлении в интернат. Это были синего цвета шерстяные платья с длинными рукавами и белыми батистовыми пелеринками и передниками. Для танцев в театральном училище была другая форма: у младших серые холстинковые платьица и кожаные черные туфли. Средний класс носил розовые батистовые платья с цветочками и серые туфли, старшие также надевали розовые платья и розовые атласные туфли. Но старшие получали еще и белые кисейные платья за особые отличия, но это было достижением трех-четырех учениц, такое “белое” платье нелегко было получить, про “белых” обычно так и говорилось: “она вышла из белого платья”.
Сестра Горского такое “белое” платье получила при выпуске.
У мальчиков форма была из темно-синего сукна, прямая курточка на сборках сзади и по бокам воротника две лиры.
Для танцев у мальчиков тоже была особая форма: серые холстинковые трусики и короткие холстинковые курточки с белыми воротничками, черные кожаные туфли. Мальчики, подготовлявшиеся в Театральное училище, жили в квартире инспектора, за которыми [за ними] присматривала его жена. При поступлении А. А. с ним вместе жил на половине инспектора только один мальчик Солянников. Оба они сразу начали посещать Театральное училище, занимаясь наравне с другими учениками. Частная плата инспектору и инспектрисе за содержание и помещение была от 25 до 30 р. в месяц.
Инспектор был одновременно и педагогом, преподавал арифметику. В Театральном училище курс обучения длился 10 лет. Вначале было три класса общеобразовательных и три танцевальных, в каждом классе надо было быть по 2-3 года. При Владимире Порфирьевиче Писнячевском, сменившем Орлова, было произведено расширение до 5 классов. Он же ввел при Театральном училище драматические курсы. Раньше, до поступления Горского в Театральное училище, там шла подготовка учеников и по оперному, и по драматическому, и по балетному классу, так, например, певица Славина 181 сразу поступила в оперу из Театрального училища. К выпуску же А. А. при Театральном училище было только балетное отделение. Драматические курсы считались вольными, независимыми от Театрального училища, и мало кто из оканчивавших его попадал на эти курсы: было трудно, служа в балете, быть одновременно и на драматических курсах еще 4 года. Чаще всего тот, кто шел на них, отставал от балета, а все, окончившие Театральное училище, должны были потом служить в балете; но зато те, кто эти курсы оканчивал, мог легко с них попасть в театр.
В Театральном училище проходился курс прогимназии. Сначала это был третий разряд, потом второй. Программа обучения одинаковая у мальчиков и у девочек.
А. А. сразу увлекся жизнью и ученьем в Театральном училище. Учился он очень хорошо, быстро все схватывал, прекрасная память и блестящее воображение отличали его среди других. В Театральном училище была благоприятная почва для развития намечавшегося с детских лет его многостороннего дарования. Он включился во все многообразие театрального творчества, а свою любознательность, жажду “все знать” он восполнял чтением книг из казенной и частной библиотеки, увлекаясь и беллетристикой, и научной литературой, а главным образом углублялся он в литературу по искусству. Все новейшие журналы, книги по искусству не проходили мимо него, именно в эти годы школьной жизни накапливал он уже тот разносторонний материал из разных областей знания, который впоследствии на его уже балетмейстерском поприще, углубляясь и расширяясь, помогал ему ориентироваться всесторонне в самых сложных и трудных постановках. Особенно увлекался он мифологией и историей всех народов, населяющих земной мир, старался основательно вникнуть в их обычаи, нравы, характер. Очень любил географию, увлекался самостоятельной записью уроков преподавателя Лыщинского, который вел занятия без учебника. А. А. собирался даже издавать эти записи. Уже тогда он очень заинтересовался скульптурой и живописью, интерес детства к этому роду искусства углубился. По рисованию преподавателем был Лосье, позже Поляков. Еще будучи совсем юным, Горский считал, что балетмейстер должен быть непременно и художником, и хорошо, если он сможет соединить в себе и скульптора. Увлечение это было так сильно, что по окончании Театрального училища А. А. поступил учиться в школу живописи и ваяния барона Штиглица, но трудность совмещать ученье со службой в балете заставила его школу Штиглица оставить через полгода.
Воспитанники в Театральном училище должны были учиться на скрипке, но Горский от ученья на скрипке упорно отказывался и его не принуждали, но он тяготел к фортепьянной музыке и охотно самоучкой выучился играть на рояле, склонен был к импровизации.
Окончив Театральное училище, основательно учился теории музыки и гармонии, сначала вполне самостоятельно, показывал свои музыкальные задачи Глазунову, который их одобрял. С этого времени начались у Горского весьма дружественные отношения с Глазуновым, о чем свидетельствуют письма Глазунова. Потом А. А. усовершенствовался в данных занятиях со своим двоюродным братом, бывшим некоторое время флейтистом в Большом театре. Практическое и теоретическое знание музыки, как и природную музыкальность, А. А, также еще в свои ученические годы считал необходимым условием для хорошего балетмейстера и исходя из своего еще в училище театральном намеченного будущего пути усидчиво занимался теорией музыки и игрой 182 на рояле. Не раз по окончании Театрального училища А. А. высказывал большое сожаление, что в школьные годы был допущен в училище большой пробел: там не было специальных занятий по истории искусств и по истории балета, все приходилось по этим вопросам разыскивать самому, что А. А. и делал еще в свои ученические годы, приобретая необходимую сноровку и ориентировку в этих вопросах для будущей своей творческой работы.
Огромное влияние оказывало на Горского в Театральном училище непосредственное живое общение с театром, где сконцентрированы были в то время крупные артистические силы. Пример художественной игры на сцене был всегда перед глазами. Не было места скуке, жизнь была богата самыми цветистыми, яркими красками, каждый день давал много самых разнообразнейших впечатлений. Два раза в неделю воспитанников водили в театр на вечерние представления; у старших была своя определенная ложа. Если воспитанники не были сами заняты во время спектакля в балете, а они рано начинали принимать участие в них, то ходили в драматические театр. У брата и сестры Горских осталось сильное впечатление от Стрепетовой, с которой Горская девочкой играла в спектаклях. Часто приходила в Театральное училище Савина, вела беседы с детьми, в частности несколько раз беседовала с А. А. и его сестрой. Но карьера танцора не столько сильно манила его, как балетмейстера. По воспоминаниям заслуженного артиста Булгакова, А. А. Горский, бывший с ним в одном классе в Театральном училище и позже вместе служивший и в ленинградском, и в московском театрах, развивал себя во все время школьного пребывания в направлении будущего балетмейстерства. Он изыскивал все возможности, как свидетельствует сестра, чтобы только подготовиться к такому балетмейстерству, которое включало бы в себя его основной девиз “все знать”.
Таким образом, он еще в школьные годы предъявлял к искусству балетмейстерства исключительно высокие требования, пытаясь осуществить в своей будущей практике эти рано в нем сложившиеся принципы. “Сколько я помню, А. А. Горский все время в Театральном училище был занят творчеством своего балета "Клоринда", или, иначе "Горная фея"”, — говорит Булгаков. Его мысль неустанно работала в этом направлении, и балет “Клоринда” был поставлен в конце концов в школе, уже по окончании ее, в средних классах. Тогда у Горского танцевали в “Клоринде” М. М. Фокин, Белинская и Макарова. Кроме Театрального училища этот балет ставился в бывшем Михайловском театре как экзаменационный спектакль. Позже, в Москве, “Клоринда” ставилась в бывшем Незлобинском театре. Булгаков характеризует своего товарища в школьный период как юношу с большим природным талантом, культурного, весьма любознательного, хорошего товарища, с мягким, скорее женственным характером, мечтательным, поэтичным, с богатым воображением, склонным к фантастике, уступчивым, спокойным, правда легко поддающимся разным влияниям, но вполне благородного, честного человека по своим взглядам и устремлениям, не идущего на компромиссы. При всей мягкости своей натуры, он мог быть непреклонно стоек в вопросах искусства и бережно хранил его, подобно тому как в детские еще годы сумел отстоять от всех осложняющих моментов в его маленькой жизни большую, еле помещавшуюся под мышкой книгу — “Физику”, ведь он клал ее даже, ложась спать, под подушку.
Женственность его натуры особенно стала ясна его товарищу Булгакову в период увлечения А. А. одной из своих товарок по Театральному училищу (Рыхляковой), когда 183 он с увлечением вышивал шелками два веера в подарок предмету своей первой любви, выполняя эту работу с чисто женским мастерством. Сестра также упоминает об этом первом юношеском увлечении А. А., начавшемся с 15 лет. А в 17 лет он неожиданно проявил наследственные способности от отца к вышиванию шелками. На одном веере были вышиты очень красивые белые листья, на другом — павлин. Веера были также вырезаны и выжжены им самим, чем также любил заниматься и отец. Булгакову очень запомнилось, с какой усидчивостью и любовью Горский не только вышивал, но выпиливал и выжигал остов веера.
В бытность А. А. в Театральном училище были следующие преподаватели: Николай Иванович Волков, — он же репетировал учеников и славился именно как удивительный репетитор, по воспоминаниям В. А. Горской. Все танцы к балетам подготовлял с учениками он же и в занимательной понятной форме рассказывал об истории того или иного танца, об эпохе, включая учеников во все первоистоки. Заставлял их выполнять точно все задания и своим упорством добивался определенных успехов. Он был очень строг, ученики его боялись, но уважали, и если Волков скажет, что на завтра надо во что бы то ни стало приготовить то-то, то они просидят ночь, но заданное выполнят. Авторитет его был силен. Волков был репетитором и у мальчиков и у девочек. Оба Горские — брат и сестра были с Волковым большими друзьями. Александра Алексеевича Волков очень хвалил, хотя часто и давал ему подзатыльники. У девочек же битье не практиковалось. Но А. А. часто потом шутя говорил сестре, с которой был вообще очень дружен, — если бы меня побольше били в свое время, то я, наверное, был бы лучше, чем есть сейчас.
В старших классах у мальчиков был преподавателем Павел Андреевич Гердт. Он был совершенно самостоятелен в своем преподавании и играл в балете главную роль, — был он преподавателем и классики, и бальных танцев. Для бальных танцев мальчики и девочки соединялись вместе, танцевали кадриль, лансье, вальс, мазурку. Гердт был хорошим классиком, с прекрасной школой, выдающийся мимический актер, умер в 1917 г. Из его класса вышли Тихомиров и Горский. Это был яркий представитель французской школы.
Отмечает В. А. Горская еще замечательного преподавателя в Театральном училище, известного Христиана Петровича Иогансена. Тогда это уже был старик лет восьмидесяти. Выдающийся профессор танцев. Он сам играл на скрипке, так как аккомпаниатора не было. Упражнения долгие годы велись только под скрипку, а Иогансон вводил некое новшество: играл свои мотивчики, какая-то все-таки получалась мелодия, что вообще в Театральном училище не практиковалось, однообразие же одних и тех же экзерсисов на скрипке, конечно, утомляло. Отсюда и нежелание А. А. учиться играть на скрипке. Это не импульсировало его творчество.
<…> Кроме Волкова и шведа Иогансона у мальчиков был преподавателем итальянец Э. Ц. Чекетти. Многие учились у него помимо Театрального училища еще и на дому, как, например, балерина Преображенская. Чекетти — яркий представитель итальянской школы, прекрасный танцор, делал головокружительные прыжки, пируэты, фуэте и требовал того же от своих учеников. У девочек в младших классах преподавал Лев Иванович Иванов, второй балетмейстер и помощник М. И. Петипа. Это очень талантливый человек, но чрезвычайно скромный, он не сумел выдвинуться, хотя имел полное право на это. <…>
184 Одно время был преподавателем Алексей Николаевич Богданов <…>.
Отмечается сестрой А. А. еще бывшая балерина Екатерина Оттовна Вазем, считавшаяся образцовым педагогом. К ней и в настоящее еще время ездят на уроки. В прошлом 1932 г. некоторые московские балерины ездили в Ленинград к Вазем учиться, фамилия ее теперь Насилова, она замужем за доктором Насиловым.
И наконец, во главе стоял гениальный Петипа, основатель современного русского балета, тогда, в годы ученья Горских, имевший уже 70 лет от роду. Он был преподавателем мимики и классических танцев. Петипа придавал огромное значение школе, связывая судьбу школы с судьбой русского балета. Ведь Театральное училище и балетная сцена жили одной жизнью и ни одна новая постановка не проходила без участия в той или иной мере воспитанников училища. Петипа очень любил ставить балеты с детьми, значит, частое участие учеников давало возможность им всегда присутствовать в самой лаборатории творчества если не самого Петипа, то его ближайшего помощника балетмейстера Л. Иванова, пунктуально точно следовавшего основным принципам и указаниям Петипа. Те же ученики, что не участвовали в самих спектаклях, всегда ходили на репетиции балета, если они происходили в двух огромных залах Театрального училища. На генеральные репетиции как оперы, так и балета ездили также всегда в театр. В связи с этим приходилось часто пропускать уроки по общеобразовательным предметам, так как репетиции и спектакли были на первом плане; если последние совпадали с уроками, то уроки разрешалось не посещать на законном основании» (ГЦТМ. Ф. 77. Ед. хр. 104. КП 121718).
Об упоминаемых в докладе лицах см. ниже. коммент. 362 – 383.
Г. А. Римский-Корсаков встречался и переписывался с В. А. Горской с конца 1930-х гг. (см.: ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 12 и 15).
Рукопись не закончена. Несомненно, Римский-Корсаков планировал продолжить работу на ней, также не исключено, что часть черновиков могла остаться в семейном архиве Римских-Корсаковых, из которого в 1990 г. в ГЦТМ попали материалы Г. А. Римского-Корсакова об А. А. Горском.
362 Отец Горского… — Горский Алексей Александрович (? – 1911).
363 Мать Горского… — Горская Мария Федоровна (ок. 1846 – 1896).
364 … сестру Веру… — Горская Вера Алексеевна (1873 – 1956) — артистка петербургского балета до 1909 г., сестра А. А. Горского.
365 Адамс Ольга Борисовна (1821 – 1904) — инспектриса Петербургского театрального училища до 1887 г.
366 Орлов Иван Сергеевич — инспектор Петербургского театрального училища до 1887 г.
367 Волков Николай Иванович (1836 – 1891) — артист петербургского балета (1855 – 1884), педагог Петербургского театрального училища с 1863 г.
368 Гердт Павел Андреевич (1844 – 1917) — артист петербургского балета (1864 – 1916), педагог Петербургского театрального училища (1880 – 1904).
369 Богданов Алексей Николаевич (1830 – 1907) — артист петербургского балета с 1846 года, режиссер петербургской труппы (1860 – 1883). С 1883 по 1889 г. — главный балетмейстер московских Императорских театров.
370 Иогансон Христиан Петрович (1817 – 1903) — артист петербургского балета (1864 – 1903), выдающийся педагог, преподавал в Петербургском театральном училище с 1860 г. (официально с 1869) до конца жизни.
371 185 … училище барона Штиглица… — Центральное училище технического рисования, основанное придворным банкиром Александром Людвиговичем Штиглицем (1814 – 1884).
372 Стрепетова Пелагея (Полина) Антипьевна (1850 – 1903) — драматическая актриса, с 1876 г. в Александринском театре. Ср.: «У брата и сестры Горских осталось сильное впечатление от Стрепетовой, с которой Горская девочкой играла в спектаклях» (доклад В. П. Дитиненко, см. коммент. 361).
373 Стравинский Ф. И. — См. коммент. 181.
374 … его первое выступление на сцене <…> в опере «Бронзовый конь»… — Очевидно, это произошло не позднее 1885 г., когда Большой (Каменный) театр в Санкт-Петербурге был закрыт.
375 «Волшебные пилюли» — балет-феерия на музыку Л. Минкуса (программа Ф. Лалу, Л. Буржуа и Лорана, хореография М. Петипа), впервые представленный 9 февраля 1886 г.
376 Солянников Николай Александрович (1873 – 1958) — артист петербургского балета (1891 – 1911; 1914 – 1950). Маржецкий Павел Александрович (1871 – ?) — артист петербургского балета (1889 – 1909), композитор. Об А. Д. Булгакове и О. О. Преображенской см. коммент. 69 и 26.
377 … в «Жемчужине», данной для торжественного спектакля 17 мая в Большом театре. — Спектакли петербургской и московской балетных трупп, приуроченные к коронации Николая II, начались в Большом театре 26 апреля 1896 г. «Привалом кавалерии» И. Армсгеймера (программа и хореография М. И. Петипа), показанном также 7 мая. 5, 9 и 21 мая шло «Лебединое озеро» П. Чайковского, 2 и 22-го мая — «Пробуждение Флоры» Р. Дриго (программа М. И. Петипа и Л. И. Иванова, хореография Петипа, премьера 28 июля 1894 г. в Петергофе); Горский исполнил партию Аквилона. 17 и 23 мая силами обеих трупп был представлен написанный специально к коронации балет «Прелестная жемчужина» Р. Дриго (программа и хореография М. И. Петипа); Горский был занят в танце «Битва кораллов и металлов» (Бронза).
378 Основано на сведениях, ошибочно указанных в издании: Материалы по истории русского балета: 200 лет Ленингр. гос. хореогр. училища. 1738 – 1938. Т. 2. С. 59. На самом деле А. А. Горскому предлагалось записать поставленный в том же 1896 г. балет М. И. Петипа «Синяя Борода». Как писал в рапорте Конторе 7 ноября 1896 г. режиссер балета В. Лангаммер, «Вследствие моего предложения г. Горскому записывать вновь ставящийся балет “Синяя борода”, г. Горский заявил, что таковое записывание балетов не входит в обязанность преподавателя записывания танцев по методе умершего Степанова в Театральном училище и если на него будет возложено таковое записывание, то он просит назначить дополнительное жалованье, кроме получаемого им ныне, еще 1000 рублей ежегодно (во всяком случае не менее 800 руб.) и назначить ему помощника с окладом тоже в 500 до 600 рублей в год, о таковом заявлении Г. Горского предоставляю на усмотрение Дирекции». (РГИА. Ф. 487. Оп. 5. Ед. хр. 814).
Степанов Владимир Иванович (1866 – 1896) — артист Мариинского театра (1885 – 1896), автор системы записи танца, по которой в 1890 – 1910-е был записан почти весь репертуар петербургского балета. В 1890-е годы запись репертуара велась самим Степановым и А. А. Горским, в 1900 – 1910-е Н. Г. Сергеевым и его помощниками А. И. Чекрыгиным и непродолжительное время В. П. Рахмановым. Вывезенные из Советской России Сергеевым в 1918 г., эти хореографические нотации ныне хранятся в Гарвардской театральной коллекции. Нотация «Спящей красавицы», выполненная Горским, среди них отсутствует, сохранились только беглые рабочие записи Н. Г. Сергеева. См. также публикацию писем Н. Г. Сергеева А. К. Шервашидзе в наст. изд.
379 Основополагающая работа В. И. Степанова по записи танца «Alphabet Des Mouvements Du Corps Humain: Essai D’Enregistrement Des Mouvements Du Corps Humain Au Moyen Des Signes Musicaux» издана в Париже на французском языке в 1892 г.
380 См. коммент. 252 к публ. Нижинская Б. Ф. Дневник (1919 – 1921); трактат «Школа и Театр Движений» в наст. изд.
381 186 «Клоринда» на музыку Э. Келлера в экзаменационный спектакль в Михайловском театре (1897 г.). — Дата указана ошибочно. Балет «Клоринда, царица горных фей» был поставлен в Михайловском театре 11 апреля 1899 г.
382 Горский состоял преподавателем Театрального училища с 1896 г. В рапорте, поданном инспектором училища В. Писнячевским на имя управляющего И. Рюмина, говорилось: «Испрашиваю разрешения Вашего Превосходительства на определение артиста балетной труппы Александра Горского преподавателем воспитывающимся в Императорском С.-Петербургском Театральном Училище “теории записывания танцев” с 16 числа сего Января месяца, — вместо умершего преподавателя артиста В. Степанова, с производством ему жалованья по числу 7 годовых уроков, по 75 р. за годовой час, всего 525 рублей в год» (РГИА. Ф. 498. Оп. 1. Ед. хр. 4645. Л. 1). 6 сентября того же года последовал новый рапорт Писнячевского: «Ввиду введения новой системы преподавания танцев в балетном отделении Училища, испрашиваю разрешения Вашего Превосходительства возложить, с 1 текущего Сентября, на артиста балетной труппы А. Горского кроме преподавания им “теории записывания танцев” также и обязанности помощника старшего преподавателя в женском отделении, с производством ему кроме получаемого уже им жалованья 525 рублей еще по 720 рублей, а всего по 1.245 рублей в год» (Там же. Л. 2). 2 сентября 1900 г. А. А. Горский обратился к В. Писнячевскому с заявлением: «Вследствие состоявшегося назначения моего главным режиссером Московской балетной труппы, прошу Вас освободить меня от обязанностей преподавателя теории записывания танцев и помощника старшего преподавателя г. Гердта, с 1 сентября с. г.» (Там же. Л. 3). На обороте документа резолюция: «Предложением Инспектора Училища 9 Сентября 1900 г. № 535 уволен с 1 Сентября 1900 г. Обязанности по “теории записывания танцев” переданы артисту Н. Сергееву, а по преподаванию танцев артистке К. Куличевской» (Там же. Л. 3 об.).
Чекетти Энрико (1850 – 1928) — итальянский танцовщик, педагог, в петербургском балете с 1887 г., в 1892 году назначен вторым балетмейстером, параллельно преподавал в Петербургском театральном училище.
383 Репетиции начались в декабре 1898 г. Командировка Горского была вызвана просьбой управляющего московскими театрами В. А. Теляковского, по настоянию которого шедевр Петипа — Чайковского был перенесен в Москву. Ср. запись от 4 ноября: «Горского вызвать для “Спящей красавицы” на две недели (из Петербурга)». (Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров: 1898 – 1901. Москва / Под общ. ред. М. Г. Светаевой; подгот. текста С. Я. Шихман и М. Г. Светаевой; вступ. статья О. М. Фельдмана; коммент. О. М. Фельдмана, М. Г. Светаевой, Н. Э. Звенигородской. М., 1998. С. 32). 16 ноября, находясь в Петербурге, Теляковский записал: «Горского предполагается прислать» (Там же. С. 39). Горского командировали в Москву сроком с 3 декабря на две недели, как и просил Теляковский. Очевидно, впрочем, что С. М. Волконский также сочувственно относился к работе Горского.
384 К документу Г. А. Римский-Корсаков сделал примечание: «цитируется по черновику, находящемуся в Музее ГАБТ». В 1940 г. этот документ был приобретен ГЦТМ (Акт № 1827 от 20/XII 1940). Хранится в фонде А. А. Горского: ГЦТМ. Ф. 77. Ед. хр. 195. Опубликовано: Горский. 2000. С. 92 – 83.
385 … незначительные изменения в хореографическом тексте <…> были допущены Горским сознательно. — См. коммент. 98 – 101.
386 187 Написав обиходное название номера «адажио Авроры и четырех кавалеров», Римский-Корсаков исправил его на «принцев» — как в программе балета.
387 Горский несколько усложнил этот танцевальный номер применительно к сильным техническим средствам балерины Рославлевой. — См. коммент. 98.
388 Впоследствии, в 1906 году, Горский сократил I-й акт, выпустив танцы придворных дам. — Неясно, о каких танцах идет речь. А. В. Кузнецов, участвовавший в «Спящей красавице» с 1927 г., свидетельствовал, например, что Горский сохранил танец «четырех солисток — придворных дам в черном» (см.: Горский. 2000. С. 258).
389 В последнем акте тогда же выпущены были марш и танец Золушки. — Ср. коммент. 100, 101.
390 Пропускался также первое время танец Людоеда и Мальчика-с-пальчик с братьями из-за неимения исполнителей-детей. — Ср. коммент. 100 – 101.
391 Премьера «Щелкунчика» в Большом театре состоялась 21 мая 1919 г. См. также очерк Г. А. Римского-Корсакова в кн.: Горский. 2000. С. 189 – 190.
392 Гастроли петербургских артистов в Будапеште проходили в Королевской опере с 1 по 15 июня 1899 г. Согласно анонсам и заметкам выходившей на немецком языке газеты «Пештер Ллойд» («Pester Lloyd») были представлены:
1, 4, 10 и 15 июня — «Привал кавалерии» и «Дочь фараона» (в один вечер).
3 и 8 июня — «Коппелия» и «Пахита» (в один вечер).
6, 11 и 14 июня — «Свадьба в Кракове» (балет Ф. И. Кшесинского) и «Корсар» (в один вечер).
Каждое представление завершалось дивертисментом.
А. А. Горский помимо танцев исполнял роли Гусарского ротмистра в «Привале кавалерии», Пасифонта в «Дочери фараона» и дона Мендозы в «Пахите».
… Мария Петипа, братья Легат, Обухов, Тистрова, Борхард. — М. М. Петипа (см. о ней коммент. 88) была инициатором поездки, заглавные партии она делила с О. О. Преображенской (см. о ней коммент. 26). Братья Н. Г. и С. Г. Легат (см. коммент. 87), а также А. Д. Булгаков (см. о нем коммент. 69) несли основной мужской репертуар. Обухов Михаил Константинович (1879 – 1914), Тистрова Мария Федоровна (1857 – 1922), Борхард Луиза Александровна (1876 – ?) — артисты петербургского балета.
393 На самом деле, по балетным спектаклям, в которых выступал А. А. Горский, даны сведения за сезоны 1890/91 – 1898/99 гг., а не за 10-летие службы. Они взяты из «Ежегодника Императорских театров», поэтому не охватывают первый сезон службы А. А. Горского в театре (1889/1890), когда «Ежегодник» еще не издавался. Также в статистику Г. А. Римского-Корсакова не попал последний сезон в Петербурге (1899/1900 г.), а также первый в Москве (1900/1901), где Горский также оказался занят как артист. Таким образом, общая цифра составит 402 выступления. Цифры выступлений в опере и драме ошибочны: в опере Горский был занят 240 раз, в драме — 11. Опубликованная статистика такова:
В сезон 1890/1891 гг.: «В балетах — 39, в операх — 35. Всего 74 раза».
В сезон 1891/1892 гг.: «В балетах — 45, в операх — 50. Всего 95 раз».
188 В сезон 1892/1893 гг.: «В балетах — 51, в операх — 40. Всего — 91 раз. В том числе: “Волшебная флейта” (скороход) — (скороход — 4)».
В сезон 1893/1894 гг.: «В 10 балетах — 48, в 8 операх — 30, в 1 драме — 3. Всего 81 раз. В том числе: “Волшебная флейта” (скороход — 6), оп[ера] “Тангейзер” (сатир — 5), ком[едия] “Батюшкина дочка” — в бал[ете] “Своенравная жена” (гений — 3)».
В сезон 1894/1895 гг.: «В 15 балетах — 40, в 5 операх — 15, в 2 драмах — 11. Всего — 66 раз. В том числе: “Волшебная флейта” (скороход — 2), “Жертвы Амуру” (Илас — 3), “Пробуждение Флоры” (Аквилон — 4), “Тщетная предосторожность” (Никез — 2), комедия “Батюшкина дочка” — в бал[ете] “Своенравная жена” (гений — 3)».
В сезон 1895/1896 гг.: «В 13 балетах — 52, в 6 операх — 22, в 1 драме — 1. Всего 75 раз. В том числе: “Волшебная флейта” (скороход — 3), “Пробуждение Флоры” (Аквилон — 2), “Своенравная жена” (гений — 5)».
В сезон 1896/1897 гг.: «В 9 балетах — 42, в 4 операх — 17, в 1 драме — 1. Всего 60 раз. В том числе: “Волшебная флейта” (скороход — 3), “Конек-Горбунок” (Гаврило — 7), “Тщетная предосторожность” (Никез — 2)».
В сезон 1897/1898 гг.: «В 7 балетах — 37, в 7 операх — 22. Всего — 59 раз. В том числе: “Волшебная флейта” (скороход — 3), “Дочь микадо” — (Ка-ке-ки-го — 6), “Тщетная предосторожность” (Никез — 1), “Фиаметта” (цыган — 4)».
В сезон 1898/1899 гг.: «В 6 балетах — 14, в 2 операх — 9. Всего 28 раз».
В сезон 1899/1900 г.: «В 14 балетах — 32. Всего 32 раза».
После перевода на службу в московские театры с 1 января 1901 г., Горский выступил здесь в сборном спектакле 29 апреля 1901 г., исполнив в «Жизели» роль Вильфрида, а во 2-м действии «Корсара» — Сеид-паши.
394 Об А. В. Ширяеве и братьях Н. Г. и С. Г. Легат см. коммент. 24, 87.
Кякшт (Кякшто) Георгий Георгиевич (1873 – 1936) — артист петербургского балета (1891 – 1910).
395 Бекефи Альфред Федорович (1843 – 1925) — выдающийся характерный танцовщик. В 1876 – 1883 гг. — артист московского, в 1883 – 1906 гг. — петербургского балета.
396 В танце «La nuit parisienne» 3-го действия балета «Золушка» (премьера 5 декабря 1893 г.) К. М. Куличевская исполняла партию Леандра, А. А. Фонарева — соседки, А. А. Горский — Пьеро, а Л. В. Петропавловская — Амура. Танец «Pas typique chinois» с участием А. А. Горского, А. В. Ширяева и К. М. Куличевской исполнялся в 3 действии 5 картине балета Ж. Перро «Катарина, дочь разбойника», возобновленного Э. Чекетти для П. Леньяни в сезон 1893/1894 гг. (первый спектакль — 9 января 1894 г.).
Фонарева Александра Ивановна (1876 – ?) — артистка петербургского балета (1894 – 1912).
Куличевская Клавдия Михайловна (1861 – 1923) — артистка петербургского балета (1880 – 1901).
Петропавловская (псевд. Эльпе) Людмила Васильевна (1881 – ?) — артистка петербургского балета (1899 – 1917).
397 Как указывалось в «Ежегоднике Императорских театров», при возобновлении «Тангейзера» Р. Вагнера (первый спектакль 15 октября 1893 г.) «группы и танцы 1-го действия оперы, сочиненные главным балетмейстером М. И. Петипа, были вновь поставлены вторым балетмейстером Л. И. Ивановым» (Ежегодник Императорских театров: Сезон 1893 – 1894. СПб., 1895. С. 204).
398 Он исполняет… вариацию в адажио… — На самом деле — в pas de deux.
399 189 В кн. «Хореография. Примеры для чтения» (1899) А. А. Горского записана его собственная версия этой вариации (см. с. 38 – 40). Остается открытым вопрос, мог ли он исполнять свою хореографию на премьере в 1895 г.
400 О братьях Легат и М. К. Облакове см. коммент. 87.
401 Премьера оперы «Князя Игоря» А. П. Бородина на сцене Мариинского театра с танцами Л. И. Иванова состоялась 23 октября 1890 г.
402 Де-Лазари Иван Константинович (1875 – 1931) — оперный певец, гитарист-виртуоз, актер, чиновник московской конторы (1897 – 1900), режиссер московской балетной труппы (1900 – 1905).
403 Мендес Хосе (1843 – 1905) — испанский хореограф, балетмейстер Большого театра с 1888 по 1898 г.
404 И. Н. Хлюстин уехал за границу в 1903 г. См. о нем коммент. 24.
405 Рябов Степан Яковлевич (1832 – 1921) — скрипач, с 1871 г. дирижер, главный дирижер балета Большого театра (1882 – 1899). Рябова любили в Москве, признавая самородком, популярностью пользовался его бальный оркестр. Н. Д. Кашкин писал: «… г. Рябов вполне заслуживает похвалы за ту верность темпа и внимательность, с которой он следил за танцевавшими. Этому уменью следить у г. Рябова мог бы поучиться и иной оперный капельмейстер» (Русские ведомости. 1877. № 54. 3 марта. С. 1).
Отзыв Римского-Корсакова о Вальце созвучен мнению В. А. Теляковского и не вполне справедлив. Фигура Вальца, как и Рябова, важна для московского балета 1870 – 1890-е гг., когда на нем крайне неблагоприятно сказывались как меры экономии К. Кистера в 1870-е, так и реорганизация И. А. Всеволожского в 1880-е гг., негативным итогом которой было увольнение старых мастеров-мимистов и перевод нескольких наиболее способных артистов в Петербург. Инициируя постановки по собственным либретто, дававшим выгодный материал для демонстрации возможностей машинерии, Вальц способствовал если не развитию, то поддержанию художественной активности балета Большого театра. После прихода в начале XX века в Большой театр К. А. Коровина и А. А. Горского он уступил им дорогу, сосредоточившись на своих задачах театрального машиниста, которые выполнял виртуозно.
406 Теляковская (урожд. Миллер, по первому браку баронесса Фелейзен) Гурли Логиновна (1852 – 1922) — художница-любительница, жена В. А. Теляковского. Характеристику, данную ей как художнице А. Я. Головиным, см. в кн.: А. Я. Головин: Встречи и впечатления. Письма. Воспоминания о Головине / Сост. и коммент. А. Г. Мовшенсона, вступ. статья Ф. Я. Сыркиной. Л., 1960. С. 150.
407 Теляковский В. А. Воспоминания. С. 147.
408 Любопытное свидетельство о характере коллективной работы при постановке «Дон Кихота» и об отношении к этому новому для московской балетной среды явлению содержится в интервью Л. Н. Гейтен «Русскому листку». Настроенная критически к «конторе» и затеям Теляковского, знаменитая московская прима 1870 – 1890-х гг. дает описание творческого процесса, которое при всех преувеличениях и искажениях (идущих также и от интервьюера: Сен-Леон, например, к «Дон Кихоту» не имел отношения) свидетельствует о поисках художественного единства постановки: «Теперь ставят “Дон Кихота”. Интересно, как пойдет эта вещь. Пока слухи далеко не утешительные. Ставить приехал некто г. Горский (второстепенный танцор, которому далось записать постановку балета и тем, так сказать, выделиться). На первых же порах ему пришлось 190 столкнуться с новшеством: от конторы были назначены два каких-то субъекта (говорят, художники, они расселись на репетиции и каждую группу, каждый поворот “критикуют”). Горскому как “подчиненному” приходится уступать и ломать детище Сен-Леона и Петипа по благоусмотрению этих субъектов. Благодаря этому, балет разучивается крайне туго: чуть ли не по восьми тактов в день» ([Б. п.]. У рампы: Почему балет падает? // Русский листок. 1900. № 323. 22 нояб.).
409 Декорации А. Я. Головина («Площадь в Барселоне», «Сад Герцога»), К. А. Коровина («Пролог», «Испанский кабачок», «Среди мельниц»), К. А. Коровина и Н. А. Клодта («Заповедный лес» и «Сад Дульцинеи»), костюмы Г. Л. Теляковской, а также К. А. Коровина и А. Я. Головина, машинерия К. Ф. Вальца.
410 См.: Горский. 2000. С. 86.
411 См.: Теляковский В. А. Воспоминания. С. 148.
412 Цифры сборов по московским театрам, приводимые в «Ежегоднике Императорских театров» за первые два сезона показа «Дон Кихота» (до отправки декораций «Дон Кихота» в Петербург), свидетельствуют об умеренном финансовом успехе постановки. Максимальный сбор дал бенефис В. Ф. Гельцера — 4340 р. 54 к. (10 декабря 1900 г.), наибольший сбор с рядового спектакля составил — 2450 р. 17 к. (27 декабря 1900 г.), наименьший — 1154 р. 73 к. (4 апреля 1901 г.), в бенефис кордебалета предпочтение было отдано «Лебединому озеру» (из «Дон Кихота» шло только 1-е действие). Самым успешным спектаклем сезонов 1900 – 1901 гг. и 1900 – 1901 гг. оказалось «Лебединое озеро». Вне сезона сбор с представлений этого балета не опускался ниже 1392 р. 64 к. (3 апреля 1900 г.), в сезон — ниже 2286 р. 55 к. (27 января 1902 г.). В сезоне 1900/1901 гг. его четырежды ставили в бенефис (Рославлева, Джури, Гримальди, бенефис кордебалета). Немногим уступал ему репертуарный долгожитель «Конек-Горбунок», в сезон 1902/1902 гг. подтвердивший свое реноме бенефисного спектакля (Рославлева, Джури, бенефис кордебалета). Необычным были не столько сборы «Дон Кихота», сколько ожесточенная полемика, сопутствовавшая спектаклю и ставившая его в центр художественной жизни. Скоро это стало восприниматься как особенность постановок Горского. Перед началом петербургского сезона 1904/1905 гг. рецензент «Биржевых ведомостей» размышлял над тем, что «желательно было бы, по крайней мере, перенести сюда на некоторое время новые московские балеты, которых мы не видели, в пресловутой московской обстановке, как, например, “Дочь Гудулы” и “Золотую рыбку”. Или, может быть, мы не сумеем оценить внезапно открывшихся талантов г. Горского? Во всяком случае, это дало бы несколько хороших сборов и способствовало бы оживлению унылого сезона» (И[сполняющий] д[ела] балетного критика. Балет: «Спящая красавица» // Биржевые ведомости. 1904. 3 сент. С. 4).
413 Ср. мнение А. В. Лопухова (Горский. 2000. С. 137).
414 Премьера «Дон Кихота» в Мариинском театре в почти полной московской обстановке состоялась 20 января 1902 г.
415 В подтверждение этой мысли Г. А. Римский-Корсаков весьма выборочно и тенденциозно цитирует статьи петербургских рецензентов, консерватизм которых не мешал им фиксировать реальность спектакля и подмечать его художественную новизну. Так, например, действительно нелепая фраза «позы ее дерзки до перла создания» в общем ходе изложения С. Н. Худекова читается совершенно иначе: «Оригинален костюм на уличной танцовщице г-же Преображенской — вся в черном, с 191 двумя ярко-желтыми розетками в волосах. На лице — ни кровинки: изморенный усталый взгляд, тем не менее, имеет вызывающий вид. В каждом движении г-жи Преображенской сказывается ее артистическая натура. Позы ее дерзки до перла создания» (Стар. балетоман [Худеков С. Н.]. Балет // Петербургская газета. 1902. № 27. 22 янв. С. 3).
416 Под псевдонимом Старый балетоман писал Сергей Николаевич Худеков (1837 – 1927/1928) — редактор-издатель «Петербургской газеты».
417 Старый балетоман [Худеков С. Н.]. Театральное эхо // Петербургская газета. 1902. № 20. 21 янв. С. 3.
418 Старый балетоман [Худеков С. Н.]. Балет // Петербургская газета. 1902. № 21. 22 янв. С. 3.
419 Старый балетоман [Худеков С. Н.]. Балет // Петербургская газета. 1902. № 27. 28 янв. С. 3.
420 Там же.
421 Бенуа А. Новые театральные постановки // Мир искусства. 1902. Т. 7. № 2. С. 25 – 30. Бенуа высказал свое отношение к творчеству Горского, которого неизменно придерживался в откликах на все другие постановки хореографа: «Мы увидали, что кроме суетни есть много очень остроумно придуманного, много жизни или, по крайней мере, заботы о жизни (нам кажется, что в такой дрянной балет и невозможно влить настоящую жизнь), и все же… действительно, за всей этой оживленностью совсем исчезала самая сцена, самый балет: получался какой-то блестящий, но в общем — бессмысленный и потому надоедливый калейдоскоп. В сущности, вовсе не шел “Дон Кихот”, а происходила какая-то сплошная гишпанская вакханалия <…> Видно, что балетмейстеру никакого дела не было до самой фабулы, до “настроения” данного балета. Он только старался увлечь публику фейерверком костюмов, ожесточенным верчением масс, эффектно вставленными отдельными номерами, но нисколько при этом не заботился об истинной красоте сцены: ни о драматическом впечатлении, ни о ритме и пластике» (Там же. С. 29).
В изданных в 1940-е годы в эмиграции мемуарах взгляд Бенуа на балеты Горского стал еще категоричней и жестче: «Отправляясь в театр, я рассчитывал получить наслаждение если не от балета, то, по крайней мере, от спектакля. Судя по слухам, московская постановка старого балета “Дон Кихот” представляла собой шедевр, и ее постановщик, балетмейстер Горский, открыл новые горизонты. Это оказалось неверным. Новая версия Горского была испорчена отвратительным отсутствием порядка, типичным для любительских представлений. Его “новшества” заключились в том, что он заставил толпу суетиться, судорожно и бесцельно передвигаться по сцене. Что же касается действия, драматические возможности, да и сами танцовщики были насильственно сведены к однообразно банальному уровню. “Дон Кихот” никогда не был украшением императорской сцены: теперь он превратился в нечто недостойное ее и почти ее дискредитирующее. Вина неудачи постановки “Дон Кихота” целиком лежит на Горском» (Benois A. Reminiscences of the Russian Ballet. L., 1947. P. 221 – 222. Цит. по: Красовская В. М. Русский балетный театр начала XX в.: В 2 т. Л., 1971. Т. 1. С. 127). Как бы извиняясь, Бенуа писал, что «предпочел бы похвалить спектакль своих друзей Коровина и Головина и “не раздражать Теляковского”». Вывод о «неудаче», закономерный в ходе рассуждений Бенуа, исторически очевидно несправедлив.
422 Там же. С. 128.
423 192 Первое представление постановки М. И. Петипа и Л. И. Иванова, перенесенной Горским в Москву, состоялось 24 января 1901 г.
424 В течение своей жизни Горский неоднократно обращался к «Лебединому озеру». В 1912 г. он сделал свою редакцию балета, а в 1920 г. (совместно с Вл. И. Немировичем-Данченко) дал радикальную режиссерскую трактовку этого балета. Версия Большого театра 1956 г., восходящая к «Лебединому озеру» Горского (IV акт в постановке А. М. Мессерера), сохраняется в репертуаре балетных трупп до сего времени. Поставленный им испанский танец в 1913 г. заменил в петербургской постановке танец Л. И. Иванова. Попытки выявить, описать и систематизировать трансформации хореографического текста и режиссерских замыслов Горского в «Лебедином озере» предприняты в работах А. В. Кузнецова (Горский. 2000. С. 261 – 266) и Е. Я. Суриц (Там же. С. 15 – 19). См. также статью: Беляева Е. Г., Вязовкина В. А., Конаев С. А. Сравнительная таблица постановок «Лебединого озера» // Большой театр. 2002. № 8 (16). Нояб. – дек. С. 12 – 13.
425 В одном из вариантов своих театральных воспоминаний Г. А. Римский-Корсаков замечает, что в петербургской постановке «Лебединого озера» все темпы «были раза в два медленнее московских». Темпы Большого театра он считал «более правильными, более соответствующими воле композитора», поскольку «там сохранилась память о первой постановке» 1877 г. и поскольку А. Ф. Арендс «был лично знаком и в приятельских отношениях с Чайковским» (Римский-Корсаков А. Г. Из архива семьи // П. И. Чайковский — Н. Ф. фон Мекк: Переписка. Т. 1. С. 440).
426 В. А. Каралли танцевала партию Одетты — Одиллии в «Лебедином озере» с 1906 г.
427 Ср. у А. А. Плещеева: «Не вдаваясь в подробности, укажу на умение балетмейстера распоряжаться массами: его кордебалет живет, группирован, жизненен и не напоминает военной выправки и маршировок, когда все танцовщицы и танцовщики ходят в ногу и жестикулируют вместе, как один человек. Раскиданность рисунка Горского, расстановка им танцующих естественна, чужда условности и подходит к правде» (Плещеев А. А. «Лебединое озеро»: (Письмо из Москвы) // Вечернее время. 1916. 3 февр. № 1379. С. 4).
428 Танцевальная площадка чрезмерно заполнялась кордебалетом. — Это было в особенности характерно для ранних спектаклей. Так, например, в спектакле 20 февраля 1902 г. крестьянский вальс у Горского танцуют 2 солистки крестьянского танца (pas de trios), 36 танцовщиц, Зигфрид, Бенно, 10 их друзей, 20 танцовщиков и воспитанницы.
429 По отзыву этого же теоретика театра <…> были В. А. Каралли и Е. М. Адамович. — Статья С. М. Волконского, на которую ссылается Г. А. Римский-Корсаков, не выявлена. Е. М. Адамович дебютировала в партии Одетты-Одиллии в 1919 г.
430 В версии Горского балет заканчивался гибелью Одетты и Зигфрида, хореограф отказался от апофеоза, венчавшего петербургскую постановку. Ср. коммент. 67.
431 «Лебединая песнь» Одетты была поставлена Горским на музыку вариации № 5 из купированного в петербургской постановке Pas de six 3-го акта. Соло Одетты, предшествующее финальной сцене бури и гибели героев, сохранялось в Москве вплоть до 1937 г. Любопытно, однако, свидетельство В. Я. Светлова, что этот номер шел и в Петербурге, когда партию Одетты — Одиллии танцевала О. О. Преображенская («… в “Лебедином озере” все балерины (кроме Преображенской и Гельцер) выбрасывали “Dernier chant du cygne”» — Светлов В. Я. Современный балет. СПб., 1911. С. 51).
193 Последний акт был удачей хореографа: «А. А. Горский глубже проникся мечтательной музой Чайковского, — писал в 1916 г. А. А. Плещеев, — он на свой лад рассказал сказку, иначе планировал сцены и, например, из последнего акта создал целую поэму, которая в передаче В. А. Каралли и г. Мордкина будит чувства» (Плещеев А. А. «Лебединое озеро»: (Письмо из Москвы) // Вечернее время. 1916. № 1379. 3 февр. С. 4). Причины, по которым эта картина не сохранилась, лежали вне сферы искусства, что доказывает признание А. М. Мессерера, сделанное в 1956 г.: «В финале спектакля при исключительно талантливом выявлении драматургической завязки и развитии действия звучали несколько идеалистические мотивы, перекликавшиеся с проповедью “непротивления злу”, что и побудило театр в 1937 г. пересмотреть четвертый акт» (Мессерер А. М. Обновление балета // Советский артист. 1956. № 28 (785). С. 2).
432 «Клоринда» и «Очарованный лес» А. А. Горского были впервые поставлены на сцене Нового театра 5 сентября 1901 г.
433 «Волшебные грезы» — балет на музыку Ю. Н. Померанцева, поставленный И. Н. Хлюстиным в 1899 г. Г. А. Римский-Корсаков имеет в виду возобновление его на сцене Нового театра, состоявшееся 1901 г.
434 Первый раз по возобновлении «Конек-Горбунок» был показан 25 ноября 1901 г.
435 Программа же танцев его была совершенно переделана. — Вопрос о том, какие из танцев при возобновлении «Конька-Горбунка» Горский переделал, а какие оставил от старой московской постановки, отличавшейся от петербургской, требует отдельного исследования.
436 Симон Антон Юльевич (1850 – 1916) — композитор, дирижер, инспектор оркестров московских Императорских театров (1897 – 1908), помимо «Дочери Гудулы» написал одноактный балет «Оживленные цветы» и др.
437 См.: Беляев Ю. Балет или каторга? // Новое время. 1902. № 9612. 6 дек. С. 4.
438 «Дочь Гудулы» была включена в репертуар спектаклей, предназначавшихся к просмотру Николаем II, по воле вел. кн. Сергея Александровича. Согласно записи в дневнике В. А. Теляковского от 8 апреля 1903 г., вел. князь настаивал: «… пускай будет впечатление тяжелое, сам роман Виктора Гюго тяжелый» (Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров: 1901 – 1903. Санкт-Петербург / Под общ. ред. М. Г. Светаевой; подгот. текста С. Я. Шихман и М. А. Малкиной; коммент. М. Г. Светаевой и Н. Э. Звенигородской при участии О. М. Фельдмана. М., 2002. С. 459). Николай II смотрел «Дочь Гудулы» 10 апреля 1903 г., и балет Горского ему понравился. В дневнике он записал: «Обедали и в 8 ч. поехали в театр. Давали новый балет “Эсмеральда” с очень хорошей и драматической обстановкой» (Дневники императора Николая II: 1894 – 1918. Т. 1: 1894 – 1904 / Отв. ред. С. В. Мироненко. М., 2011. С. 722). После спектакля 10 апреля 1903 г. Теляковский записал: «Государь мне сказал, что ожидал более страшных сцен истязания и казней после моих предупреждений, после 4-й картины и в конце сказал мне, что прекрасно поставлено» (Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров: 1901 – 1903. С. 460).
439 См. черновик письма А. А. Горского к Е. К. Малиновской в наст. публ. с. 122 – 124.
440 На самом деле премьера «Золотой рыбки» в Большом театре состоялась 16 ноября 1903 г. в бенефис кордебалета.
441 Балет «Золотая рыбка» был написан Л. Минкусом в 1867 г. и поставлен А. Сен-Леоном. Сохранившийся клавир из архива из Нотной библиотеки ГАБТ (КБ № 378), свидетельствует, 194 что и у Горского музыка Минкуса составляла драматургическую основу постановки, вставные номера использовались в основном в дивертисментах.
442 Премьера «Волшебного зеркала» в Большом театре состоялась 13 февраля 1905 г.
443 На афише спектакля имя солибреттиста М. И. Петипа было закрыто звездочками. Составители списка постановок М. И. Петипа в России посчитали, что за ним укрылся И. А. Всеволожский, традиционный соавтор Петипа в 1890-е гг. (см.: Мариус Петипа: Материалы. Воспоминания. Статьи. С. 386). Между тем в заметке, появившейся в «Ежегоднике Императорских театров» после отставки с поста директора кн. С. М. Волконского, сказано: «… князем составлено, при его личном участии либретто к балету “Волшебное зеркало” и заказана г-ну Корещенко музыка к этому балету» (см.: [Б. п.] Князь Сергей Михайлович Волконский // Ежегодник Императорских театров: Сезон 1901/1902. СПб., [б. г.] С. 317.
444 Премьера «Волшебного зеркала» в Мариинском театре состоялась 9 февраля 1903 г.
445 Корещенко Арсений Николаевич (1870 – 1921) — композитор, ученик А. К. Глазунова, автор музыки балета «Волшебное зеркало».
В архиве Г. А. Римского-Корсакова сохранился черновик другого варианта рассказа о «Волшебном зеркале»:
«К стр. 32. Успеху “Волшебного зеркала” в Москве много помогли “типичный дух моск. балета”, та атмосфера творческого стояния, которая была присуща в эти годы балету Большого театра, а также то [нрзб.] что А. Левинсон называет “осознанием иррациональности классического танца” — и что являлось следствием не отрицания Горским классических движений, как полагает тот же критик, а появлением новой эмоциональной их интерпретации. А. М. Балашова согревает своей обаятельностью ставший трафаретным образ балетной принцессы. Несмотря на очевидный успех, в хореографии “Волшебного зеркала” было значительно менее ярких мест, чем в других балетах Горского. Общий стиль танцев “Волшебного зеркала” был тяжеловесным и скованным. Возможно, что на Горского воздействовала музыкальная фактура спектакля, хотя и немного облегченная А. Ф. Арендсом при появлении этого балета на московской сцене» (ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 13. Л. 2).
Партитура «Волшебного зеркала» была переслана из Петербурга в Москву и ныне находится в Музее ГАБТ (КП 3618/11-14). А. Ф. Арендс произвел по указанию балетмейстера перекомпоновки некоторых номеров и купюры, но его вмешательство в фактуру произведения ограничивается переоркестровкой отдельных номеров. Остается невыясненным, сохранял ли спектакль А. А. Горского, как в других случаях, фрагменты хореографии М. И. Петипа.
446 N. N. Бенефис М. И. Петипа: (Новый балет «Волшебное зеркало») // Петербургская газета. 1903. № 40. 10 февр. С. 3.
447 … [вторил ему] А. (Суворин?)… — Псевдоним расшифрован верно. Первая заметка о «Волшебном зеркале» появилась в «Новом времени» 10 февраля 1903 г. В ней автор, подписавшийся «Т. А-iй», обещает дать свой развернутый отчет в ближайшем номере, «Т. А-iй» — сокращение от псевдонима «Тимон Афинский», одного из псевдонимов А. С. Суворина.
448 В «Коппелии» Горский не меняет ни Нюитеровской программы этого балета… — Ср. коммент. 143.
449 «Дочь фараона» в постановке А. А. Горского была впервые показана в Большом театре 27 ноября 1905 г.
450 195 См.: Теляковский В. А. Воспоминания. С. 317 – 318.
451 … заново поставленного балета «Раймонда». — Имеется в виду постановка А. А. Горского, впервые показанная в Большом театре 30 ноября 1908 г.
452 На премьере «Раймонды» М. И. Петипа в 1898 г. Е. В. Гельцер выступала на третьих ролях: она участвовала в танце Gloire («Слава»), Большом венгерском па и в финальном галопе. Заглавную партию в хореографии Петипа Гельцер впервые станцевала 2 февраля 1900 г. (третий спектакль), уже в Большом театре, куда «Раймонду» перенесли И. Н. Хлюстин и А. А. Горский (На премьере 23 января 1900 г. артистка и воспитанник Ф. М. Козлов исполняли панадерос).
453 Ошибка. Имеется в виду 1908 г. См. док. 5 и коммент. 357, 358.
454 … пригласил Фокина, только что вступившего на поприще балетмейстера. — См. коммент. 357.
455 «Жизель» первый раз по возобновлении была показана 18 февраля 1907 г., в один вечер с ней, начиная с сезона 1907/1908 гг., давались «Этюды» (премьера — 16 сентября 1907 г.).
456 … переносили зрителя в обаятельную театральную обстановку 1840-х годов. — Вероятно, «Жизель» была показана в декорациях К. Ф. Вальца к постановке 1875 г., эскизы (детали макета) которой сохранились в музее Бахрушина (см.: ГЦТМ. Отдел декорационно-изобразительных материалов. Фонд К. Ф. Вальца).
457 Рецензия Плещеева выписана Римским-Корсаковым на отдельном листке. В отличие от других вставок эта не соотносится с основным текстом ни по пагинации, ни по тексту. На листке имеется указание «к стр. 29 хх». В рукописи есть две страницы с таким номером: в первом случае речь идет о «Дочери Гудулы», во втором — номер был позднее переправлен на 38, но к этой странице относится вставка о Гельцер и Горском (помета «к стр. 29 х/4»). Возможно, рецензия Плещеева подготовлена для статьи Римского-Корсакова о «Жизели».
Вот как передает А. А. Плещеев (1916 г.) свои впечатления от «Жизели» Горского, к деятельности которого до того он относился больше чем сдержанно: «На прошлой неделе я смотрел “Жизель” в Петрограде <…> и печаловался. Меня угнетал этот романтизм, отсутствие в нем всякого подъема, давила протокольная постановка, покрывшаяся пылью времени, давила, наконец, сама Жизель без всякого душевного подъема…
Вчера я увидел “Жизель” в Большом театре. Поставил ее Горский. Он реставрировал балет и спрыснул его живой водой. “Жизель” помолодела и расцвела. Как разнообразны танцы крестьян, как они просты, какую картину создал этот художник из второго действия балета. Виллисы вырвались у него на свободу и сбросили с себя казенную форму — неизбежные пачки. <…> Повелительница виллис… не вертится на пуантах, не удивляет виртуозностью; она, как волшебница, заклинает, властвует. <…>
Замена костюмов XV столетия костюмами начала XIX века придает общему фону картины больше легкости, изящества. Горский весьма склонен к опрощению, стремится к действительности, стараясь смягчить приподнятость либретто. <…> Конечно, консерваторы хореографии усмотрят в постановке Горского попытку нарушения прежнего стиля балета, но охрана последнего бессмысленна. “Жизель” неузнаваема. <…>
Жизель — Каралли явилась дорогой сотрудницей Горского. Ее образ Жизели надолго сохранится в моей памяти. Я не стану сравнивать Каралли с теми, кого я видел, потому что у нее нет ничего общего с ними — она в стороне от них.
196 Милая, грациозная крестьянка, может быть немного в жанре Ватто, наивно трогательна, непосредственна. Застенчивость сменяется детской веселостью и беззаботностью. Лицо и глаза балерины отражают ее переживания. <…>
Но не в наивных сценах… художественный талант Каралли заговорил о себе громко. Она глубоко с душевной силой заставила “почувствовать свои страданья” в сцене сумасшествия.
Драма, ясная и убедительная драма захватывает зрителя.
Второе действие, где Жизель — виллиса, видение, Каралли чарует тихой романтической грустью, лиризмом. <…> Злодей-лесничий, которого при старой постановке обыкновенно рядят чучелой в рыжем парике, нарисован у Горского более человечным. В таких тонах ведет роль г. Сидоров. ([Вечерняя] газета “Время”. 1916. 10 ноября. [С. 3])».
458 В интервью, данном в 1914 г. по случаю 25-летия своей деятельности, А. А. Горский говорил журналисту:
«В начале моей карьеры, — сказал нам А. А. Горский, — преобладал классический балет, который носил характер дивертисмента.
Танцы не имели никакой связи с сюжетом. В балетах не было жизненности. Кордебалет играл второстепенную, незначительную роль. Значительным изменениям подверглась мимика. В смысле декораций, костюмов балет также шагнул далеко вперед. В начале 90-х годов в петербургском балете стали намечать реформы, но трудно было расстаться с тем, что внесли и установили в балет наши учителя. Большую роль в эволюции балета сыграла Дункан. Полный поворот балета был начат постановкой “Жизели” и закончился постановкой “Саламбо”. Теперь в смысле мимическом мы совершенно приблизились к реальной жизни. Игра артистов находится в тесной связи с танцами и вместе с костюмами и декорациями составляет одно целое» (КИН. Беседа с А. А. Горским // Раннее утро. 1914. № 125. 1 июня. С. 7).
459 См. об этом воспоминания В. А. Каралли в кн.: Горский. 2000. С. 115 – 117.
460 В архиве Г. А. Римского-Корсакова сохранился очерк по истории «Жизели», подготовленный в связи с постановкой балета в театре «Остров танца» в 1939 г. Постановке Горского в нем также уделено большое внимание:
«Сценическая трактовка Горским “Жизели” была не совсем обычна для его постановочной практики.
Творческий путь Горского на сцене Большого театра тесно связан с именем К. Коровина, художника, принадлежащего к импрессионистической школе живописи. Подавляющее большинство своих постановок Горский осуществил совместно с Коровиным или с его помощниками, декораторами Большого театра.
Тем не менее, Горский, возобновляя в 1907 году свою “Жизель”, допускает ее идти в самых ветхих декорациях, сохранившихся от первых ее постановок, давно потерявших краски, так же как и имя своего творца. Тем самым он возвращает этому балету романтический колорит эпохи, своеобразную интимную театральность, утерянную последующей сценической переработкой “Жизели” Петипа, — он приближает зрителя к мироощущению 40-х годов, ко времени премьеры “Жизели”.
Костюмы Горский делает новые (худ. В. Дьячков). Одновременно постановщик выполняет замечательный драматургический прием. Он переносит время действия из туманной дали чуждого и мало доступного нам средневековья в значительно более близкое и знакомое нам время зарождения романтизма в Германии, — в эпоху Шиллера 197 и Гете, в конец XVIII века. Тем самым зритель сразу же вводится в обстановку, родственную авторам балета, в эпоху романтических мечтаний, в круг современников “Жизели”. Он сопоставляет свое настроение с тем современным впечатлением, которое должны были унести с собою из театра смотревшие “Жизель” В. Гюго, Ж. Занд, Бальзак, Бодлер, Обер, Вебер, Жуковский и Белинский, Мочалов и Каратыгин, Глинка и Даргомыжский.
Желая увести зрителя от трафаретного классического стиля балета (“стиль Петипа”), Горский выпускает фантастических виллис II-го акта не в традиционном костюме классической балетной танцовщицы, а в хитонах-рубашках свободного, “дункановского” покроя.
На первый взгляд — явное несоответствие: “дункановские” рубашки в романтическом германском лесу; облаченные в костюм “модерн” фантастические образы поэзии Гейне и Т. Готье.
Оправданием этому служило искреннее желание дать современное звучание теме, показать сегодняшнее отношение к романтическому балету, явившемуся в свое время также балетом передового, прогрессивного стиля в искусстве, носящего бунтарский характер. Здесь выразился, может быть, в наиболее сильной форме протест Горского против прежнего стиля академического балетного костюма. Этот протест совпал со временем его самого горячего увлечения А. Дункан теми лозунгами “свободного” танца, которые она несла в искусство хореографии.
Впрочем, стиль хореографии в “Жизели” Горский сохранил классический, отбросив лишь всякие лишние украшающие его атрибуты танцевальной техники XX века, уносящей воображение зрителя на беспредельно большое расстояние от стиля танца Тальони и Гризи. В основном Горский сохранил и всю старую композицию танцев Жизели с их характерными лейт-движениями (так же как и лейт-мотивами в музыке!) для основных персонажей.
Совсем новое направление дал Горский теме балета.
Петипа рассматривал сюжет “Жизели” как занимательное приключение герцога Альберта с бедной крестьянской девушкой, которую он обманывает. Таким образом, Петипа придерживается обычной адюльтерной драматической ситуации любого французского бульварного романа. Банальная любовная интрига, вернее интрижка, разрешается, как и полагается, подобных художественных произведениях, благополучным концом, в котором Жизель, уходя в небытие, благословляет счастливую соперницу и своего погубителя. <…>
Тезисом Петипа и последующих постановщиков “Жизели” на петербургской балетной сцене являлось положение “Любви не было — был обман”.
Горский отвергает этот тезис и возвращает балету стертый руками Петипа старый лозунг романтиков: “самопожертвование во имя любви” — “любовь сильнее всего”.
Таким образом, у Петипа и у Горского то эротическое начало, которое одухотворяет всякий балетный спектакль, получило совершенно различное выражение» (ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 27. Л. 13 – 17).
461 См. также: Горский. 2000. С. 118.
462 Новиков Лаврентий Лаврентьевич (1888 – 1956) — артист балета Большого театра в 1906 – 1911 и 1913 – 1918 гг.; Волинин Александр Емельянович (1882 – 1955) — артист балета Большого театра (1901 – 1910); Мосолова Вера Ильинична (1875 – 1949) — артистка балета Большого театра (1893 – 1896, 1901 – 1918).
198 Согласно режиссерскому клавиру из архива Нотной библиотеки ГАБТ, в «Этюдах» использовалась следующая музыка:
№ 1. А. Г. Рубинштейн. Etude. Op. 22, No. 2.
№ 2. Э. Гиро. Pas de deux.
№ 3. Ф. Шопен. Мазурка соль минор. Op. 24. No. 1.
№ 4. А. Г. Рубинштейн. Вальс-каприс. Ми-бемоль мажор.
№ 5. Э. Григ. Танец Анитры.
№ 6 в клавире не выписан, так как для финала повторялся № 1.
«Вальс-каприс» шел в хореографии Н. Г. Легата. 26 октября 1908 г. исполняющий дела режиссера балета П. Кандауров подал в Контору рапорт: «В Дивертисменте (Etudes) до настоящего времени вальс Le Caprice муз. соч. Рубинштейна исполнялась постановка из С.-Петербурга, а потому не будет ли признано возможным для спектакля 2 ноября с. г. разрешить балетмейстеру г. Горскому заменить его своею постановкою, поручив исполнение вместо г-жи Мосоловой 1-й и г. Новикова — г-же Балдиной и г. Козлову» (РГАЛИ. Ф. 659. Оп. 4. Ед. хр. 3930. Л. 4). Управляющий фон Бооль наложил на нее резолюцию: «Согласен, но с тем, чтобы исполнялось в очередь». В режиссерском клавире в первый нотный разворот с «Вальсом-каприсом» вшиты страницы с «Вакханалией» А. К. Глазунова («Осень» из «Времен года»), таким образом, в очередь с номером Легата, возможно, исполнялась «Вакханалия» в версии А. А. Горского или М. М. Фокина, — для уверенной атрибуции хореографии пока не хватает сведений. На сохранившейся киносъемке «Вальса-каприса» (1909) А. В. Балдина и Ф. М. Козлов танцуют, очевидно, версию Легата, очаровательно игривую, с чередованием непростых, но изящных поддержек и виртуозных соло.
463 Имеются в виду шедевры Л. И. Иванова — «Вальс снежинок» в «Щелкунчике» П. И. Чайковского (1892) и М. М. Фокина — «Вакханалия» на музыку А. К. Глазунова (1909) и «Половецкие пляски» (1909) из оперы А. П. Бородина «Князь Игорь».
464 Теляковский В. А. Воспоминания. С. 318.
465 Премьера состоялась 2 декабря 1907 г. В качестве музыкальной основы использовалась оркестровая сюита А. А. Ильинского (Op. 13).
466 Были и противоположные мнения. Спектакль защищал Е. Шестов, утверждая: «В многообразных группах г. Горского можно, действительно, легко определить задуманную им хореографическую архитектуру; в их построениях много художественного вкуса, приближающегося порой к мистическому откровению» (Евг. Ш[ест]ов. «Баядерка» и «Нур и Анитра»: Спектакль 2 декабря // Театр. 1907. № 121. 4 дек. С. 13).
467 … балетные творения Рейзингера, Богданова, Мендеса. — Перечислены балетмейстеры Большого театра в 1870 – 1890-е гг. Вместо «Рейзингера» у Римского-Корсакова ошибочно «Рейнсгаузен», — выдающийся мимист Ф. А. Рейнсгаузен не был балетмейстером.
468 А. А. Горский после премьеры в 1907 г. продолжал работу над «Нуром и Анитрой». Так, рецензент «Раннего утра» год спустя отмечает «небольшое изменение в финальной сцене вакханалии» ([Б. п.] Балет: (На бенефисе г. Арендса) // Раннее утро. 1908. 2 дек. С. 4). В 1910-е гг. Горский не оставлял надежд на возвращение его в репертуар (см. интервью, данное накануне сезона 1916/1917 гг. в кн.: Горский. 2000. С. 156).
469 Отказ М. М. Фокина от традиционной трехактной формы складывался постепенно. Как указывает исследователь творчества хореографа, в период работы над «Павильоном Армиды» в 1907 г., когда хореограф предлагал сократить его до одного акта, 199 «… идея одноактного балета, более всего подходящего для экспериментов, только формировалась у Фокина: поставленная несколькими месяцами ранее “Эвника” была двухактной, а в 1908 г. вместе со сценаристом “Эвники” Стенбок-Фермором балетмейстер проектировал либретто трехактного балета “Призрак”» (Добровольская Г. М. Михаил Фокин. Русский период. СПб., 2004. С. 91).
470 См. черновик письма А. А. Горского к Е. К. Малиновской в наст. публ. с. 122 – 124.
471 См. также: Из стенограммы беседы Е. Гельцер с балетной молодежью 16 июня 1937 г. // Горский. 2000. С. 126.
472 Пожар случился 2 мая 1914 г. в помещениях Малого театра, уничтожив большинство оперных и балетных декораций. Он произвел тяжелое впечатление на К. А. Коровина и резко осложнил деятельность московского балета в последующие годы. См.: Дело о сгоревших декорациях и вещах во время пожара 2 мая 1914 года в декорационном сарае при Малом театре, об ассигновании и расходах особых сумм на возобновление декораций, об арендах мастерских и найме временных маляров и сторожей (РГАЛИ. Ф. 659. Оп. 4. Ед. хр. 4020) и театральную прессу (напр., «Новости сезона» и «Театр») за май – июнь 1914 г.
473 Балет «Аленький цветочек» на музыку Ф. А. Гартмана в декорациях К. А. Коровина и хореографии Н. Г. Легата был представлен в Мариинском театре 16 декабря 1907 г. Постановка А. А. Горского в измененной музыкальной редакции и тех же декорациях была впервые показана в Большом театре 30 января 1911 г.
474 Для этой поездки Горский испрашивал отпуск с 16 февраля по 27 февраля и с 10 марта по 1 мая без сохранения содержания и с 1 мая на два месяца с сохранением содержания (см. Горский. 2000. С. 132). В архиве Горского в ГЦТМ сохранились счета с 7 апреля по 12 июня 1911 г. за проживание в Hotel de Paris. Leicester Place, Leicester square, London, W. C.
475 Премьера состоялась в «Альгамбре» 29 мая 1911 г. На афишах и программках спектакль назывался «Dance Dream», т. е. «Танцевальная греза». М. Эмэйбл (Amable; более правильна французская транскрипция — Амабль) — парижский сценограф варьете, подвизавшийся в «Альгамбре», а не либреттист; ему принадлежит оформление 5-й («Венгерская долина») и 6-й («Старая Россия») сцен. Э. Г. Райан (Ryan), тоже сценограф, оформил первые четыре картины: «Храм», «Гималаи», «Индия», «Скифия» («Бронзовый век»). Как и в других представлениях «Альгамбры», костюмы по эскизам Комелли (Comelly) выполнил Элайас (Alias). (Благодарю Роберта Гресковича, предоставившего копию программки). См. также: Carter A. Dance and Dancers in the Victorian and Edwardian Music Hall Ballet. Hampshire, 2005. P. 152.
476 Судя по музыкальному синопсису, прилагавшемуся к программке, Джордж Бинг (George Byng) сочинил музыку пролога, вальс во 2-й и 5-й сценах, Pas de Fascination в 3-й сцене и антракт перед 4-й сценой.
477 По-видимому, по инициативе Г. А. Римского-Корсакова отклики прессы на «Танцевальные сновидения» еще до 1935 г. были систематизированы, переведены его матерью и выписаны в тетрадку, на обложке которой значится: «Переводы статей английских газет на гастроли А. А. Горского в 1911 г. Перевод С. К. Голициной. Для биографии Горского. Собств. Н. И. Корсаковой» (ГЦТМ. Ф. 77. Ед. хр. 137).
478 М. Л[икиардопул]о. Московский балет: «Корсар» // Студия. 1912. № 17. 28 янв. С. 16. «Полное слияния музыки, живописи и хореографии», «совместное творчество композитора, художника и балетмейстера» в каждом спектакле автор считал залогом «возрождения балета» (Там же).
479 200 «Прекраснейшим среди прекрасного в этой постановке была картина “Восточные грезы”, где в декорациях райского сада и особенно в костюмах балерин истинно безумная роскошь красок, целые их симфонии, ласкающие и чарующие глаз», — писал критик «Русских ведомостей». ([Б. п.] Большой театр: Возобновление балета «Корсар» // Русские ведомости. 1912. № 16. 21 янв. С. 5).
В центре картины был номер «Грезы Медоры и Конрада», исполняемый Е. В. Гельцер и В. Д. Тихомировым и единодушно признанный в Москве шедевром.
Он состоял из полупантомимного-полутанцевального лирического дуэта Гельцер и Тихомирова на музыку «Ноктюрна» Шопена (Op. 27, No. 2) в скрипичной транскрипции Вильгельми, переходившего в соло балерины на музыку шопеновского «Этюда» (Op. 10. No. 5). Дуэт А. А. Горский сочинил для Гельцер и Тихомирова до выпуска «Корсара», возможно, впервые он был представлен в «Альгамбре» 5 июня 1911 г. 23 декабря того же года балерина танцевала его на гастролях в Нью-Йорке в паре с Л. А. Жуковым. «Ноктюрн» стал одним из любимых номеров Гельцер. Получив в феврале 1913 г. предложение от компании «Тиман и Рейнгардт» сняться для экрана, балерина выбрала «Ноктюрн» Шопена, заменив соло на другой номер Горского — «Музыкальный момент» Шуберта (Op. 94. No. 3). Пленка с этими танцами — одна из ранних работ Я. Протазанова — разошлась по миру в копиях и сохранила для нас шедевр Горского. См. подробнее: Конаев С. А. Музыкальный момент: Атрибуция, озвучание и переосмысление танцев из дореволюционных немых лент // XVII Кинофестиваль «Белые Столбы — 2013»: Каталог. М., 2013. С. 18 – 19.
480 Ср.: «А в заповедном лесу танец серпантин прямо-таки взят с Крестовского от Ялышева!» (Стар. Балетоман. [Худеков С. Н.] Вчерашнее представление «Дон Кихота» // Петербургская газета. 1902. №. 20. 21 янв. С. 3). Оригинальный танец Л. Фуллер (1894 – 1895) доступен на youtube.com.
481 Ср. напр.: «Г-жи Павлова и Егорова были очень авантажны, но длинные юбки мешали им танцевать» (Стар. балетоман [Худеков С. Н.]. Балет // Петербургская газета. 1902. № 27. 22 янв. С. 3).
482 Премьера «Пер Гюнта» Г. Ибсена в МХТ состоялась 9 октября 1912 г. Режиссерами были Г. А. Бурджалов, К. А. Марджанов и Вл. И. Немирович-Данченко, автором оформления Н. К. Рерих.
483 Анитру <…> исполняла А. Коонен. — Танец Анитры на музыку Э. Грига впервые был поставлен Горским для С. В. Федоровой в 1901 г. Танец с тем же названием, на ту же музыку и с той же исполнительницей вошел в состав «Этюдов» в 1907 г., однако неясно, сочинил ли Горский новую хореографию или повторил номер 1901 г. См. также коммент. 63.
В письме Г. А. Римскому-Корсакову от 12 – 13 октября 1940 г. В. А. Горская уточняла, что в «Пер Гюнте» Горский «ставил танцы массовые и ставил сам танец артистки Коонен, ему очень нравилось, как она исполняла этот танец» (ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 15).
484 Слонимская Ю. Впечатления сезона. «Пер Гюнт» в Московском Художественном театре // Ежегодник Императорских театров. СПб., 1912. Вып. 6. С. 110. Сделанная Г. А. Римским-Корсаковым сноска («Ежегодник Императорских театров». Обзор театрального сезона. 1912 г. выпуск 6 – 7) неточна и не воспроизводится. Слонимская, не одобрявшая «восточную картину» (Анитра является Перу в пустыне во время его странствий), была потрясена сценой пира у Доврского деда, где танцы Горского стояли 201 на высоте заданий режиссуры: «Чувственное сладострастие одичалой плоти вдохновенно выражено в дикой пляске исступленных девушек на багровом фоне давящих мертвенных скал. Вспышки развевающихся юбок, заунывно-страстные вопли, далекий раскат глухого эха, жалкая фигура Пера, увлекаемого в хаосе женских тел куда-то в темноту, создают жуткую картину разнузданного греха» (Там же. С. 108 – 109).
486 … отказаться от выполнения этого контракта. — См. док. 3 и коммент. 357, 358.
487 Премьера «Хованщины» М. П. Мусоргского в Большом театре состоялась 12 декабря 1912 г. Через полтора года после нее С. С. Мамонтов писал: «Вчера, вместо уехавшей на провинциальные гастроли Е. В. Гельцер, в “Хованщине” в танцах персидских рабынь выступила молодая солистка г-жа Кригер.
Надо сказать, что самая постановка столовой горницы князя Хованского в Большом театре очень удачна: в ней передано впечатление тесноты и духоты жилищ допетровской Руси.
Массивная печь с лежанкой, коптящие свечи, угодливый, запуганный хор крепостных девок и сам скотоподобный временщик, — все это как нельзя более рельефно передает колорит эпохи.
Персидки, как экзотические птички, вносят в общую картину красивый диссонанс, а первая персидка, — эта полустрекоза-полубесенок, — при выходе сразу становится центральным пятном на сцене.
О бесподобном исполнении этой роли г-жей Гельцер мы говорили в свое время.
Г-жа Кригер несколько видоизменила образ, созданный первой балериной. У молодой танцовщицы прекрасная пленница выходит более ребячливой, скорее вызывающей, чем обаятельной.
В трепетании ее рук, изображающих крылышки насекомого, проскальзывает милый и забавный юмор» (С. С. М[амонтов]. Персидки в «Хованщине» // Русское слово. 1914. № 67. 21 марта. С. 7).
Однако танцы Горского в операх неизменно скептически принимались музыкальной критикой. Юрий Сахновский считал их «худшим пятном» «на общем блестящем фоне постановки»: «Этот гениальный танец Мусоргского, сотни раз исполнявшийся во всех симфонических концертах Европы, с неизменной ясностью рисует и самую “постановку” его.
Начальное andante исполнено тихих, плавных, каких-то страстно-истомных и ленивых движений. Затем появляется вторая тема, более быстрая, танец разгорается. Снова появляется первая тема, и затем начавшаяся вторая, постепенно ускоряясь, приводит к бешеному темпу общей оргии. Казалось бы естественным начать танец выходом хорошей ответственной солистки и затем, постепенно прибавляя к ней группами кордебалет, окончить сообразно с музыкой общим бешеным танцем, прерываемым резким громовым аккордом с ударом в тарелки!..
Что такое?! Группа бешено носившихся фигур замерла в той позе, в какой их застал аккорд, означающий неожиданное появление Шакловитого, быстро вошедшего в хоромы. Все замерло, и только медленно приподнимается с лежанки грозная фигура полупьяного князя Хованского…
Казалось бы, что о постановке не может быть двух мнений, но балетмейстер А. А. Горский, очевидно, на музыку Мусоргского, как и Пуни или Минкуса, смотрит 202 только с точки зрения “выгоды” сольного выступления красы и гордости нашего балета — г-жи Гельцер.
Поэтому первая, сольная половина танцев поручена кордебалету, а явно ансамблевая музыка общей оргии — сольному выступлению г-жи Гельцер» (Сахновский Ю. «Хованщина» в Большом театре // Русское слово. 1912. № 288. 14 дек. С. 6).
488 Премьера «Шубертианы», «Любовь быстра!» и «Карнавала» в Большом театре состоялась 8 декабря 1913 г. в бенефис кордебалета.
489 «Ночь на Лысой горе» с либретто А. А. Горского (по мотивам романа Д. С. Мережковского «Воскресшие боги») была показана на сцене театра сада «Аквариум» 15 мая / 28 мая 1918; «Ночь в Мадриде» — там же 17 июня / 23 июня 1918 г. в составе «Испанских эскизов».
… не получившие сценического осуществления «Тамара» (Балакирев), «Хризис» (Глиэр). — О «Тамаре» на музыку М. А. Балакирева этого сказать нельзя, так как он был поставлен в 1918 г. на сцене сада «Аквариум». «Хризис» увидели только зрители закрытого показа в Большом театре в начале мая 1921 г.
490 Премьера «Les petits rien» («Безделушки») на музыку В. А. Моцарта состоялась 27 октября 1922 г. в Новом театре.
491 См. черновик письма А. А. Горского Е. К. Малиновской в наст. публ. с. 122 – 124.
492 Об этом, в частности, писал М. Ликиардопуло: «… когда берут чудеснейшие, интимнейшие фортепианные пьесы Шуберта и уродуют их жиденькой оркестровкой, когда под отрывки, абсолютно по форме не выражающие никакого движения, заставляют людей танцевать, — если это можно назвать танцем, — а под всем известный “marche militaire” проводят длинную и скучнейшую сцену “покойного диалога” — остается в лучшем случае руками развести» (Столичная молва. 1913. № 341. 9 дек. С. 5).
493 См.: Горский. 2000. С. 141 – 143.
494 «Тангейзер» <…> не снижаясь при этом до стиля шаблонно оперных вакханалий. — Премьера «Тангейзера» в Большом театре состоялась 25 апреля 1914 г. «Русское слово» посвятило танцам в опере отдельную заметку: «Возобновление “Тангейзера” в Большом театре представляло помимо музыкального большой хореографический интерес.
Впервые в Москве была поставлена грандиозная вакханалия в гроте Венеры.
Это гениальное творение Вагнера в исполнении прекрасного московского балета могло явиться большим художественным событием, — тем более что руководитель балета А. А. Горский сильнее чувствует балет пластический, а в вакханалии — именно пластический балет.
Но вакханалия не произвела должного впечатления.
А. А. Горский не использовал то исчерпывающее описание вакханалии, которые дает сам Вагнер.
Хороводы нимф и юношей не шли дальше “дункановского” трафарета.
В них не чувствовалось “сладострастных игр”, не была показана оживленная картина “искания, убегания и заигрывания”, о которой говорит сам Вагнер.
Не удалось и появление вакханок. Вереница их, побуждающая и без того разыгравшихся нимф к еще более бурному веселию, вошла в балет совершенно незамеченной.
Наиболее удачное место постановки — появление фавнов и сатиров. Их прыжки, их бешеное стремление с горы в пещеру удивительно совпадали с духом музыки Вагнера.
В остальном требования композитора также были соблюдены, но сходство получилось чисто внешнее. Внутренней связи, “души вакханалии” не было.
203 И поэтому, например, публика совершенно не почувствовала кульминационного пункта вакханалии — “момента крайнего любовного исступления”.
Здесь вместо безумных движений А. А. Горский изобразил экстаз в позах.
Фавны, сатиры, юноши, нимфы, вакханки застыли в объятиях в то время, когда музыка требовала максимум движений. Поэтому, когда явились грации, чтобы успокоить беснующихся, то им делать было нечего. Не нужно было “с ужасом удерживать и разобщать беснующихся”, ибо они не бесновались.
Красиво и с большим настроением прошли танцы трех граций в исполнении г-ж Андерсен, Кандауровой и Горшковой. Их группы были разнообразны и оригинальны и отлично дополняли живую картину похищения Европы и следующую за ней “Леду”» (Л. П. «Тангейзер». Вакханалия // Русское слово. 1914. № 97. 27 апр. С. 9).
495 Опера А. Г. Рубинштейна «Нерон» с танцами А. А. Горского была возобновлена 9 ноября 1907 г. Декорации 4-го действия были вновь написаны Ф. А. Лавдовским, остальное было взято из подбора.
496 Премьера «Князя Игоря» в Большом театре состоялась 5 ноября 1914 г.
Из рецензии Н. Курова видно, что отход от восточного шаблона был общей задачей Горского и Коровина: «Наибольший успех имела картина — в половецком стане.
В этой декорации нет блеска, нет ослепительных красок, но есть прозрачность знойного летнего вечера, есть тишина уснувшей степи, есть бесконечная таинственная даль.
В восточной пляске картина меняется. Степь оживает. Загорается заря. Просыпается стан. Пестрые, смелые, сверкающие, как драгоценности, камни, костюмы.
Ничего шаблонного, крикливого.
Не ординарный восток с полумесяцем и голубыми шальварами, а причудливый, дикий, красивый в своей яркой пестроте.
Замысел К. А. Коровина понял балетмейстер А. А. Горский, почувствовал он и музыку Бородина. В его танце — и знойный, чувственный восток, и дикие степные половчане. Жгучую, огненную Чагу-невольницу — г-жу Гельцер, сменяет плавный, ласковый танец половецких женщин» (Куров Н. «Князь Игорь»: Большой театр // Раннее утро. 1914. № 256. 6 нояб. С. 5).
497 Как сообщали «Новости сезона», «по примеру Е. В. Гельцер, которая ввиду войны отклонила празднование 20-летия своей сценической деятельности, не пожелал воспользоваться своим правом публичного чествования за 25 лет службы и балетмейстер А. А. Горский. Он принял приветствия только за кулисами при закрытом занавесе. Это благородно и могло бы послужить в назидание многим. Двадцатипятилетие — законный юбилейный срок, и даже в такое время допустимо непубличное выражение почтения деятельности юбиляра со стороны товарищей за кулисами, т. е. в тесном семейном кругу.
За Горским не только четверть века работы; его имя останется в истории балета как крупного реформатора балетных постановок и инициатора записи постановок» (1914. № 3010. 16 – 17 дек. С. 9 – 10).
498 Имеются в виду телеграммы и поздравления, сохранившиеся в архиве балетмейстера в ГЦТМ. Все они носят неформальный дружеский характер. Так, П. А. Оленин — муж балерины С. В. Федоровой, одной из самых талантливых и принципиальных последовательниц 204 Горского, в 1914 г. он занимавший должность главного режиссера и заведующего художественной частью оперы Зимина, писал: «От души сердечно поздравляю Вас, дорогой Александр Алексеевич, со днем юбилея Вашего славного служения искусству. С уважением, Петр Оленин.
1914. 14 [декабря]
В частности, пользуюсь случаем горячо поблагодарить Вас за великолепно постановленный, говорят, “татарский” [танец], который, к досаде, по болезни не могла исполнить [С. В. Федорова]» (ГЦТМ. Ф. 77. Ед. хр. 13).
Н. А. Попов, знакомый с Горским с 1907 г., направил следующее поздравление:
«Москва. Большой театр. Горскому.
Из Москвы № 248825
Счет слов 15. Подана 14 [декабря] 3 ч. 15 м.
Принята [Штамп] 14.12.14
Пожелание дальнейшего продвижения Вашего блестящего таланта шлет почитатель Ваш Николай Попов» (ГЦТМ. Ф. 77. Ед. хр. 15).
Органично, учитывая влияние, которое оказало на поиски Горского драматическое искусство, смотрятся телеграммы от представителей Малого и Художественного театров.
«Мск. Большой театр. Режиссерское управление. Александру Алексеевичу Горскому.
[Из] Москвы 454764.71. 14 [декабря] 3 [ч] 7 [м] ДН
Принята [Штамп] 14.12.14
Примите мои поздравления, многоуважаемый Александр Алексеевич, и пожелания Вам еще много лет такой же успешной талантливой и большой работы, какой она была целых 25 лет. Позвольте просить Вас поздравить моих славных милых товарищей с их сегодняшним праздником и передайте им мою глубокую благодарность за их чуткий, сердечный, а этим еще более дорогой для меня подарок, каким они порадовали меня 29 ноября. Ольга Садовская» (ГЦТМ. Ф. 77. Ед. хр. 16).
«Мск. Москвы. 475464.32.15 [декабря] 1 [ч] 20 [м] ДН
Принята 15.XII.1914
Очень сожалею, что не был своевременно извещен о чествовании Вас. Позвольте присоединить наш привет и пожелание дальнейшего расцвета Вашего таланта и энергии. Немирович-Данченко» (ГЦТМ. Ф. 77. Ед. хр. 12).
499 См.: ГЦТМ. Ф. 77. Ед. хр. 46 (КП 180098). Опубл.: Горский. 2000. С. 150.
500 По всей видимости, речь идет о танце в начале 4-го действия, 9-й картины, где «Солнечный луч, проникнув в глубину, пробуждает прекрасную жемчужину». На премьере в 1901 г. его исполняли Е. В. Гельцер и В. Д. Тихомиров, М. П. Кандаурова позднее видела в нем Мосолову и Тихомирова: «Особенно хорош был Тихомиров — крупный, сильный, в золотисто-желтом костюме, словно излучающий сияние. В этой сцене стояла кушетка, на ней лежала Жемчужина, выходил Солнечный луч, и они начинали танцевать» (Горский. 2000. С. 211). Музыка этого номера, однако, неизвестна. За ним в 1901 г. на музыку П. И. Чайковского («Ноктюрн». Op. 19. No. 4) исполнялось большое адажио с участием царицы вод, гения вод и других обитателей морского дна, после чего начинались вариации и завершался номер кодой. Этот номер в 1914 г. не исполнялся, 205 его место заняло pas de trois «Океана и двух жемчужин». В нем Горский использовал музыку pas de deux, написанного для Я. Гантенберг и вставлявшегося в «Тщетную предосторожность». Адажио, вторая вариация и кода были написаны Р. Дриго, а первая вариация взята из «Гарлемского тюльпана» (это была вставная вариация на музыку Э. Гиро, использовавшаяся также в «Золотой рыбке»).
501 В сохранившихся оркестровых партиях «Конька-Горбунка» Большого театра, по которым спектакль играли с 1890-х по 1940-е гг., в заключительном акте под № 7 выписан «Татарский танец» на музыку Л. Минкуса из балета «Ночь и день» (архив Нотной библиотеки ГАБТ). Именно за танец, поставленный на эту музыку, С. В. Федорова благодарила хореографа (см. коммент. 498): «Бурный татарский в исполнении С. В. Федоровой 2-й с ее зажигающей дикостью был просто шедевр», — восхищалась М. Н. Горшкова (Горский. 2000. С. 206). «Татарский танец с луком», в котором Федорова раскрывалась, по словам Горшковой, «во всей силе ее таланта», до сих пор остается классикой московского балета. В то же время известно, что Горский ставил татарский танец на музыку П. П. Золотаренко и что, в частности, А. М. Балашова исполняла его в балетном дивертисменте, показанном 8 декабря 1915 г. после «Эвники и Петрония».
Венгерский (цыганский) танец исполняла также С. В. Федорова 2-я.
502 Дивертисмент был показан 31 августа 1914 г. «Гений Бельгии» — номер А. А. Горского на музыку Э. Меццакапо. Скрипач М. Гольдштейн, аккомпанировавший концертным выступлениям Е. В. Гельцер в 1930-е гг., вспоминал рассказы балерины: «В годы войны Гельцер заняла антигерманскую позицию, как и многие русские немцы. Тогда она исполняла на музыку военного марша танец “Гений Бельгии”, той самой Бельгии, которая была оккупирована немцами. После 1917 г., по предложению Луначарского, танец переименовали в “Марш свободы”, хотя ни одно па не изменилось». Гольдштейн добавляет, что Гельцер решила больше не исполнять этот номер, когда ей предложили его «танцевать в красноармейском шлеме», но эта подробность вызывает сомнения (Гольдштейн М. Е. В. Гельцер // Новый журнал. Нью-Йорк, 1985. Кн. 158. С. 163).
503 Лавдовский Феодосий Александрович (1858 – 1923) — декоратор московских Императорских театров с 1898 г. Воронов-Гейкблюм Борис Осипович (Иосифович) (псевд. Воронов) — декоратор московских Императорских театров с 1896 г., с 1909 г. — главный декоратор.
504 Подражая К. А. Коровину, новые художники… — По-видимому, имеется в виду «новые для А. А. Горского», поскольку оба художника поступили на службу в московские театры до его появления в Москве. При этом с Ф. А. Лавдовским Горский ранее встречался как в балете (перенос «Очарованного леса» Л. И. Иванова в 1901 г.), так и в опере (он оформил 4-е действие оперы А. Г. Рубинштейна «Нерон» в 1907 г.). Можно предположить, что оба художника в данном случае выполняли задание балетмейстера, которого устраивали принципы оформления и композиции площадки, выработанные вместе с К. А. Коровиным.
505 См. также: Горский. 2000. С. 159.
506 Установлено по клавиру балета «Эвника и Петроний» из архива Нотной библиотеки ГАБТ (КБ № 891).
507 См.: ГЦТМ. Ф. 77. Ед. хр. 321. Л. 21. Опубл.: Горский. 2000. С. 153.
508 Хореографический план постановки «5-й симфонии» А. К. Глазунова и другие материалы о ней см.: Горский. 2000. С. 157 – 159.
509 206 Судя по черновику письма А. А. Горского Е. К. Малиновской, Горский вновь обратился к «5-й симфонии» в 1919 г.
510 Имя режиссера В. Э. Мейерхольда (1874 – 1940), режиссера и инициатора постановки «Маскарада» М. Ю. Лермонтова на Александринской сцене, вошедшего в легенду отечественного театра (премьера 25 февраля 1917 г.), Г. А. Римский-Корсаков не называет, по-видимому, сознательно. Мейерхольд фактически находился в опале с 1938 г., когда был закрыт театр его имени (ГосТИМ), 20 июня 1939 г. режиссер был арестован, с этого момента публичные упоминания о нем воспрещались даже в негативном контексте, нарушения этого правила были единичными и свидетельствовали об исключительной принципиальности редакторов изданий.
В архиве Г. А. Римского-Корсакова сохранилась машинопись воспоминаний Б. А. Альмедингена «Как работал А. Я. Головин над “Маскарадом”», датированная 29 сентября 1936 г. (ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 118).
511 … лишенная Горским финальной картины «Возмездия»… — Как указывалось ранее, картина возмездия не давалась на московской сцене с 1907 г. по техническим причинам. См. коммент. 134.
512 Левинсон А. О московском балете // Аполлон: Русская художественная летопись. 1911. № 10. С. 161. Источник указан Г. А. Римским-Корсаковым в виде сноски к словам «некогда писал», но его ссылка («Аполлон. 1910 г., №») неполна и год указан неверно.
513 Там же.
514 О «Жизели» см. коммент. 455 – 460.
515 О В. А. Рябцеве в «Коппелии» см. док. 2.
517 Королевич Влад. Большой театр: Бенефис кордебалета — «Баядерка» // Рампа и жизнь. 1917. № 13. 26 марта. С. 9 – 10. У Г. А. Римского-Корсакова ссылка («Рампа и жизнь. 1917. № 13. С. 9») проставлена после слов «тогда же». Автор неточно цитирует следующий фрагмент рецензии В. Королевича: «Наш балет прошел через Дункан и Фокина, захватив самую верхнюю пыльцу с крыльев их искусства, и остался там же — у разбитого корыта классического балета» (С. 9). Королевич не утверждает, что балет поставлен «прекрасно». Он выделяет с оговорками лишь работу К. А. Коровина («… Праздником веяло от декоративной стороны спектакля. Если сами декорации были достаточно трафаретны, несмотря на свою новизну, то костюмы казались целым зрительным пиром и можно было смотреть, не отрываясь, на костюм какой-нибудь “рабыни с фруктами”: настолько он был живописен и совпадал с представлением об Индии человека, не изучавшего эпоху, но любящего ее»), а уровень исполнения трактует едва ли не в негативном плане: «О, все было так блистательно, огромный кордебалет проделывал свои па так согласованно, что весь Нью-Йорк преклонился бы перед такой техникой. Артисты совершали свои фуэте и пируэты с легкостью заправских эквилибристов». Рецензент видел в «Баядерке» Горского несколько модернизированный вариант «большого спектакля» Императорских театров: «С балерин сняли милые пачки, условные декорации заменили реальными, лишили старый балет последнего аромата. И что дали взамен? Ритмическую мимодраму? Нет, нет меньше всего это — мимодрама. Все по-старому — кавалеры поддерживали дам (вот где не мешает поднять вопрос о равноправии) и танцовщицы с бесстрастными улыбками совершали свои па. О мимическом искусстве нет и помину» (Там же. С. 10).
518 207 Первое представление — 25 января 1904 г. в бенефис Л. А. Рославлевой. Балет шел в декорациях петербургской постановки. Партию Никии исполнила бенефициантка.
519 В сезоне 1908/1909 гг. «Баядерка» была дана трижды: 12 октября, 16 ноября и 26 декабря. Сведений о полном обновлении хореографии не выявлено; однако не исключено, что Горский внес исправления в отдельные танцы.
520 Описываемые события относятся, по-видимому, к 1923 г., когда В. Д. Тихомиров восстановил «Тени», предложив собственную редакцию по мотивам хореографии Петипа (см. Горский. 2000. С. 261).
521 Имеется в виду процесс Петипа — Перро по поводу исполнения танца в дивертисменте «la Cosmopolite» женой Петипа Марией Суровщиковой-Петипа на сцене Парижской оперы без разрешения автора, Жюля Перро. Корсаков основывается на версии, предложенной самим Петипа в его мемуарах (см.: Мариус Петипа: Материалы. Воспоминания. Статьи. С. 46 – 48). В действительности суд признал Петипа виновным и приговорил его выплатить Перро 300 франков (см.: Gazette des Tribunaux et le Droit. 1862. 27 Juil.).
[Из черновиков]
522 Автограф. — ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 13.
523 Далее зачеркнуто: «В это время при дирекции Большого театра существовала директория, или комплот, как его называет Горский, который кроме [нрзб.] различных организационных вопросов касался и [нрзб.] творческого порядка». Директории — учрежденные в 1919 г. Наркомпросом коллегиальные органы, на которых возлагалось управление театрами, художественными институтами и пр. В состав директории Большого театра от Наркомпроса были назначены Вл. И. Немирович-Данченко, С. М. Волконский, Ф. Ф. Комиссаржевский, Э. А. Купер, от коллективов были избраны Ф. И. Шаляпин (от оркестра), Л. В. Собинов (от солистов оперы), В. Д. Тихомиров (от солистов балета), Л. Л. Исаев (от служебно-технического персонала). (См.: Музыкальная жизнь Москвы в первые годы после Октября: Октябрь 1917 – 1920: Хроника. Документы. Материалы / Авт.-сост. С. Р. Степанова. М., 1972. С. 143, 306; см. также копии документов по Большому театру в Кабинете библиографии Центральной научной библиотеки СТД РФ).
[Из
подготовительных материалов.
Черновик письма А. А. Горского Е. К. Малиновской]
524 Автограф. — ГЦТМ. Ф. 77. Ед. хр. 26. КП 123938/25. Приобретено музеем в 1939 г. у В. Е. Беклемишевой (Акт № 1050 от 17 апреля 1939 г.). Опубл.: Горский. 2000. С. 171 – 173. Уточнено по подлиннику. Датируется по содержанию.
Черновик письма А. А. Горского, опорного для понимания его художественной программы и эволюции, Г. А. Римский-Корсаков переписал полностью. У него документ получил заголовок «Письмо А. А. Горского в дирекцию Б. Т. 1918 г.» (см.: ГЦТМ. Ф. 383. Ед. хр. 2. Л. 1 – 7 (авт. паг.)). На отдельные положения из письма он неоднократно ссылается в своей работе «Творческий путь».
Точно датировать письмо позволяет фраза: «Сегодня в Совете будет поднят вопрос о дальнейших гастролях Гельцер и лишних спектаклях против контрактных для Балашовой. <…> В Комитете балета, где обсуждался уже этот вопрос, я, каюсь, голоса своего не поднимал…». Данный вопрос обсуждался на заседании Совета Большого 208 театра 24 марта 1919 г. «Слушали: Протокол заседания Художественно-Репертуарного Комитета балета, вх. № 1718, о привлечении к работе в текущем сезоне Е. В. Гельцер и А. М. Балашовой. Постановили: Выписку из протокола заседания Художественно-Репертуарного Комитета балета направить в Отдел. Совет со своей стороны поддерживает мнение Х.-Р. К. балета, оговорив, что молодые силы должны иметься в виду». (Кабинет библиографии ЦНБ СТД РФ). Горский на заседании отсутствовал.
Адресатом письма, очевидно, была заведующая отделом государственных театров Наркомпроса Е. К. Малиновская, активно участвовавшая в заседаниях Совета и Комиссии по реорганизации Театрального училища, которую возглавлял А. А. Горский.
525 Балеты «3-я сюита» (En blanc) на музыку П. И. Чайковского и «Тамара» на музыку М. А. Балакирева входили в репертуар, показанный Горским летом 1918 г. на сцене сада «Аквариум». Премьера «En blanc» состоялась здесь 27 мая / 9 июня 1918 г., «Тамары» — 24 июля / 6 августа 1918 г.
526 Имеется в виду Совет Большого театра, управлявший им в сезоне 1918 – 1919 гг. Правление Совета состояло из трех лиц: председателя Совета, оперного режиссера В. П. Шкафера и товарищей (заместителей) председателя — А. А. Горского и дирижера Э. Купера.
527 Нужны и музыкальные силы <…> у нашего старого разбитого корыта. — По-видимому, имеется в виду «совещание балета с музыкальными деятелями», которое, как Горский пишет ниже, «к сожалению, никак не удается повторить». Из замечания Горского можно сделать вывод, что на этом совещании в качестве музыкальной основы новых хореографических произведений назывались различные новаторские сочинения, которые оказалось невозможно достать для ознакомления и тем более разучивания с оркестром.
528 «Жар-птица» И. Ф. Стравинского была предложена Горским осенью 1918 г. в числе первоочередных работ. Он должен был работать над ней как хореограф, А. Я. Таиров — как режиссер, к оформлению решили привлечь П. В. Кузнецова. Балет значился в планах на сезоны 1918/1919, 1919/1920, 1920/1921 гг., но поставлен не был.
529 Легат очень беспокоится о своей работе… — Н. Г. Легат был приглашен в Большой театр осенью 1918 г. по инициативе А. А. Горского. Он должен был ставить «Пробуждение весны» К. Дебюсси (см.: Суриц Е. Я. Хореографическое искусство двадцатых годов: Тенденции развития. М., 1979. С. 75, 82).
530 «Щелкунчик» П. И. Чайковского в хореографии А. А. Горского, с декорациями К. А. Коровина и костюмами В. В. Дьячкова был поставлен 21 мая 1919 г. Г. А. Римский-Корсаков был очевидцем трудно складывавшегося выпуска спектакля в 1919 г., написав о работе Горского: «Было все очень свежо, искренно, молодо» (Горский. 2000. С. 189 – 190).
531 Балет «Маска красной смерти» К. Я. Голейзовским в итоге поставлен не был.
532 … композитора, который уже пять лет ждет увидеть на сцене свое произведение… — Имеется в виду Шапошников Адриан Григорьевич (1887 – 1967) — композитор, ученик А. К. Глазунова. В архиве А. А. Горского в ГЦТМ сохранилось письмо А. К. Глазунова от 13 мая 1911 г. с рекомендацией и просьбой предложить молодому композитору «какой-нибудь интересный сюжет» (Горский. 2000. С. 139; ГЦТМ. Ф. 77. Ед. хр. 4). Либретто балета, получившего название «Пир короля», было опубликовано в 1912 г., музыка закончена в 1913 г. (см. также: Горский. 2000. С. 139 – 141, 331). Материалы к постановке см.: ГЦТМ. Ф. 77. Ед. хр. 204, 205.
533 209 Арапов Анатолий Афанасьевич (1876 – 1949) — театральный художник, член объединений «Голубая роза» и «Мир искусства», работал в Большом театре в 1918 – 1920 гг., оформил 2 – 4 акты «Лебединого озера» в постановке А. А. Горского и Вл. И. Немировича-Данченко (1920).
534 Бакст Лев Самойлович (1866 – 1924), Бенуа Александр Николаевич (1870 – 1960), Добужинский Мстислав Валерьянович (1875 – 1957) — художники-мирискусники, работавшие для балета. Баксту и Бенуа «Русский балет» Дягилева во многом обязан своими ранними триумфами, крупным событием театральной жизни 1910-х стала работа Бенуа и Добужинского в МХТ. Это редкое у Горского высказывание очерчивает круг художников, у которых он находил «смелость», «размах» и с которыми, очевидно, хотел бы сотрудничать (напомним, почти все его постановки до революции были оформлены в содружестве с К. А. Коровиным).
535 По-видимому, Горский надеялся обойтись без Гельцер в «Щелкунчике», но этот вопрос тесно увязывался вообще с работой Гельцер в ГАБТе в сезоне 1918/1919 гг. 28 января 1919 г. в Совете слушалось «внеочередное заявление Е. В. Гельцер о содержании ее контракта, по коему она претендует на новую постановку с ее участием, особенно в имеющем быть поставленным балете “Щелкунчик”. По заявлению Е. В. Гельцер, она имела очень хорошее предложение на время после 1 апреля 1919 г., но согласилась принять контракт Государственного театра, имея в виду эти новые постановки. На предложенный Председателем вопрос А. А. Горскому, имел ли он беседу с Е. В. Гельцер о спектаклях после 1 апреля, А. А. Горский ответил, что нет. Равным образом он удостоверил, что не было выговорено количество новых постановок. Количество условленных по контракту с Е. В. Гельцер балетных спектаклей ею почти выполнено (15 балетных и 5 оперных). Председатель огласил контракт с Е. В. Гельцер, из коего видно, что в нем ничего не указано о количестве новых постановок и об обязательстве Управления дать также новые постановки». «Постановили: Ввиду существенного разногласия между контрактом и словесным заявлением Е. В. Гельцер, — направить вопрос на разрешение Отдела, послав копию с протокола» (Кабинет библиографии ЦНБ СТД РФ).
536 Имеется в виду Художественно-репертуарный комитет балета, который в 1918 – 1919 гг. возглавлял А. А. Горский.
537 Ипполитов-Иванов Михаил Михайлович (1859 – 1935) — композитор, в 1919 г. член Художественного совета Большого театра. В письме Н. Н. Черепнину от 7 ноября 1920 г. Ипполитов-Иванов в числе неотложных капитальных дел указывал «доинструментовать балет “Барсова кожа”», который, однако, остался незавершенным (М. М. Ипполитов-Иванов: Письма. Статьи. Воспоминания. М., 1986. С. 183). Письмо, о котором говорит Горский, не выявлено.
538 В 1883 – 1893 гг. М. М. Ипполитов-Иванов жил и работал в Тифлисе и много сделал для развития его музыкальной культуры. Грузинский и восточный колорит свойствен многим, в особенности ранним произведениям композитора (оперы «Руфь», «Азра», оркестровая сюита «Кавказские эскизы» и др.).
539 Весной 1918 г. состоялось совещание о дальнейшем развитии и репертуаре Большого театра.
540 28 апреля 1919 г. Наркомпрос направил в Большой театр свои предложения о реорганизации структуры управления подведомственными Государственными театрами. Согласно планам ведомства, в Большом театре учреждалась Директория в составе 210 5 лиц, назначенных комиссариатом, которые должны были «спешно разработать полный план будущего сезона, принять все необходимые меры для привлечения лучших артистических и художественных сил и все это представить на утверждение Отдела Государственных театров» (цит. по копии из архива ЦНБ СТД РФ). Театр избирал в состав директории 3 своих представителей. Очевидно, Горскому нужно было выяснить, планируется ли привлекать его к работе в новом управляющем органе и одновременно дает понять, что хотел бы освободиться от большей части административных обязанностей, которые были возложены на него в 1917 – 1919 гг. Пожелание это было выполнено (или совпало с планами А. В. Луначарского и Е. К. Малиновской): в состав Директории от Наркомпроса Горского не включили, от балета в нее был избран В. Д. Тихомиров. Дальнейшее развитие событий показало, что в результате у балетмейстера, напротив, сократились возможности для отстаивания собственной творческой линии и, в конце концов, пространство для творчества, на что он, очевидно, не мог рассчитывать и чего не мог предугадать.
211 «ЕСТЬ ЧАС И ДЕНЬ, КОГДА ВСЕ ПРИНИМАЕТ
СВОЮ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ ОКРАСКУ…»
Письма Л. Ф. Мясина
А. П. Большакову (1914 – 1917)
Публикация, вступительная статья
и комментарии Е. Я. Суриц
В Государственном центральном театральном Музее им. А. А. Бахрушина хранятся письма и открытки, написанные Л. Ф. Мясиным А. П. Большакову1. История этого эпистолярия вкратце такова.
Артист балета Большого театра Леонид Федорович Мясин (1895 – 1979), в период, когда он учился в старшем классе московского Театрального училища, и в первые годы работы в Большом театре, т. е. в 1912 – 1913 гг., посещал также занятия живописью в частной художественной школе Анатолия Петровича Большакова2. Он очень ценил своего учителя, даже не столько за умение научить рисовать или писать маслом (по-видимому, больших способностей Мясин не проявил), сколько за беседы об искусстве, стремление расширить кругозор своих учеников. И после того как в конце 1913 г. С. П. Дягилев пригласил его в свою труппу для исполнения главной роли в балете «Легенда об Иосифе»3, а в самом начале 1914-го увез с собой в Европу, Мясин чувствовал потребность писать Большакову, делиться с ним своими успехами, планами и проблемами.
Из этой переписки сохранилось 5 писем и 13 открыток, которые передала в музей вдова художника Елизавета Степановна Авдеева. Они охватывают лишь первые три года пребывания Мясина в труппе Дягилева (1914 – 1917): первое письмо от 13 июня 1914 г., последнее от 4 июля 1917 г. За это время в мире произошли очень важные события, которые, естественно, сказались и на судьбе труппы «Русские балеты Сергея Дягилева», и на судьбе самого Мясина. Ведь уже в июле 1914 г. началась мировая война. Первое сохранившееся письмо написано Мясиным из Лондона, где проходили гастроли труппы Дягилева4, еще до начала войны, но второе, от 18 августа 1914 г. — когда война уже шла. Однако мало кто понимал тогда, что ожидает Европу и Россию в ближайшем будущем. А Дягилев, например, был уверен, что война очень скоро закончится, и уговорил Мясина не возвращаться пока на родину (Мясин пишет об этом в мемуарах)5.
Но первые мясинские письма посвящены вовсе не политическим событиям, и война в них даже не упоминается. Самое раннее письмо написано из Лондона, куда, окончив сезон в Париже, труппа переехала, чтобы выступать там в течение семи недель (с 6 июня по 23 июля 1914 г.), перед отпуском. Мясин в Париже уже станцевал Иосифа, танцует его и в Лондоне. Большакову он в сохранившихся письмах подробно об этом своем дебюте не пишет (только упоминает, что это пока единственная его роль). Но, конечно, это должно было быть для совсем юного танцора, всего два года как окончившего школу, 212 чрезвычайным событием. Выступить на сцене парижской Оперы в главной роли нового балета М. М. Фокина6 и Р. Штрауса, роли, которая первоначально предназначалась не кому-нибудь, а самому В. Ф. Нижинскому7! Этот дерзкий эксперимент предпринял Дягилев, и, как ни странно, он удался. Отзывы были положительные. Конечно, Мясин понравился скорее как актер, чем как танцовщик. Его внешность (и тут Дягилев верно угадал) идеально подходила для роли юноши-эфеба, простодушного пастушка из библейской легенды. И фактически он сыграл самого себя. Ведь, как и Иосиф, насильно привезенный из пустыни в этот подавляющий своей роскошью дворец, он испытывал прежде всего чувство беспомощности, страха, моментами отчаяния, и ему не стоило большого труда это изобразить. Но, естественно, обнаружились и все слабости Мясина, которого, по-видимому, и в школе неважно учили, и в Большом театре поставили в глухой кордебалет. Он сам написал Большакову: «В Москве я почти не работал, всё гопаки отплясывал да русскую… Танцы — моя самая слабая сторона». Однако никаких подробностей о своем дебюте в труппе Дягилева в письмах он не приводит, больше пишет о другом.
В письме от 13 июля 1914 г. из Лондона он делится своими впечатлениями о людях, с которыми ему довелось работать, с кем он познакомился, а также о тех, кто из старых знакомых (преимущественно обучавшихся у Большакова) работает в труппе. Особое внимание уделено М. М. Фокину, которого Дягилев на сезон 1914 г. снова пригласил к себе, постаравшись всячески загладить нанесенную ему в 1912 г. обиду, когда предпочел постановки Нижинского его работам8. Теперь Фокин поставил для очередного «сезона» труппы четыре спектакля. Наибольший успех имел «Золотой петушок», опера, превращенная в оперу-балет, с музыкой Н. А. Римского-Корсакова и в чрезвычайно понравившемся и публике и критикам оформлении Н. С. Гончаровой, но одновременно вызвавшая бурную дискуссию в среде музыковедов9. Он также поставил «Легенду об Иосифе» Р. Штрауса (в которой Мясин исполнял главную роль) и не слишком удавшийся балет «Мидас»10 с музыкой М. О. Штейнберга. Кроме того, перенес к Дягилеву ранее поставленный в Петербурге балет «Бабочки» на музыку Р. Шумана.
Мясин из всех исполняемых на гастролях спектаклей упоминает лишь тот, в котором участвовал, но свое мнение о чете Фокиных высказывает. И его отношение к ним скорее настороженное из-за их высокомерия, необщительности («Он кроме себя никого не признает»). Судя по всему, работы Фокина, во всяком случае созданные им в последнее время, Мясину не очень нравятся — он пишет о Фокине, что тот «становится сладеньким». Думается, высказанное Мясиным в какой-то степени повторяет услышанное им от Дягилева, который в это время был для него непререкаемым авторитетом. А Дягилев к этому времени несколько разочаровался в Фокине, считал его постановки «устарелыми». Ведь приглашение Фокина в 1914 г. было, в общем-то, вынужденным. Его причиной послужил разрыв с Нижинским в 1913 г., после которого срочно надо было найти кого-то, кто подготовил бы новый «сезон». В то же время Мясин отдает должное Фокину как балетмейстеру, сумевшему из него самого, технически очень слабого артиста, всего за три месяца «что-то», как он выражается, «вылепить». Тогда же состоялось и первое знакомство Мясина с Нижинским, которого он упоминает, высказывая предположение, что Фокин не допустит возвращения Нижинского в труппу.
213 Но больше всего Мясин пишет об Италии и ее искусстве. Вспоминая рассказы Большакова (в Италии тот побывал в 1912 г.) и сравнивая с ними собственные впечатления о стране во время путешествий с Дягилевым (в Риме он жил в 1914 – 1915 гг.), Мясин подробно описывает виденное и восторженно называет эту «самую благословенную землю» второй родиной. Однако и настоящую родину — Россию он не забывает, интересуясь (во всяком случае, в ранних письмах) тем, что происходит в Большом театре; радуется, слыша московскую речь, когда в труппе появляются новые артистки из Москвы («их говор меня волнует и радует ухо»). Мясин, как известно, на протяжении всей жизни сохранял связь со своей семьей в России, в трудное время всячески поддерживал отца, брата, племянницу, хотя реально смог впервые посетить Москву только в 1960-х гг. Но его пленяет благодатный климат Италии («Какая у нас зима… воздух всегда весенний»), а российские зимы вспоминаются как «мертвые» и «мерзлые». Восхищают его и красоты Италии («Рим люблю еще больше, чем прежде, здесь всюду Бог»). Он посылает Большакову открытки с изображением архитектурных памятников из всех городов Италии, зовет его туда приехать. А затем, в 1920 – 1930-х гг., именно в Италии Мясин обоснуется, купив там группу островов, на которых разведет большое хозяйство. Впрочем, если говорить об интересе Мясина к архитектуре, к музеям, и вообще к искусству, то он не ограничивается одной Италией. В этих же ранних письмах Большакову он еще будет писать (в 1916 г.) об Испании и посылать бывшему учителю открытки с изображением испанских церквей, монастырей, а также картин из местных музеев. И даже во время гастролей по Америке особое его внимание, судя по открыткам, привлечет облик показавшихся ему необычными новых зданий.
Поражает в этих описаниях (особенно в большом письме из Италии от 8 августа 1914 г.) то, что пишущий смотрит на окружающее глазами художника и рассказывает о виденном художнику. Вот, к примеру, описание одного из итальянских пейзажей: «Черные группы и отдельные пятна кипарисов на бархатном желтом поле полей. Холмы Тосканы на закате солнца горят золотом, вырисовывая мягкий их силуэт». Для Мясина всегда, и в дальнейшем, при постановке балетов, зрительный образ был определяющим, даже тогда, когда он ставил свои балеты-симфонии, где, казалось бы, все должна решать музыка. Благо ему довелось работать с крупнейшими художниками, такими как Н. С. Гончарова и М. Ф. Ларионов, как П. Пикассо. Да и Дягилев ввел его в мир изобразительных искусств, когда знакомил с музеями и архитектурой Италии и Испании. Но что-то было заложено, может быть, и раньше, уже в школе Большакова и в процессе бесед с ним. Можно сказать, что Большаков подготовил юношу к встрече с искусством, которое ему открыл Дягилев.
Война нарушила все планы Дягилева. Предполагалось, что следующий сезон «Русских балетов» начнется в октябре 1914 г. в Германии, и сбор труппы был назначен в Берлине. Теперь это стало, естественно, невозможным. Часть артистов вернулась в Россию, уехал и Фокин. Труппа фактически распалась.
Некоторое время Дягилев с Мясиным путешествовали по Италии. Во Флоренции, в музее Уффици, состоялся очень важный разговор Мясина с Дягилевым (подробно пересказанный им в мемуарах). Разглядывая там картины великих итальянских мастеров на религиозные темы и пытаясь по просьбе Дягилева воспроизвести положения и движения изображенных на них фигур, он наконец, стоя у 214 картины Симоне Мартини «Благовещение», почувствовал прилив вдохновения и дал Дягилеву положительный ответ на вопрос, хочет ли он попробовать себя на поприще балетмейстера.
После Флоренции они обосновались в Риме. Красоты этого города приводили Мясина в восторг, о чем он тоже писал Большакову. Там состоялась встреча нового, 1915-го года. В Риме Дягилев, как всегда, развивал активную деятельность. Организовывал музыкальные концерты, в том числе и И. Ф. Стравинского11, который находился в это время в Швейцарии и с которым он все время вел переговоры насчет «Свадебки»12 (две первые части музыки этого балета ему удалось прослушать чуть позднее, когда летом 1915 г. он тоже поселился в Швейцарии). Мясин считал тогда (и писал об этом Большакову в феврале 1916 г. из Бостона), что ставить этот балет будет он, и перспектива эта приводила его в восторг («я буду на небе, если мне удастся это сделать хорошо»). Но Дягилев в ту пору, по-видимому, еще боялся доверить ему «Свадебку», да и музыка не была закончена, поэтому для Мясина готовил другие проекты. Тогда же Дягилев пригласил в Рим С. С. Прокофьева, и там состоялись их переговоры: Дягилев отверг его балет «Ала и Лоллий», но они договорились относительно балета на русскую тему (им стал в будущем «Шут»). Там же в Риме начались переговоры относительно возможных гастролей в США, и Дягилев списался с находящимся в Петербурге С. Л. Григорьевым13, прося его набирать артистов для пополнения труппы взамен тех, кто в связи с войной не мог или не желал покидать Россию. Согласно окончательному договору, подписанному С. П. Дягилевым в августе 1915 г. с председателем правления нью-йоркской Метрополитен-опера Отто Каном14, в гастролях обязательно должны были участвовать Т. П. Карсавина и В. Ф. Нижинский, что сразу привело к осложнениям. Карсавина была в России, но в это время происходили серьезные перемены в ее жизни: она готовилась к бракоразводному процессу, чтобы выйти замуж за атташе британского посольства Генри Брюса, и ждала ребенка15. Не менее сложно обстояли дела с Нижинским. Он был интернирован в Будапеште как подданный враждебного государства (Австро-Венгрия воевала на стороне Германии), и выехать оттуда не имел права.
Между тем с весны 1915 г. Дягилев с Мясиным окончательно обосновались в Швейцарии, где была снята вилла в местечке Уши16 около Лозанны, недалеко от Шато д’Э (Château d’Oex), где жил Стравинский, который приезжал к Дягилеву на велосипеде. Поселившись там, Дягилев начал собирать вокруг себя людей, с помощью которых хотел возродить «Русские балеты». Сюда приехал Л. С. Бакст17, соседом был дирижер Эрнест Ансерме18, Дягилев уговорил (не без труда) перебраться в Швейцарию также Н. С. Гончарову19 с М. Ф. Ларионовым20, и предоставил им мастерскую21. Э. Чекетти продолжал заниматься с Мясиным. Одновременно ангажированные С. Л. Григорьевым и его помощниками артисты из Петербурга, Москвы, Варшавы и даже из Англии начали съезжаться в Уши.
Восстанавливая свою труппу, Дягилев одновременно готовил и ее репертуар. Репетировались старые балеты, которые должны были быть показаны на американских гастролях. Это были в основном наиболее знаменитые балеты Фокина — постановки 1909 – 1912 гг. Из балетов Нижинского был возвращен в репертуар только «Послеполуденный отдых фавна»22. И тогда же началась работа и над новыми спектаклями. Теперь их надлежало поставить Мясину.
215 О том, что ему предстоит интересная («вкусная», как он ее называет) работа, Мясин пишет в открытке Большакову от 7 апреля 1915 г. Тогда Дягилеву пришла идея создания спектакля на основе церковных песнопений. Возможно, он при этом учитывал особый интерес Мясина к евангельской тематике, что так явственно проявилось во время посещения итальянских музеев. Вспоминая этот период, Мясин позднее напишет в мемуарах: «Больше других фигура Христа воспламеняла мое воображение»23. Дягилев пытался заинтересовать Стравинского новым проектом (который получил название «Литургия»)24, но тот отказался, отчасти из-за занятости, отчасти, возможно, считая, что церковная служба не должна стать темой для балета.
Встреча с Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионовым в Швейцарии имела для Мясина огромное значение. Он немало пишет о них несколько позднее в письме, отправленном в феврале 1916 г. из США. Рассказывает о Гончаровой, которая делала эскизы костюмов для «Литургии», пишет, что он ими «очень доволен», упоминает, что из всех художников она, «пожалуй, единственная, кто меня в данный момент интересует». Из этого письма нам становятся также известны отдельные детали этого готовившегося в 1914 – 1915 гг. спектакля, который так и не был показан, после того как стало ясно, что записи церковных песнопений получить из Киева не удастся. Мясин пишет о том, каким он задумывался, как предполагалось в нем использовать музыку. Но, поскольку «Литургию» закончить не удалось, вместо нее для американских гастролей Дягилев решил поручить Мясину поставить другой балет — на музыку из оперы «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова.
Спектакль получил окончательное название «Полуночное солнце». О нем рассказано в том же мясинском письме от февраля 1916 г. На этот раз Дягилев, понимая, что у Мясина нет абсолютно никакого опыты балетмейстерской работы (в «Литургии» было поставлено всего несколько танцев), поручил Ларионову, который должен был оформлять балет, руководить им. Этот союз начинающего хореографа с художником оказался чрезвычайно плодотворным. Ларионов предложил построить балет вокруг образа языческого божества солнца Ярила, которого крестьяне славят в обрядах и танцах, а также использовать, как и в опере, легенду о Снегурочке, тающей в лучах солнца, когда к ней приходит любовь. Мясин ввел в спектакль знакомую ему с детства игру «Гори, гори ясно…». Одним из главных персонажей, помимо Ярила, которого танцевал сам Мясин, был деревенский гуляка и балагур Бобыль, исполнителя которого (Н. М. Зверева25) Мясин тоже упоминает в письме. Заканчивался балет большой скоморошьей пляской.
Дягилев организовал перед самой поездкой в США представление своей труппы в Женеве в Большом театре, и там 20 декабря 1915 г. балет был исполнен впервые. А 1 января 1916 г. «Русские балеты Сергея Дягилева» выехали в США.
Американские гастроли — один из самых сложных периодов в истории труппы Дягилева. Первые были с 17 января по 29 апреля 1916 г., вторые — с 16 октября 1916 по 21 февраля 1917 г.
Как уже отмечалось, в контракте с Отто Каном, председателем правления Метрополитен-опера было оговорено участие в гастролях В. Ф. Нижинского и Т. П. Карсавиной. С. Л. Григорьев, который занимался приглашением артистов, пытался на место Карсавиной пригласить О. А. Спесивцеву26, но она отказалась. Тогда он обратился к 216 К. П. Маклецовой27, и, кроме того, выяснилось, что в США находится Лидия Лопухова28, которая согласилась вернуться в труппу Дягилева. Это до некоторой степени спасало положение. Одновременно Дягилев предпринял отчаянные усилия, чтобы заручиться участием Нижинского. Для этого он использовал все свои связи вплоть до короля Испании, императора Франца-Иосифа и многих других влиятельных особ. Через друзей добыл даже ходатайство от Папы Римского. В результате Нижинскому с женой и дочерью разрешили покинуть Будапешт, с условием не выезжать ни в одну страну, находящуюся в состоянии войны с Германией. Таким образом, он примкнул-таки к труппе Дягилева, правда, не с самого начала гастролей.
В США и Мясин, и Дягилев, несомненно, увидели много нового и необычного, столкнулись с реалиями иной жизни, с непривычным взглядом на вещи. Их обоих это интересовало. В большом интервью, данном журналистам вскоре после приезда в Нью-Йорк, Дягилев говорил об Америке, о современных тенденциях в ее искусстве, о необходимости идти своим путем, не подражая Европе29. Отголоски этих высказываний, несомненно, ощущаются в тексте открытки от 10 февраля 1916 г., посланной из США: Мясин восхищается изображенным на этой открытке зданием банка в Детройте, чисто утилитарным по облику, лишенным каких-либо украшений, и пишет, что «это лучше всей скульптуры, которой испорчены все дома Европы»30.
Но в то же время Дягилеву пришлось столкнуться с немалыми трудностями. Дело не только в том, что в Америке были мало знакомы с балетным искусством и не всегда адекватно воспринимали виденное. Большую роль играли также местные предрассудки и обычаи, с которыми приходилось считаться. Например, балет «Послеполуденный отдых фавна» вызвал возмущение ревнителей нравственности. Пришлось даже изменить его финал. Теперь Фавн не ложился на шарф, похищенный им у нимфы, а садился рядом и мечтательно его разглядывал. Но особенно много проблем вызвало участие в «Шехеразаде»31 чернокожих возлюбленных гаремных жен Шахриара. Невозможно было в США показать на сцене белых женщин, которые принимают участие в оргии вместе с неграми. Женщин по настоянию местных властей переодели так, чтобы не было видно ни дюйма обнаженного тела, а негров сделали белыми. Возникали сложности и внутри труппы, как с Нижинским, так и с Маклецовой (о чем Мясин говорит в письме из США, датированном февралем 1916 г.). И, когда спустя три с половиной месяца, проехав по 16 городам США, труппа закончила гастроли, в финансовом отношении достаточно успешные, Дягилев, вероятно, вздохнул свободно. И узнав, что во вторые, уже запланированные, американские гастроли Нижинский соглашается ехать, только если там не будет Дягилева, он не без удовольствия отказывается от участия в них. Гастроли эти возглавил сам Нижинский, отвергший также услуги нелюбимого им Григорьева. Таким образом, вторые гастроли проходили в США уже без Дягилева и без Мясина, которые остались в Европе. Но, конечно, происходившее там и с труппой, и с Нижинским становилось им известно, и Мясин тоже немного тоже пишет об этом (например, в письме от 27 декабря 1916 г.).
Нужно сказать, что фигура Нижинского вообще, по-видимому, давно интересовала Мясина (он упоминает о нем уже в своем первом письме, говоря об их знакомстве). Оно и понятно — все-таки не было в это время другого столь же знаменитого 217 танцовщика. Но, кроме того, Мясин невольно стал как бы преемником Нижинского — ведь это Нижинский должен был ставить «Легенду об Иосифе» и танцевать в ней. А дальше ему пришлось выступать в ролях, которые были созданы для Нижинского (например, Петрушка и Золотой раб), а также в его собственном балете в поставленной им для себя роли Фавна. Мясин восхищался Нижинским, но в то же время понимал, как, вероятно, и многие другие, что к моменту американских гастролей он уже был не совсем здоров.
Вторые американские гастроли были очень длительными (почти четыре с половиной месяца). Труппа побывала в более чем 50 городах разных районов страны. Несмотря на огромный интерес к Нижинскому-танцовщику (во всяком случае, в больших городах) и на то, что он поставил во время гастролей в Нью-Йорке не лишенный, по-видимому, достоинств балет «Тиль Уленшпигель»32 (на музыку Рихарда Штрауса), гастроли эти как по причине сложного характера Нижинского, так и плохой организации, оказались крайне неудачными, особенно в финансовом отношении. Помимо всего прочего американская провинция еще не была готова к тому, чтобы по достоинству оценить дягилевский репертуар (а между тем большая часть гастролей проходила именно в мелких городах). Убытки, которые понесли американские импресарио, привели к тому, что Дягилеву также была переведена значительно меньшая сумма, чем та, на которую он рассчитывал для организации следующего европейского «сезона», а также для давно задуманной Дягилевым поездки с труппой на родину. В результате, при том что в самом ближайшем будущем в России разразилась революция, «Русским балетам Сергея Дягилева» так никогда и не удалось показать там свои спектакли.
Дягилев, Мясин, Григорьев и 16 танцовщиков остались в Европе, когда труппа уехала во вторую американскую поездку. Они должны были начать готовить репертуар следующего «сезона». В это время Мясин пишет Большакову то из Италии, то из Испании, где провел особенно много времени. Тема Нижинского возникает и в этих письмах. В одном из них речь идет о дружбе Нижинского с Д. Р. Костровским33 и Н. М. Зверевым, которые в это время сыграли некоторую роль в жизни Нижинского. Они оба были толстовцами и Костровский особенно охотно вел с другими артистами беседы на темы равенства и братства людей, а также вегетарианства и особенно старался склонить к следованию этим принципам В. Ф. Нижинского. Причем небезуспешно. Нижинский стал некоторым заветам толстовцев следовать. Например, действительно перешел на вегетарианство, что полностью противоречило советам врачей. Также, пытаясь применить к своему образу жизни идею о равенстве людей, Нижинский стал раздавать свои роли другим актерам. Известны, например случаи, когда во время американской поездки он отдавал роль Золотого раба в «Шехеразаде» Звереву, а сам выходил на сцену в маленькой пантомимной партии евнуха (сохранилась и опубликована афиша такого спектакля). Ромола пыталась бороться с этим, как могла, и даже в какой-то момент, к концу гастролей, уехала в Нью-Йорк, пригрозив, что бросит мужа, если тот не одумается.
Последний крупный скандал с Нижинским (который Мясин упоминает, не вдаваясь в детали) связан с отъездом труппы в Бразилию 4 июля 1917 г. Опять контракт Дягилева предполагал участие Нижинского в гастролях. Сам 218 Нижинский поначалу не возражал. Когда после второй американской поездки труппа С. П. Дягилева снова начала работать в Европе, оставшийся в Америке танцовщик, даже стремился к ней присоединиться: он прислал из США телеграмму с просьбой об этом. Но вскоре по приезде в Испанию его настроение изменилось. По-видимому, он рассчитывал снова возглавить труппу и ставить балеты для будущего «сезона». Все оказалось иначе, и в какой-то момент Нижинский заявил, что вообще не уверен, поедет ли на гастроли в Южную Америку. Дягилев, напомнив ему о его телеграмме, сказал, что ее можно приравнять к контракту, а отказ ехать — к нарушению контракта. Однако накануне отъезда, когда афиши последних спектаклей в Барселоне с именем знаменитого танцовщика были уже напечатаны, Нижинский и Ромола решили тайно покинуть город. Но Дягилев узнал об этом и заявил в полицию. По испанским законам артист не имел права уезжать, если он стоял на афише, чтобы не нарушать контракт. Нижинского с женой задержали уже на вокзале, и им пришлось все-таки ехать в Южную Америку.
Любопытна фраза, которой в письме от 4 июля 1917 г. Мясин завершает свои размышления, посвященные Нижинскому, говоря о нем как о большом мастере, «которого беспокоят близкие мне мысли». Что он имеет в виду? Что видит он у себя общего с Нижинским? Конечно, не приверженность толстовству: это Мясину абсолютно чуждо. Может быть, интерес к новой живописи, который и Нижинского (об этом пишет в своих воспоминаниях Бронислава Нижинская) и Мясина толкнул к экспериментам в хореографии? Или общее для них обоих стремление анализировать танцевальные движения, исследовать их природу, отчего возникало также желание их фиксировать? Но, скорее всего, имеются в виду размышления о природе собственного искусства, о его развитии, его будущем, что, несомненно, заботило обоих. И Мясин это ощутил.
Но, конечно, не Нижинский и не конфликты с ним являются главной темой писем Мясина в конце 1916 г. Главное — балеты, над которыми он начал работать в это время. Одни спектакли он ставит с теми артистами, которые не поехали в Америку, другие только обдумываются. Чуть раньше, когда труппа в конце мая — начале июня 1916 г. между двумя американскими поездками выступала в Мадриде, он показал два маленьких балета: испанский — «Менины»34 и русский — «Кикимора»35. Теперь (как видно из письма от декабря 1916 г.) он готовил «Бабу-ягу»36 того же Лядова, и вскоре, когда появятся другие добавления, родится балет «Русские сказки»37, ставший после премьеры в мае 1917 г. в Париже одной из самых известных работ Мясина. Тем же летом (а точнее, в августе 1916 г.), в Париже начались первые переговоры Жана Кокто и Эрика Сати с Пабло Пикассо насчет «Парада»38, который Мясин поставит тоже в мае следующего, 1917-го года в Париже, и спектакль этот станет главной сенсацией нового сезона. И, наконец, осенью 1916 г. Дягилев начал знакомить Мясина со старинными трактатами по танцу, пьесами Карло Гольдони, клавесинной музыкой Доменико Скарлатти, в результате чего уже в октябре 1916 г. тот пишет Большакову о своей работе над еще одним балетом — «Женщины в хорошем настроении». Показан он будет, когда труппа вернется из второй американской поездки в Риме в апреле 1917 г., и успех будет огромный.
Рассказывая в своих письмах об Испании и ее красотах, Мясин упоминает, что видел там великолепных танцовщиков и собирается «у них поучиться». Именно 219 к этому времени относится подготовка к работе над балетом, которому суждено будет стать важной вехой как в биографии Мясина, так и в истории дягилевской труппы: над «Треуголкой» с музыкой Манюэля де Фальи (1919). Мясин действительно изучал испанские танцы у самых замечательных местных танцовщиков, а один из них, Феликс Фернандес Гарсия, даже работал с труппой и показал Мясину многие танцы, которые потом вошли в «Треуголку».
Сохранившиеся письма Л. Ф. Мясина к А. П. Большакову охватывают всего около трех лет его жизни в труппе С. П. Дягилева. Но как много произошло за это время, а главное, как много он успел сделать, как сильно изменился! Он, писавший в середине 1914 г.: «танцы моя самая слабая сторона», уже исполнил большое число ведущих ролей в главных спектаклях антрепризы (включая свои собственные). Он, в 1914 г. еще не помышлявший о постановочной работе, к середине 1917-го создает пять репертуарных спектаклей и ведет работу еще минимум над тремя. И спокойно пишет Большакову о том, что в феврале 1916 г. в Риме будет «несколько спектаклей с моими последними балетами». Чувствуется, что Мясин вполне уверен в своих силах, и уже без тени сомнения сообщает (в последнем письме от 4 июля 1917 г.): «… будущий сезон <…> мне придется делать одному».
Период 1914 – 1917 гг. можно считать решающим в карьере артиста и балетмейстера Леонида Федоровича Мясина. К 1917 г. он уже знаменитость в балетном мире.
Письма Л. Ф. Мясина А. П. Большакову печатаются по оригиналам, хранящимся в Рукописном отделе ГЦТМ им. А. А. Бахрушина в фонде А. П. Большакова (Ф. 34. Ед. хр. 1 – 19).
220 1
13/1 июня [1914]
[Лондон]
Скучаю я по школе, Анатолий Петрович, иной раз так хочется снова приняться за работу с новой силой и любовью. Но где, к черту, здесь найти натурный класс. В Париже еще было можно, да времени не было свободного. Занят я мало. Только в Иосифе39. Теперь разгуливаю по Лондону, да успел и в Иудее быть40. Сколько интересного в Британском музее, да и в Национальном есть что.
В труппе, понятно, есть много недоброжелательного народу. Хорошо относятся наши. Тарасов41 одно время помогал заниматься. Истинно дружен и близок с Матвеичем42. Таким он был и раньше в моем представлении.
Что сказать про господ Фокиных43? У них свой мир и своя жизнь. Ко мне он безразличен, так же как и она. Дело в том, что он вообще кроме себя никого не признает. Когда надо было обойти Нижинского (имя которого он не переносит), взялся за меня и в три месяца, и того меньше, вылепил что-то из меня44. В своем творчестве он делается законченным и сладеньким. Вераша45 его губит.
Теперь я работаю у Чекетти46, усердно и почти каждый день. Кажется, начинаю делать успехи. Знаете, ведь в Москве я почти не работал, всё гопаки отплясывал да русскую47. А здесь ведь серьезно, да и публику здесь не обманешь. Танцы — моя самая слабая сторона, и вот теперь принялся серьезно. Коля48 учится каждый день, а иной раз и на спектакле, смотришь, где-нибудь сзади сцены прыгает. Работящий малый. Мало его вижу, а близки мы с ним. Да и англичанка его49 милая особа — так они подходят друг к другу, просто удивительно.
С Нижинским познакомился, но работ его еще не видел. Он будет у нас на четыре спектакля здесь. Пока Фокин у нас, Нижинского, я полагаю, не будет50. Фокин не допустит.
Горячо Вас приветствую,
Ваш Л. Мясин
В Москве я буду в начале сентября, что-нибудь в этом роде. Здесь сезон кончается 25/12 июля. И потом, кажется, еще где-то несколько спектаклей и — отпуск. Приветствую еще раз.
Адрес: Drury Lane Theater
2
8 августа [1914]
Рим
Милый Анатолий Петрович, нельзя приезжать в Рим, чтобы не вспомнить Вас. Я думаю, много дали бы за радость быть здесь. Какое солнце, небо, воздух Рима — всюду Бог.
Только что я сделал одно из самых красивых путешествий, которое и занесло меня сюда. Из Виареджио (около Генуи) на автомобиле с друзьями51 мы проехали всю Тоскану и Кампанию. Никогда не видал ничего более изумительного, фантастически богатого и вместе с тем простого, деревенского пейзажа. Черные группы и отдельные пятна кипарисов на бархатном желтом поле. Холмы и небольшие горы Тосканы на закате солнца горят золотом, вырисовывая мягкий их силуэт. Как все это поразительно 221 передано старыми певцами Мадонны и тосканских закатов52. Их любовь и правда мне сделались еще ближе и дороже. Золото, которым они со смелостью, вероятно, покрывали кое-где пейзажи, это такая находка и в этом большая правда. Мы проехали Пизу, Сан-Джиминьо и Сиену, Монте-Оливето (монастырь) с его поразительным местоположением, где единственные по красоте фрески Содомы53 и Луки Синьорелли54. И наконец приехали в Рим.
На автомобиле путешествовать необыкновенно интересно. Совсем другое, чем в вагоне. Виден весь пейзаж — впереди и с боков.
Есть час и день, когда все принимает свою действительную окраску и весь окружающий пейзаж делается удивительно точен всем своим объемом; когда солнце так все это освещает, что начинаешь не только видеть, но ощущать видимое. Кажется, что все это проникает сквозь глаза куда-то глубоко внутрь и останется навсегда там, бережно хранимое. Иногда мне казалось, что это и есть Рай и что выше и красивее, чем здесь, он не может быть, как Божество не может превзойти Божественного. Так редко возможно прочувствовать и приблизиться, как мне, в сердце Тосканы — самой благословенной земли.
Я пишу это, зная, что Вам Италия родна и дорога, как и мне.
P. S. Неужели за всю Вашу работу нельзя себе позволить отдохнуть в Италии. Значит, занятия в школе не прерываются?
Italia. Via Reggio. Select Hotel.
3
[Почтовая открытка]
9 октября 1914 г.
[по штемпелю отправления]
Вспомнил работы, время и любовь к тому, что учили меня любить, и опять хочется надоедать Вам, милый Анатолий Петрович.
И желать [нрзб.] хочу и приветствовать что-то. Ну что уж [нрзб.].
Кто остался у вас? Что и кто работает? Где Коля Зверев? Я буду здесь, пока не настанет другое время55. Теперь довольно тягостно и трудно.
Будет минута, расскажите, что знаете о театре в Москве.
Ваш Л. Мясин
Пишите Poste restante18*
4
[Почтовая открытка]
6 декабря 1914 г.
[по штемпелю отправления]
[Рим]
Здравствуйте, милый Анатолий Петрович, посылал Вам начиная с октября несколько открыток, но, должно быть, они сгинули. Все это время в Италии. Веду 222 бродячий образ жизни56, но интересный. Теперь погрузился в Рим. Вы знаете ведь, что это такое. Принялся серьезно за рисунок. Рисую каждый день 2 часа. Рад бесконечно. Зверев в Лондоне. Что делает — не представляю. Приветствую всех работников. [Нрзб.] поклоны.
Ваш Л. Мясин.
5
22 декабря 1914 г.
[по штемпелю отправления]
[Рим]
Уже месяц, даже больше, как я в Риме. Время у меня летит. Есть здесь и концерты, и опера. А днем блуждаю по Риму. Поражаюсь, сколько здесь всего. Продолжаю рисовать.
Пишет ли Коля57? Он все время был в Париже в Красном Кресте. Теперь перебрался в Лондон. Слышал, что Тарасов в Христиании58, где остановился, не знаю.
Желаю Вам тоже силы на новый год да радости и утешения на долгое время.
Ваш Л. М.
Помните ли Вы здесь старые, первых веков церкви с христианскими мозаиками? Осталась ли в памяти их красота? Я их видел. А были ли Вы в маленьких городках? Все так они меня увлекли.
6
[Почтовая открытка]
14 января 1915 г.
[по штемпелю отправления]
Новый год прошел странно и страшно. До сих пор лихорадочное состояние. Памятный день, в утро. В эти секунды, ставшие смертью стольких, почувствовал всю ничтожность и жалкую беспомощность. Удары были так сильны, что, еще 2 секунды, и, казалось, все будет кончено59. Приятно и радостно было потом, и солнце и безупречное небо. На месте, где земля разошлась, образовалось озеро. Если бы не газеты и процессии носилок, похоже было на пятое действие кошмарной феерии.
Ваш Л. М.
Получила что Елена Егоровна60?
Приветствую всех с Новым годом!
7
[Почтовая открытка]
7 апреля 1915 г.
[по штемпелю отправления]
Может быть, мне удастся прислать Вам все вещи, которые мне поручил Матвеич. 223 Правда, теперь это мудрено и рискованно. Я буду теперь жить в Швейцарии61, как писал, где будет у меня работа вкусная62.
Христос воскресе.
Ваш Л. М.
До осеннего сезона буду в Швейцарии и Италии.
8
[На бланке:] Hotel
Copley-Plaza Boston
[Начало февраля 1916 г.]
[Датируется по содержанию]
Получил Ваше письмо, Анатолий Петрович, помечено 23 сентября. Мне жаль, что я столько времени не писал Вам. Как раз в это время я ставил свой первый балет «Снегурку»63, о котором поделиться с Вами часто хотелось. Вероятно, Вам что-нибудь писал Романович64. Теперь его часто дают, т. к. имеет хороший успех. Главную роль танцую я, а другую — Бобыля — Матвеич. Надо сказать, очень хорошо у него выходит.
Поставил хороводы и пляску скоморохов. Делал вместе с Михаилом Ларионовым, которого Вы знаете по Москве.
Все прошлое лето я провел с Гончаровой и с Ларионовым за новой вещью65, к которой и есть теперь весь мой интерес. Я очень доволен работами Гончаровой, и, пожалуй, она единственная, кто меня в данный момент интересует.
Ларионов очень культурный художник, и в беседах с ним мне многое открылось и многое хочу сделать, конечно, в моей области, кот[орую] я начинаю все больше и больше ощущать как самую близкую мне и в данный момент, по-моему, и самую интересную.
Я делаю огромный балет, и, кажется, я писал Вам об этом в двух словах. Движение — действие будет без музыки — все шесть картин, из которых состоит балет. Музыка — хоры66, и начинается только тогда, когда опускается занавес сцены, а кончается, когда он поднимается. Трудно сказать, как это все сложилось и одно подсказало другое. Не показалось ли Вам странным это? Но все это в самых художественных задачах и потому Вам не должно казаться нелепым.
Сейчас так много работы, что я перестал временно его ставить, хотя половина еще не готова. Костюмы и декорации Гончаровой. Она очень много в них сделала интересного.
224 Кроме того, у меня есть уже другая работа — балет «Свадебка»67, который теперь кончает Стравинский. Это бесконечно интересно и близко, и я буду на небе, если мне удастся сделать это хорошо. Музыка совершенно замечательная, и если Вы любите Стравинского, то будет радостно для Вас.
Я все лето был так счастлив, хоть и не было солнца Италии, о котором мы скорбим; была настоящая радость жизни, радость возможности творчества и восторга достигнутого. Редкое лето было!
Сейчас долгая рабочая пора. Мысли оскудели и рассеялись. Голова занята чем-то необязательным. Толкаешь дни, чтобы скорее проходили. А как быстро проходит время за такой работой.
Две недели в Нью-Йорке были большим нашим успехом, по крайней мере с денежной стороны были просто триумфом. За две недели 100 тысяч долларов, несмотря на то что ни Нижинского, ни Карсавиной пока с нами нет. «Петрушка» и «Фавн» временно перешли ко мне68. И то и другое имеет большой успех и странный. «Петрушку», например, связывают с «Паяцами»69 и т. д. Маклецова выгнана из труппы за хамское поведение и навсегда скомпрометирована в глазах нашей труппы и нашего дела. Павлова только что кончила свой оперный и балетный сезон70. Провалилась окончательно и потеряла бездну своих денег71. Теперь она отправилась в турне здесь уже по Северной Америке72. В феврале на две недели будем в Чикаго. А вот март — переезды каждый день, а затем мы, кажется, пробудем здесь и осень и зиму73. Вряд ли нас отпустят скоро.
О Матвеиче Дмитрий Романович74, вероятно, уже написал. Он все тут же, все собирается написать Вам, но, очевидно, далек [от того], чтобы написать.
Москвички очень милы75, а их говор меня волнует и радует ухо, как будто птичье чириканье, в них вся Москва.
Кончила ли Елена Дамиановна76 портрет и как вышло? Чем она теперь интересуется? Неужели все еще Сомов77 впереди у нее? А Мария Дамиановна78? Я давно-давно не писал ей.
Привет Елизавете Степановне79 и Елене Егоровне.
Если Вы захотите мне ответить. Адрес — New York. Metropolitan Opera. Ballet Russe. Где бы я ни был, я все получу.
Желаю Вам больше солнца в хмурое время, светлых дней и благодатной почвы Вашему бодрому духу. Я всегда с Вами.
Л. Мясин
9
[Почтовая открытка]
10 февраля 1916 г.
Детройт
Я снимаю шапку, когда вижу такое. Это самое красивое, что я когда-либо видел. Это лучше всей скульптуры, которой испорчены все дома Европы80.
Л. М.
10
[Почтовая открытка]81
3 мая 1916 г.
Дорогой Анатолий Петрович, верно, не получили моего письма из Бостона? Иногда я посылал и открытки Вам. Как Вы? Что Вы?
Едем на месяц в Мадрид. Вероятно, будем в Испании все лето. Нижинский много изменился. Он всецело под влиянием своей жены82. Пока в этом мало хорошего.
Приезжайте в Италию летом. Может, встретимся.
Поклон Елизавете Степановне [Авдеевой], Елене Егоровне и Елене Дамиановне.
225 11
[Почтовая открытка]
5 июня 1916 г.
Ritz Hotel, Madrid
Давно нет от Вас привета. Сходим с ума от того, что видели в Прадо83.
Великий музей. Общего с Италией нет, все иначе и новое для меня. Был в Толедо, где много вещей Греко84, да и здесь их немало. Отсюда, кажется, едем в Лиссабон85, где будем до конца июня.
Всегда Ваш
Л. М.
Король и королева бывают почти каждый спектакль86. Сегодня был здесь праздник. Господи, как красив был народ, какие костюмы, шали. Привет всем, кто помнит.
12
[Почтовая открытка]
13 июня 1916 г.
Мадрид, Hotel Ritz
Многоуважаемый Анатолий Петрович, впечатление от Эскориала87 больше, чем вообще впечатление от искусства. Совсем не нахожу ничего сурового. В некоторых кусках простота Византии и всюду сила духа и мощь формы. Я не нахожу сравнения ни с чьими [нрзб.], ни одного декоративного украшения, только архитектура [нрзб.].
Ваш М.
13
[Почтовая открытка]
[25 июня или 25 июля? 1916 г.]
[Датируется по штемпелю]
Гранада
Я видел чудо или сон это был дивный и радостный. Таким мне сдалось виденное в Альгамбре88. Нет равного — только Св. Марк89, как это ни странно покажется.
Ваш Л. М.
14
[Почтовая открытка]
5 июля 1916 г.
Мадрид, Hotel
Ritz
Приехали купаться. Пока лупит дождь и холодно. Вспоминаю Италию и южное море. После Севильи здесь противно купаться. Зверев отправился в Севилью и сгинул от всех, Костровский и Язвинский90 с невестой где-то около Себастьяна. В августе будет только несколько спектаклей здесь91 и в Бильбао92.
226 15
[Почтовая открытка]
30 сентября 1916 г.
Севилья
Дорогой Анатолий Петрович, семьи наши разделились на некоторое время93, и в то время как одна половина будет скакать по Америке, другая, и я с ней, будет в Риме. Я живу всеми наслаждениями Севильи, забыв дни, часы и всякий счет. Богатства Испании неизмеримы, не меньше Италии здесь по количеству памятников.
Ваш Л. Мясин.
Адрес: Roma. Poste restante
16
[Почтовая открытка]
9 октября [1916 г.]
[Рим]
Многоуважаемый Анатолий Петрович!
Мы приехали. Начал работать. Ставлю много новых балетов. У меня 20 артистов. Сейчас ставлю «Le donne di buon umore» Гольдони94, музыка Скарлатти. Декорации и костюмы делает Бакст, который зимой будет в Риме. Кроме того, буду работать вещи с Пикассо95, Балла96, де Перо97 и с Гончаровой и Ларионовым, которые здесь в Риме98. Можете представить — настроение восхитительное. Рим люблю больше, чем прежде. Прозрачное небо и кристальный воздух. Бодрости бесконечно много.
Что Вы? Приезжайте из мертвых мест и живите жизнью.
Ваш М.
Матвеич [Н. М. Зверев] в Америке. Мы друзья с ним.
[На лицевой стороне открытки с изображением боя быков] Приветствую всех, кто остался верен.
Ваш Л. М.
17
27 декабря 1916 г.
Рим
Милый Анатолий Петрович, с Новым годом — вспомните обо мне наконец.
Вам пиши или нет, все равно ответа не будет. Простите, что начинаю с ругательств.
Что делаете теперь? Цветет ли школа, как всегда, и есть ли растения, за которыми любо ухаживать?
А я опять в Риме. Он мой, совсем. Кажется, Ваш он уже давно. Но Вы любите странно и терзаетесь там, вместо обожания [нрзб.].
Какая у нас зима! Я не хочу расстраивать Вас, но есть чем. Солнце и сейчас еще греет. Воздух всегда весенний и живит самое мертвое дыхание. Откуда-то набираешься радости, как подышишь им. И в голову не идут холодные и мёрзкие99 пространства (можно читать и без двоеточия) с великими скорбями и горестями.
227 Таково здесь! Могу сказать, что люблю Италию необъятно, как вторую родину.
Кончил только что значительную постановку100 и праздную. Почти неделю ничего не делаю. Теперь примусь за русские вещи. Буду ставить «Бабу-ягу» Лядова101. Декорации делает к ней Ларионов, также и костюмы. Это уже вторая русская сказка, первой я сделал «Кикимору», тоже с Ларионовым102. Третьей я думаю сделать «Балладу» Лядова103 же, так что будет порядочная вещь в трех картинах104. Кроме того, я делаю все его маленькие пьески, и они будут танцеваться перед каждой сказкой. После этого буду ставить «Соловья» Стравинского105 с итальянскими футуристами106.
Зверев с Костровским дружат с Нижинскими, разъезжают по городам Америки, почти не останавливаясь107. Я не завидую этому удовольствию. Весной обе половины соединятся, чтобы больше не расставаться108.
Приезжайте в Рим посмотреть на нашу работу. У нас в феврале, верно, будет несколько спектаклей с моими последними балетами109. До свидания.
Ваш Мясин.
А Елена Дамиановна все еще у Вас?
Мой адрес: Roma. Poste restante.
18
4 июля [1917 г.]
Барселона
Милый Анатолий Петрович, давно не писал Вам ни о чем, т. к. все было так неясно в голове моей и не видно вперед110.
Сегодня день особенный. Вся труппа отплыла в Бразилию111, а с нею и Нижинский, предмет тяжелый и сложный112. Они поехали не надолго и должны вернуться в начале октября обратно. Много было страху и разговоров, но все кончилось тем, что все уехали довольные и веселые. Пока я чувствую их отсутствие и не нахожу себе места. К труппе привязанность как к какой-то семье. Я остался, чтобы отдохнуть в Италии и приготовить новый сезон, который в этом году мне, вероятно, придется делать одному113.
Желание Зверева сделать Нижинского, каким он был, когда мог творить114, — привело лишь к новым шантажам, и только. Нижинский — неприемлем, и, мне кажется, совместная работа с ним невозможна. Несмотря на все, у меня к нему большое чувство и любовь как к большому мастеру, которого беспокоят близкие мне мысли.
Ну, а Вы как живете? Хорошо ли идет школа? И так же ли это дело Вас занимает? Я, кажется, писал Вам из Парижа мой адрес: Italie. Viareggio. Poste restante. Кто в школе остался из знакомых мне? Я всем шлю мое приветствие.
В этот раз я Испанию видел мало. Видел несколько замечательных танцоров и собираюсь поучиться115. Увлекаюсь кинематографией.
Снимаю сам116, но пока ничего не выходит. Надеюсь, что кинема мне заменит хореографическую запись117.
Не приедете ли на лето в Италию?
Ваш Мясин
228 Комментарии
Вступительная статья
1 Анатолий Петрович Большаков родился 1 сентября 1870 г. в семье крестьянина деревни Андроновка, Московской губернии, Клинского уезда. В 1883 г. был принят в Училище живописи, ваяния и зодчества (судя по прошениям, хранящимся в архиве училища в РГАЛИ, был освобожден от оплаты). В 1895 г. Большаков окончил училище, а в 1900 г. открыл собственную частную школу, где учились некоторые артисты Большого театра, которых интересовала живопись или скульптура. В их числе был и юный Л. Ф. Мясин, который позднее вспоминал, как много ему дали занятия в школе Большакова.
2 Художественное училище живописи и скульптуры А. П. Большакова работало сначала в одном из домов у Красных ворот, затем в Мясницком проезде, рядом с почтамтом, в доме 4. Занятия велись как в дневное (с 9 утра до 3-х часов дня), так и в вечернее время (с 5 до 8). В школе были разные классы — головной, натурный, портретный и цветов. Вместе с Большаковым работало еще несколько преподавателей. Ученики, в числе которых были и артисты балета, по словам вдовы Большакова Е. С. Авдеевой, передавшей мясинские письма в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина и написавшей о Большакове, ценили своего учителя «за широту кругозора, за подход к учащимся, за поставку модели, за указания и метод» (ГЦТМ РО. Ф. 34. Ед. хр. 19). После революции и в годы Гражданской войны продолжать занятия в школе стало чрезвычайно трудно, невозможно было, в частности, добывать дрова, чтобы отапливать большие классы. А в 1920 г. помещение и вовсе реквизировали, передав его почтамту. Впоследствии Большаков работал в различных учебных заведениях и умер в 1937 г.
3 «Легенда об Иосифе» (La Légende de Joseph) — балет в 1 действии, 2 картинах. Композитор Р. Штраус, хореограф М. М. Фокин, художники Х. М. Серт (декорации) и Л. С. Бакст (костюмы). «Русские балеты Сергея Дягилева» в Парижской опере. Премьера — 14 мая 1914 г.
4 Сезон дягилевской труппы проходил сначала в Париже (с 14 мая по 6 июня 1914 г.), затем в Лондоне (с 8 июня по 25 июля 1914 г.).
5 В письмах Л. Ф. Мясин сначала называет срок предполагаемого возвращения в Москву — начало сентября 1914 г. Но вскоре (в открытке от 9 октября 1914 г.) напишет, что еще временно останется на Западе.
6 Фокин Михаил Михайлович (1880 – 1942) — хореограф. По окончании Петербургского театрального училища в 1898 г. артист, затем также балетмейстер Мариинского театра. Поставил в Петербурге несколько балетов, в том числе «Павильон Армиды», «Египетские ночи» и «Шопениану», которые С. П. Дягилев повез в 1909 г. в Париж, проводя там «Русские сезоны». Затем работал у Дягилева до 1912 г., поставив для его антрепризы еще десять балетов (в том числе такие знаменитые как «Жар-птица» и «Петрушка» И. Ф. Стравинского). В 1912 г. поссорился с Дягилевым. Возвращался к нему на один сезон в 1914 г. Затем работал преимущественно в России, но также в труппах И. Л. Рубинштейн и А. П. Павловой. Россию покинул в 1918 г. и в дальнейшем жил в Европе, а с 1921 г. в США.
7 Нижинский Вацлав Фомич (1889 – 1950) — танцовщик. По окончании Петербургского театрального училища, в 1907 – 1911 гг., артист Мариинского театра. Выступал в «Русских 229 сезонах» затем в труппе С. П. Дягилева с 1909 по 1913 г. М. М. Фокин, работая у С. П. Дягилева, создал балеты, в которых Нижинский прославился («Шехеразада», «Петрушка», «Синий бог», «Призрак розы» и др.). Тем не менее, когда начиная с 1912 г. Нижинский начал ставить собственные балеты и Дягилев явно дал понять, что отдает им предпочтение перед постановками Фокина, тот, обидевшись, ушел в 1912 г. из антрепризы Дягилева. Однако уже в следующем году Дягилев расстался и с Нижинским, уволив его, после того как поступило известие, что во время гастролей в Южной Америке, Нижинский женился на Ромоле де Пульски. Много труда стоило Дягилеву уговорить Фокина снова вернуться к нему для постановки в 1914 г. «Легенды об Иосифе» (которую по первоначальному замыслу должен был ставить и исполнять Нижинский), а примирение Фокина с Нижинским так и не состоялось.
8 В своей книге М. М. Фокин подробно рассказывает, как, по его мнению, «Дягилев сделал все что мог, чтобы испортить балет “Дафнис”», когда ему надо было привлечь всеобщее внимание к первой постановке В. Ф. Нижинского, к балету «Послеполуденный отдых фавна», который был показан в том же сезоне (Фокин М. Против течения. Л., 1981. С. 164 – 165).
9 Против превращения оперы в оперу-балет протестовал сын Н. А. Римского-Корсакова, неодобрение высказали некоторые музыковеды и критики.
10 «Мидас» (Midas) — «мифологическая комедия» в 1 действии. Композитор М. О. Штейнберг, хореограф М. М. Фокин, художник М. В. Добужинский. «Русские балеты Сергея Дягилева» в Парижской опере. Премьера — 2 июня 1914 г.
11 Стравинский Игорь Федорович (1882 – 1971) — композитор, сыгравший огромную роль в развитии русского балета и, в частности, труппы С. П. Дягилева. Л. Ф. Мясину, как и другим хореографам, работавшим у Дягилева (М. М. Фокину, Б. Ф. Нижинской, Дж. Баланчину), довелось много общаться со Стравинским. Мясин поставил там его балет «Пульчинелла» (1920) и создал новую версию «Весны священной» (1920), мечтал о постановке «Свадебки», когда композитор впервые показывал ее Дягилеву, но поставить балет он смог только в 1966 г. В числе работ Мясина в других труппах: «Петрушка» (1958), а на музыку композитора также: «Каприччио» (1948) и номер «Регтайм» (1921).
12 «Свадебка» (Les Noces) — «русские хореографические сцены с пением и музыкой» в 4 картинах. Композитор И. Ф. Стравинский, хореограф Б. Ф. Нижинская, художник Н. С. Гончарова. «Русские балеты Сергея Дягилева» в театре «Гэте-лирик» (Париж). Премьера — 13 июня 1923 г.
13 Григорьев Сергей Леонидович (1883 – 1968) — артист балета. По окончании С.-Петербургского театрального училища в 1900 – 1911 гг. режиссер Мариинского театра, в 1911 – 1929 гг. работал режиссером в труппе С. П. Дягилева, потом в других русских балетных труппах за рубежом.
14 Кан (Kahn) Отто (1867 – 1934) — американский банкир, предприниматель, коллекционер. Был в середине 1910-х гг. был главным спонсором нью-йоркской Метрополитен-опера и председателем ее правления.
15 Карсавина <…> готовилась к бракоразводному процессу <…> и ждала ребенка. — Карсавина Тамара Платоновна (1885 – 1978) — артистка балета. По окончании в 1902 г. Петербургского театрального училища, солистка, затем балерина Мариинского театра. Выступала в труппе С. П. Дягилева, исполняя ведущие роли в балетах М. М. Фокина 230 (1909 – 1914, 1918 – 1929). В 1918 г., выйдя замуж за англичанина Генри Джеймса Брюса, уехала из России. Сыграла немалую роль в развитии балета в Англии, где выступала, преподавала, была с 1955 г. вице-президентом Королевской Академии танца.
Подробно о ее семейных обстоятельствах можно прочитать в книге воспоминаний самого Г. Дж. Брюса (Bruce H. J. Silken Dalliance. L., 1946), также см.: Письма Г. Дж. Брюса к В. Я. Светлову / Пер. с англ. и публ. Е. Я. Суриц; примеч. Н. Л. Дунаевой // Театральное наследие: Публикации, обзоры, библиография. СПб, 2005. Т. 1. С. 354 – 378.
16 Вилла «Бельрив», где С. П. Дягилев и Л. Ф. Мясин жили с весны 1915 г., находилась в местечке Уши (Ouchy), на северном берегу Женевского озера, рядом с Лозанной. Она была окружена парком и имела выход к озеру. Танцовщики, прибывшие из России, Польши и Англии, расселились по близлежащим маленьким пансионам. Дягилев платил им по 400 швейцарских франков, которых как раз хватало на еду и жилье (См. Sokolova L. Dancing for Diaghilev / Ed. by R. Buckle). L., 1960. P. 67, 69). Ежедневные занятия, которые вел Э. Чекетти, проходили в специально снятом помещении, где утром располагался рынок.
17 Бакст (наст. фам. Розенберг) Лев Самойлович (1866 – 1924) — живописец, театральный художник. Входил в объединение «Мир искусства». В антрепризе С. П. Дягилева оформил большое количество спектаклей, сотрудничая с балетмейстерами М. М. Фокиным, В. Ф. Нижинским, Л. Ф. Мясиным («Женщины в хорошем настроении», 1917).
18 Ансерме (Ansermet) Эрнест (1883 – 1969) — швейцарский дирижер. Сотрудничал с труппой «Русские балеты Сергея Дягилева» с 1915 по 1929 г.
19 Гончарова Наталия Сергеевна (1881 – 1962) — живописец, театральный художник. Л. Ф. Мясин восхищался ее искусством, в частности когда она работала с ним над балетом «Литургия» (не доведенным до премьеры).
20 Ларионов Михаил Федорович (1882 – 1964) — живописец, театральный художник. Работал с Л. Ф. Мясиным начиная с первого сочиненного хореографом балета — «Полуночного солнца» в 1915 г. и, несомненно, имел на него большое влияние. Ларионов, по собственному признанию Мясина, не только создавал оформление к его спектаклям, но постоянно беседовал с ним об искусстве, а также иногда принимал участие и непосредственно в создании танцев. Тяготение к постановочной работе привело к тому, что в 1921 г., когда после ухода Мясина из труппы некому оказалось ставить балет С. С. Прокофьева «Шут», Ларионов фактически осуществил его режиссуру, потому что назначенный балетмейстером танцовщик Тадеуш Славинский с ней не справлялся. Многие находили, что хореография Ларионова очень напоминает мясинскую. По-видимому, многому научив Мясина, он и сам не избежал воздействия его постановочной манеры.
21 Дягилев уговорил <…> перебраться в Швейцарию <…> и предоставил им мастерскую. — Н. С. Гончарова и М. Ф. Ларионов долго отказывались приехать в Швейцарию, так как Ларионов еще только приходил в себя после серьезного ранения. Но Дягилев засыпал их телеграммами, и они согласились (см.: Сергей Дягилев и русское искусство: Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: В 2 т. / Сост., авт. вступит. статьи и коммент. И. С. Зильберштейн и В. А. Самков. М., 1982. Т. 2. С. 125).
22 «Послеполуденный отдых фавна» (L’Après-midi d’un Faune) — хореографическая картина в 1 действии на музыку Клода Дебюсси. Хореограф В. Ф. Нижинский. Художник 231 Л. С. Бакст. «Русские балеты Сергея Дягилева». Театр «Шатле» (Париж). Премьера — 29 мая 1912 г.
23 Мясин Л. Моя жизнь в балете / Пер. с англ. М. М. Сингал; предисл. Е. Я. Суриц; коммент. Е. Яковлевой. М., 1997. С. 61.
24 … Дягилев пытался заинтересовать Стравинского… — Известно из его письма Стравинскому от 25 ноября 1914 г. (Стравинский И. Ф. Переписка с русскими корреспондентами, материалы к биографии: В 3 т. / Сост., текстолог. ред. и коммент. В. П. Варунца. М., 2000. Т. 2. С. 297).
25 Зверев Николай Матвеевич (1888 – 1965) — артист балета. Окончил Московское театральное училище, работал в Москве в Оперном театре С. И. Зимина. Затем был в 1912 г. в лондонской труппе Ф. М. Козлова (1912), а с 1913 по 1926 г. солист «Русских балетов Сергея Дягилева», исполнял гротесковые и характерные роли. Позже возобновлял балеты М. М. Фокина в Оперном театра Каунаса (1931 – 1935), работал в труппе «Русские балеты Монте-Карло» (1936 – 1943), был балетмейстером театра «Колон» в Буэнос-Айресе (1957 – 1960), переносил балеты классического наследия и фокинские в Парижскую оперу, театр Ла Скала и др. Был преподавателем и балетмейстером во Франции и других странах.
26 Спесивцева Ольга Александровна (1895 – 1991) — балерина. По окончании С.-Петербургского театрального училища, с 1913 г., в труппе Мариинского театра. С 1915 по 1922 г. и в 1929 г. периодически выступала с труппой Дягилева. В 1920-х гг. и в начале 1930-х выступала в Парижской опере, а также гастролировала по Европе, Америке, Австралии. С 1940 г. страдала психическим заболеванием. Поправившись, с 1967 г. жила в пансионате Толстовского фонда рядом с Нью-Йорком.
27 Маклецова Ксения Петровна (1890 – 1974) — танцовщица Большого театра в 1908 – 1916 гг. Приглашенная в труппу С. П. Дягилева в 1916 г. для участия в американских гастролях, она, однако, в США успеха не имела: ей предпочитали Лидию Лопухову, тоже присоединившуюся к труппе, но прежде выступавшую в США. Маклецова обвиняла Дягилева в том, что он третирует ее, выдвигая Лопухову, и даже подала на него в суд. В результате, как пишет Мясин, ей пришлось, естественно, с труппой Дягилева расстаться.
28 Лопухова Лидия Васильевна (1891 – 1981) — артистка балета. По окончании С.-Петербургского театрального училища, с 1909 г., в труппе Мариинского театра. Участвовала в «Русских сезонах» 1910 г., после чего, с 1911 по 1915 г., гастролировала в США, странах Южной Америки и Италии. С 1915 по 1926 г. (с перерывами) работала в труппе С. П. Дягилева. Обладая редким комедийным дарованием, создала многие образы в балетах Л. Ф. Мясина. Выйдя замуж за известного экономиста Джона Майнарда Кейнса, последние годы жила в Англии.
29 Беседа С. П. Дягилева с американскими журналистами была напечатана в двух газетах 23 января 1916 г. — «Нью-Йорк таймс» и «Бостон пост» (за подписью Олин Даунс — Olin Downes). Статьи почти идентичны. Дягилев вел беседу на французском языке, но она была, естественно, опубликована в переводе на английский язык.
30 Оказавшись в США, Л. Ф. Мясин проявил особый интерес к местной культуре, в частности к американской архитектуре, о чем свидетельствует и данная открытка. Вероятно, некоторую роль в этом сыграло и то, что Дягилев, демонстрируя своему подопечному во время поездок по Италии сокровища итальянской старины, одновременно знакомил его с современными художниками, особенно с футуристами.
31 232 «Шехеразада» (Shéhérazade) — хореографическая драма в 1 действии, 2 картинах на музыку одноименной симфонической поэмы Н. А. Римского-Корсакова. Хореограф М. М. Фокин, художник Л. С. Бакст. «Русские сезоны». Парижская опера. Премьера — 4 июня 1910 г.
32 «Тиль Уленшпигель» (Til Eulenspiegel) — балет в 1 действии на музыку симфонической поэмы «Веселые забавы Тиля Уленшпигеля» Р. Штрауса. Хореограф В. Ф. Нижинский, художник Р. Э. Джонс. «Русские балеты Сергея Дягилева». Манхеттенская опера, Нью-Йорк. Премьера — 23 октября 1916 г. Балет был, кстати, единственным спектаклем, поставленным труппой С. П. Дягилева, которого сам Дягилев так и не увидел, потому что он прошел всего несколько раз в США и больше не исполнялся.
33 Костровский Дмитрий Романович (1885 – ?) — артист кордебалета Большого театра с 1905 г., затем с 1915 г. в труппе Дягилева. Жена В. Ф. Нижинского в своих мемуарах обвиняла Костровского в том, что он оказывал дурное влияние на ее мужа, склоняя его к вегетарианству, внушая мысли, которые мешали его творчеству, а также отдаляя от нее.
34 «Менины» (Las Meninas) — балет в 1 действии на музыку Г. Форе. Хореограф Л. Ф. Мясин, художники К. Сократе (декорации) и Х.-М. Серт (костюмы). «Русские балеты Сергея Дягилева». Театр Эухении-Виктории (Сан-Себастьян). Премьера — 12 августа 1916 г.
35 «Кикимора» — балет в 1 действии на музыку А. К. Лядова. Хореограф Л. Ф. Мясин, художник М. Ф. Ларионов. «Русские балеты Сергея Дягилева». Театр Эухении-Виктории (Сан-Себастьян). Премьера — 25 августа 1916 г.
36 Балетная сцена «Баба-яга» на одноименную музыку А. К. Лядова стала частью балета «Русские сказки».
37 «Русские сказки» (Les Contes Russes) — балет на музыку А. К. Лядова. Хореограф Л. Ф. Мясин, художник М. Ф. Ларионов. «Русские балеты Сергея Дягилева» в театре «Шатле» (Париж). Премьера — 11 мая 1917 г. Состоял из четырех частей («Кикимора» «Бова-королевич и Царевна-лебедь», «Баба-яга», «Коляда»), имел также Пролог и Эпилог. После парижской премьеры 23 декабря 1918 г. в Лондоне была показана расширенная редакция (с добавлением «Плача Царевны-лебедь», «Похорон змея», «Хоровода» и ряда интермедий).
38 «Парад» (Parade) — «реалистический балет» в одном действии. Композитор Э. Сати, хореограф Л. Ф. Мясин, художник П. Пикассо. «Русские балеты Сергея Дягилева» в театре «Шатле» (Париж). Премьера — 18 мая 1917 г. О согласии Пикассо присоединиться к Ж. Кокто и Э. Сати для работы над «Парадом» см.: Cooper D. Picasso Theatre. L., 1968. P. 20. Автор книги ссылается на письмо Кокто и Сати Валентине Гросс.
1
39 Только в Иосифе. — Л. Ф. Мясин имеет ввиду роль Иосифа, которую он исполнял в балете «Легенда об Иосифе» (музыка Р. Штрауса, хореография М. М. Фокина. Премьера в Париже — 14 мая 1914 г.). См. также коммент. 3.
40 … успел и в Иудее быть. — Л. Ф. Мясин так шутит. Он «был в Иудее» только участвуя в спектакле, действие которого там происходит, т. е. в «Легенде об Иосифе».
41 Тарасов Иван Васильевич (1878 – ?) — артист Большого театра с 1899 по 1913 г. С 1912 г. работал сначала в лондонской труппе Ф. М. Козлова, с 1913 г. в труппе С. П. Дягилева.
42 233 Матвеичем Л. Ф. Мясин называет своего друга, танцовщика Николая Матвеевича Зверева, который тоже учился в школе А. П. Большакова. См. коммент. 25.
43 Фокины — балетмейстер Михаил Михайлович Фокин (1880 – 1942) и его жена, артистка балет Вера Петровна Фокина (1886 – 1958), оба работали в труппе С. П. Дягилева. Фокин лично готовил с Л. Ф. Мясиным роль Иосифа в своем спектакле «Легенда об Иосифе».
44 … вылепил что-то из меня. — Когда Л. Ф. Мясин пришел к С. П. Дягилеву, он был еще очень слабым танцовщиком, поэтому М. М. Фокину пришлось немало потрудиться, чтобы выигрышно его показать, по возможности упрощая техническую сторону его партии. В мемуарах Мясин подробно рассказывает о том, как Фокин работал с ним.
45 Вераша — Имеется ввиду В. П. Фокина, которая не только участвовала в большинстве балетов Фокина, но неизменно присутствовала на всех репетициях, и, по-видимому, ее мнение и советы Фокин весьма ценил. Ее же самую в труппе, видимо, недолюбливали. В ряде воспоминаний артисток, работавших с Фокиным, говорится о ее стремлении ставить себя в исключительное положение, изображать из себя светскую даму. Так, оказавшиеся вместе с четой Фокиных на одном пароходе молодые артистки иронизировали по поводу ее манеры появлялась на палубе в шляпке и перчатках, укоряя таким образом тех, кто в купальниках принимал солнечные ванны. Что имеет в виду Мясин, когда пишет, что Фокин «становится законченным и сладеньким» не совсем понятно. Вероятно, стиль Фокина представлялся ему уже тогда несколько устаревшим, недаром он сам вскоре начнет создавать свой собственный хореографический стиль. Но в 1914 г. время для этого еще не пришло. Возможно, Мясин просто повторяет услышанное от Дягилева, который, как вспоминает С. Л. Григорьев говорил: «Сейчас требуется что-то иное: устремление к свободе в хореографии, свежая форма подачи материала, новая музыка» (Григорьев С. Л. Балет Дягилева: 1909 – 1929 / Пер. Н. А. Чистяковой; предисл. и коммент. В. В. Чистяковой. М., 1993. С. 97). Но при все том о многих балетах Фокина, созданных в прошлом (например, о «Петрушке»), Мясин отзывался тогда с восторгом и в своих воспоминаниях, и в письмах. Не исключено, что замечание относится прежде всего к балету «Легенда об Иосифе», в работе над которым сам Мясин участвовал и который остался далеко не лучшей постановкой Фокина.
46 Чекетти (Cecchetti) Энрико (1850 – 1928) — итальянский танцовщик и педагог. Выступал и работал в Петербурге в 1880 – 1890-х гг. (в частности, был первым исполнителем одновременно партий феи Карабос и Голубой птицы в балете «Спящая красавица» в 1890 г.). У него учились многие русские балетные артистки. Затем работал педагогом в труппе С. П. Дягилева, и ему было поручено заниматься с Мясиным. Он даже сопровождал Дягилева и Мясина во время их поездок по Италии, чтобы не прерывать занятий.
47 … в Москве я почти не работал, всё гопаки отплясывал да русскую. — В Большом театре, где Л. Ф. Мясин работал в 1912 – 1913 гг., его занимали почти исключительно в танцах кордебалета, преимущественно характерных. Наибольший успех в Москве он имел в драматических ролях в спектаклях Малого театра.
48 Кремнев Николай Владимирович (1885 – 1944) — артист балета Мариинского театра с 1903 по 1911 г., который с 1909 г. участвовал в «Русских сезонах» С. П. Дягилева, затем 234 (с 1911 г.) в его антрепризе, где выступал во многих балетах Мясина («Волшебная лавка» и др.). Также исполнял обязанности помощника режиссера, а во время вторых американских гастролей в 1916 г. заменил С. Л. Григорьева в роли режиссера — заведующего труппой. Его женой была Лидия Соколова.
49 … англичанка его… — Речь идет о Лидии Соколовой, чьи настоящие имя и фамилия был Хильда Маннингс (Mannings, 1896 – 1874), одной из лучших характерных танцовщиц труппы С. П. Дягилева, которая выступала и во многих балетах Л. Ф. Мясина (в его редакции «Весны священной», в «Волшебной лавке» и др.). Она была женой Н. В. Кремнева.
50 Пока Фокин у нас, Нижинского, я полагаю, не будет. — В. Ф. Нижинский в 1914 г. действительно не выступал с труппой С. П. Дягилева.
2
51 В поездке по Италии, которую С. П. Дягилев предпринял специально, чтобы показать Л. Ф. Мясину музеи и другие достопримечательности, приняли участие Э. Чекетти и его жена Дж. Чекетти. Мясин в своих письмах А. П. Большакову (как и в мемуарах) неизменно старается строить рассказ таким образом, чтобы скрыть истинный характер своих отношений с Дягилевым, отсюда и формулировка «с друзьями».
52 В мемуарах Л. Ф. Мясин, рассказывая о той же поездке, упоминает Чимабуе, П. Лорензетти, Дуччио, Фра Анжелико, Фра Филиппо Липпи и Симоне Мартини. Вероятно, именно кого-то из них он и имеет в виду в данном случае, когда пишет «певцы Мадонны и тосканских закатов».
53 Содома (Sodoma) (наст. Джованни Антонио Баззи) (ок. 1477 – 1549) — итальянский художник.
54 Синьорелли (Signorelli) Лука (1445 – 1523) — итальянский художник.
3
55 … пока не настанет другое время. — По-видимому, Л. Ф. Мясин имеет в виду окончание войны.
4
56 Веду бродячий образ жизни… — В конце 1914 и начале 1915 г. Л. Ф. Мясин и С. П. Дягилев жили преимущественно в Италии, с короткими заездами в Швейцарию.
5
57 Коля — неясно, идет ли речь о Николае Кремневе или Николае Звереве. Скорее о Кремневе, так как Зверева Л. Ф. Мясин в письмах обычно называл Матвеичем.
58 Христиания — так называлась с 1624 по 1924 г. столица Норвегии, Осло.
6
59 Памятный день <…> казалось, все будет кончено. — Предположительно речь идет о землетрясении, происшедшем 13 января 1915 г. в центральной части Апеннинского хребта около Абруццо.
60 Елена Егоровна — неустановленное лицо.
235 7
61 Я буду теперь жить в Швейцарии… — В 1915 г. С. П. Дягилев и Л. Ф. Мясин жили преимущественно в Швейцарии, в местечке Уши. (См. коммент. 16). Поселившись там, Дягилев начал собирать вокруг себя людей, с помощью которых мог бы возродить свою труппу, фактически прекратившую существование с началом Первой мировой войны. Он был в постоянном контакте с И. Ф. Стравинским, который тоже жил в Швейцарии (Шато д’Э) и работал над «Свадебкой». Дягилев попытался заинтересовать его «Литургией». Тогда же С. С. Прокофьев, встречавшийся с Дягилевым в Риме, начал сочинять «Шута» (после того как Дягилев отверг его проект балета «Ала и Лоллий»). Таким образом, Дягилев уже готовил репертуар для грядущих сезонов своей будущей труппы. Одновременно С. Л. Григорьев по его указанию начал формировать новую труппу. Артисты съезжались в Уши, где находились также Л. С. Бакст и дирижер Э. Ансерме, Н. С. Гончарова с М. Ф. Ларионовым.
62 … работа вкусная. — Имеются в виду те несколько балетов, которые Мясин начал ставить в Швейцарии: «Литургия», которая не была закончена, и «Полуночное солнце» на музыку Н. А. Римского-Корсакова из оперы «Снегурочка». Кроме того, как мы увидим из письма начала февраля 1916 г., он рассчитывал и на постановку «Свадебки» И. Ф. Стравинского.
8
63 «Снегурка» — так назвал Л. Ф. Мясин свой балет, который в окончательном виде получил название «Полуночное солнце» (встречается также перевод «Ночное солнце» — «Le Soleil de nuit»). Первая постановка Л. Ф. Мясина, увидевшая свет рампы. Была использована музыка из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка». Премьера состоялась 12 декабря 1915 г. в Большом театре в Женеве. Декорации и костюмы М. Ф. Ларионова.
64 Романович — Дмитрий Романович Костровский. См. коммент. 33.
65 Все прошлое лето я провел с Гончаровой и с Ларионовым за новой вещью… — Л. Ф. Мясин имеет в виду балет «Литургия», над которым он работал в конце 1914-го и в 1915 г. Художником была Н. С. Гончарова. Балет, где музыкой должны были служить церковные песнопения, остался незавершенным, но Гончарова создала большое число эскизов персонажей. Она сама много позднее подробно рассказывала о балете (Русские новости. Париж, 1953. № 427. С. 6).
66 Музыка — хоры… — Предполагалось выписать из Киева церковные песнопения, но для военного времени задача оказалась невыполнимой.
67 … у меня есть уже другая работа — балет «Свадебка»… — И. Ф. Стравинский писал «Свадебку», и С. П. Дягилев, Л. Ф. Мясин и некоторые близкие им люди (например, Мися Серт) успели часть музыки услышать. Однако, во-первых, работа композитора над сочинением затянулась, во-вторых, Дягилев, по-видимому, в то время еще не был уверен в способности Мясина поставить столь сложное произведение. Так или иначе, постановка «Свадебки» была осуществлена только в 1923 г. и не Мясиным, покинувшим труппу Дягилева, а Б. Ф. Нижинской. «Свадебка» стала лучшей ее работой и одним из самых знаменитых спектаклей дягилевской антрепризы.
68 «Петрушка» и «Фавн» временно перешли ко мне. — Л. Ф. Мясин исполнял во время гастролей по США многие ведущие партии, в том числе и те, которые раньше танцевал 236 В. Ф. Нижинский. В их числе Петрушка в одноименном балете М. М. Фокина и Фавн в балете самого Нижинского «Послеполуденный отдых фавна».
69 «Паяцы» — опера Р. Леонкавалло, где в основе сюжета лежит убийство актером странствующей труппы неверной жены и ее любовника. Зрителям, хорошо знакомым с оперой, по-видимому, страдания ревнивого Паяца и совершенный им поступок напоминали страдания влюбленного и отвергнутого Балериной Петрушки, его смерть от руки Арапа.
70 Павлова только что кончила свой оперный и балетный сезон. — Павлова Анна Павловна (Матвеевна) (1881 – 1931) — знаменитая русская балерина. Создала свою труппу в 1910 г. в Англии и ездила с ней по миру, показывая сокращенные версии балетов, шедших в Мариинском театре, а также новые балеты, которые сочинил для ее труппы М. М. Фокин.
Труппа Павловой в годы Первой мировой войны работала преимущественно в Америке. Ее импресарио был М. Рабинов, с которым Павлова заключила еще в 1911 г. (когда работала в США с М. М. Мордкиным) контракт на пять лет. В 1915 г. Рабинов предложил Павловой проект, связанный с Оперной труппой Бостона, которая испытывала серьезные трудности. Проект, носивший название «Труппа Большой бостонской оперы совместно с труппой М-ль Анной Павловой и ее “Русским балетом”» (Boston Grand Opera Company in connection with Mlle Anna Pavlova and her «Ballet Russe»), предполагал длительные совместные гастрольные выступления, во время которых должны были быть показаны одновременно бостонские оперы и балеты из репертуара труппы Павловой. С октября 1915 до весны 1916 г. гастроли прошли по многим городам Северной Америки. Подробный отчет о них можно найти в книге Кейта Мони (Money K. Anna Pavlova. Her Life and Art. N. Y., 1982. P. 220 – 229). Одна из задач, которую ставила себе Павлова, заключалась, как она сообщила в одном из интервью, в том, чтобы ознакомить американцев с русским искусством, в том числе и с оперой. Тем не менее, репертуар во время гастролей состоял все же главным образом из спектаклей бостонского театра. Были показаны «Немая из Портичи» («Фенелла») Д. Обера, «Аида», «Кармен» и др. В операх Павлова ставила и исполняла танцы.
71 … потеряла бездну своих денег. — Действительно, совместные гастроли оперной и балетной трупп Макса Рабинова и Анны Павловой не имели ожидаемого успеха. Труппа начала выступать 3 октября 1915 г. и имела длительный сезон в Бостоне, затем побывала в других городах и к новому 1916 г. приехала в Нью-Йорк. Вскоре Рабинов вынужден был объявить себя банкротом. Павлова, тем не менее, чувствуя себя обязанной оперным артистам, которые ей доверились, решила не отказываться от задуманного и взяла на себя всю финансовую ответственность. Спектакли, таким образом, еще некоторое время продолжались. К концу гастролей оперно-балетный коллектив Павловой находился в Нью-Йорке, где проходили гастроли труппы С. П. Дягилева. Павлова даже присутствовала на одной из ее генеральных репетиций.
72 Теперь она отправилась в турне здесь уже по Северной Америке. — Балет Анны Павловой гастролировал по США и после того, как совместные гастроли с бостонской оперой завершились, принеся серьезные убытки. Л. Ф. Мясин, повествуя об этих злоключениях, явно злорадствует. Сказывается, конечно, соперничество между двумя самыми известными русскими балетными коллективами. Может быть, свою роль сыграли и какие-то высказывания С. П. Дягилева, которому Мясин еще слепо доверял. Так или иначе, он к Павловой не совсем справедлив.
237 После необычного оперно-балетного сезона Павлова тут же в США сначала выступила со своими артистами в южных штатах, затем в 1916 г. вернулась в Нью-Йорк и показала «Спящую красавицу», сокращенную (до 48 минут), в редакции И. Н. Хлюстина, а не полную петербургскую редакцию. Но все же американский зритель впервые ознакомился благодаря ее спектаклю с балетом П. И. Чайковского.
Противостояние Павловой и Дягилева объясняется, конечно, не только тем, что их труппы были в данном случае конкурентами (оба коллектива одновременно гастролировали по Америке). Значительно важнее то, что они исповедовали разное отношение к искусству балета и путям его развития. Павлова придерживалась исключительно классического танца и охотнее всего выступала в отдельных танцевальных миниатюрах, с хореографической точки зрения подчас мало примечательных, которые она преображала силой своего таланта, превращая в маленькие шедевры, иногда даже ставила танцы и сама для себя. Дягилев видел будущее балета в тесном контакте с композиторами, преимущественно новой школы, с современными художниками, и приветствовал новации в самой хореографии, быстро двигаясь вперед и так же быстро оставляя позади бывших коллег. Так он вначале поддерживал эксперименты М. М. Фокина, но уже вскоре увлекся исканиями В. Ф. Нижинского, затем Л. Ф. Мясина и других хореографов и художников 1920-х гг. Павлову между тем музыка Стравинского отпугнула сразу, и уже в его «Жар-птице» в 1911 г. она отказалась танцевать. Да и вообще после первого сезона 1909 г. она никогда в спектаклях, созданных у Дягилева, не участвовала. Общего языка два гения — Павлова и Дягилев — так никогда и не смогли найти. Но у Павловой была своя миссия — хранить традиции русского балетного искусства и знакомить с ним людей во всех странах мира.
73 … мы, кажется, пробудем здесь и осень и зиму. — Труппа С. П. Дягилева гастролировала по США на протяжении четырех месяцев, с января по апрель 1916 г., побывав примерно в 20 городах, и выехала в Европу 5 мая 1916 г.
74 Дмитрий Романович — Костровский. См. коммент. 33.
75 Москвички очень милы… — Когда в 1915 г. Дягилев, находясь в Швейцарии, набирал новую труппу, в числе тех, кого С. Л. Григорьев ангажировал и направил к нему из России, были и москвичи, главным образом обучавшиеся в частных школах. В их числе, например, Валентина Качуба, сестры Вера и Лидия Немчиновы, сестры Сумароковы. Возможно, были и другие, чьи биографии нам неизвестны. Кого именно имеет в виду Л. Ф. Мясин неясно.
76 Елена Дамиановна — неустановленное лицо.
77 По-видимому, имеется в виду художник Константин Андреевич Сомов (1869 – 1939).
78 Мария Дамиановна — неустановленное лицо.
79 Авдеева Елизавета Степановна — жена Анатолия Петровича Большакова.
9
80 … Это лучше всей скульптуры, которой испорчены все дома Европы. — На открытке изображено новое здание банка (Dime Saving Bank) в Детройте. См. коммент. 30.
10
81 Открытка с изображением нимф из балета «Послеполуденный отдых фавна» и надписью «Ballets Russes».
82 Он всецело под влиянием своей жены. — Жена В. Ф. Нижинского Ромола де Пульски (de Pulszki, 1891 – 1978) была настроена в отношении С. П. Дягилева очень враждебно, особенно 238 после того, как тот уволил Нижинского в 1913 г., не желая иметь с ним дела после его женитьбы. Подлинное примирение не состоялось, даже когда Дягилев предпринял столько усилий, чтобы освободить интернированного в Венгрии артиста. Ромола все время предъявляла Дягилеву материальные претензии, ссылаясь на то, что Нижинскому не платили жалованья в те годы, когда Дягилев его содержал фактически как члена семьи. Ей постоянно казалось, что Дягилев замышляет что-то дурное против Нижинского, и она соотвественно настраивала мужа. Нижинский между тем находился под большим влиянием жены, доверял ей, что приводило ко многим осложнениям, которые постепенно только нарастали, по мере того как психическое состояние танцовщика ухудшалось. Именно это и имеет в виду Мясин, когда пишет, что влияние приносит «мало хорошего».
11
83 Прадо — художественный музей в Мадриде, обладающий, в частности, всемирно известной коллекцией испанской живописи.
84 Эль Греко (El Greco; наст. фам. Теотокопулос, 1541 – 1614) — испанский живописец.
85 … кажется, едем в Лиссабон… — В этот раз дягилевская труппа в Лиссабон не поехала.
86 Король и королева бывают почти каждый спектакль. — Королем Испании был Альфонсо XIII (1886 – 1941), королевой — Эна (Виктория Эугения Юлия, 1887 – 1969). Они оба оказывали особое покровительство труппе «Русские балеты Сергея Дягилева» и без их помощи С. П. Дягилеву в годы Первой мировой войны было бы, вероятно, нелегко сохранить коллектив.
12
87 Эскориал (Эскуриал) — монастырь-дворец в Испании, близ Мадрида, резиденция испанских королей. Построен во второй половине XVI в.
Дата открытки неясна, так как почтовая печать очень нечеткая — можно прочитать и как JUNIO (июнь), и как JULIO (июль), но больше похоже на июль. Отпуск у труппы Дягилева длился почти весь июнь 1916 г. (с 9 июня, когда был последний спектакль в Мадриде) и, вероятно, большую часть июля (первый спектакль в Сен-Себастьяне состоялся 19 августа и включал премьеры «Менин» и «Кикиморы»). Когда Мясин начал ставить балеты, нам неизвестно. Но, вероятно, в конце июля. Был ли он в Эскориале 13 июня, т. е. в начале отпуска, или 13 июля, т. е. ближе к концу отпуска, выяснить не удалось.
13
88 Альгамбра — мавританский дворец и сады в Гранаде (Испания). Дата открытки тоже неясна из-за нечеткой почтовой печати. Возможен как июнь, так и июль.
89 Площадь Св. Марка — главная историческая достопримечательность Венеции, где расположены базилика Св. Марка (XI в.), Герцогский дворец (Дворец дожей) (XVI в.), Часовая башня и многие другие архитектурные памятники.
14
90 Язвинский Иван Иванович (1891 – ?) — артист балета. По окончании Московского театрального училища, с 1910 по 1915 г. артист балета Большого театра, с осени 1915 г. 239 в труппе С. П. Дягилева. С 1930-х гг. выступал со многими европейскими труппами, в том числе в «Русских балетах Монте-Карло» (1932 – 1937) и в «Русском балете Монте-Карло» (1938 – 1944), где был также режиссером. Создал в 1936 г. роль Мандарина в балете М. М. Фокина «Испытание любви» (на музыку, приписываемую В. А. Моцарту, что многими музыковедами оспаривается). В 1960-х преподавал в Нью-Йорке.
91 В августе будет только несколько спектаклей здесь… — В Сен-Себастьяне 25 августа 1916 г. были показаны два балета Л. Ф. Мясина — «Менины», которые были созданы специально в качестве подарка королю Альфонсо XIII, который все время посещал спектакли дягилевской труппы и оказывал артистам всяческие знаки внимания. Небольшой балет (в нем участвовали всего две пары — фрейлины и их кавалеры, тайно встречающиеся в саду, и карлик, подглядывающий за ними) был основан на одноименной картине Веласкеса и поставлен на музыку «Паваны» Г. Форе. Вместе с ним С. П. Дягилев захотел показать королю еще и новый русский балет. Им стала «Кикимора» (на музыку А. К. Лядова), впоследствии вошедшая в спектакль «Русские сказки». В ней главными действующими лицами были ведьма Кикимора (в балете, вопреки сказке, женский персонаж) и ее Кот, которого она в припадке ярости убивала.
92 В августе будет только несколько спектаклей здесь и в Бильбао. — В Бильбао было дано 28 августа 1916 г. большое гала-представление для короля, инспектировавшего там испанский флот.
15
93 … семьи наши разделились на некоторое время… — 8 сентября 1916 г. большая часть труппы С. П. Дягилева отправилась на вторые гастроли по США. На сей раз Дягилев остался в Европе и с ним Л. Ф. Мясин, С. Л. Григорьев и 16 танцовщиков, которые должны были готовить новый репертуар. Открылись гастроли под руководством В. Ф. Нижинского с режиссером Н. В. Кремневым 9 октября 1916 г. в Нью-Йорке и продолжались до 24 февраля 1917 г. Затем труппа побывала во многих штатах США, включая Юг страны.
16
94 «Le donne di buon umore» («Женщины в хорошем настроении») — балет по пьесе К. Гольдони, над которым Мясин работал в конце 1916 г. с той группой артистов, которые не отправились во вторую американскую поездку. Его премьера состоялась в Риме в театре «Костанци» по возвращении труппы из США 12 апреля 1917 г. Была использована музыка Д. Скарлатти (22 сонаты для клавира в аранжировке и инструментовке В. Томмазини). Художник Л. С. Бакст.
95 Пикассо (Picasso; наст. фам. Руис-и-Пикассо) Пабло (1881 – 1973) — испанский художник. Познакомившись с Пикассо в 1916 г. (или в начале 1917 г.), Л. Ф. Мясин работал с ним сначала над балетом «Парад» (1917), а позднее также над балетами «Треуголка» (1919), «Пульчинелла» (1921) и «Меркурий» (1924).
96 Балла (Balla) Джакомо (1871 – 1958) — итальянский художник-футурист. Он оформил в труппе С. П. Дягилева «Фейерверк» (представление, во время которого исполнялась музыка И. Ф. Стравинского и было показано оформление Балла, без хореографии), но Л. Ф. Мясин не создал с ним балетов.
97 240 Де Перо — имеется в виду итальянский художник-футурист Фортунато Деперо (Depero) (1892 – 1960). С. П. Дягилев заказал ему сделать коня, на котором в балете «Русские сказки» приезжал Бова-королевич (Л. Ф. Мясин), но опыт оказался неудачным. То, что изобразил Деперо (странное существо, похожее на бегемота), до такой степени возмутило Дягилева, что, как рассказывает Мясин в своих мемуарах, тот прямо в мастерской художника в ярости разбил скульптуру тростью.
98 … с Гончаровой и Ларионовым… — Находясь в Риме в 1916 г., Мясин работал с М. Ф. Ларионовым над балетом «Русские сказки».
17
99 … мёрзкие… — игра слов: обыгрываются слова «мёрзлый» и «мерзкий».
100 Кончил только что значительную постановку… — Речь идет, по-видимому, о балете «Женщины в хорошем настроении». См. коммент. 94.
101 Буду ставить «Бабу ягу» Лядова. — См. коммент. 36.
102 … первой я сделал «Кикимору», тоже с Ларионовым. — См. коммент. 35.
103 … сделать «Балладу» Лядова… — Неясно, какое произведение А. К. Лядова Л. Ф. Мясин называет «Балладой» и действительно ли он работал именно с этой музыкой, так как в его балете «Русские сказки» было использовано много музыки Лядова, но указаны другие названия.
104 … порядочная вещь в трех картинах. — Речь идет о балете «Русские сказки». См. коммент. 37.
105 … буду ставить «Соловья»… — Балет под названием «Песнь соловья» (Le Chant du rossignol) Л. Ф. Мясин поставил только 2 февраля 1920 г., показав премьеру в Париже. Музыку к нему И. Ф. Стравинский создал на основе музыки 2 и 3-го действий своей оперы «Соловей», сохранив сюжет той же сказки Х. К. Андерсена. Оформление спектакля 1920 г. принадлежало А. Матиссу.
106 … с итальянскими футуристами. — Находясь в Италии в начале Первой мировой войны, С. П. Дягилев познакомился со многими местными художниками-футуристами и заинтересовался их экспериментами. По приглашению Филиппо Маринетти, он вместе с Мясиным бывал на представлениях, где демонстрировались особые шумовые инструменты. Тогда строились планы сотрудничества и с Ф. Деперо и с Дж. Балла, но из них осуществлен был только один — постановка «Фейерверка» И. Ф. Стравинского в сценическом оформлении Балла. Мясин также намеревался работать с футуристами и находился под несомненным их влиянием (что проявилось, например, при оценке им новой американской архитектуры и сравнении ее с городской архитектурой Европы в открытке от 10 февраля 1916 г.).
107 … разъезжают по городам Америки, почти не останавливаясь. — Во время вторых американских гастролей под руководством В. Ф. Нижинского, которые продолжались более четырех месяцев (с 16 октября 1916 по 24 февраля 1917 г.) труппа часто останавливалась в маленьких провинциальных городах всего на один-два дня. См. коммент. 94.
108 Весной обе половины соединятся, чтобы больше не расставаться. — Закончив гастроли по США 24 февраля 1917 г., труппа вернулась в Европу в марте и в апреле стала выступать уже вместе с теми артистами, которые оставались в Европе.
109 … несколько спектаклей с моими последними балетами. — Новый сезон труппы Дягилева после ее возвращения из США в конце февраля 1917 г. продлился с 9 по 30 апреля 241 1917 г. в Италии: в Риме, Неаполе и Флоренции. В его рамках 12 апреля были показаны «Женщины в хорошем настроении» Л. Ф. Мясина и «Фейерверк» со сценографией Д. Балла. Также из мясинских балетов шли «Менины» и «Полуночное солнце».
18
110 … все было так неясно в голове моей и не видно вперед. — Действительно, последние недели перед поездкой труппы в Южную Америку были очень беспокойными, главным образом из-за сложностей с пароходами, туда направлявшимися, но также из-за поведения В. Ф. Нижинского. См. коммент. 112.
111 … труппа отплыла в Бразилию… — У С. П. Дягилева был подписан контракт о выступлении его труппы в Южной Америке летом и осенью 1917 г., и первым местом гастролей предполагался Рио-де-Жанейро (Бразилия). Однако туда отправлялся английский пароход (Англия была воюющей страной), и его могли атаковать немецкие подводные лодки. Поэтому Дягилев предпочел отправить труппу на пароходе, принадлежащем нейтральной стране, который шел в Буэнос-Айрес (Аргентина), что означало изменения в графике гастролей.
112 … Нижинский, предмет тяжелый и сложный. — О проблемах, которые В. Ф. Нижинский создал Дягилеву в момент, когда готовились гастроли в Южную Америку в 1917 г. см. вступ. статью.
113 … сезон, который мне, вероятно, придется делать одному. — Действительно, к лету 1917 г., когда Л. Ф. Мясин остался в Европе с С. П. Дягилевым, а возглавляемая В. Ф. Нижинским труппа отбыла в США, и Дягилеву, и всем вокруг стало ясно, что на Нижинского как постановщика уже рассчитывать не приходится. Мясин начал тогда работать сразу над несколькими балетами.
114 … каким он был, когда мог творить… — В труппе С. П. Дягилева уже в 1916 г. начали понимать, что странное подчас поведение В. Ф. Нижинского начинает напоминать душевную болезнь, а не только капризы избалованного премьера. На гастролях в Южной Америке постоянно возникали новые инциденты. Нижинский то отказывался выступать, то требовал замены спектакля, когда все декорации были уже установлены и публика собралась. Наконец, станцевав свой последний спектакль с труппой Дягилева в Буэнос-Айресе 26 сентября 1917 г., Нижинский фактически расстался с театром, хотя сохранял потребность общаться с людьми с помощью танца. Так, живя в дальнейшем с семьей на швейцарском курорте, он однажды выступил перед местной публикой с импровизированными танцами, изображающими ужасы войны. Выступление больного человека, стремившегося рассказать доступными ему средствами о том, что его мучило, стало последним. В конце концов к 1919 г. болезнь Нижинского приобрела столь очевидный характер, что пришлось его поместить в клинику для душевнобольных.
115 … Испанию видел мало. Видел несколько замечательных танцоров и собираюсь поучиться. — Во время своих поездок по Испании в 1916 г. с С. П. Дягилевым и испанским композитором М. де Фалья Л. Ф. Мясин видел много выступлений испанских танцовщиков и с увлечением учился их искусству. Особенно важной оказалась встреча с Феликсом (Фернандесом Гарсия — Fernandez Garcia, ? – 1941), с которым Мясин работал над испанским балетом «Треуголка», показанным в 1919 г. Феликс научил его многим испанским танцам, помог усвоить сам стиль испанского танца.
116 242 Снимаю сам… — Интерес к кино как средству сохранения балетного спектакля зародился у Л. Ф. Мясина, по-видимому, именно в то время. В дальнейшем он стал снимать на кинокамеру свои балеты, иногда на репетициях, иногда в том виде, как они шли на сцене. В его архиве, который находится сейчас в отделе танца (Dance division) Публичной библиотеки в Нью-Йорке, хранится большое число таких кинозаписей.
117 … хореографическую запись. — Л. Ф. Мясин издавна интересовался записью танца, начав осваивать ее еще в годы обучения в Московском театральном училище. Во всяком случае, М. Н. Горшкова, преподававшая в училище запись танца по системе В. И. Степанова, в своих неопубликованных мемуарах назвала его своим лучшим учеником по этому предмету (см. Горшкова М. Н. Записки о моей жизни. Рукопись. — Научная библиотека СТД. Собрание театральных мемуаров. Л. 149).
243 «С
ОСТРОВАМИ У МЕНЯ МНОГО ХЛОПОТ»
Л. Ф. Мясин. Письма брату (1925 – 1937)
Публикация, вступительная статья
и комментарии Е. Я. Суриц
В настоящем издании публикуются хранящиеся в московских архивах письма Леонида Федоровича Мясина, которые он писал, находясь за границей. В ГЦТМ им. А. А. Бахрушина хранятся ранние письма (1914 – 1917 гг.) А. П. Большакову, учителю живописи Л. Ф. Мясина, в РГАЛИ более поздние, написанные в 1925 – 1937 гг. брату Михаилу Федоровичу Мясину.
После писем, адресованных Большакову, прошло около десяти лет и сам Леонид Мясин сильно изменился. Большакову писал совсем юный Мясин (ему в начале 1914 г. еще нет и 19 лет). Увезенный в Европу С. П. Дягилевым1, он впервые оказался вне семьи, познакомился со многими знаменитыми артистами его труппы, с М. Ф. Ларионовым и Н. С. Гончаровой, изъездил вдоль и поперек Италию, где Дягилев показал ему все главные достопримечательности. Мясин затем увидел Америку, что тоже было увлекательно и значительно. И адресат у него в то время был интересный — А. П. Большаков, человек, с которым хотелось говорить прежде всего об искусстве. Первые сохранившиеся письма брату написаны в 1925 г., когда Мясин уже не только известнейший танцовщик, но еще и балетмейстер, создавший многие получившие мировое признание балеты, такие как «Парад» (1917), «Треуголка» (1919), «Пульчинелла» (1920). После «Прекрасного Дуная» (1924) он прославился как автор балетных комедий. А дальше, в годы, когда пишутся письма, поставит и «Стальной скок» (1927) и «Оду» (1928) и на протяжении 1933 – 1936 гг. свои первые симфонические балеты. Да и сами письма, написанные брату, совсем иные. Они адресованы человеку, которому интересны не столько замыслы художника и его творческие планы, сколько каждодневная жизнь, его окружение, его здоровье и т. п. Поэтому Мясин значительно меньше пишет о своих балетах, чем о быте. Пишет как о своих увлечениях, так и о переживаемых им трудностях, пишет о людях, с которыми жизнь его сводит, вспоминает иногда и тех, с кем сталкивался в прошлом. Также дает оценку событиям, совершающимся на его глазах. Его письма — документ, важный для понимания его творчества и личности.
Михаил Федорович Мясин (1881 – 1962) не имел отношения к театру, он окончил Московское инженерное училище, служил в армии в Русско-японскую войну, был ранен и удостоен медали Св. Владимира, в 1913 году назначен начальником военной радиостанции в Финляндии, затем вышел на пенсию. Но его дети унаследовали семейные традиции и не были чужды искусству. Старшая дочь Елена — училась танцевать, и в письмах много об этом говорится. Младшая Евгения — занималась музыкой. Меньше нам известно о сыне — Константине. Но в письмах он тоже часто упоминается.
244 Из переписки Леонида Мясина с братом сохранилось 22 его письма, написанные в период с 1925 по 1937 гг. Наибольшее число писем относится к 1920-м гг., и они более подробны, писем же 1930-х гг. мало.
Во второй половине 1920-х г. в жизни Мясина произошло много событий. В начале 1925 гг. он вернулся к С. П. Дягилеву, от которого в 1921 г. вынужден был уйти, когда женился на Вере Савиной2. В те годы, что Мясин не работал у Дягилева, он постоянно ставил танцы в мюзик-холлах, в частности у Чарлза Блейка Кокрана3 в Лондоне, и стал весьма знаменит как хореограф эстрадного жанра. Сотрудничать с Кокраном он продолжает и после возвращения к Дягилеву. О своих достижениях на этом поприще пишет брату едва ли не больше, чем о балете. Например, в письме от 25 июня 1925 года, где идет речь о газетных отзывах на его танцы в ревю «Продолжаем танцевать» и об успехе самого ревю.
Кокран ставил роскошные ревю, среди других номеров там всегда оказывался широко представлен танец. Не только отдельные миниатюры, но и небольшие балеты: например, в конце 1924 г. здесь была показана сокращенная версия «Коппелии». А в 1925 г. Кокран пригласил Мясина, чтобы тот создал несколько небольших балетов для двух его ревю. В ревю «Продолжаем танцевать» он работал с драматургом и композитором Ноэлом Коуардом4 и сочинил балеты «Крещендо», «Мот» и «Венгерская свадьба». В «Крещендо», как объяснял Мясин в интервью газете «Морнинг пост», он пытался продемонстрировать, как старинные формы танца уступают место тому, что обрело современное звучание5. Современность была представлена Кинозвездой, Маникюршей, Манекенщицей и комическим джазовым трио. В программе балета пояснялось: «Безмятежное спокойствие “сильфид” грубо разрушается под воздействием настоятельных требований современности — сегодняшние символы стирают смутные воспоминания вчерашнего дня»6. «Мот» — балет, основанный на серии гравюр У. Хогарта «Карьера мота». Мясин вывел на сцену изображенных Хогартом персонажей, представив их, вслед за Хогартом, в гротескном виде: как тучных обывателей и карикатурных музыкантов, так и несчастных обитателей Бедлама. «Венгерская свадьба» со своими веселыми песнями и танцами завершала представление.
Главными исполнителями во всех трех балетах были популярная эстрадная актриса Элис Делайзия7, сам Мясин и его тогдашняя подруга Элеонора Марра8.
Для ревю «Все еще танцуя», премьера которого состоялась в ноябре 1925 г., были поставлены «Помпеи à la Мясин» и «Пижама-джаз». Первый из балетов (с музыкой Луи Ганна9) был своего рода фантазией, где на фоне помпейских фресок являлись Купидон, Ариадна, а также Китайский гость, которого исполнял сам Мясин, отчасти повторяя своего Китайского фокусника из «Парада»10. Танцевальная сцена «Пижама-джаз», служившая финалом ревю, исполнялась всей труппой, одетой в модные пижамы, которые предоставила в качестве рекламы фирма «Селфридж».
Третье ревю, поставленное Мясиным в следующем году, называлось «Ревю Кокрана 1926». В него вошли поставленная Мясиным раньше (для «Парижских вечеров графа Этьена де Бомона»11) «Жига», которую он исполнял теперь с Верой Немчиновой и Николаем Зверевым, а также комический балет «Чан» на музыку Й. Гайдна. Он был основан на одной из новелл «Декамерона» Дж. Боккаччо12 245 (рассказ о жене, которая при появлении мужа прячет своего любовника в чане для вина). Тогда же была поставлена и «Карманьола».
Постановки Мясина у Кокрана имели большой успех. Мясин пишет об этом в письме от 25 июня 1925 г., когда участвует в первой программе. К ревю, поставленным у Кокрана, он возвращается и в более поздних письмах.
Чрезвычайно важным для Мясина было его возвращение в 1925 г. в труппу Дягилева. Прошло всего четыре года, как он ушел, но многое в труппе изменилось, и теперь он чувствовал себя здесь не совсем уютно. Из знакомых ему артистов мало кто остался, но даже они относились к нему с предубеждением из-за того, что он бросил Савину. Она же еще до него вернулась в труппу Дягилева, и теперь Мясину было не слишком приятно с ней общаться. Что же касается самого Дягилева, то он не случайно пошел на примирение только в 1925 г., а не раньше, когда Мясин уже предпринимал попытки восстановить отношения. У Дягилева появился теперь молодой Борис Кохно13, который не просто стал его секретарем, но в качестве либреттиста уже не раз увлекал хозяина новой идеей. Именно Кохно решал многое в труппе, а от Мясина ничего не зависело, он только выполнял поставленные задачи. Кроме того, незадолго до возвращения Мясина в труппе появился и другой балетмейстер: пришедший сюда в 1924 г. Жорж Баланчин14 успешно выполнял предложенные ему Дягилевым мелкие постановки — пока преимущественно танцы в операх. Дягилеву, правда, еще не было ясно, на что тот в действительности способен, можно ли ему поручить постановку целого балета. Иначе он, быть может, и не стал бы призывать Мясина.
В первую очередь Дягилев заказал Мясину поставить балет «Зефир и Флора»15, который был показан в апреле 1925 г. В письмах брату Мясин его не упоминает, а вот о втором балете пишет. Это «Матросы»16, веселая комедия с музыкой Жоржа Орика17. Вернее, сюита танцев, в которых участвовали три матроса — французский, испанский и американский, а также их подружки. Балет, премьера которого состоялась в июне, имел успех. Мясин в одном из писем рассказывает, как его приветствовали после спектакля зрители лондонского «Колизея». Одобрительно отзывались о «Матросах» и критики, даже такой строгий ценитель, как С. М. Волконский, отметил хореографическую изобретательность Мясина, одобрил заразительный юмор матросских плясок18.
С Дягилевым Мясин заключал контракты и в последующие годы. В 1927 г. был показан балет «Меркурий»19, который в 1924 г. Мясин ставил во время «Парижских вечеров графа Этьена де Бомона», и в том же году он сделал «Стальной скок»20 С. С. Прокофьева в оформлении Г. Б. Якулова, единственный дягилевский балет, действие которого происходит в Советской России. О нем в письмах есть лишь одно упоминание: 15 июля 1928 г. Мясин вспоминает этот поставленный годом раньше балет и называет его лучшим из созданного им у Дягилева. В справедливости этого утверждения можно усомниться, но спектакль, несомненно, привлек внимание. Публика была заранее заинтригована, так как после гастролей Камерного театра21 (1923), участия советских мастеров во Всемирной выставке декоративного искусства22 (1925), показа такого фильма, как «Броненосец Потемкин»23 (1926) французы связывали со словом «советский» ожидания новых открытий в области искусства. Привлекало и то, что художник этого балета — Г. Б. Якулов — был из Советской 246 России и намеревался показать в спектакле многое, близкое ему по работе там. Мясин представил в первой части балета эпизоды, принадлежащие прошлому России, иногда даже навеянные древними сказками («Баба-яга», «Кот с мышами» и т. п.), вводя в танцы элементы русских плясок. Но особый успех имела финальная сцена, где был изображен работающий завод, а действие разворачивалось на высокой конструкции. Многие рецензенты описали ее, и некоторым удалось передать эмоциональную атмосферу, рождавшуюся на сцене. Так, рецензент английской газеты «Обсёрвер» написал: «Артисты, одетые в комбинезоны, дождевики, а подчас и полураздетые, все вместе напрягают нервы и мускулы, чтобы выдержать бешеный темп этой преднамеренной какофонии, и двигаются с неистовством механических существ. Огромные молоты гремят. Котлы выпускают пар; человеческая душа становится таким же горючим, как нефть и газ»24. И, наконец, в 1928 г. состоялась еще одна, на этот раз последняя постановка Мясина у Дягилева — балет «Ода»25. В письме, начатом 17 января 1928 г., есть упоминание об этом балете, который явился одним из интереснейших опытов художника П. Ф. Челищева26. Мясин, однако, выражает свое неудовольствие. Он хотел бы ставить другой спектакль, намеченный в том же сезоне, — балет И. Ф. Стравинского «Аполлон Мусагет», который Дягилев предназначает Жоржу Баланчину. Отказав Мясину, Дягилев, надо полагать, поступил мудро. Известно, что постановка Баланчина стала одним из величайших достижений его труппы. Баланчин впервые в труппе Дягилева сделал основным выразительным средством обогащенный и обновленный классический танец. В дальнейшем именно этот прием получил в творчестве Баланчина наибольшее развитие, и таким образом возникло мощное новое направление в хореографии. Едва ли такого успеха достиг бы Мясин. Но, судя по всему, этот эпизод послужил причиной соперничества и даже вражды Мясина и Баланчина, которая так никогда и не закончилась. Тогда же Мясин пишет о состоянии труппы Дягилева, утверждая, что сезон в Париже прошел неважно и сетуя на недостаток хороших произведений, которые когда-то создали славу дягилевскому балету. По мнению Мясина, Дягилев уже «устал и бессилен», но особенно его раздражает Кохно, которого он в письмах не раз называет «этим бездарем» (например, когда пишет о постановке «Оды»). Скорее всего, это зависть к Кохно, который, будучи приближенным Дягилева, живет на полном его обеспечении, как некогда жил сам Мясин, теперь имеющий по контракту совсем небольшие, по его представлению, деньги. Мясин все время жалуется брату на эксплуатацию Дягилевым: «… запрягли меня вывозить тяжелый воз», на то, что Дягилев не дает ему танцевать лучшие его роли, например в «Треуголке». И сожалеет, что не имеет возможности составить собственную труппу и вынужден работать у Дягилева. В общем, о главных постановках, сделанных у Дягилева в конце 1920-х гг., о балетах «Стальной скок» и «Ода» мы из писем Мясина, к сожалению, узнаём немного (однако существует огромное количество иного материала на эту тему).
«Ода» была последней постановкой Мясина у Дягилева. На следующий сезон, который оказался для Дягилева последним, Мясин с ним контракт не подписал. Во всех его письмах начиная с осени 1926 г. одной из основных является тема поиска работы вне дягилевской труппы. У Мясина есть Кокран, которого он часто вспоминает. Но ищет он и в других местах. В письме от 21 января 1928 г. рассказывается 247 о встрече с Рихардом Штраусом, который изъявлял желание пригласить Мясина в Венскую оперу. При этом Мясин пишет: «Разумеется, я предпочту Америку Вене во всех отношениях, если это выйдет». Такая позиция может удивить, но, начиная с первых сообщений о переговорах с Америкой Мясин упорно туда стремится. Он еще не знает, к кому конкретно следует обращаться, но ищет контакты. Переговоры идут, однако, туго. Параллельно он берется за разные работы.
В послании, писавшемся на протяжении сентября и октября 1928 г., есть небольшой фрагмент о его работе в труппе Иды Рубинштейн27. Он высказывает свое впечатление от этой очень молодой труппы, упоминает балеты, которые здесь ставит, пишет, что 14 октября 1928 г. закончил вчерне «Царя Давида»28 и начинает следующий балет «Чары Альсины»29.
Но обо всех этих постановках он пишет мало. Главное, что его занимает, это грядущая работа в Нью-Йорке. Начинаются переговоры с С. Л. Ротафелем30, владельцем кинотеатра «Рокси», где между сеансами показывались балеты. Мясин едет на переговоры, едва закончив постановки у Рубинштейн. Затем начинает интенсивно готовиться. В письмах он уделяет этому немало внимания, рассказывая, что надеется поставить в «Рокси» что-то из своих лучших балетов и для этого испрашивает у Дягилева согласие на копирование ряда декораций и костюмов. Заказывает и новые. Мясин сознает, что сильно рискует. Он беспокоится, что в Нью-Йорке не найдется танцовщиков, которые могли бы исполнять его балеты. Он волнуется, окупятся ли расходы, опасается того риска, которому он подвергается, и в то же время другого выхода для себя не видит. Как следует из писем, он тщательно готовится к поездке в США.
Однако работа в Нью-Йорке приносит много разочарований. Ни одного из его балетов Мясину там ставить не предлагают, речь идет лишь об эстрадных представлениях на определенную тему (к Рождеству, Пасхе, Дню благодарения или связанных со временем года — весенние, летние, осенние), причем требуется каждую неделю представлять новую программу, а самому танцевать по несколько раз в день. Мясин жалуется в письмах на постоянную усталость и плохой климат (особенно на летнюю жару).
Танцевала и жена Мясина Евгения Деларова31. Дело в том, что к этому времени Мясин развелся с Савиной и как раз перед поездкой в Нью-Йорк обвенчался с Деларовой.
Особенно осложнилась работа, когда в США усилился кризис. Об этом Мясин тоже много пишет. Спектакли плохо посещались, и, как сказано в письме от 20 июня 1929 г., он лишился постоянной работы в «Рокси». Тогда же — в августе 1929 г. — последовал еще один неожиданный удар — пришло известие о смерти Дягилева. И тут как-то сразу оказались забыты прошлые обиды. Наоборот, Мясин вспоминает только хорошее и пишет брату: «Со смертью Дягилева обрушилось единственное светлое дело».
Мы знаем, что Мясин активно занимался, в частности, в Америке созданием труппы на базе бывшей дягилевской, но в сохранившихся письмах это отражается только косвенно, когда он пишет 1 декабря 1931 г. о том, что сезон «Русских балетов» в Нью-Йорке опять откладывается. Дело в том, что в это время он вместе с местным антрепренером пытался создать в США труппу, чтобы продолжить дело 248 Дягилева. Это не удалось из-за финансовых затруднений, вызванных кризисом. А между тем в это время в Монте-Карло уже другие люди начали что-то предпринимать в этом направлении. В том же письме Мясин сообщает, что «порвал с Рокси», т. е. перестал ориентироваться на работу в Америке. Но, пожалуй, самое важное в письмах тех лет — это очень конкретное и живое ощущение ситуации мирового кризиса. Мясин пишет: «дела очень плохи везде, и в Европе, и в Америке», пишет о колебании доллара, лишившего его части дохода: «всюду кризис, крахи и тревожное настроение, что в сильной мере отражается на театре и всех, кто от него зависит»; «все артисты без работы и перебиваются кое-как».
Теперь он опять ищет спасения в Европе, ставя балеты и в театрах, и в мюзик-холлах. В письме от 7 марта 1932 г. кратко перечисляются последние работы Мясина — в миланском Ла Скала, у Кокрана, где он поставил «Прекрасную Елену»32 с Рейнхардтом33, а потом с ним же «Чудо»34. Он рассказывает, как, едва доведя постановку в Милане до премьеры, мчится на машине через всю Европу в Лондон, где идет работа с Рейнхардтом, потом снова в Милан или в Монте-Карло.
Работа с Рейнхардтом — важный этап биографии Мясина, но в письмах он нашел лишь слабое отражение. Мало говорится и о начале работы в Монте-Карло, где его приглашают поставить спектакль в уже сформированной Рене Блюмом35 и де Базилем (В. Г. Воскресенским)36 труппе, которую возглавляет в качестве балетмейстера Жорж Баланчин. Мясин ставит в 1932 г. «Детские игры»37. Но после первого же сезона Баланчин уходит, и Мясин становится главным балетмейстером.
Возможно, какие-то из писем 1930-х гг. не сохранились, но, с другой стороны, ясно, что Мясин тогда уже не слишком часто пишет брату. Например, письмо от 23 мая 1935 г. написано им, как он сам признает, после годичного перерыва. Оно, однако, чрезвычайно подробно, и в нем кратко описываются события за весь прошедший год, в частности все гастрольные поездки с труппой «Русские балеты Монте-Карло». Писал его Мясин, проходя лечение на курорте в Словакии.
Между тем, период 1933 – 1937 гг., когда Мясин был балетмейстером «Русских балетов Монте-Карло», очень важен в его творческой жизни. В этой труппе он поставил 10 балетов, некоторые из них могут считаться лучшими из созданного им, недаром они до сих пор возобновляются и идут в театрах разных стран.
Мясин продолжает здесь, как и раньше, ставить комедии: в 1933 г. создано несколько новых балетов в Монте-Карло, а главное, вторая редакция одной из самых знаменитых его комедий — «Прекрасного Дуная»38 на музыку Иоганна Штрауса39. Стихия венского вальса, венской оперетты, с их беззаботной праздничностью, пронизывает этот балет. Он перекликается с другими не менее знаменитыми мясинскими комедиями, такими, как, например, «Парижское веселье»40 на музыку Жака Оффенбаха, созданной чуть позднее, в 1938 г. Тогда же, находясь на гастролях в США, он работал и над комедиями на американскую тему, например над балетом «Юнион Пасифик»41 в 1934 г. Но главное его достижение середины 1930-х гг. — балеты-симфонии. В труппе «Русские балеты Монте-Карло» в период 1933 – 1937 гг. их было поставлено четыре — все на музыку великих симфоний.
Первый — «Предзнаменования»42 на музыку Пятой симфонии П. И. Чайковского — вызвал очень бурные дискуссии в среде музыкантов, многие из которых осуждали Мясина за попытку инсценировать великое произведение Чайковского, нарушая 249 волю композитора, используя его музыку как прикладную. Но Мясин не отказался от своих намерений, и в том же 1933 году поставил «Хореартиум»43 на музыку Четвертой симфонии Иоганнеса Брамса, а в 1936 г. «Фантастическую симфонию»44 Гектора Берлиоза, успех которой был особенно велик. К этому моменту Мясин, можно считать, уже одержал победу, поскольку среди его сторонников были и дирижеры, и теоретики музыки. И теперь никто не оспаривал право балетмейстера обращаться к музыке высших оркестровых жанров. Так родилось новое направление в истории балетного искусства. Сам Мясин поставил на протяжении 1940 – 1950-х гг. еще несколько балетов на музыку симфоний в других труппах.
Письмо брату от 23 мая 1935 г. — последнее, содержащее сведения о жизни Мясина и о его постановках. От 1937 г. сохранилась только короткая записка.
В целом, если письма, которые Мясин писал своему брату в Россию, дают, как мы уже указывали, сравнительно немного сведений о творчестве Мясина в это время, мы зато очень много узнаем о его личной жизни, о нем самом, как о человеке. Точнее — о том, каким он хотел выглядеть в глазах брата.
Мясин живо интересуется делами семьи брата (особенно в 1920-х гг.). Помогает им деньгами. Дает советы, где и как учиться племяннице, готовящейся стать танцовщицей, но на Запад ее не зовет: пишет, что детей надо воспитывать в России. Когда возникает разговор о женитьбе, после того как Мясин разводится с Савиной, он пишет брату, что мыслит себе женитьбу только на русской, затем рассказывает о том, как появилась в его жизни Деларова. Вообще, он все время следит за тем, что происходит в России, в Москве, в Большом театре. По-видимому, расспрашивает приезжающих из России, слушает русское радио (об это он упоминает в одном из писем). В какой-то момент мечтает о постановке в Большом театре своих балетов. Даже называет, что именно он там поставил бы: прежде всего, «Треуголку» — спектакль, созданный еще в 1917 г., где у него самого особенно выигрышная роль.
Из писем нам становится отчасти ясно, что беспокоит Мясина в эти годы, что интересует, волнует, помимо творчества. Главная его забота — это, конечно, принадлежащие ему острова на юге Италии около городка Позитано. Постоянная неустроенность Мясина, его беспокойство о заработке, страх перед наступающим кризисом, метания из труппы в труппу — все это связано с тем, что в острова приходилось вкладывать огромные деньги.
Он владел тремя островами, так называемыми островами Галлов: Длинным (Isola Lunga), Круглым (Rotunda) и Разбойником (Brigante). Согласно легенде, именно там жили сирены, завлекавшие своим пением моряков, в том числе Одиссея. Острова эти Мясину приглянулись уже в 1917 г., но далеко не сразу ему удалось их приобрести. Дягилев был категорически против покупки. Но для Мясина это был, по-видимому, своего рода жест, доказательство права на самостоятельные решения. И в 1922 г. покупка состоялась. Мясин стал обихаживать главный остров — Длинный, протяженностью 900 м.: завез туда почву, засадил эту голую скалу деревьями, которые с трудом приживались, сооружал постройки, используя стоящую там башню XIV в., где сам и поселился. Отсюда открывался замечательный вид на море, в хорошую погоду виднелись Капри, Амальфи и даже горы Сицилии.
250 Мясин увлекался многим: коллекционированием картин, кинозаписями (они находятся в Танцевальной коллекции Нью-йоркской библиотеки), а также записью танца. Но все-таки главное его увлечение 1920 – 1930-х гг. — это обустройство острова. Конечно, тот факт, что об этом он так много пишет брату, объясняется тем, что Михаил, именно когда дело касалось хозяйства, постоянно давал ему полезные советы. Мясин постоянно приглашал своих родных на остров. Приезжали сестра с мужем. А главное, там подолгу жил отец Мясина. На острове он в 1931 г. и умер. Его смерти и похоронам в Позитано посвящено немало страниц в письмах.
На остров Мясин привозил женщин, с которыми сближался, здесь обдумывались балеты, писались книги. Сюда можно было пригласить нужных людей, и в то же время здесь легко было укрыться от тех, с кем не хотелось встречаться, на кого он не собирался тратить время: ведь добраться до острова было возможно только на лодке, высланной хозяином.
Письма полны сообщений о том, как идут дела на острове. При этом Мясин рассматривал свое владение не только как место отдыха и уединенных трудов, но и как поместье, приносящее доход. Он вел там силами наемных работников большое хозяйство и в письмах брату писал о том, что начал разводить кроликов, о ящерицах, которых необходимо травить, а также сколько удалось заработать на продаже фруктов и овощей, кур и яиц, сколько собрано винограда и какое из него получается вино. А когда речь идет о постройках, в письмах возникают даже рисунки и планы.
Мясин меньше пишет брату о других своих интересах, например о коллекционировании. Только один раз рассказывает о картинах, которые повез с собой на гастроли в Америку, где устраивал выставки. Совсем не упоминается об увлечении старинными балетными трактатами, тем более о собственных теоретических трудах, хотя уже в середине 1930-х гг., а не только к концу жизни, его все это живо интересовало. Но брату едва ли такое было близко и понятно, так что эта сторона жизни Мясина оставалась от него скрыта.
Скрывал Мясин от брата и свои любовные увлечения, те, которые не привели к законному браку. Ни Элеонора Марра, которая танцевала во всех его ревю у Кокрана, ни даже Вера Зорина45, из-за которой Мясин разводится с Деларовой, в письмах не упоминаются. О том, что разводится с Деларовой, той, о ком когда-то писал брату столько хорошего (когда она работала с ним у «Рокси», когда она вместо него занималась похоронами его отца), он даже не решается сказать: пишет, что она где-то далеко отдыхает с матерью. Роман с Зориной относится как раз к тому периоду, который описывается Мясиным в письме от 23 мая 1935 г. В то время, когда труппа гастролировала по Америке, Мясин ездил в автомобильном прицепе, оборудованном для жилья (по-английски именуемом «караваном»); в нем, помимо обслуживающих его шофера и поварихи, путешествовали еще законная жена Деларова и новая его подруга — Вера Зорина. Впоследствии Зорина в своих мемуарах (здесь она опубликует и любовные письма Мясина) напишет: «Как могло мужчине показаться возможным подвергнуть двух любящих его женщин такому испытанию. А мы обе соглашались в надежде стать когда-нибудь единственной близкой ему»46. Но Мясин считал возможным все, что устраивало его самого. Нам известно по рассказам тех, кто был с ним близок, что, когда речь шла о работе, он был человеком одержимым, не шел ни на какие уступки, репетировал часами, не давая отдыха ни 251 себе, ни другим. Вспоминается фрагмент письма о смерти отца, которого он, несомненно, любил, о котором нежно заботился. Однако, когда пришло известие о его болезни, бросить репетиции и поехать в Италию Мясин не счел возможным. Из-за премьеры спектакля в Англии не поехал и на похороны — послал вместо себя Деларову.
Возвращаясь к истории с Зориной, напомним, что и с ней Мясин поступил так, как посчитал нужным для дела. Вскоре после того как Зорина предпримет попытку покончить с собой, он, возмущенный, порвет с ней, и в 1936 г. та уйдет из труппы. А в 1939 г. Мясин заключит еще один брак, на этот раз продлившийся много лет — с Татьяной Орловой (Милишниковой)47, матерью двоих его детей — Лорки48 и Татьяны49.
Что еще мы узнаем о характере Мясина из его писем брату?
Тут налицо, несомненно, черты, вообще свойственные балетным артистам, воспитанные у них профессией. Например, умение преодолевать боль и травмы, а также жесткая самодисциплина. Подобное вычитывается и из его рассказов брату о себе, и из его советов племяннице. Но и рассказы о Мясине многих хорошо знавших его людей свидетельствуют о том же. Нам известно о правилах, которые он неукоснительно соблюдал: вставал на рассвете, делал класс по системе Чекетти. Затем, когда была такая возможность, например когда он жил на своем острове, совершал длительные заплывы с главного острова до двух маленьких, туда и обратно. Если негде было купаться, предпринимал длительные прогулки.
Многие вспоминают о скупости Мясина. В письмах очевидна его экономность, расчетливость при тратах, желание все сделать дешевле. Да, деньгам он ведет строгий счет. И в то же время часто посылает деньги брату, племяннице.
В целом о своей личной, семейной жизни Мясин пишет брату не так уж много. В письмах говорится о женитьбе на Деларовой, и в связи с этим возникают рассуждения о том, что жениться надо только на русских. Развод с Савиной упоминается лишь в связи с большими расходами на него. Разрыв с Деларовой, как уже говорилось, Мясин вообще замалчивает.
Зато подробно описывает свое самочувствие, а также болезнь отца, приведшую к его смерти. Постоянно интересуется здоровьем брата, дает советы, посылает лекарства.
Творчество Мясина изучено многими исследователями. И все же письма его к брату Михаилу дают возможность немного ближе узнать нашего знаменитого соотечественника, одного из тех, кто прославил русский балет на Западе, создал огромное число талантливых произведений разных жанров, открыл новые пути. В 1960 – 1990-х гг. его постановки стали было казаться устаревшими. В это время привлекали внимание к себе другие хореографы. Но в наши дни, осознав значение Л. Ф. Мясина для балета XX века, о нем стали вспоминать все чаще.
Письма Л. Ф. Мясина брату публикуются по автографам, хранящимся в РГАЛИ: Ф. 2964. Оп. 1. Ед. хр. 1 (1925 – 1927); Ф. 2964. Оп. 1. Ед. хр. 2 (1928 – 1937).
252 1
2 июля [1925 г.]
[по штемпелю отправления]
7 Dyott St New Oxford St.
London W-C. 1
Дорогой Мишенька, опять я опоздал с ответом. Но что уж делать — в работе время летит, и едва успеваешь набраться сил на каждый день, чтобы благополучно завершить всю дневную программу. На сей раз мое выступление в «revue»50 дало самые блестящие результаты. Пресса единогласно раскричала все мои произведения51, — до 100 разных газет и журналов — все как бы сговорились дать самые лестные отзывы. Кроме того, успех всего спектакля очень большой, и, начав 30 апреля, мы до сих пор жарим при полных сборах. Так что отдых в Италии пропал. Но как-нибудь перетерплю.
Кроме того, я только что поставил второй балет для Дягилева52 в 2 1/2 недели — танцуя одновременно и сочиняя по утрам, — я думал, не вытяну — голова еле выдержала (я пишу лежа, в антракте в театре). Этот балет они только что дали в Париже с огромным успехом — о чем Дягилев мне телеграфировал. 28 июня дадут также здесь…53
Продолжаю после перерыва. Балет у Дягилева шел вчера с огромным успехом. Я в антракте ездил к ним — мне сделали невероятный прием в Coliseum’е, где они играют54. Овации трехтысячной залы трудно выдержать спокойно. Кроме того, это в первый раз после 5 лет55, что я появился на сцене Русского балета, — это был действительно гром, какого я давно не слыхал.
Начал мой развод здесь56, к будущей весне, надеюсь, это будет сделано. Сумма нужна баснословная. Эпилог труднее — я надеюсь, что работа даст мне возможность это выполнить, если продлится достаточно. Теперь вместо отдыха придется провести все лето в городе.
Кажется, выйдет другая работа, одновременная, после спектакля57, другая помощь — только бы хватило сил. Воздуху мало. Лишь по воскресеньям езжу за город, в лес. Но этого мало. И без воздуха, и еда не идет, и энергии мало. Напишу еще. Тороплюсь отправить письмо.
Кажется, успею окончить письмо.
Что касается Лёлечки58, если все-таки думаете продолжать ее ученье в театральной школе, то, если работа будет, я смогу помочь в уплате. Напиши мне, сколько стоит в год и в какие сроки надо вносить. Может, теперь, с новыми силами, ты справишься со всеми трудностями.
Я все думаю выписать папу к себе, и даже просил знакомых похлопотать и навести все нужные справки о переезде. Но ввиду успеха здесь, — мне придется безвыездно жить, вероятно, всю осень и зиму здесь — а затем есть предположение поездки в Америку. Так что пока придется это отложить, ибо осень и зиму в Лондоне в его годы жить немыслимо из-за климата.
Лицо, видевшее его, пишет сюда, что он чрезвычайно одинок и в ужасных условиях жизни. Поэтому я прошу тебя и Соню59 по-братски взять его скорее в Звенигород60. Прошу тебя написать, сколько надо ежемесячно на его расходы, чтобы он мог не делать никакой тяжелой работы и отдыхать на старости в своем гнезде. Я буду регулярно посылать тебе — разумеется. Я хотел бы, чтобы у тебя не было абсолютно никакого расхода на это. Знаю, как трудно тебе самому.
253 Кроме того, я постараюсь по возможности помочь и тебе. Надеюсь, что ты не откажешь мне в этой просьбе, пока я не могу сам перевезти его сюда. Посылаю в этом письме десять (10 фунтов) фунтов, билет за № 063 21009 от 18 февраля 1924 года.
Только бы мой развод прошел благополучно, и хватило бы меня на все.
Горячо целую тебя,
твой Л.
Соне сердечный привет. Целую племяшей.
Работы на острове подвигаются.
Мой моряк61 поймал акулу 3 метра 60 сантиметров длиною, весом 350 кило. Продали за 275 лир.
Меня атаковали налоги. Приходится платить за 10 лет — это составляет огромную сумму — около 500 фунтов.
2
8 января [1926 г.]
[по штемпелю отправления]
The London Pavilion
Picadilly Circus
Дорогой мой Мишенька, с тех пор как ты мне писал, произошли некоторые перемены. Спектакль, в котором я работал, прекратился в середине ноября, и, к счастью, был занят новым, в котором я тоже принимаю участие. Поэтому весь октябрь и ноябрь я проработал над приготовлением нового небольшого балета, который был вставлен в программу и имеет большой успех62. Кроме того, 2 балета из старого спектакля были удержаны и вошли в новую программу, что также есть знак их популярности.
В разгаре работы я забыл послать тебе поздравление с днем ангела, хотя и сделал это мысленно.
Новый спектакль имеет такой же большой успех, и надеюсь, продлится порядочное количество времени, хотя к весне придется, я думаю, его снять, так как все новые постановки здесь начинаются весной в провинции, и я думаю, что этот спектакль заменят новыми, чтобы выдержать будущий летний сезон. Я надеюсь таким образом получить отпуск в феврале на 4 недели и поехать на отдых в Италию, хотя это не лучший сезон там.
Относительно занятий Лёлечки я думаю, что лучше оставить ее у Ш[арпантье]63, хотя я ее или знаю как Александр[ову], если это только та, которую я знаю (протекция стариков Садовских64 — Малый театр). Я думаю, не блестящая учительница, судя по тому, что они сами представляют. Я не советую тебе тянуть. Что касается до ее «трудноспособности» к учению — это очень важный факт. Если ее трудности проистекают от ее телосложения и построения ее фигуры, то ей предстоит адская работа и очень средний результат от нее. Есть ли у нее хороший подъем, то есть верхняя часть ступни, от природы свободна ли она и высоко ли ногу вперед, в сторону, назад легко ли ей держать? И выворотные ли ноги в 1-й, 3-й и 5-й позициях? Есть ли у нее прыжок 254 и какой высоты? Достаточно ли длинная шея? Все это вопросы первостепенной важности. Каково построение ног — сходятся ли они в коленях и нет ли недостатка А [схематичный рисунок ног в форме Х] или В [рисунок ног в форме О]. Ответь мне на все эти вопросы, и я смогу сделать некоторые определения заглазно.
Моя нога, благодаря замечательному массажисту, вскоре поправилась и после месяца окрепла, чему я очень рад. Но вот я только перешел полосу новых волнений — сделался нарыв на верхнем зубе, то есть 3, по одному на каждом корне, и пять дней я танцевал с раздувающейся ежечасно щекой. Наконец 21 декабря в час дня мне сделали форменную операцию, усыпляли на 5 минут особенным газом, что очень мучительно до момента, когда наступит бессознание. Сначала разрезали щеку внутри, затем вытащили зуб. Все это было сделано одним из самых лучших специалистов в Лондоне. В тот же вечер я танцевал, хотя и еле держался на ногах. И до сих пор еще чувствую упадок сил вследствие действия газа на весь организм.
Погода отвратительная, слякоть, сыро, туманно, и на воздух нельзя выбраться.
Автомобилем управляю сам, и довольно хорошо, должен сказать. До сих пор сделал 4000 миль по городу и деревне, и вполне благополучно. Мест — два впереди, 2 открываются позади, если надо. Машина имеет 22 лошадиные силы и развивает скорость 70 – 75 километров в час. Однако я никогда так скоро не езжу, ввиду большого движения везде. Работает на «petrol» — род бензина. Производства американского, и части почти все американские. Я постепенно знакомлюсь теперь с действием и деталями всего механизма, что очень сложно. В общем, это удовольствие оказалось необходимостью при моей работа, и приток свежего воздуха деревни дает мне возможность продолжать работу без переутомления.
В конце января часть работы отпадет, и я смогу раньше ложиться спать — теперь почти ежедневно иду в кровать в 2 часа ночи, что крайне утомительно.
Вопрос с отпуском решится вскоре. Если будет, то в феврале. Времени у меня свободного очень мало, хотя теперь и постараюсь немного организовать свободные часы и использовать их с большей пользой.
Что касается чулочной машины, то я нахожу это отличной идеей, если только Соня в состоянии совместить эту работу со всем остальным без переутомления. Послал тебе на эту затрату двадцать фунтов через Ллойд Bank в Лондоне, как я переслал папе в последний раз. Тебе выдадут их русскими червонцами по курсу дня.
Горячо тебя целую.
Поздравляю с праздниками и Новым годом.
P. S. Перевод сделал 4-го января. Обещали, что через 3-4 дня будет в Москве.
3
Roma
13 февраля [1926 г.]
[по штемпелю отправления]
По дороге в Лондон
Дорогой мой Мишенька, наконец дождался желанного отдыха. Провел 10 дней на островах и отдохнул чудесно. Представь себе, было все время так тепло, а временами и жарко, что я купался в море 2 раза в день. Средняя температура 16 гр. в 255 тени и 22, а в некоторых местах острова 30 гр., на солнце. Температура воды 14 гр., но ввиду чрезвычайной насыщенности солями воды совсем не холодно.
Я чувствую себя превосходно, воспрянул духом и усталость забыл. Теперь еду с радостью продолжать мою работу.
Деятельность на островах продолжается все время. Строятся террасы для посадки виноградника. Я выписал из Сицилии 1650 деревьев и виноградника, которые теперь постепенно рассаживаются.
Посаженные мною в прошлом году сосны принялись в порядочном количестве и приблизительно 60 % уцелело, остальные погибли от морской воды, которая во время бурной погоды разносится в виде дождя по ветру и падает на растения.
До половины марта я буду занят постановкой двух новых балетов и буду по горло занят, танцуя одновременно по вечерам.
Горячо тебя обнимаю.
Сердечно твой Леонид
Очень хотел бы разыскать Гришу65. Где он?
4
The London Pavilion Picadilly Circus
25 июля [1926 г.]
[по штемпелю отправления]
Дорогой мой Мишенька, спасибо тебе за подробное описание динамо и опреснителя. Я решил приобрести их, но только когда буду иметь человека, которому можно поручить уход за ними. Иначе это пропащие деньги.
Фотографий большого острова почти не имею, но по снимкам, которые я посылаю папе, ты можешь составить некоторое представление о его размерах. Так, например, каждая терраса виноградника имеет 150 метров длины и 4 метра ширины. Порт = 10 метров ширины и 25 длины в глубь острова. Общая длина острова приблизительно 600 метров, а ширина от 50 до 200 метров.
Будь добр, выхлопочи Раисе66 и Александру67 3 заграничных паспорта (у папы уже есть) и итальянскую визу (в итальянском посольстве в Москве) и дай мне знать результат как можно скорее. Также и стоимость всех трех паспортов и виз. Я сделал сам заявление в Рим по этому поводу. Но, может быть, скорее и проще достать визы в Москве.
Раиса и Александр поедут в качестве провожатых папы и как ухаживающие за его здоровьем. Визу проси на Неаполь. Скажи, что они все едут ко мне смотреть за имуществом и что они не собираются занимать никакой должности в Италии и будут всецело под моим иждивением. Точный адрес места их назначения: Positano. Provincia di Salerno. Italie. Очень прошу сделать все возможное, чтобы им помочь выехать как можно скорее. Дело в том, что у меня работа вскоре здесь, вероятно, прекратится, так как в июле у нас были очень плохи дела, так что я уже в сентябре смогу выехать и встретить всех в Италии или даже в Берлине — продолжать путь вместе на юг.
В данный момент стараюсь найти себе работу дальше, что не так-то легко. Все пробую в Америку, но пока ничего не выходит.
256 Посылаю 15 фунтов отдельно от другого на ремонт дома, как уже писал (капитальную перегородку). Это ведь необходимо вам будет для зимы.
Папа и Раичка будут у меня отдыхать, а Александр будет следить за всем сельским хозяйством и работами во всем, в чем может. Раичка поможет мне по дому, что в силах сделать, а папа пусть погреется и покупается в теплой морской воде. Может, ему это будет лучше всех докторов.
Я так хотел ему полный покой, и спокойную старость, и уход за ним. Как ты себя чувствуешь? Я думаю, 2 дня в Звенигороде еженедельно помогли тебе очень. Свой угол, семья и свежий звенигородский воздух и летние дни дадут тебе силы на дальнейший труд — а нам с тобой в нем недостатка нет. Я уже чувствую, что мне пора в Италию, — всегда июль и август в городе самые тяжелые. Ну, да как-нибудь доработаю.
Передай мой сердечный привет Сонечке. Пусть она меня извинит, что долго ей не пишу. Да я думаю, что когда пишу тебе, пишу вам обоим.
Целую всех моих племяшек. Они, вероятно, из реки теперь не вылезают, как я когда-то. Чуть ревматизм острый не схватил с рыбной ловлей.
Горячо тебя обнимаю.
Душевно твой Л.
Я думаю тоже, что все зависит от данного воспитания, которое воспрепятствует театральной атмосфере, как и всякой другой.
5
Лондон
28 августа [1926 г.]
[по штемпелю отправления]
Дорогой мой Мишенька, благодарю за память и поздравление68. Я кончаю работу 4 сентября69, в субботу, и 5-го утром выезжаю в Италию. 6-го я ночую в Неаполе и 7-го буду у себя, если не задержат покупки в Неаполе. Наконец-то я вздохну. Ведь 1 1/2 года как работаю, а отдыху было всего 14 дней.
Сегодня я сделал большую покупку домашнего белья — одеяла и подушки и всяких мелочей, а также рубашек для папы, так что ему ничего покупать в Москве не надо. Везу все это с собой — надеюсь избежать пошлины. Купил чудный тульский самовар — новый. Спасибо тебе за все сведения мне и Раичке [Мясиной]. С твоей помощью, может быть, они вскоре и выберутся. Я пока надеюсь, что их хлопоты завершатся успехом. Послал Рае деньги, но до сих пор еще не имею сведений, получили ли они паспорта. Твое соображение относительно Александра мне кажется вполне правильным.
Я очень обеспокоен болезнью Кости70, но сделанная прививка должна значительно ослабить последствия болезни, в особенности в его годы.
Напиши, как пройдут экзамены Лёлечки.
Предложение есть у меня из Америки. К сожалению, не в театре, а в кабаре71. И Немчинова72 не захотела выступать только в кабаре. Но я решил, что этот ангажемент может быть полезен, чтобы достать другие, более подходящие. Поэтому я делаю разные шаги, чтобы найти другую танцовщицу и принять его. С этой целью 257 я телеграфировал тебе о Банк73 — я слышал, что она собирается ехать за границу, — прося тебя пригласить ее танцевать со мной в Нью-Йорке. Я тебе скажу подробности, но ты, разумеется, держи их в секрете.
Начало ангажемента предполагается 22 ноября — гарантии с условием 300 долларов в неделю. Репетиции в Париже с 25 октября. На время репетиций 50 долларов в неделю. Так что ей бы надо выехать в начале октября. Если она согласна и может выехать, то я бы хотел иметь ее фотографии как можно скорее.
Пока это все лишь приблизительные даты, так как агент приезжает из Америки только в ночь 29 августа, и тогда решится возможность начать в конце ноября, и согласны ли они на другую танцовщицу (их предложение с Немчиновой — начало декабря).
Ты никаких подробностей Банк не говори, пока дело окончательно не выяснено с моей стороны и не будет принципиального согласия с ее стороны.
Возможно, что для разрешения этого вопроса мне придется задержаться на несколько дней в Лондоне.
Спасибо за телеграмму о Банк. Получил после того, как написал это письмо.
6
5 сентября [1926 г.]
[по штемпелю отправления]
Isole del Galli Positano
Provincia di Salerno Italie
Дорогой мой Мишенька, вот уже неделя, как я отдыхаю у себя. Погода прекрасная, теплая, 110° на солнце по Фаренгейту. Купаюсь 3 раза в день. Утром в 7 часов, перед завтраком и перед чаем. Всеми работами очень доволен.
Виноградники идут хорошо, мандарины принялись, а также несколько других фруктовых деревьев. Чувствую себя значительно лучше, загорел и отпустил бороду, вид совсем неаполитанский.
13 сентября послал телеграмму папе, чтобы он постарался выехать один с пароходом 23 сентября из Одессы, вместе с этим другую телеграмму в Лондон в банк, чтобы ему переслали телеграфом 30 фунтов на дорогу на твое имя. Надеюсь, что, если из Лондона они телеграфируют в Москву 14 сентября — числа 16 – 17 ты получишь деньги, и папа успеет уехать. Решил я это, получив письмо Раички [Мясиной], по которому я вижу, что задержки с их паспортом не будет, и они смогут выехать позднее, в конце октября — в половине ноября. Я не дождусь их здесь, так как надо искать работу, поэтому я думаю, что все покажу и расскажу папе, и он их встретит здесь, ознакомившись и привыкнув ко всем трудностям здешней жизни. Я рассчитываю, что по получении этого письма он уже будет в дороге ко мне.
Поэтому ты только напиши мне точно день прихода парохода в Бриндизи, чтобы я знал, когда надо там быть, чтобы встретить его. Из раичкиного письма я понял, что папа должен будет ехать на русском пароходе. Постарайся повидать барышню, о которой я тебе писал, и ускорить, сколько возможно, справки по выдаче паспортов Александру и Раисе.
Твоя телеграмма утвердительная, и я надеюсь, что папа получил паспорт 8 сентября и готов к отъезду, так как у итальянцев, надеюсь, не будет никаких задержек. 258 Между прочим, я уже заплатил ₤ 4.10 шиллингов за издержки по разрешению из Рима. Ввиду этого в Москве им должны бы выдать визы бесплатно.
Жду твоего письма. Горячо целую.
Твой Л.
Сердечный привет Сонечке. Как здоровье Кости?
Как прошли экзамены Лёлечки? Надеюсь, успешно.
7
2 октября [1926 г.]
[по штемпелю отправления]
Isole del Galli Positano
Provincia di Salerno Italie
Дорогой Мишенька, 13 сентября послал телеграмму с уплаченным ответом на твой адрес папе относительно высланных денег (35 фунтов) и его отъезда. Я из твоего письма от 17 сентября не понял, получил ли ты эту телеграмму. Одно мне показалось странным: ты пишешь — папа выедет 4 октября из Николаева, а не спрашиваешь, когда я пришлю деньги на билет. Значит, мои 30 фунтов уже получены.
9 октября. Прервал это письмо, так как со дня на день ждал ответа на мою телеграмму. 4 октября послал вторую телеграмму с уплаченным ответом, спрашивая, когда выезжает папа, — и опять никакого ответа. Я очень взволнован, не получая ни ответа, ни телеграммы, ни писем. Не могу дать себе отчета, почему нет никаких известий. Между тем время идет и приближается осень — пора думать о работе.
После 10 дней отдыха, солнечных ванн и купания у меня все левое бедро покрылось невероятными по силе и размерам нарывами. Одновременно 6 нарывов, причем два из них в 5 голов каждый. У меня это было уже 8 лет тому назад в Барселоне от переутомления. Вероятно, и теперь по той же причине. Пришлось на неделю переехать в отель в Позитано. Доктор являлся два раза в день. Пришлось разрезать, чтобы ускорить ход болезни. 3 октября я вновь вернулся к себе и теперь долечиваю оставшиеся рубцы и боюсь, чтобы не повторилось все это удовольствие. Доктор думал вначале, что у меня сахарная болезнь, но по исследованию никаких признаков сахара не оказалось. Он приписывает это засорению и отравлению в кишках. Надо сказать, что с появлением нарывов у меня совсем пропал аппетит, а теперь вновь явился, как будто произошла какая-то перемена.
12 октября наконец-то получил твою телеграмму от 9-го. В Позитано она была принята 10-го в 10 часов утра. Итак. Деньги на дорогу и паспорт папа получил, итальянская виза есть, теперь только, я надеюсь, вопрос с пароходным сообщением. Осень пока замечательная, и, я надеюсь, море будет вполне удовлетворительным. Только скорее бы выехал.
Боюсь, что, пробыв так долго здесь, будет трудно найти работу. Из New York нет никаких новостей, видимо, это расстроилось. Вероятно, я все же рискну туда поехать, если по возвращении в Лондон не будет случая найти настоящую работу, так как к школе я не хотел бы возвращаться74 ввиду недостаточного прихода и отсутствия продуктивной работы по композиции и исполнению.
259 За последние дни у меня появился новый нарыв почти на том же месте. Придется опять ехать в Позитано резать. Я было уже обрадовался, думал — не будет повторения. Но что уже делать, потерплю.
Твое письмо от 18 сентября получил на четвертый день, то есть 24-го. Удивительно быстро.
Я очень сожалею о неудаче Лёлечки с поступлением в школу. Но нет худа без добра — будет больше стараться, и выйдет больше толка. Препятствия этого характера всегда увеличивают желание к работе и ведут к большему достижению. Я знаю много случаев, когда в частных школах получались лучшие результаты, нежели в государственных. Что в техникуме не преподают ничего, кроме танцев, это скорее плюс в смысле возможности сосредоточиться на одной специальности и не смотреть на танцы как на один из многих предметов, которым уделяется очень много времени и места в ежедневных занятиях. Те небольшие знания, которые дает школа, можно приобрести где угодно. Самое важное, будь в этом уверен, получить специальность из знающих рук, то есть у серьезного и сознательного преподавателя, чтобы был прок подлинный, а остальное лишь подробности, имеющие третьестепенное значение в развитии танцовщицы.
Ни Александрову75, ни Шарпантье76 я не знаю и об их системе преподавания не могу судить. Большой «шаг» необходим для больших движений ног, а прыжок, если он действительно у нее есть, чрезвычайно редкая вещь у танцовщицы, он дает преимущества над всеми другими во всех движениях.
С Поливановым77 я не только учился, но провел 8 лет на одной парте, и мы были с ним всегда в самых дружеских отношениях. Я прилагаю краткое письмо к нему. Я думаю, что заниматься в техникуме и у Поливанова — этого пока достаточно до 15 – 16 лет, а затем будет видно по успехам, как быть в дальнейшим.
Я рад за Костю и его полное выздоровление. Относительно Раи и Александра вышло столько затруднений, что мне их здесь не дождаться.
Жаль, что все формальности они не смогли сделать в Москве, провинция всегда была и останется провинцией. Кроме того, Александр поехал в Воронеж, не будучи уверен в приеме заявлений, и вернулся, ничего не добившись. Если регистрационные карты приняты, то, вероятно, паспорт им в конце концов выдадут и они смогут выехать в ноябре. Осень в этом году исключительная. Вчера в 11 часов было на солнце 42° по Реомюру. Я надеюсь, папа выедет 24 октября из Одессы, не позднее.
Мне кажется, ты правильно поступил, не сделав капитальной перегородки, поддерживая, насколько возможно, одинаковую температуру всего дома. В противном случае неотапливаемая часть неизбежно больше бы пострадала.
Со всеми расходами по переездам, разумеется, нелегко, но я думаю, что делаю доброе дело. Ведь я здесь могу пробыть 6 недель, самое большее 2 месяца в году, пока работаю, а в остальное время все идет прахом, как говорится. Кроме того, когда хозяева находятся постоянно, будет легче вести всю жизнь и работы и создать культуру островов для постоянного пребывания, а не только для 4 недель в августе.
Впоследствии я намереваюсь разводить кроликов и особенно кур в огромном количестве, а также приняться серьезно за рыбную ловлю и посадку овощей в большом количестве. Силы есть достаточно.
260 Виноградники идут хорошо, некоторые ветви длиной 2 1/2 аршина. Это только 10 месяцев после их посадки, а фиги уже дали несколько плодов. Сосен из 300 погибло очень мало. Теперь они в 1 1/2 (или 2 1/2) аршин высоты, но зелени пока на них очень мало. Работами я остался очень доволен. Порт готов. Длина его 19 метров и ширина 5, причем 10 метров покрыты крышей, чтобы втаскивать и держать зимой барки и другой материал. Ванная вышла превосходная. Вот только дождя до сих пор нет. Только раз шел дождь, и лил целый день беспрерывно, после чего все растения ожили и снова позеленели.
Острова теперь покрываются зеленью диких нарциссов, которые цветут в декабре. Я теперь снимаю работы и по возвращении в Лондон вышлю отпечатки.
Купался всего 10 дней 3 раза в день, но очень коротко, по 2-3 минуты.
14 октября. Чувствую себя лучше. Нарыв прорвался, и опухоль спадает. При помощи перекиси водорода и йода обошелся на сей раз без докторов.
1 ноября я перешлю тебе 10 фунтов, а затем, к большому огорчению, придется переждать на некоторое время, пока я не найду новой работы. Надеюсь, что перерыв будет не слишком длинный.
Горячо тебя целую. Сердечно твой,
Леонид
Поцелуй Соню и племяшей.
Очень прошу тебя помочь Рае и Александру с отъездом из Москвы.
8
15 декабря [1926 г.]
[по штемпелю отправления]
Париж
Дорогой мой Мишенька, получил твое письмо и вскоре отвечу на него. Сейчас хочу тебе сказать, что я вступил вновь в Дягилевский балет до 1 июля от 15 декабря. Зная, что у меня других предложений не было, мне сделали самые низкие условия, какие только могли, выжав из меня как можно больше работы. Я буду танцевать и ставить два новых балета и один из тех, что давал сам в 1924 году78. Я напишу вскоре обо всем подробно.
Завтра я начинаю репетировать мои старые балеты с труппой и вспоминать мои роли. Мое 1-е выступление будет 24 в сочельник в Турине, где открывается итальянский сезон Дягилева. После этого 10 января мы будем на 3 спектакля в театре Скала в Милане и к 15 января в Théâtre du Casino de Monte-Carlo.
Целую сердечно.
Твой Л.
Я приглашен в качестве хореографа и первого танцора труппы.
Пиши: Teatro Torino. Torino. Italia
261 9
Théâtre du Casino
Monte Carlo
27 марта [1927 г.]
[по штемпелю отправления]
Дорогой мой Мишенька, отвечаю на твое письмо от 8 февраля. Сижу на пляже, усталый. Ветер обдувает, море бурное, долетают брызги.
Ну, брат, запрягли меня вывозить тяжелый воз. Труппа наполовину новая, репертуара не знает, балеты мои так исказили, что едва узнаю. Кроме того, сделал две новые постановки, вторую только что закончил — еще надо учить. Первая вещь «Меркурий», который я давал в 1924 году в Париже. Я все забыл и поэтому принялся придумывать все как новое. Затем «Несносные»79 Мольера, который они ставили в том же году и провалили (ставила сестра Нижинского80), теперь на меня взвалили эту работу. Вскоре должен начать новый балет Прокофьева81, третий и последний в этом сезоне.
Когда однажды я возобновил вопрос об оплате долга82, то Дягилев заявил, что у нас процесс и поэтому я должен обратиться к адвокату в Рим (где сделан процесс). Это одна из тех тяжб, что длятся десятилетиями и кончаются ничем. А если обращаться к адвокату, то он попросит сейчас же денег на продолжение дела — сумму выигрыша. Поэтому я оставляю эту мысль и вместо этого стараюсь не упустить хотя бы настоящее. Дело Дягилева до сих пор имеет интерес к себе, благодаря исключительной организаторской способности Дягилева. Теперь сезон распределяется так: осенью Бельгия и Голландия или Италия, затем с 15 января по 6 мая — Монте-Карло (это верное дело). Из них февраль и март только опера83 (не Дягилева) с участием балета в ней, а с апреля и до конца — балетный сезон. После этого сейчас же 2 недели в Барселоне, затем 2 недели в Париже и 7 недель в Лондоне, где и кончается все 31 июля. В этом году есть предложение у Дягилева на сентябрь и октябрь в Южную Америку, но это еще не сделано.
У меня пока лучших предложений нет, а если и было бы, то уйти нельзя — будет скандал — а это все-таки известный ресурс, и ссора была бы очень вредна для будущего. Дело Дягилева везде в культурных центрах пользуется лучшей репутацией, поэтому в этом смысле я поступил хорошо для моего имени.
Только что мне прислали вырезку из Morning Post из Лондона, где одобряют мое возвращение в Балет Дягилева, а также упоминают о том, что после моих произведений 1919 года остальные, других композиторов, им показались гораздо слабее. Как балетмейстеру в труппе мне предоставлена полная свобода, а вот как танцору есть много препятствий, хотя на афише я значусь первым танцовщиком труппы. Но на деле Дягилев дает место другим — по причинам совсем не художественного порядка, а личным, — и это мне в большой ущерб, так как я в полной силе и как балетмейстер, и как танцор. Вот, например, «Трикорн»84, мой самый сильный по исполнению балет (испанский), который сделал мне буквально триумф в Париже. Дягилев ни за что не хочет дать его в этом парижском сезоне, основываясь на том, что это недостаточно старо и недостаточно молодо. Вместо этого дает мне первую роль в «Несносных» Мольера, где очень мало можно сделать в смысле популярного успеха и т. д. Это только один пример, а их множество.
262 Поэтому я все-таки горю желанием на будущий сентябрь ехать в Северную Америку и обосноваться там. Я все время действую через агентов по поводу Америки, но пока не нахожу ангажемента — вероятно, надо будет просто поехать на риск самому.
Раичку, ввиду того что дают льготные паспорта и, кроме того, Александр остался без места, я решил выписать теперь же. Не знаю, удастся ли им получить паспорта. Я написал в итальянское посольство в Москве Signor Piccolo (папа мне дал его имя и адрес), прося отсрочить итальянское разрешение на 3 месяца, с мая, но пока не получил никакого ответа.
Раиса хочет ехать через Харьков на Одессу — Brindisi — чтобы избежать расхода поездки в Москву. Я думаю, это правильно. Вероятно, они подадут заявление в конце марта, может, до мая получат паспорта.
С островами у меня много хлопот. Передал их в ведение надежному лицу, очень порядочному и честному пьемонтцу — Лагорио85. Это вызвало бурю скандалов с Николой, но теперь он понял свое положение и сделался послушным.
Я все внимание обратил именно на все, что могут дать острова в данный момент, посадил около 6 квинтелов (около 600 кило) картофеля, буду сажать помидоры в большом количестве. Землю всю вскопали, теперь уж, папа пишет, начинает всходить. Что будет надо для дома — сохраним, а остальное можно продать. Посмотрим, в чем этот доход выразится.
Виноград будет в 1929 году в порядочном количестве, так как был посажен в начале февраля 1926 года и надо считать не менее трех лет со времени посадки. Теперь также посадки — 1200 черенков вновь выписал из Сицилии.
Рыбу ловят, но пока немного — погода неверная. Да и Никола со своими историями забастовал. До начала марта всего поймал 120 кило, по счету папы.
Охоту стараюсь сдать, но дешево дают. Пока решил траву не продавать, а срезать и сохранить к будущей зиме. Если приедет Рая, надо будет завести коз или корову, и будет свой корм. Куры пока живы. Но не знаю, что из них будет. На один из островов насадили кроликов, разведутся — будет помощь.
Папа, вероятно, тебе пишет достаточно обо всем. Ведь он все это видит лучше меня.
Работы пока еще не начинали. Спасибо тебе за советы по контролю их. Когда строились террасы сухим путем, то я делал цену за каждый кубический метр. Что проверялось приглашенным специально лицом довольно точно. А остальные все работы, чтобы избежать расхода инженера (они здорово дерут в Италии), я делал поденно со всеми рабочими. Никола заказывал материал и следил, чтобы не ленились, а мастер вел работы.
В этом году я могу сделать лишь самые необходимые вещи — как улучшение дороги от моря, разборку башни для пользования цистерной под ней и так далее. И то я сомневаюсь. Ведь для поездки в Северную Америку надо иметь что-нибудь в кармане, а в случае неудачи чтобы было, на что вернуться и продержаться в Европе. Всегда надо ожидать худшего — не правда ли?
А в данный момент занят продажей автомобиля — хотя мне бесконечно жаль. Это было моим единственным отдыхом и удовольствием во время работы. Но ввиду неизвестного будущего и невозможности возить его всюду за собой, я решил это сделать теперь же. Если ждать еще год — цена упадет, даже если им не будут пользоваться, теперь же самый удобный момент — к осени.
263 Когда приедут Рая и Александр, мы обдумаем сокращение помощников и постараемся обойтись без них или же огородом, рыбной ловлей, куроводством заставить их окупать собственное содержание.
От Капри острова находятся в 12 – 14 милях, а от берега 1 1/2 мили, но все же это очень хорошее положение. Я также думаю сдать часть на лето и сделаю это, если охота не выйдет (охота будет целый месяц, с 20 апреля по 20 мая). Хотя с приездом Раи и Александра почти нечего будет сдавать. Деревянные постройки там редки. Я думаю, что дерево будет стоить дороже камня. Да и пока этого и не могу сделать. Может, после Америки и на каменную хватит.
Меня очень беспокоит отсутствие портовой стенки для защиты всех построек, находящихся под постоянным ударом волн. За недостатком цемента она не была вполне закончена, и теперь море выбивает ямы, благодаря отсутствию верхнего цементного пласта, фиксирующего подкладку.
В общем, у меня настроение такое: продать и избавиться от всего, что мне не нужно, и сосредоточиться на Италии; если же с этим не выйдет, то придется расстаться и с этим, хотя это покажет будущее. Улучшая остров, я тем самым повышаю его ценность и стоимость, и я думаю, что это не брошенные деньги.
Очень был рад успехам Лёли — сила воли и твердое желание успеха — большой залог удачи. Вот с Женей86, если у нее способности к музыке, то надо постараться познакомить ее в общих чертах с теорией музыки и с основами этого предмета, прежде чем останавливаться на каком-либо инструменте, развить ее слух, и даже простые песни, мне кажется, могут показать, насколько сильно у нее природное чувство музыкальности. Может быть, у нее голос будет впоследствии. Ведь это самый редкий дар из всех.
Я так редко пишу тебе, что пользуюсь несколькими днями перерыва (труппа ездила в Марсель на 3 дня, и я отдохнул слегка), чтобы побеседовать с тобой.
Вот если бы ты был в Италии, то мы бы скоро добились всего, чего хотим. Но дети без России воспитываться не могут, и отрывать их от родных полей было бы грешно. Тем более что есть свой угол.
Вот Соня, бедная, тяжело ей было в суровые морозы — мужской труд. Надеюсь, она поправилась теперь от всех нажитых болезней. Вероятно, холода теперь уже прошли, или к концу подходят. А вот ты сам работаешь много. Да мы с тобой оба недостатка в ней не имеем, только бы какое-нибудь удовлетворение.
Я принимаю теперь фосфор в разных приготовлениях, сначала со стрихнином, теперь с йодом. Это поддерживает в момент сильного переутомления, вдруг являются новые силы. (Прости за недописанные буквы, рука не слушается.)
Разумеется, Рая и Александр по приезде должны засесть за итальянский язык. Да ведь нам, русским, он легко дается. Как-то само собой запоминается.
Я думаю, что особенно скучно Раисе не будет. Да и Неаполь в 3 часах. Всегда можно скуку разогнать, если будет не в мочь.
Контракт мой прерывается на март и апрель, и работаю только над постановками. Это труд сверх контракта, и я могу его исполнить когда угодно, лишь бы было сделано к маю в Париже.
Я думаю, что Александр от солнечных ванн и моря поправится. А нет — какую-нибудь помощь все же принесет. Да и теперь, с потерей места, надо просто их спасти. А там будет видно. Пусть они все вздохнут немного.
264 Горячо тебя целую.
Сердечно твой Л.
Успех финансов Дягилева главным образом в Англии, благодаря высокому провинциально, и имеет мало значения. Во всяком случае, пишут много и говорят много. Это самое главное.
10
14 ноября 1927 г.
[по штемпелю отправления]
Braunschweig
Дорогой мой Мишенька, поздравляю тебя с днем ангела, желаю тебе здоровья и сил на многие годы.
Сезон начался поездкой в Германию, очень утомительной из-за переездов. С 7 по 14 мы были в Freiburg’е и Штутгарте, Dresden’е и вот теперь приехали в Брауншвейг. Затем маршрут такой: Hannover, Brüne, Прага, Хемниц, Лейпциг, Budapest. Все это до 1 декабря. Потом будем еще в Вене, Страсбурге, Загребе и так далее. В половине декабря играем в Женеве и затем 2 спектакля в Париже. Пиши мне, если понадобится, на мой парижский адрес — они мне перешлют.
Смольцова Ивана87 — если только это не его младший брат Виктор88 — я знаю по школе. Он был большим дурнем, но танцевал недурно. Может быть, теперь сделался серьезнее. Вреда он, понятно, Лёле не сделает, но мне трудно верить в его преподавание. Может, по выздоровлении Поливанова Лёля может вновь перейти к нему.
Следи за своим здоровьем. Если можешь — оставляй всю работу в случае боли в сердце. Это будет тебе лучшим сигналом, который не следует переходить. Из Франции я мог бы переслать тебе комфлюид, но ввиду пропажи лекарства, посланного из Лондона заказной почтой, — думаю не достичь цели.
Лебедка укреплена цементом и находится в глубине магазина, в центре. Яков89, кроме того, сделал салазки, которые подкладываются под лодку. Благодаря этому, он пишет, что выруливает лодку один с легкостью. Я велел ему в зимнее время втаскивать ее каждый раз, когда он ею пользуется. Надеюсь, что это будет исполнено. Салазки сделаны из бревна, которое папа выловил в прошлом сезоне из моря.
Пол разобран, но ввиду его тяжести, еще на месте. Как только будут люди, Яков снесет его в магазин.
Вскоре придут фруктовые деревья для посадки. Я выписал их в этот раз из Падуи, всего 50 штук. Надеюсь, что примутся лучше тех, что были посажены весной, так как за зиму корни должны укрепиться.
Пол обошелся сравнительно недорого, потому что вблизи Салерно много гор, покрытых сплошь лесом; ввиду того что он не привозной. А местная цена на дерево нормальная.
От засухи пострадал главным образом огород. Виноградники и фруктовые деревья удержались, ничего не погибло. Листва была настолько зелена, что приезжавшие с земли крестьяне говорили, что на берегу все более сожжено, чем у меня, и не могли понять этого феномена.
265 Ростки винограда достигли 3-4-х метров длины. Виноград был, но не успел созреть, как все сожрали ящерицы. На будущий год буду травить их отравленной водой, которая будет расставляться по всем террасам.
Цистерна срочно необходима, но у Якова нет времени на отрывание камней, а самое главное, я бы хотел лично присутствовать при этой работе — зная итальянских мастеров.
Поэтому придется подождать лета. Кроме того, точные размеры ее связаны с планом будущего дома, и мне надо раньше иметь план, чтобы не наделать ошибок. Я думаю найти русского архитектора в Париже, которому поручить это дело.
Я рад, что дети постепенно начинают тебе помогать. Это облегчит немного твои заботы.
Куриное хозяйство хотя и не дешевое, но себя оправдывает. У меня осталось вместе с цыплятами 55 штук. О минорках в Италии я слышал. Может, позднее будет время заняться куроводством более настойчиво. Кажется, Альбина, жена Якова, знает их и советует их приобрести.
Пока работа идет нормально — силы есть и есть время для отдыха. Трудная пора будет, когда начнутся новые постановки.
Я много думал о поездке в Америку в феврале. Это зависит от количества постановок. Если у меня будут две, то для их выполнения мне необходимо остаться в Монте-Карло, иначе я только сделаю затрату на поездку, пока не имеющую решительного характера, но и потеряю одну постановку, что будет убытком во всех смыслах.
Я получил ответ от своего бывшего директора, американца, который приглашал меня в 1923 году в Ковент-Гарден в Лондоне90. Письмо очень любезное. Лично он не может устроить для меня ничего, но рад помочь во всем, что понадобится. В данный момент он состоит директором одного из крупных кинематографических предприятий в Нью-Йорке. Теперь самый распространенный жанр балетного спектакля это 1/2 часа между большими фильмами 4 раза в день. Они дают возможность брать сколько угодно танцоров, имеют своих художников, огромный оркестр, хор и так далее. Я хочу попробовать это дело. Затруднений много, главное в том, что в Америке нет мужчин-танцоров, а если есть, то очень плохие. Для моих же постановок необходимы сильные технически мужчины91.
Письменно американцы дел не делают, поэтому надо ехать самому и показать им, что я умею делать. Их так много надували, привозя всяческую дрянь, что они больше не верят заглазно.
Будучи в Париже, я получил предложение ехать вместе с В. Немчиновой на зиму в Рим и на лето в Буэнос-Айрес. Это богатейшее предприятие, состоящее в связи также с Чикагской оперой. Вскоре жду деталей. Предложение было послано одним из представителей, которого я случайно встретил летом в Лондоне. Теперь горе в том, что я подписал контракт с Дягилевым и мне будет трудно уехать, не поссорившись окончательно, что было бы очень не мудро с моей стороны.
Но прежде дождусь подробностей, затем будет видно. Неустойки в моем контракте нет, а данные для нарушения налицо, так как я не стою на первом месте в труппе, как должен по контракту.
Мне кажется, что Звенигород слишком холоден для фруктового сада, разве яблоки, может, успеют созреть. Лето часто бывает дождливое. Я боюсь, что 266 это малопрактично и много влечет труда и забот. Мне кажется, вернее развести большой и разнообразный огород. Наши овощи так разнообразны и вкусны, что, может, засеять весь наш кусок земли только ими? Огород требует тщательного ухода и наблюдения. Это будет невозможно при его перенесении в поле. Результат его будет равен количеству потраченного на него труда и времени. Фруктовые деревья только забава при вашем климате, которая вскоре надоест при отсутствии результата.
О женитьбе думаю, но для этого хочу видеть Россию92, — здесь если и есть кто — то все уже разместились. Ломать вновь жизнь, не веря в ее будущее, лишь из-за детей, было бы слишком для меня гибельно. Вот так и жду.
Горячо обнимаю тебя, дорогой мой Мишенька.
Любящий Л.
Целую племянников. Хотел бы их всех видеть. Сердечный привет Соне.
Обними папу.
Лёля может написать мне несколько слов о преподавании танцев. Целую ее.
Л.
11
21 января [1928 г.]
[по штемпелю отправления]
Марсель
Желаю тебе много работы и здоровья в Новом году. Ты прав — душевное равновесие много значит в жизни всего организма, и, должно быть, потому оно так трудно нам дается. Лекарство обязательно купи и, испробовав, напиши мне его действие.
Все злоупотребления со стороны Дягилева являются прямым следствием того, что я не имел возможности составить свою труппу — а другого дела, как Дягилева, в Европе нет. (Павлова93 имеет огромный репертуар, но ее дело идет уже к концу — ведь ей за 40, и много.)
Относительно Рима и Южной Америки получил известие, что директор его был в Европе и вернулся в Чикаго. Жду новых известий и подробностей.
Однако надеюсь мало, так как если бы он хотел, то мог отлично разыскать меня и сделать дело.
Дягилев объявил мне, что ставит два балета — Стравинского и другой — молодого композитора Набокова94. Мне дают ставить балет Набокова (еще не знаю музыки и сюжета).
Я протестовал и хотел, чтобы мне как первому балетмейстеру дали наиболее значительную вещь, то есть Стравинского, на что получил отказ. Тогда я попросил, чтобы мне дали еще один балет (то есть 2, как и предполагается по контракту, что если будет 4 балета, каждый балетмейстер95 будет иметь 2, если же будет только 2, то я получу один).
Ввиду этого я решил не сидеть в Монте-Карло всю зиму из-за одной постановки, а воспользоваться моим правом отпуска на февраль и март и уехать в Нью-Йорк, где положить все силы, чтобы найти работу на будущую осень и зиму.
267 С этой целью я воспользуюсь теперешним пребыванием в Париже, чтобы заготовить как можно больше материала для Америки, то есть эскизы декораций, костюмов и музыку, и все прочее.
Если все это удастся, то 1 февраля я вернусь в Париж, чтобы забрать все необходимое, затем в Лондон, где также пополню запас вещей, и выеду 8 февраля из Southhampton на пароходе «Мавритания» в Нью-Йорк. Пробуду там по мере надобности до половины марта и вернусь в Монте-Карло.
Это путешествие должно будет решить мое пребывание у Дягилева на будущий сезон.
Когда мы были в Вене, я встретился с Рихардом Штраусом96 (я выступал первый раз за границей в балете «Легенда об Иосифе»97 с его музыкой). Он мне немедленно предложил, совместно с директором Венской оперы, быть их первым танцором и балетмейстером с будущего года с осени. Сам Штраус — директор их оркестра и пользуется большим положением в Венской опере. Это мне показалось любопытным. Я жду подробностей относительно условий и так далее. Так как это государственный театр, то проект моего приглашения должен пройти через Министерство, как мне объяснил сам директор.
Разумеется, я предпочту Америку Вене во всех отношениях98, если что выйдет.
Средство отравления ящериц применимо, так как они из любопытства лезут всюду. Их величина обычно 3 вершка, и они лазают всюду с легкостью. Относительно сада я думаю — не делай его, достигнешь maximum’а и с огородом.
О разведении минорок думаю — вопрос в том, чтобы найти ферму, которая бы имела их яйца, вблизи, чтобы получить их скоро и свежими. Я напишу Лагорио об этом.
Порт весь на чистом цементе — состав очень крепкий — с просеянным песком. Яков пишет — были большие бури, но пока все цело.
Кроме того, волны бьют в порт не по прямой, а сбоку, делая 3 зигзага.
Понятно, вода насыщена невероятно солями, и со временем надо будет поддерживать, хотя последние работы довольно основательные.
9 сантиметров мой нижний цемент с морским щебнем и поверх 6 — цемент с песком и особой землей. Сверху 1/2 сантиметра чистого цемента с малой долей песка.
15-го января.
(Продолжение после трехнедельного перерыва.)
Марсель.
Мое пребывание в Париже употребил на подготовку вещей для Америки. Ввиду того что заказы все на риск, сделать это чрезвычайно трудно. Надо было настолько заинтересовать возможностью успеха, чтобы согласились сделать всю работу бесплатно.
Если все исполнят, буду иметь несколько эскизов декораций и костюмов, чтобы было что представить в Америке.
Поездку решил окончательно. Постараюсь также предложить мои самые успешные балеты, данные у Дягилева. Я говорил с Дягилевым по этому поводу, и он согласен продать мне право на воспроизведение музыки, декораций и костюмов, так как хореография мне уже принадлежит99.
Теперь ввиду этой поездки у меня большая подготовительная переписка, со всеми, кто мне может помочь, и на это уходит время.
268 Риск, понятно, огромный — ввиду чрезвычайного расхода такого путешествия, но положение, как ты знаешь, настолько безысходное, что нельзя размышлять, а надо действовать — и скорее. Перед отъездом я напишу тебе мой адрес.
Я должен выехать, как пишу в начале письма, 8 февраля.
В преподавание Виктора Смольцова я мало верю. Напиши мне отчество Ивана Смольцова, и я пошлю ему несколько слов. Я понимаю хорошо твои соображения по поводу ее дальнейшего учения.
Турне подходит к концу, отсюда едем в Монте-Карло, где труппа будет до 1 мая. Лучше всего пиши мне туда Théâtre du Casino. Monte-Carlo. За мое отсутствие мне всегда могут переслать.
Предпринимать теперь работы на острове не смогу никак. Мысли о доме и цистерне сейчас надо отложить. Вот посмотрим, что выйдет из моей поездки. Виноградники ведь воды не требуют, как мне известно, а остальное не так уж важно; возможно, что летом успею все что надо сделать. Было бы будущее блестящее, думаю, все успею сделать.
Как материал для дома, вижу или салернский кирпич, или железобетон — теперь он очень в ходу везде. В Париже целые улицы строят из него, в Риме так же. Я был во время землетрясения в железобетонном доме в 5 этажей, и он не дал ни одной трещины — а это хорошее испытание.
Я очень рад, что Соня поправилась и что папа хорошо себя чувствует по возвращении из Италии.
Целую тебя горячо, сердечно, крепко.
Твой Леонид
12
15 июля [1928 г.]
[по штемпелю отправления]
Лондон
Дорогой мой Миша, только что послал тебе письмо, как получил твое от 27 июня. Очень прискорбно, что тебе удалось отдохнуть только 2 недели, хотя, по твоим словам, состояние твоего здоровья совсем не верное, и месяц перерыва тебе должны были бы устроить те, от кого это зависит. Так и зубы еще потерять можно. Нервы необходимо лечить безотлагательно, также и сердце. Ты непременно займись собой сейчас же.
Увольнению Г.100 несказанно рад. Надеюсь, что оно окончательное. Пусть Лёля занимается со Смольцовым в августе сколько потребуется, чтобы подготовиться хорошо к экзаменам в школу. Перед отъездом из Лондона я переведу 10 фунтов для нее. Ты мне напишешь.
Раиса [Мясина] пишет в подробностях о начале стройки. Папа им по опыту должен быть очень полезен. Расход, понятно, большой, но это предусмотрено. Но надеюсь, что результат будет положительный, и они смогут на зиму перейти в свой дом.
Из Нью-Йорка мой знакомый пишет, что говорил с Рокси101, который ему ответил, что будет рад со мной работать, если я приеду в Нью-Йорк. Однако он советует 269 иметь более конкретное письменное приглашение, прежде чем пускаться в путь. На этих днях я увижу Кокрана, моего лондонского директора. Он, кажется, думает обо мне для Нового года.
Яков пишет, что винограда будет порядочно. Я запросил Лагорио (заведующего моими делами) о средствах его утилизации, но еще не имею отчета. Сбор его будет осенью, кажется, не раньше конца августа.
Из фруктовых деревьев пока только фиговые дали плоды, а остальные еще растут. Если не устроюсь в Лондоне, то в Америке решится только в декабре, то есть в момент моего отъезда туда. Но я не боюсь, если надо, то поеду и без контракта — если осенью заработка в Париже не будет. Достаточно материала — решил твердо ехать.
Здесь кончаем 28 июля, после чего труппа будет играть еще 2 спектакля во Франции102, но я кончу здесь, отсюда поеду в Париж, где поработаю с Рубинштейн103 до 3 августа, затем в Италию. Отдых небольшой, так как 1 сентября должен уже начать работу в Париже у нее же. Дягилев едет в Нью-Йорк, где начинает сезон 5 ноября104. Они пробудут 6 недель в Нью-Йорке и 6 в провинции. Дягилев надеется, что я еду с ними.
Лезвия постараюсь послать в письме.
Сезон в Париже прошел неважно105, но не из-за Павловой106, а просто из-за недостатка хороших произведений, которые когда-то создали славу Дягилевскому балету. Теперь же он в полном упадке, так как сам Дягилев устал и бессилен, а его советчик исключительно бездарен107.
«Стальной скок»108, [который] я поставил в прошлом году, действительно мое самое сильное произведение за эти 2 года, что я у Дягилева. Мой балет новый — «Ода»109 имеет больше успеха у публики, чем у критики. К сожалению, музыка Набокова слаба, и сюжет принадлежит как раз этому бездарю, о котором я говорил выше, и ниже всякой критики. А при таких условиях трудно что-либо сделать порядочное.
Последнее время чувствую себя неважно, голова устала, потеря памяти и быстрое утомление мозга, притом плохой сон и так далее. Надеюсь, в Италии наверстаю сил — ведь будущий сезон предвидится не из легких.
Постараюсь выписать из Парижа и переслать тебе программу с иллюстрациями парижского сезона. Я забыл ее купить, а здесь нет.
Радуюсь твоим помощникам — это так приятно, должно быть, — несмотря на все заботы. Целую вас всех. Передай привет Соне.
Обними всех.
Л.
13
9 августа [1928 г.]
[по штемпелю отправления]
Isole de Galli Positano (Salerno) Italie
Дорогой мой Миша, вот я снова у себя. Приехал 7-го вечером, очень уставши. Все, слава Богу, в порядке. Виноградники поразили меня своей красотой 270 и плодотворчеством. Эту зиму было много дождя, и они поднялись, вытянулись ровно вдвое прошлогоднего. Посадки 25 года особенно меня порадовали. На них кисти, по несколько на каждом, тяжелого, обильного по количеству и вкусного винограду. Терраса (это, кажется, первая) имеет совсем другой вид и начинает походить на сад. Щиты, поставленные для защиты от ветра, завились ветвями винограда. Будет достаточно винограду, чтобы сделать немного вина к будущему году. Куры вывели более 100 штук цыплят, за зиму снесли более 1000 яиц и теперь несутся хорошо. Рыбный сезон плохой, потому что здесь появилась моторная барка, которая вылавливает буквально все. По закону такие барки не имеют права ловить так близко от берега. Это считается контрабандой, и с такими злоупотреблениями бороться трудно. Все же я хочу через знакомых моих выхлопотать из Рима привилегию, по которой я буду иметь законное право запретить всякую рыбную ловлю кому бы то ни было на известном расстоянии от островов.
Я займусь этим сейчас же, чтобы хотя бы к будущему году получить такую бумагу. Купание здесь чудесное, ни с чем сравнить нельзя, так хорошо.
Сегодня было 45 гр. по Réaumur на солнце, но благодаря ветру не так жарко. К сожалению, 1 сентября надо будет уже ехать в Париж, где я должен начать работу у Рубинштейн. Планы на будущий год выяснятся не раньше октября, когда я смогу получить окончательный ответ из Америки. Прежде чем его спросить, я хочу иметь определенное предложение от Кокрана, чтобы знать, как поступать в случае отказа Америки подписать мой контракт.
Мне, понятно, несравненно более хочется туда, тем более что я сделал такой огромный расход на поездку, который необходимо оправдать.
Дягилев пригласил подписать контракт «на тех же условиях» на будущий сезон, но я никакого ответа не дал.
По словам еврейчика, помощника Рокси110, последний никогда не решает своих дел заранее, так как даже свой спектакль они решают в воскресенье и в понедельник начинают его выполнять к будущей неделе. Кроме того, он сказал, что, возможно, будет торговаться. Тогда это потеряет смысл, и лучше будет принять работу у Кокрана.
Из Лондона я перевел тебе 20 фунтов, часть Лёле, часть на другие твои нужды.
Не будь Лондонского сезона — после зимнего расхода и дома Раисе пришлось бы трудно. Да и так я не смогу даже закончить начатой в прошлом году дороги — подожду результата этого сезона.
Приятно думать, как растут племянники. Лёля теперь, вероятно, начала уже подготовку к экзамену. Боюсь за учителя — мало верю в его знания и умение преподавать.
Крепко целую тебя.
Любящий Леонид
Адрес в Париже: c/o Lloyd N. P. F. Bank Ltd Bd [Boulevard] des Capucines. Paris.
Надеюсь найти квартиру со своей кухней. На 3 месяца стоит устроиться. Надоели отели и комнаты. Да и дорого и плохо.
Из Парижа выслал ножи Gilette. Получил ли ты?
271 14
19 сентября [1928 г.]
[по штемпелю отправления]
Париж
Дорогой мой Миша, благодарю за память и пожелания 4 сентября111. Я вернулся в Париж и начал работу. Труппа большая, 50 человек, все молодежь, многие на сцене еще не были, работают усердно, что благоприятствует делу112. Мне удалось найти небольшую квартиру вблизи работы, что очень приятно после долгих скитаний по отельным комнатам. Питаюсь я дома очень хорошо и совсем себя иначе чувствую. Рестораны надоели донельзя.
В жизни у меня перемена — я встретил ласковую, любящую и заботливую душу113 и вдруг почувствовал, что и у меня может быть дом и тот покой, о котором ты так верно заметил. Из письма папы ты подробно знаешь все.
16 сентября. За эту неделю так много работал, что некогда было взяться за письмо. Начал я 5 сентября, а вчера, 15 сентября, вчерне закончил мою первую постановку у Рубинштейн — «Царь Давид», которая длится не меньше получаса. Если работа хорошая, что пока трудно сказать, то это рекорд быстроты. Труппа в 59 человек очень юная, и почти все русские. Работают усердно, но почти никто не был никогда на сцене, что, понятно, отражается на восприятии и требует большего времени на выучивание движений. Следующий балет — «Les Enchantements d’Alcine», тема которого заимствована из Ариосто, — много сложнее «Давида». Я начинаю его на днях.
Я обрадовался всем переменам в Театральной школе114, но частным путем я слышал, что с вечерних курсов в театр приглашают с большим трудом, и еще очень важное обстоятельство это то, что из Школы при выпуске не всех принимают на сцену.
Это заставляет меня думать, что особенно не надо стремиться в Школу, так как никаких гарантий о приеме в Театр она не дает. Нормально в 16 лет, то есть на будущий год, Лёле следует быть уже на сцене, в 17 — самое позднее. За границей ее можно устроить в одну из существующих трупп, и лучше всего в то дело, где буду я, чтобы вначале ей было легче. Разумеется, это в случае невозможности попасть в московский Театр, что предпочтительно во всех отношениях.
Кур зимовало на острове штук 40. За зиму было продано 800 яиц, что и оправдало их прокормление. Кроме того, я за мое пребывание имел по 10 яиц еженедельно и съел. В будущем я тоже займусь в более широком размере птичьим хозяйством, а твой опыт и советы помогут мне в достижении.
Инкубатор был бы весьма применим, так как сбыт кур и яиц при наличности моторной лодки очень легок. Как раз теперь проходит сбор винограда. Любопытно, сколько выйдет вина и какое оно будет на вкус.
По слухам, Смольцов преподает удовлетворительно и вреда не сделает — это уже важно знать.
В Лондоне я виделся с помощником американского директора, которого вызвали срочно в Нью-Йорк. На днях получаю от него каблограмму115: «Вы нужны немедленно, телеграфируйте дату выезда». На это ответил, что могу выехать 30 ноября, и просил, чтобы подписали мой контракт и передали его моему агенту в Нью-Йорке, Понятно, узнав, что я так поздно свободен, они торопиться с ответом не будут. Все-таки логично думать, что если они с февраля прождали до сентября, то 272 подождут еще до декабря. Одновременно получаю другое предложение в Америке, подробности которого мне еще неизвестны. Интересно, что оно идет от человека, который должен везти осенью в Америку Дягилева. Он был в Лондоне теперь и видел весь наш сезон и все мои постановки.
Буду работать и надеюсь, что в Америке удастся. У Дягилева не буду — бессмысленно.
Поцелуй Лёлечку.
15
19 июня [1929 г.]
[по штемпелю отправления]
Roxy Theatre, Нью-Йорк
Твое последнее письмо от 25 апреля я получил. Мои новости в данный момент очень тревожные. А именно — я больше не имею постоянного места у Roxy с 15 июня. Ввиду продолжительных крупных недельных потерь Fox (владелец фильмов)116 вынуждает Roxy перейти на более легкий жанр увеселений. Поэтому убрали хор совсем и вместо балета, с теми же элементами, дают номера американского жанра.
Воспользовавшись моментом, мой враг, помощник Roxy117, настоял на том, чтобы меня не считали на постоянной службе как балетмейстера. После первого предупреждения я пошел к Roxy. Он спросил меня, могу ли я найти работу на 6 – 8 недель, пока у них не придут хорошие картины и не поправятся дела. Я сказал, что нет. Тогда он взял свои слова обратно и сказал, что я буду служить, но что мне придется пожертвовать и принять уменьшенное жалованье. На это я и согласился. Неделей позже его помощник имел с ним разговор, результатом которого было письмо от Roxy о том, что они будут занимать меня лишь изредка до тех пор, пока не смогут дать мне постоянного места, но это лишь пустые слова — я их слишком много слышал. Так что положение мое сейчас плохое. Сколько оно продлится, трудно сказать. Здесь все так быстро меняется. Я советуюсь с моими агентами, что предпринимать — но теперь лето и притом такая жара, что можно потерять рассудок. В Италии в июне прохладнее, чем здесь. Уехать нельзя. Это бы значило потерять все, чего добился здесь за эти месяцы. Поэтому надо запастись терпением и настойчиво добиваться дела. Вот только обстоятельства дорогой жизни здесь очень затрудняют положение. Женя [Деларова] продолжает служить у Roxy, но перейдет в другое место, если выяснится, что меня там окончательно не будет.
Сверх всего у меня большие затруднения с моим пребыванием здесь, так как пока мне отказано в продолжении на 6 месяцев, а первый срок (6 месяцев) уже прошел, и власти требуют, чтобы я выехал до 1 июля. Я действую через знакомых здесь — не знаю, удастся ли.
Все это очень сложно и не вовремя.
К сожалению, Roxy — не интеллигентный человек, и потому его помощник, который играет с ним по ночам в карты, будет всегда иметь бóльшую силу, чем кто бы то ни было другой.
22 июня. На днях должен получить ответ окончательный по поводу продолжения моего пребывания здесь. В случае отказа придется ехать в Лондон — другого выхода нет.
273 Раисе послал 5 фунтов. Сегодня получил от нее письмо, обиженное, полное доказательств о верности ее сметы и так далее. Но теперь я не знаю, как я смогу это сделать и в уменьшенном виде. Я еще пока не писал ей о резкой перемене в моих делах.
В Италии тоже неладно. Альбина, жена Якова, чуть не умерла от заражения крови вследствие запущенной стертой ноги от башмака.
У нее опухло все тело, и заражение дошло до пояса. Спаслась она тем, что весь яд вышел в нарывы, которых у нее было больше сорока.
Это совпало с ее беременностью. Наконец, в мае у нее родился ребенок, и все кончилось благополучно. Теперь она вновь на острове, ибо в течение болезни ей пришлось быть в Позитано.
Виноградники, пишет Яков, в очень хорошем состоянии, но винограда мало. Я жалею, что не сделал зимой химического удобрения — это бы наверно помогло. Прошлогоднее вино разлили в бутылки. Лагорио говорит — очень вкусное.
25 июня. Я, кажется, писал, что у Альбины зимой умер отец, и она вместе с Яковом ездила в Палермо, где ее дом. На обратном пути они вернулись вчетвером, так как ее брат и ее мать после смерти ее отца не хотели остаться одни в доме. И вот теперь вся компания переселилась на остров. Надеюсь, в конце лета они вернутся обратно в Палермо.
Здесь теперь такая жара, что, не будь у нас возможности выезжать на воздух, мы бы не выдержали. Настоящий ад. Я даже в Италии ничего подобного не испытывал. Ночью так душно, что нельзя спать. Температура совершенно одинаковая круглые сутки. Много смертных случаев. Это сильно отражается на сборах, и, несмотря на специальную охладительную систему внутри театра, народу немного, и потери Roxy продолжаются.
Очень приятно, что твое хозяйство входит снова в колею и животному помогают не хуже прежнего. Хорошо, что ты гарантировал себя страховкой.
Твои рассуждения по поводу стройки Раисы очень существенны, и я очень жалею, что она не списалась с тобой, прежде чем сделать все коренные ошибки, на которые ты указываешь. Погреб, она пишет, им необходим для сохранения картофеля зимой, ибо на рынке он очень дорог. В общем, ее смета остается, за исключением забора, и достигает 870 рублей. Не знаю, как я смогу это сделать при настоящем положении дел. Ведь 50 фунтов это только 450 рублей, и надо почти столько же еще. Правда, это ей будет угол навсегда, но ведь можно было сделать в пределах возможного.
Ты хорошо делаешь, что следишь за состоянием здоровья, не запуская болей. Я думаю, что межреберная невралгия — явление временное, и, может, летнее солнце будет хорошим врачом от этого недуга.
Об Италии пока не думаю. Вероятно, придется пожертвовать этим летом, чтобы выяснить окончательно работу на будущий год.
Уезжать, не имея ничего впереди, было бы безумием. Сезон здесь кончается в апреле и начинается в сентябре, но кинематограф и музыкальные комедии, даже драма, идут все лето. Здесь более ста театров, не считая кинематографов.
Женя благодарна за память и шлет тебе привет. Поцелуй всех племяшей, они, наверно, теперь наслаждаются звенигородским летом. Сердечный привет Соне.
Искренно твой Леонид
Недавно разговаривал о Москве и о театре. Мне очень советуют сделать несколько постановок в Большом театре.
274 Я хотел бы поработать в Москве и поставить мой испанский балет и еще два из моих лучших.
Досадно, что не пропустили мои рецензии. Я послал их целую папку из всех американских газет. Итак, все пропало.
16
1 декабря [1931 г.]
[по штемпелю отправления]
Savoy Hotel. London
Дорогой мой Миша, прости, что очень долго не отвечал на твое письмо. До последнего момента я не знал, что буду делать в этом сезоне, куда меня бросит судьба. Мой сотрудник меня страшно подвел, тянув все время и откладывая сезон «Русского балета» в Нью-Йорке118. Вместе с тем я порвал с Рокси, и вернуться в Нью-Йорк, не имея определенного ангажемента, значило бы огромный расход и тяжелую без результата зиму. Дела очень плохи везде, и в Европе, и в Америке. Колебание доллара заставило меня лишиться небольшого дохода, который я имел от падения фунта, непосредственно отразилось на моем постоянном заработке.
Я начал работать 15 ноября в Милане119, в «Scala», где мне предложили две постановки. Первая пройдет 21 января, а вторая — 15 февраля. Между тем, я поставил «Прекрасную Елену»120 у Кокрана и пробуду здесь до Рождества, затем вернусь в Милан (Teatro alla Scala. Milano). Это все, что я смог в этом сезоне. Что буду делать весной и летом, еще не знаю. В Америку ехать будет поздно, да и незачем, а в Европе не вижу пока ничего серьезного. Как видишь, дела совсем не блестящие. Между тем Женя [Деларова] ввиду моих переездов не может нигде работать.
Я прочел объявление о возможности посылок вещей и продуктов, а также покупок их в Москве, как ты пишешь. Разве пересылать тебе вещи можно только в Торгсине? Может быть, есть и в других местах? Слышал, что там небольшой выбор и трудно подобрать что-нибудь подходящее.
Очень рад, что Костя идет быстро вперед. Он добьется своего и будет хорошим и полезным работником. Лёле на театр рассчитывать не надо. Женя часто рассказывает, как трудно там устроиться, даже окончив государственную школу.
Сейчас мне очень трудно помочь тебе, не видя ясно работы на весну и лето. Надо подождать немного. Во всяком случае, мне легче посылать тебе через знакомых, если тебе приносит пользу.
Папа живет на острове. Теперь ему трудно. Из-за плохого моря нет сообщения. Он чувствует себя хорошо.
С каждым годом делается все труднее и труднее жить и работать. Со смертью Дягилева обрушилось единственное светлое дело. Всюду кризис — крахи — тревожное настроение, что в сильной мере отражается на театре и всех, кто от него зависит. Все артисты без работы, перебиваются теперь кое-как.
Горячо тебя целую. Прости, что не могу сейчас же выполнить твои желания. Целую племяшек.
Твой Л.
275 17
17 декабря [1931 г.]
[по штемпелю отправления]
The Midland Hotel. Manchester
Дорогой мой Миша, 16 декабря, утром, я послал тебе телеграмму о том, что папа серьезно болен сердцем, и в тот же день вечером вторую телеграмму о его кончине.
Вот как это произошло. 9 декабря я получил телеграмму от Лагорио, что папа болен, письмо следует. Я немедленно распорядился, чтобы к нему вызвали доктора и перевезли его в Позитано, подозревая, что это простуда. 13-го я получил сведения, что папа не хотел поехать на землю к докторам и что он мне ответит сам. Я также послал ему телеграмму до этого, прося его не противиться переезду на берег.
Я вызвал доктора из Сорренто.
15-го в 12 часов дня я получил телеграмму от папы: «Опасность почти миновала — приезжать не надо — доктор из Сорренто помог — нахожусь в Позитано — болезнь miocardite iposistolia (воспаление сердечных мускулов, которые сжимаются)». В этот же день в 6 часов вечера новые сведения от Лагорио — «Отцу хуже. Ваше присутствие срочно». Посоветовавшись в Лондоне с хорошим доктором, я телеграфировал, чтобы немедленно вызвали сердечного специалиста из Неаполя, перечислив все срочные подкрепляющие средства, посоветованные доктором, и дал свой адрес в Манчестере, куда я должен был выехать вчера днем.
По приезде туда я нашел срочную телеграмму: отец скончался в ночь на 16 декабря, о чем я немедленно телеграфировал тебе и Раисе.
Я вчера решил ехать сам, но Кокран меня остановил. Дело в том, что я ставлю для него вещь, которая почти вся на моей ответственности121. У меня на руках 60 человек артистов, и по контракту с ним и театром он должен начать 23 декабря. Случись это неделей раньше или накануне открытия, он бы меня не удерживал, но оставить работу в данный момент значило бы провалить все и разорить его, так как ничего как следует не сделано и не закончено.
Кроме того, доктор сказал мне, что отец или переживет кризис, или все равно я не застану его в живых, если даже выеду немедленно. Он был прав.
Поэтому вчера в 9 утра выехала в Позитано Женя [Деларова] и приедет туда в пятницу в полдень. Аэропланного сообщение с Неаполем ежедневного нет, только по субботам, а есть в Рим — с двумя пересадками, что будет почти столько же, сколько поезд.
Поэтому я один в этом чуждом мне городе оплакиваю потерю дорогого папы, которого я всем сердцем любил и так хотел продлить и улучшить его последние годы. Даже не мог обнять его на прощанье, он умер на руках Якова и Лагорио в ночь на 16 декабря.
17 декабря. Только что вернулся с панихиды, которую отслужил здесь в Греческой церкви, — немного успокоился.
Послал телеграммы, чтобы выписали православного священника из Неаполя и служили бы панихиду на дому, если Католическая церковь этому не воспрепятствует и разрешит. Потом его похоронить на их кладбище. Отпевание должно быть совершено завтра, 18 декабря, около 1 [часу] дня, Женя приедет в Позитано около 12 [часов] дня и успеет на панихиду.
276 Я распорядился обо всем по телефону. Очень тяжело, что не увижу в последний раз отца, как хотел бы всем сердцем.
За день до первой телеграммы о его болезни папа написал мне хорошее письмо, Раичка его тебе перешлет. По нему ты увидишь, насколько неожиданными пришли его болезнь и смерть.
Я так мечтал сохранить отцу его последние годы и дать ему спокойную жизнь до конца его дней. Видимо, не судьба.
Я рад, что Женя будет присутствовать на похоронах. Мне бы не успеть, даже если бы я выехал вчера ночью. Приду помолиться на его могилке, как только освобожусь здесь — вскоре после Рождества.
Горячо любящий тебя, сердечно твой
Л.
С 1 по 15 февраля я буду в Милане (Teatro Scala).
Пиши: Teatro Scala. Milano.
18
7 марта [1932 г.]
[по штемпелю отправления]
Savoy Hotel, London
Дорогой мой Миша, прости, что долго не писал, был очень занят, имея несколько срочных постановок и очень немного времени для их выполнения. Страшно измучился. Октябрь и половину ноября провел в Милане, работая над постановкой восточного балета «Белкис»122, затем поехал в Лондон, где поставил «Прекрасную Елену» с Кокраном и Рейнхардтом. 1 января вновь вернулся в Милан, где закончил постановку «Белкис». 24 января вернулся вновь в Лондон на неделю, чтобы провести репетиции перед открытием «Елены» (началась она в Манчестере). 1 февраля вернулся в Милан и сделал вторую постановку123, которая прошла 16 февраля, а 18 февраля я уже репетировал балет в Монте-Карло, где образовалась небольшая труппа, остатки «Русского балета»124. Закончил эту постановку 1 марта и выехал в Лондон, где начинаю завтра работу над «Miracle»125, большой пантомимный спектакль, который ставит Рейнхардт в Лондоне. Я делаю все действие и танцы, принимаю сам участие в одной из главных ролей. Пойдет эта вещь в начале апреля.
Все, что я сделал до сих пор, прошло очень хорошо и успешно, но устал я неимоверно — не меньше чем в Америке. Почти все переезды я сделал на автомобиле, что тоже нелегко ввиду зимнего времени и больших расстояний, но это было моим единственным отдыхом. Женя была все время со мной и помогала, чем могла.
Несмотря на мое горячее стремление, мне так и не удалось поехать на могилу отца. Похоронен он на позитанском кладбище, на самом красивом месте, откуда божественный вид, отдельно от всех. Я пришлю тебе фотографию. Как рассказывают доктора, папа умер от переизбытка крови, которое причинило разрыв артерий и кровоизлияние в очень большом размере. Сердце у него было еще здоровое и крепкое. Надо было периодически прикладывать пиявки и ставить банки. Папа этого не знал и никогда об этом не говорил, а ведь это можно было легко сделать. 277 Антонино126 пишет, что он после нашего отъезда вскоре спал у самого окна — очевидно, ему было уже трудно дышать.
Мне все кажется, что его можно было спасти. Он был необыкновенно бодр и крепок, и его смерть очень преждевременна. Я не могу привыкнуть к мысли, что его больше нет, и мне будет безумно тяжело ехать в Позитано и на острова. В Милане мы служили панихиду в русской церкви, первый раз, по возвращении Жени из Позитано и, второй раз, на 40-й день после его кончины.
Твое и Сони письма я получил.
Пиши мне на этот адрес, а позднее я пришлю тебе адрес квартиры, так как в отеле долго оставаться неудобно.
Как идут занятия племянников?
Как ты себя чувствуешь и как здоровье всей семьи?
Крепко целую тебя.
Твой Л.
Сердечный привет Соне. Целую племяшей.
19
29 мая [1932 г.]
[по штемпелю отправления]
Lyceum Theatre. Strand. London
W6
Дорогой мой Миша, наконец-то собрался ответить на твое [письмо] от 13 апреля. 16 мая я послал тебе десять лезвий Жилет — получил ли ты их? Немного позднее послал ₤ 10 фунтов через Торгсин. Очень рад, что Лёля окончила научную школу и подходит к концу техникума и Костя также подвигается вперед. Так незаметно у тебя будут взрослые помощники — есть чем гордиться.
Я продолжаю выступать в «Miracle». Даем 9 спектаклей в неделю, но воскресенье свободное. В общем, много меньше утомляюсь, чем в Америке.
Кроме того, два раза в неделю беру уроки у Николая Легата127, который здесь имеет студию, — он замечательный преподаватель.
Думаю, что пробудем здесь до августа, если сборы не упадут, а может быть, и позднее. Сейчас здесь находится проездом Roxy. Он приглашает меня на открытие «Radio City» в Нью-Йорк в декабре этого года128. Но пока все только на словах, а контракта от него не добьешься. Я боюсь, чтобы вновь не попасть в старые условия и не иметь заслуженного положения. В новом театре будут 2 спектакля ежедневно, и программа будет меняться один раз в месяц — это уже много легче, чем у Roxy. Посмотрю, как будет в Европе; если очень плохо, придется поехать на риск.
На островах сейчас кончилась охота, которую я сдавал, и я делаю ремонт дома и террасы снаружи. Очень она уже обвалилась, и сырость проходить стала зимой внутрь и портить штукатурку. Работа пройдет не меньше 2-х месяцев.
Потеря папы для меня очень трудна. Я все думаю, что если бы вовремя оттянуть кровь, то его можно было спасти — ведь сердце у него было крепкое и здоровое. Мне очень тяжело сознание, что я недосмотрел и допустил его преждевременную кончину.
Я пришлю тебе снимки его.
278 Горячо целую тебя.
Твой Леонид
Мы часто слушаем Москву и Ленинград по радио — это очень сильное ощущение — ведь расстояние огромное.
Целую племяшей. Привет Соне от меня и Жени.
20
8 октября [1932 г.]
[по штемпелю отправления]
Positano (Salerno). Italie
Дорогой мой Миша, я получил твое письмо от 9 сентября. Вот уже почти два месяца, как мы отдыхаем. Очень приятно остаться здесь немного больше, чем всегда. Погода все время была безукоризненная, вот только последнюю неделю ветрено и море довольно бурное. Рабочие заканчивают дорогу из порта в дом, которую я решил доделать в этот раз. Около 15 октября мы едем в Сицилию дней на десять, чтобы посмотреть там греческие памятники.
Дороги там прекрасные, и, я думаю, для машины это будет легко по сравнению с поездкой через Доломиты.
Наиболее интересные города, которые я наметил, следующие: Мессина, Таормина, Катания, Сиракузы, Агридженто, Селинунта, Сегеста, Палермо, Чефалу. В каждом из них есть греческие храмы, греческий театр и много скульптуры. По ценности Сицилия считается чуть ли не выше самой Греции. Кроме того, в Палермо есть византийские мозаики лучшего периода. Все это мне послужит на пользу. Из Сицилии мы поедем через Швейцарию в Париж. Такие путешествия возможны только на автомобиле, так как в поезде это стоит в три раза дороже. Я рассчитываю на постановку с Рейнхардтом в Берлине129, но пока нет новостей — очевидно, условия не позволяют.
Радио Сити в Нью-Йорке, вероятно, откроется только весной из-за долгой забастовки рабочих на подъемных машинах. Таким образом, у меня остается пока только зимний и весенний сезон в Монте-Карло, во время которого я надеюсь поставить 2 или 3 новых балета и возобновить несколько лучших старых130. Оказывается, Ray Goetz131, который приобрел весь материал132, до сих пор не заплатил ничего за склад, где он хранится, и хозяин последнего решил продать все с аукциона. Я уже посоветовал организации в Монте-Карло приобрести его. Это должно быть сделано вскоре, надеюсь, что это им удастся133. Тогда я понемногу могу вспоминать и ввести в их репертуар все, что окажется возможным.
Я бесконечно рад за Лёлю и ее успехи. Она мне писала из Воронежа. Хорошо, что ее выпустили корифейкой134. Это имеет значение в особенности для начала карьеры. Приятно, что Костя и Женя [Мясина] также подвигаются быстро вперед и скоро будут самостоятельными.
Машину я дал просмотреть перед отъездом из Лондона. Были поставлены новые шины, очищен от угля весь мотор внутри и промыта вся система, снабжающая мотор бензином, в том числе и карбюратор, также подтянуты все гайки.
Теперь надо смотреть главным образом, чтобы было чистое масло и в нужном количестве, и смазывать трущиеся части. Тормоза в порядке, надо только подтянуть их, чтобы действовала быстрее педаль при ее нажиме.
279 Плодовые деревья есть. В этом году были ранние персики — до нашего приезда.
Дело в том, что всех их слишком бьет ветер и нужна сильная ограда, которую нелегко сделать. Я сделал ошибку, надо было сажать плодовые деревья, растущие только понизу, не выше метра, тогда результат был бы лучший. Посадки сделаю этой зимой около дома — главным образом сосны. Кроликов нельзя развести, так как они съедают корни растений и таким образом уничтожают свой корм.
Я рад, что ты наконец имеешь отпуск — жаль, что не летом. Вероятно, и купатку135 уже холодно.
Мраморную плиту и крест на кладбище поставил. Нужна решетка, так как кладбище не огорожено.
Снимки с моего балета пришлю из Парижа. Здесь нет. Крепко целую тебя и племяшей. Сердечный привет Соне.
Сердечно твой Л.
21
[На бланке:] Hermia
Palace Pieštany.
23 мая [1935 г.]136
[по штемпелю отправления]
Covent Garden Opera House. London W. C. England
Дорогой мой Миша, сегодня ровно год, как я писал тебе последний раз, — стыдно так долго молчать — ты, наверно, не раз меня поругивал за это. Работа и жизнь становятся все сложнее и ответственнее с каждым днем. Попробую рассказать тебе по порядку все, что произошло со мной за этот период, — придется вернуться назад к прошлому лету.
В Лондоне был блестящий сезон137. Чудный театр, оркестр и всегда масса публики и успех. Чтобы урегулировать вопрос дома и дягилевского имущества, я обратился к отличному театральному адвокату. После сложных и длительных переговоров я заключил два контракта — один, касающийся моего личного участия в деле, и другой, устанавливающий мои права на имущество, которое я продал — не видя лучшего выхода — в рассрочку, на 12 месяцев, вложив в сумму продажи ту сумму, которую я дал вначале на приобретение этого имущества.
Платежи начались с прошлого ноября, и пока все обстоит благополучно — ибо контракт сделан превосходно. Ты скажешь — наконец-то взялся за ум. Да, это действительно надо было сделать, иначе я намаялся бы и потерял бы все, что одолжил.
Отдохнул я всего 2 1/2 недели, хотел остаться еще 10 дней и поехать прямо из Неаполя, но американский директор [так] настойчиво требовал отъезда из Европы с труппой и приезд в Мексику к сроку, что я не решился поступить по-своему, о чем страшно потом сожалел. По положению вещей я увидел, что мог прекрасно отдохнуть еще 10 дней на острове, и тогда, может, не случилось [бы] всех несчастий с ногой, которых в этом сезоне было три.
280 Мексика совершенно дикая — восхитительная страна, но танцевать там немыслимо, ибо город Мехико находится на высоте 8000 футов над уровнем моря. Приехав туда с полуотдохнувшим организмом и ногами, я должен был напрягать через силу мускулы, чтобы побороть недостаток дыхания и, следовательно, недостаток сил. Казалось, все шло благополучно. Мы открыли новый театр. Публика, давно не видавшая балета и мало его понимающая, стала понемногу приходить в восторг.
Но, к несчастью, для народа, который не мог попасть в театр, нам пришлось дать 2 спектакля на открытой арене, где происходит бой быков. Один спектакль прошел благополучно, а на втором лил дождь, и сейчас же, как он утих, я должен был танцевать свой самый трудный балет «Трикорн» (испанские танцы), и во время него я поскользнулся и [повредил] внутренность правого колена (затронут внутренний хрящ). День или два я не танцевал, а потом, благодаря электрическому нагреванию (диатермии) и ручному массажу, колено поправилось, хотя и чувствовались временами боли внутри. После Мексики, где, кстати, у меня украли во время занятий на сцене все мои драгоценные вещи, 2 кольца, золотые часы с цепочкой и золотой карандаш с надписью от автора за «Легенду об Иосифе», — мы поехали в утомительное турне — 90 городов в 5 месяцев.
Оно началось в Канаде, затем в ноябре мы приехали в Буффало, около Ниагары. В этом городе, в маленьком театре, на скользкой сцене я танцевал труднейшую вариацию «Синей птицы» из «Спящей красавицы»138. Во время танца падал с высокого прыжка, больное колено сдало, подвернулось внутрь, и я сел на него и не мог подняться, со сцены меня унесли прямо в госпиталь. 3 дня я пролежал с тугим бандажом, затем неделю ходил на костылях и только через месяц снова начал танцевать в Чикаго.
Доктора, ортопеды, в Америке превосходные и массажисты тоже.
К счастью, я приобрел караван — спальный вагон, который прикрепляется к автомобилю. В нем я питался и жил во время болезни, и это несколько смягчило условия путешествия с больной ногой.
В Калифорнии мы взяли служившую у меня раньше русскую прислугу и ее сына — который теперь правит машиной. (У меня теперь Линкольн в 50 сил. Я приобрел его по случаю в прошлом году в Нью-Йорке.) Во время поездки нога постепенно стала поправляться, и все время я танцевал и ставил новую постановку, между спектаклями и переездами. Я сделал «Jardin Public», взятый из романа Андрея Жида «Фальшивомонетчики» с музыкой Владимира Дукельского139 (все вместе не особенно удачно), и возобновил «Бал»140, который был поставлен Дягилевым в 1929 году, — тоже не блестящая вещь (главным образом слаба музыка).
24 мая
В Америку взяли с собой мою коллекцию, которая все время лежала на складе в Лондоне. Я сделал выставку в Чикаго, в Толедо и в Нью-Йорке и продал несколько картин. Теперь я поручил галерее в Нью-Йорке устроить этим летом и будущей зимой целый ряд выставок в больших городах, с целью продать как можно больше, так как, пока нет нового дома (и не знаю, будет ли он), на острове — держать картины мне негде, да и бессмысленно, так как я почти никогда их не вижу.
281 23 марта, по окончании турне, мы выехали в Европу. Я взял [с] собой прислугу, шофера и караван — все это большая обуза при переправе через океан, но здесь я им часто пользуюсь вместо ресторанов, и это оплачивает расход на перевозку его. Я пришлю тебе снимки с него — к сожалению, я не захватил их с собой.
Сезон в Монте-Карло прошел благополучно, но к 3 мая мы приехали в Барселону на двухнедельный сезон. Нога моя совершенно поправилась, и я танцевал во всю силу. После Барселоны, вместо сезона в Париже, у нас перерыв в две недели перед сезоном в Лондоне, который начинается 11 июня.
Почувствовав себя в Испании, я решил, что должен станцевать «Трикорн» в десять раз сильнее, и во время моего танца от слишком сильного удара вытянутой правой ногой у меня снова выскочил злополучный хрящ. Кое-как дотанцевав вариацию и еще один танец вслед за ней, я должен был после этого остановиться, и следующий балет, «Шехеразаду»141, отдал своему заместителю.
В театре был доктор-ортопед, который отвез меня в свою клинику, и там в продолжение часа вчетвером мне вертели и тянули ногу, не умея поставить хрящ на место. Колено после этого вспухло, и ни ступить, ни вытянуть его я больше не мог. На другой день к вечеру мне указали в городе простого костоправа. Я отправился к нему, и после трех дней он вправил колено на место, и я смог ходить без палки, но, разумеется, на согнутом колене.
19 мая, не теряя больше времени, я вылетел на аэроплане из Барселоны в Штутгарт и оттуда через Вену приехал поездом в Пьештяни для лечения грязями и серными ваннами — откуда я тебе пишу. Это место совершенно исключительное по природным данным. Здесь на середине реки Вааг находится островок, образовавшийся на поверхности вулкана, площадь которого занимает 20.000 квадратных метров. На глубине 3-х метров из этого вулкана выходят серные источники вместе с черной грязью, температура в 67° по Réaumur. Кроме серы, эта грязь содержит в себе соли радия, и действие ее совершенно чудотворно.
Это место очень известное, сюда приезжают со всех концов света на костылях и уезжают здоровыми.
Курс лечения длится от 3 до 4 недель. Пока я сделал 4 грязевые и серные ванны. В результате опухоль почти прошла, и я могу почти без боли выпрямить ногу, хотя вступить на нее все еще больно при вытянутом колене, но доктор говорит, что это должно постепенно пройти. Грязью мне обмазывают до бедер обе ноги, и я лежу закутанный в клеёнку и одеяла 40 минут, затем 20 минут купаюсь в серной ванне. И после этого еще лежу закутанный 20 минут. Температура грязи 40° Réaumur, а воды 32° Réaumur. Позднее я буду купаться в бассейне серной воды, где на дне натуральная грязь, которая все время выходит понемногу из земли. Ноги погружены в нее до 40 сантиметров. После этого днем я делаю диатермию колена и ручной массаж. Очень верю, что все вместе — а главное грязи — должны залечить мое колено. Да и вообще поправить мой слишком переутомленный организм. Давно пора было это сделать, тогда, может, и не случилось [бы] всех моих несчастий. Проведу здесь до 9 июня, а если не поправится нога, то до 19 июня, — опоздаю на неделю в Лондон, но лучше уж вылечить ногу основательно, чтобы потом забыть о ней надолго.
Женя [Деларова] поехала на лечебный курорт во Франции142, к ней приехала мать. Машина и караван у нее, а я здесь один. Условия жизни очень хорошие, 282 питание тоже. К сожалению, ортопедов-специалистов здесь нет, мой врач — физиатр143, профессор университета. Он главным образом дает предписания для грязей и ванн, так как температура и количество времени варьируются в зависимости от выносливости сердца и хода лечения.
В Италии все идет нормально. Теперь я поручил виноградники очень опытному садовнику из Позитано, и должны быть лучшие результаты. Есть новые снимки с дома и дороги. Я пришлю тебе из Лондона. По запросу неаполитанских властей Морское министерство постановило сделать на острове большой вертящийся маяк. В мое отсутствие они запросили Лагорио, который, не уведомив меня, дал согласие. Теперь я стараюсь остановить это постановление, но вряд ли удастся. Маяк будет стоять на нижней части острова, надо будет добиться хотя бы того, чтобы сделали защиту и свет не попадал бы на дом, что было бы крайне неприятно.
Между прочим, из Рима мне предлагают продать остров. Пока дают несколько меньше, чем я сам на него потратил вместе с покупкой и улучшениями, которые я сделал. Но я все-таки буду вести переговоры. Может, и придется продать, если нога, несмотря на все, откажется работать в будущем.
Раиса пишет, что ты был болен 2 месяца с карбункулом на боку. Я в 1925 году имел их около 10 на бедрах и верхней части ноги и знаю, как это мучительно. Это результат переутомления организма. Напиши, как ты вылечился от этого гостя.
Как живет Лёля — счастлива ли она новой жизнью и не слишком ли быстро решила свою судьбу144?
Как успевают Костя и Женя [Мясина], ведь все уже взрослые они теперь.
Что такое Раиса пишет о переменах на Посаде? Неужели и наш домик снесут? Если да, то где ты думаешь построить другой? Лучше нашего места на горе трудно будет найти.
Теперь наконец напишу Соне — так давно собираюсь это сделать.
После Лондона, вероятно, в середине августа, поедем в Италию на 4 недели, а затем обратно в Лондон и оттуда снова в Америку.
На этот раз, кажется, будет меньше городов и длиннее остановки.
Ну, вот и вся моя печальная повесть.
Желаю тебе поправить здоровье. Горячо обнимаю тебя, сердечно твой.
Целую Лёлю и Костю.
Л.
22
7 марта [1937 г.]
[по штемпелю отправления]
Лондон
Дорогой Миша, письмо твое получил, отвечу позднее. Пришли твой размер ботинка, и я тебе закажу снова. Крепко целую.
Леонид
283 Комментарии
Вступительная статья
1 Дягилев Сергей Павлович (1872 – 1929) — театральный деятель, сыгравший огромную роль в жизни Л. Ф. Мясина. Вывез его в 1914 г. из России, приобщил к европейскому искусству и сформировал вкус, дал возможность ставить балеты и работать с великими художниками-декораторами на протяжении 1920-х гг., когда Мясин был в его труппе (1914 – 1921 и 1925 – 1928). Мясин всегда признавал, что Дягилев оказал на него большое влияние, и фактически никогда не отступал от тех представлений об искусстве балета, которые получил от своего наставника.
2 Савина (Savina, наст. фам. Кларк — Clark) Вера (1897 – ?) — англичанка, танцовщица труппы «Русские балеты Сергея Дягилева» в 1918 – 1928 гг., первая жена Л. Ф. Мясина (1921 – 1924; официально развелся в 1928 г.).
3 Кокран (Cochran) Чарлз Блейк (1871/1872 – 1951) — владелец мюзик-холла в Лондоне.
4 Коуард (Coward) Ноэл Пирс (1899 – 1973) — английский актер, драматург и композитор. Имел в 1930-х гг. собственный театр. Его комедии, например «Относительные ценности», шли во многих странах, даже в СССР.
5 Garcίa-Márquez Vicente. Massine. A Biography. N. Y., 1995. P. 190.
6 Мясин Л. Моя жизнь в балете / Пер. с англ. М. М. Сингал; предисл. Е. Я. Суриц; коммент. Е. Яковлевой. М., 1997. С. 171.
7 Делайзия (Делизия, Delysia) Элис (1889 – 1979) — французская актриса и певица. Участвовала в ряде ревю Кокрана в Лондоне.
8 Марра (Marra) Элеонора (? – 1978) — танцовщица. Училась у Л. Ф. Мясина в 1920-х гг., выступала в его постановках в «Парижских вечерах графа Этьена де Бомона», затем в ревю Кокрана и в «Русских балетах Монте-Карло» (1932 – 1937). С 1924 г. в течение нескольких лет была близка с Л. Ф. Мясиным.
9 Ганн (Ganne) Луи-Гастон (1862 – 1923) — французский композитор, автор ряда комических опер. Писал также для представлений в парижском Казино, Фоли-Бержер и т. п.
10 «Парад» (Parade) — балет в 1 акте. Либретто Ж. Кокто, музыка Э. Сати, хореография Л. Ф. Мясина, художник П. Пикассо. Премьера — 18 мая 1917 г. «Русские балеты Сергея Дягилева» в театре «Шатле» (Париж).
11 … для «Парижских вечеров графа Этьена де Бомона»… — Спектакли, которые меценат, художник, либреттист граф Этьен де Бомон (de Beaumont) давал в середине 1920-х гг. в Париже. В 1924 г. Л. Ф. Мясин поставил здесь ряд балетов, в том числе «Прекрасный Дунай». Кроме того, Бомон оформил балеты Мясина «Школа танца» (1924) и «Парижское веселье» (1938).
12 «Чан» — 5-я сцена в «Ревю Кокрана 1926» по новелле Дж. Боккаччо на музыку Й. Гайдна. Художник У. Николсон. Лондон-павильон. Премьера — 26 апреля 1926 г.
13 Кохно Борис Евгеньевич (1904 – 1990) — театральный деятель, сподвижник С. П. Дягилева, либреттист многих его балетов, которые ставил в том числе и Л. Ф. Мясин («Зефир и Флора», «Матросы», 1925; «Ода», 1928), а также в более поздние годы балетов самого Мясина «Детские игры» (1932) и «Художник и его модель» (1949). После смерти Дягилева Кохно был связан с труппой «Русские балеты Монте-Карло». Работал с Роланом Пёти, для которого также писал либретто. Автор книг: Ballet (P., 1954), Diaghilev et les Ballets Russes (P., 1970).
14 Баланчин (наст. фам. Баланчивадзе) Жорж (Джордж) (1904 – 1983) — русско-американский хореограф.
15 284 «Зефир и Флора» (Zéphire et Flore) — балет в 1 акте, 3 картинах. Либретто Б. Е. Кохно. Музыка В. Дьюка (В. А. Дукельского), хореография Л. Ф. Мясина, художник Ж. Брак. Премьера — 28 апреля 1925 г. «Русские балеты Сергея Дягилева» в Театре Монте-Карло.
16 «Матросы» (Les Matelots) — балет в 1 акте 5 картинах. Либретто Б. Е. Кохно. Хореография Л. Ф. Мясина, художник П. Прюна. Премьера — 17 июня 1925 г. «Русские Балеты Сергея Дягилева» в Театре «Гэте-лирик» (Париж).
17 Орик (Auric) Жорж (1899 – 1983) — французский композитор, автор музыки к ряду балетов, поставленных Л. Ф. Мясиным: помимо «Матросов», «Докучные» (1927) и «Чары Альсины» (1929).
18 См.: Волконский С. М. Дягилевские балеты // Последние новости. 1926. № 1893. 29 мая. С. 2.
19 «Меркурий» (Mercure) — балет в 1 акте. Музыка Э. Сати, хореография Л. Ф. Мясина, художник П. Пикассо. Премьера — 14 июня 1924 г. «Парижские вечера графа Этьена де Бомона» в Театр де ля Сигаль (Париж). Вторая версия — 2 июня 1927 г. «Русские балеты Сергея Дягилева» в Театре Сары Бернар (Париж).
20 «Стальной скок» (Le Pas d’Acier) — балет в 1 акте, 2 картинах. Либретто С. С. Прокофьева и Г. Б. Якулова, музыка С. С. Прокофьева, хореография Л. Ф. Мясина, художник Г. Б. Якулов. Премьера — 7 июля 1927 г. «Русские балеты Сергея Дягилева» в Театре Сары Бернар (Париж).
21 … гастролей Камерного театра… — Московский Камерный театр, возглавляемый А. Я. Таировым, гастролировал с конца февраля 1923 г. на протяжении семи месяцев во многих городах Германии и во Франции, показал свои лучшие спектакли: «Федру» Ж. Расина, «Принцессу Брамбиллу» по Э. Т. А. Гофману, «Жирофле-Жирофля» Ш. Лекока, «Адриенну Лекуврёр» Э. Скриба и Э. Легуве.
22 В 1925 г. в Париже проходила Международная выставка декоративного искусства и художественной промышленности. Ее целью было изучить развитие и состояние архитектуры и всех прикладных искусств в Европе. Советская экспозиция размещалась в специально выстроенном павильоне (архитектор К. С. Мельников) и нескольких залах Гран Пале (Grand Palais). Были показаны также интерьеры-ансамбли: «рабочий клуб» и «изба-читальня» в галерее на Эспланаде Инвалидов. Советская экспозиция была отмечена 9 высшими наградами (Гран при) и многими дипломами и медалями (их них 50 золотых). К. С. Мельников, А. М. Родченко, Г. Б. Якулов. И. И. Рабинович и Д. П. Штеренберг были также награждены почетными дипломами «вне конкурса». Были сооружены киоски, где продавались советские книги, ткани, ковры, посуда и т. п.
23 «Броненосец Потемкин» — фильм С. М. Эйзенштейна (1925). Сценаристы Эйзенштейн и Н. Ф. Агаджанова-Шутко.
24 Le Pas d’Acier // Observer. L., 1927. 10 July.
25 «Ода» (Ode) — оратория-балет в 2 актах. Сценарий Б. Е. Кохно по оде М. В. Ломоносова. Музыка Н. Д. Набокова, хореография Л. Ф. Мясина, художники П. Ф. Челищев (декорации и костюмы) и П. Шарбонье (кинопроекции). Премьера — 6 июня 1928 г. «Русские балеты Сергея Дягилева» в Театре Сары Бернар (Париж).
26 Челищев Павел Федорович (1898 – 1957) — художник. Помимо «Оды» оформил балет Л. Ф. Мясина «Nobilissime Visione» (1938).
27 Рубинштейн Ида Львовна (1883 – 1960) — танцовщица, драматическая актриса. С 1910 г. жила за границей. Неоднократно собирала труппы для исполнения написанных для нее пьес и балетов. «Труппа Иды Рубинштейн» и «Балеты Иды Рубинштейн» (1910 – 1913; 1928 – 1935) создали несколько значительных пантомимных и балетных спектаклей. 285 В конце 1920-х – начале 1930-х гг. Л. Ф. Мясин осуществил здесь три постановки: «Давид» с музыкой А. Соге (1928), «Чары Альсины» с музыкой Ж. Орика (1929) и «Амфион» с музыкой А. Онеггера (1931).
28 «Царь Давид» — «Давид» (David) — балет в 1 акте. Музыка А. Соге, хореография Л. Ф. Мясина, декорации А. Н. Бенуа, костюмы М. де Мюэлль. Премьера — 4 декабря 1928 г. «Балеты Иды Рубинштейн» в Парижской опере.
29 «Чары Альсины» (Les Enchantements d’Alcine) — балет в 1 акте. Сценарий Л. Лалуа по Л. Ариосто. Музыка Ж. Орика, хореография Л. Ф. Мясина, художник А. Н. Бенуа. Премьера — 21 мая 1929 г. Труппа «Балеты Иды Рубинштейн» в Парижской опере. В либретто Л. Лалуа использован один из эпизодов «Неистового Роланда» Л. Ариосто.
30 Ротафель (Rothafel) Рокси (Roxy) Семюэл Лайонел (1882 – 1936) — владелец сети кинотеатров и мюзик-холла в Нью-Йорке.
31 Деларова Евгения Максимовна (во втором браке Долл — Doll) (1911 – 1990) — вторая жена Л. Ф. Мясина (1928 – 1938). Была достаточно сильной танцовщицей и прекрасной комедийной актрисой, исполнила ряд ролей в балетах Мясина: Феличита в «Школе танца», леди Гей в «Юнион Пасифик». Во втором браке, выйдя замуж за миллионера Генри Джорджа Долла, стала известной меценаткой, оказывала помощь балетным труппам, в частности во Франции.
32 «Прекрасная Елена» — «Елена!» (Helen!) — спектакль М. Рейнхардта, музыка Ж. Оффенбаха (из оперетты «Прекрасная Елена»), танцы Л. Ф. Мясина. Премьера в Манчестере — 23 декабря 1931 г. Затем, после пробного «сезона» в провинции, была показана в Лондоне 30 января 1932 г. в театре «Адельфи».
33 Рейнхардт (Reinhardt) Макс (1873 – 1943) — немецкий режиссер. Л. Ф. Мясин работал с ним, ставя танцы в спектаклях «Елена!» и «Чудо» (оба — 1932).
34 «Чудо» (The Miracle) — спектакль М. Рейнхардта, музыка Э. Хумпердинка, танцы Л. Ф. Мясина. Премьера — 9 апреля 1932 г. Театр «Лицеум» в Лондоне.
35 Блюм (Blum) Рене (1878 – 1942) — французский театральный деятель, антрепренер, один из основателей (вместе с полковником де Базилем) труппы «Русские балеты Монте-Карло» в 1932 г.
36 Де Базиль (наст. Воскресенский Василий Григорьевич) (1888 – 1951) — полковник русской армии, затем импресарио. Л. Ф. Мясин поставил ряд балетов в труппе «Русские балеты Монте-Карло», созданной де Базилем вместе с Р. Блюмом в 1932 г., с 1936 г. возглавляемой только им. Труппа просуществовала под разными названиями до 1948 г.
37 «Детские игры» (Jeux d’enfants) — балет в 1 акте, 12 частях на музыку Ж. Бизе, хореография Л. Ф. Мясина, художник Х. Миро. Премьера — 10 апреля 1932 г. «Русские балеты Монте-Карло» в Театре Монте-Карло.
38 «Прекрасный Дунай» (Le Beau Danube) — балет в 2 актах на музыку И. Штрауса-сына и Й. Ланнера, хореография Л. Ф. Мясина, декорации В. Я. Полунина, костюмы Э. де Бомона. Впервые показан 17 мая 1924 на «Парижских вечерах графа Этьена де Бомона» в Театр де ля Сигаль (Париж). Вторая версия показана 15 апреля 1933 г. «Русские балеты Монте-Карло» в Театре Монте-Карло.
39 Штраус (Strauss) Иоганн (сын) (1825 – 1899) — австрийский композитор. Л. Ф. Мясин поставил на его музыку балет «Прекрасный Дунай» (1924, 1933).
40 «Парижское веселье» (Gaîté parisienne) — балетная комедия в 3 картинах. Музыка из произведений Ж. Оффенбаха, хореография Л. Ф. Мясина, художник Э. де Бомона. Премьера — 5 апреля 1938 г. «Русские балеты Монте-Карло» в театре Ковент-Гарден в Лондоне.
41 286 «Юнион Пасифик» (Union Pacific) — балет в 1 акте, 4 картинах. Музыка Н. Д. Набокова. Хореография Л. Ф. Мясина, декорации А. Джонсона, костюмы Ир. Шарафф. Премьера — 5 апреля 1934 г. «Русские балеты Монте-Карло» в театре «Форрест» в Филадельфии.
42 «Предзнаменования» (Les Présages) — хореографическая симфония в 4 частях на музыку П. И. Чайковского. Хореография Л. Ф. Мясина, художник А. Масон. Премьера — 13 апреля 1933 г. «Русские балеты Монте-Карло» в Театре Монте-Карло.
43 «Хореартиум» (Choreartium) — хореографическая симфония в 4 частях на музыку И. Брамса. Хореография Л. Ф. Мясина. Декорации и костюмы К. А. Терешковича и Е. Лурье, занавес Ю. П. Анненкова. Премьера — 13 апреля 1933 г. «Русские балеты Монте-Карло» в театре «Альгамбра» в Лондоне.
44 «Фантастическая симфония» (La Symphonie Fantastique) — балет в 5 частях на музыку одноименной симфонии Г. Берлиоза. Хореография Л. Ф. Мясина, художник К. Берар. Премьера — 24 июля 1936 г. «Русские балеты Монте-Карло» в театре Ковент-Гарден в Лондоне.
45 Зорина (Zorina) Вера (наст. Хартвиг (Hartwig) Ева-Бригитта) (1917 – 2003) — немецкая танцовщица. Работала на эстраде в Европе и США, а также в труппе «Русские балеты Монте-Карло» (1934 – 1938). Танцевала в балетах Л. Ф. Мясина и была близка с ним. Мясин пытался организовать развод с Е. М. Деларовой, чтобы жениться на Зориной, но это не удалось сделать, возможно, потому, что законы ее страны требовали особых формальностей. После разрыва с Мясиным была женой Дж. Баланчина (1938 – 1946). В США получила большую известность благодаря выступлениям в мюзиклах и фильмах.
46 Zorina V. Zorina. N. Y., 1986. P. 111 – 112.
47 Мясина (урожд. Милишникова, сценич. псевд. Орлова) Татьяна (1912 – 2007) — третья жена Л. Ф. Мясина (1939 – 1968).
48 Мясин (Massine) Леонид (Лорка) Леонидович (р. 1944) — сын Л. Ф. Мясина, хореограф.
49 Мясина-Вайнбаум (Massine-Weinbaum) Татьяна Леонидовна (р. 1941) — дочь Л. Ф. Мясина, психотерапевт.
1
50 … мое выступление в «revue»… — Речь идет о ревю Кокрана. В 1925 и 1926 гг. Л. Ф. Мясин ставил танцы и выступал как танцовщик в его ревю «Продолжаем танцевать» (On with the dance), «Все еще танцуем» (Still dancing), «Ревю Кокрана 1926» (Cochran’s Revue 1926). В данном случае подразумевается «Продолжаем танцевать». См. вступит. статью и коммент. 3, 4, 7.
51 Пресса единогласно раскричала все мои произведения… — Для ревю Кокрана «Продолжаем танцевать» (премьера — 30 апреля 1925 г.) Л. Ф. Мясин поставил три балета: «Мот» (The Rake) по рисункам У. Хогарта «Карьера мота» с музыкой Р. Куилтера и оформлением У. Николсона, «Крещендо» (Crescendo) с оформлением Д. К. Калтропа и «Венгерская свадьба» (Hungarian Wedding) с оформлением Г. Фараго.
52 … второй балет для Дягилева… — Речь идет о балете «Матросы» (см. коммент. 16). Первым балетом, который Л. Ф. Мясин поставил в труппе С. П. Дягилева по возвращении к нему, был «Зефир и Флора». См. Вступит. статью и коммент. 15.
53 … дадут также здесь… — В Лондоне балет «Матросы» был показан в первый раз в театре «Колизеум» 29 июня 1925 г.
54 … в Coliseum’е, где они играют. — Труппа С. П. Дягилева начала выступать в этот раз в лондонском мюзик-холле «Колизеум» 26 октября 1925 г. Каждый день было два представления — днем 287 и вечером — и в каждом из них был показан один балет (остальное — программа мюзик-холла). Спектакли труппы в «Колизеуме» продолжались до 19 декабря 1925 г. Были показаны все основные балеты дягилевского репертуара, в том числе балеты Л. Ф. Мясина «Чимарозиана» «Русские сказки», «Фантастическая лавочка», «Полуночное солнце», «Треуголка» и «Матросы». Здесь прошла и премьера балета Дж. Баланчина «Барабау» 11 декабря 1925 г. Это был первый балет, поставленный Баланчиным у Дягилева.
В мюзик-холле «Колизеум» труппа Дягилева выступала уже в четвертый раз. Первые гастроли состоялись с сентября 1918 по март 1919 г., вторые с декабря 1924 по январь 1925 г., третьи — в июне – июле 1925 г. Любопытно, что, когда Дягилеву предлагали перед мировой войной провести выступления своей труппы в этом мюзик-холле, он категорически отказался, считая позорным, чтобы его балеты показывались между выступлениями дрессированных собачек и иными эстрадными номерами, и полагал возможным выступать только в театральных зданиях, по преимуществу в зданиях оперных театров. Осуждал он и Анну Павлову за выступления в мюзик-холлах. Но времена изменились. Его «Спящая принцесса» («Спящая красавица») в 1921 – 1922 гг. тоже шла в помещении мюзик-холла «Альгамбра». Правда она шла там одна, других представлений не было.
55 … в первый раз после 5 лет… — Л. Ф. Мясин был уволен из «Русских балетов Сергея Дягилева» в январе 1921 г., когда задумал жениться на В. Савиной (Кларк). Вернулся он в дягилевскую труппу ранней весной 1925 г. и в Лондоне выступил с ней впервые 22 июня 1925 г.
56 Начал мой развод… — Речь идет о разводе с В. Савиной (Кларк), первой женой Л. Ф. Мясина, на которой он женился в Лондоне 26 апреля 1921 г.
57 … другая работа, одновременная, после спектакля… — Речь идет об участии в ревю Кокрана «Все еще танцуем» в ноябре 1925 г.
58 Лёлечка — Мясина Елена Михайловна (1913 – ?), дочь брата — М. Ф. Мясина, племянница Л. Ф. Мясина. Училась танцу у частных педагогов (артистов балета Большого театра), пытаясь не раз перевестись в школу (техникум) при Большом театре на вечернее отделение. В 1932 г. окончила балетный техникум ГОМЭЦ (Государственное объединение музыки, эстрады и цирка). После этого работала во многих коллективах: в Московском художественном балете под руководством В. В. Кригер (1932), Абхазской филармонии в Сухуми и оперном театре Улан-Удэ (1934), в Московском цирке (1937), в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского (1938), в Джаз-оркестре БССР под руководством Эдди Рознера (1944), в московском Театре оперетты (с 1945) и др. (Личное дело Е. М. Мясиной — РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 12. Ед. хр. 738). По всем этим вопросам, касающимся обучения племянницы, Л. Ф. Мясин часто давал советы своему брату и ей самой: в РГАЛИ в архиве Л. Ф. Мясина сохранилось его письмо, ей адресованное.
59 Соня — Софья Карловна Мясина — жена М. Ф. Мясина.
60 … взять его скорее в Звенигород… — В Звенигороде у семьи Мясиных был дом, построенный отцом Леонида, Федором Афанасьевичем Мясиным, еще в начале XX века.
61 Мой моряк… — Скорее всего, работающий у Мясина Николай.
2
62 … нового небольшого балета, который был вставлен в программу и имеет большой успех. — В ноябре 1925 г. Мясин поставил в ревю Кокрана «Все еще танцуем» танцевальные 288 сценки «Помпеи à la Мясин» (Pompéi à la Massine) с музыкой Л. Г. Ганна и «Пижама-джаз» (Pijama-jazz), оба в оформлении Д. Цинкейзен.
63 Может быть, Шарпантье, о которой, как об учительнице Елены Мясиной Л. Ф. Мясин пишет в последующих письмах. См. коммент. 76.
64 … протекция стариков Садовских… — Садовские — семья артистов Малого театра, известная с 1840-х гг. В 1910-х гг. на сцене Малого театра было несколько представителей семьи Садовских, в том числе Михаил Провович Садовский (1847 – 1910) и его жена Ольга Осиповна Садовская (1849 – 1919). Протекцию Л. П. Александровой, о которой пишет Л. Ф. Мясин, скорее всего, оказывали именно они, так как стали приемными родителями Александровой после смерти ее матери, служившей у них экономкой.
3
65 Гриша — Мясин Григорий Федорович (1884 – 1920-е), брат Л. Ф. Мясина и М. Ф. Мясина. Окончил Московское инженерное училище, служил в армии, затем работал на строительстве Турксиба и погиб в результате несчастного случая в конце 1920-х гг., возвращаясь из больницы после заболевания тифом.
4
66 Раиса — Мясина Раиса Федоровна (1891 – после 1962), сестра Л. Ф. Мясина и М. Ф. Мясина.
67 Александр — муж Р. Ф. Мясиной.
5
68 Благодарю за память и поздравление. — Вероятно, Михаил поздравлял брата с днем рождения: Л. Ф. Мясин родился 27 июля (8 августа) 1895 г.
69 Я кончаю работу 4 сентября… — В начале сентября 1926 г. Л. Ф. Мясин закончил выступления в ревю Кокрана.
70 Костя — сын М. Ф. Мясина, племянник Л. Ф. Мясина.
71 Предложение есть у меня из Америки. К сожалению, не в театре, а в кабаре. — Вероятно, речь идет о приглашении выступать и ставить балеты в «Рокси тиэтр» у Ротафеля в Нью-Йорке, где Л. Ф. Мясин действительно начал работать в 1928 г.
72 Немчинова Вера Николаевна (1899 – 1984) — балерина. Училась в России, но выступать начала за рубежом в 1915 г.: в «Русских балетах Сергея Дягилева», где в 1920-х гг. занимала ведущее положение. Работала во многих труппах в Европе и США (в труппе М. М. Мордкина в США (1926 – 1927), в Риге в Оперном театре (1930), в Оперном театре Каунаса (1931 – 1935), в «Русской опере в Париже» (1931), в труппе «Русский балет Монте-Карло» Р. Блюма (1936), в «Маркова — Долин балле» (1937), в труппе де Базиля (1938 – 1941), в «Балле тиэтр» (1943) и др.), а также в организованных ею самой труппах («Немчинова — Долин балле» (1927) и «Балеты Веры Немчиновой» (1928 – 1930)). С 1941 г. жила в США. Танцевала в постановках Л. Ф. Мясина: в «Фантастической лавочке», «Пульчинелле», «Матросах», в ревю Кокрана в 1926 г. (балет «Чан») и др. Мясин пригласил ее и ее мужа Н. М. Зверева выступить в ревю у Кокрана в апреле 1926 г. (что вызвало гнев Дягилева, потому что он воспринял это как измену его труппе). По-видимому, были и другие планы совместных выступлений Мясина и Немчиновой уже в США (упоминаются в письмах Мясина брату), но они не состоялись.
73 289 Банк Любовь Михайловна (1903 – 1984) — артистка балета Большого театра (1920 – 1947). Л. Ф. Мясин, по-видимому, помнил ее по московской балетной школе, поскольку не раз вспоминает о ней в своих письмах брату и строит планы совместных гастролей на Западе.
7
74 … к школе я не хотел бы возвращаться… — В 1922 г., уйдя от С. П. Дягилева, Л. Ф. Мясин некоторое время имел в Лондоне школу.
75 Александрова — Речь идет об Александровой (в замуж. Лепетич) Лидии Павловне (1891 – 1969), которая была дочерью экономки в семье Садовских, и М. П. Садовский с О. О. Садовской стали приемными родителями Лидии после смерти ее матери. Училась в Московском театральном училище и была артисткой балетной труппы Большого театра (1911 – 1938). В 1925 – 1928 гг. преподавала в Государственном балетном техникуме при ГАБТе.
76 Шарпантье Елизавета Александровна (1881 – 1950) — балерина, педагог. В труппе Большого театра с 1892 г. В 1920-е гг. преподавала в балетной школе при Большом театре.
77 Поливанов Григорий Васильевич (1895 – 1952) — артист балета Большого театра (1914 – 1946).
8
78 Я буду танцевать и ставить два новых балета и один из тех, что давал сам в 1924 году. — Имеется в виду «Меркурий». См. коммент. 19.
9
79 «Несносные» — так Л. Ф. Мясин называет балет «Докучные» (Les Fâcheux) по одноименной пьесе Ж.-Б. Мольера, с музыкой Ж. Орика, в оформлении Ж. Брака, поставленный Б. Ф. Нижинской в труппе «Русские балеты Сергея Дягилева» 19 января 1924 г., который Л. Ф. Мясин по заданию С. П. Дягилева заново ставил там же. Премьера — 3 мая 1927 г. Театр Монте-Карло.
80 … сестра Нижинского… — Речь идет о Брониславе Фоминичне Нижинской (1891 – 1972), которая работала в труппе С. П. Дягилева балетмейстером с 1921 по 1925 г.
81 … балет Прокофьева… — Речь идет о балете «Стальной скок». См.: коммент. 20 и 108.
82 … вопрос об оплате долга… — Что за долг Л. Ф. Мясин пытался получить у С. П. Дягилева, выяснить не удалось.
83 Из них февраль и март только опера… — «Сезоны» итальянской оперы в Театре Монте-Карло проводил ежегодно (с января по апрель) директор театра Рауль Гинсбург. Они шли наравне со спектаклями «Русских балетов Сергея Дягилева», которые стали там регулярными после соглашения в декабре 1922 г. с организацией, управляющей Казино в Монте-Карло (главным источником дохода семейства Гримальди, правящего в княжестве Монако). Поэтому в период с 26 января по 3 апреля 1926 г. тут шли именно оперные спектакли, а затем начались представления «Русских балетов Сергея Дягилева».
84 «Трикорн» — так Мясин называет балет «Треуголка» (Le Tricorne), который он поставил в труппе С. П. Дягилева в 1918 г. и где исполнял роль Мельника, бывшую одной из лучших его ролей.
85 Лагорио — итальянец, который работал по хозяйству на принадлежащем Л. Ф. Мясину острове в Неаполитанском заливе.
86 Женя [Евгения] — младшая дочь М. Ф. Мясина, племянница Л. Ф. Мясина.
290 10
87 Смольцов Иван Васильевич (1892 – 1968) — артист балета Большого театра (1910 – 1934, 1937 – 1953).
88 Смольцов Виктор Васильевич (1900 – 1976) — артист балета Большого театра (1918 – 1921, 1923 – 1958).
89 Яков — человек, который работал по хозяйству на принадлежащем Л. Ф. Мясину острове в Неаполитанском заливе.
90 … от моего бывшего директора, американца, который приглашал меня в 1923 году в Ковент-Гарден в Лондоне. — Уйдя от Дягилева в 1922 г., Л. Ф. Мясин сформировал небольшую труппу, с которой вначале гастролировал по Южной Америке. Затем, по возвращении в Лондон, его пригласили Вальтер Вангер (Walter Wanger) и Освалд Столл (Oswald Stoll) поставить танцы для ревю «Вы были бы удивлены» (You’d be Surprised) в театре Ковент-Гарден. Поскольку сэр Освалд Столл — известный английский, а не американский импресарио, надо полагать, что речь идет о В. Вангере.
91 … сильные технически мужчины. — Л. Ф. Мясину для спектаклей, которые он надеялся поставить в «Рокси тиэтр» у С. Л. Ротафеля в Нью-Йорке (а он собирался возобновить там многие созданные им у С. П. Дягилева балеты), нужны были танцовщики, обладающие классической техникой и, вероятно, также техникой характерного танца. Своего классического балета в США в это время действительно еще не было, так что опасения Мясина, что он не найдет там нужных ему исполнителей, небезосновательны. Но там были сильные эстрадные танцовщики, в частности те, что выступали в мюзиклах, которые в 1920-х гг. стали очень популярны.
92 О женитьбе думаю, но для этого хочу видеть Россию… — См. вступит. статью — об отношении Л. Ф. Мясина к России и о его рассуждениях по поводу женитьбы.
11
93 Павлова Анна Павловна (Матвеевна) (1881 – 1931) — знаменитая русская балерина. Создала свою труппу в 1910 г. в Англии и до самой смерти ездила с ней по миру, показывая сокращенные версии балетов, шедших в Мариинском театре («Жизель», «Коппелия», «Тщетная предосторожность», «Пахита» и др.), а также новые балеты, которые сочинил для ее труппы М. М. Фокин («Прелюды» на муз. Ф. Листа и «Семь дочерей Горного короля» на муз. А. А. Спендиарова). В репертуаре были и многочисленные номера, часть из которых поставила сама Павлова.
94 … ставит два балета — Стравинского и другой — молодого композитора Набокова. — Речь идет о балете И. Ф. Стравинского «Аполлон Мусагет», который был поставлен в хореографии Дж. Баланчина и оформлении А. Бошана (премьера в труппе «Русские балеты Сергея Дягилева» — 12 июня 1928 г.; Театр Сары Бернар, Париж), а также о балете-оратории «Ода» (см. коммент. 25). В основу балета была положена ода М. В. Ломоносова «Вечернее размышление о Божьем величестве при случае великого Северного сияния», и С. П. Дягилеву понравилась идея сделать балет об эпохе Екатерины Великой. Сюжет (исходя из либретто Б. Е. Кохно) рисовал Ученика, который пытался постичь тайны Природы. Но у художника спектакля, П. Ф. Челищева, возник совсем иной замысел — ему захотелось создать сюрреалистическое зрелище, рисующее северное полярное сияние. И это постепенно стало в балете главным, несмотря на несогласие Дягилева. Благодаря Челищеву все возможности современной техники, в первую очередь те, что 291 предлагал кинематограф, были использованы в спектакле, чтобы продемонстрировать тот образ, который виделся художнику. Спектакль оказался весьма интересен с точки зрения его внешнего оформления, но, тем не менее, у многих вызвал недоумение, хотя критики отмечали и отдельные интересные танцевальные решения. В результате сценическая жизнь балета «Ода» оказалась недолгой.
95 … каждый балетмейстер… — Начиная с 1925 г. в труппе С. П. Дягилева, помимо Л. Ф. Мясина, балетмейстером работал и Дж. Баланчин, а Б. Ф. Нижинская тогда же ушла. Мясина приход Баланчина совсем не радовал, так как он составил ему конкуренцию. Именно Баланчину Дягилев дал ставить новый балет Стравинского «Аполлон Мусагет». Именно ему он поручил переделать его, Мясина, постановку балета «Песнь соловья», осуществленную в 1920 г., что не могло не задеть Мясина. В то же время справедливость требует отметить, что иногда Дягилев все же сначала предлагал тот или иной балет Мясину, а потом уже Баланчину. Но это, как видно, не уменьшило неприязни Мясина к новому сотруднику, вошедшему в труппу. Слишком долго он был в труппе единственным. В этом, вероятно, отчасти и кроется причина его столь враждебного отношения к Б. Е. Кохно, о котором он несколько раз весьма нелестно упоминает в письмах.
96 Штраус Рихард (1864 – 1949) — немецкий композитор и дирижер. Автор музыки к балету «Легенда об Иосифе», в котором Л. Ф. Мясин выступал в 1914 г. В 1920-х гг. Штраус руководил, в частности, оркестром Оперного театра в Вене, куда он приглашал в 1928 г. Мясина.
97 «Легенда об Иосифе» — балет с музыкой Р. Штрауса. Хореография М. М. Фокина, художник Х. М. Серт. Премьера — 14 мая 1914 г. Труппа «Русские балеты Сергея Дягилева» в Парижской опере. Этим спектаклем Л. Ф. Мясин дебютировал в труппе С. П. Дягилева.
98 Разумеется, я предпочту Америку Вене во всех отношениях… — На первый взгляд может удивить отношение Л. Ф. Мясина к предложению Р. Штрауса. Он категорически заявляет, что работу в Америке (притом еще — неизвестно где именно) он предпочитает постоянной работе в Венской опере. Но, по-видимому, многим эмигрантам тогда Америка представлялась неким золотым раем, где можно легко и хорошо заработать. А с другой стороны — в Венской опере был слабый балет, и к тому же театр славился консерватизмом. Мясин не мог не знать о том, как во время гастролей в 1913 г. оркестранты отказывались играть музыку «Петрушки» И. Ф. Стравинского, называя ее «грязной». Об этом писал и сам И. Ф. Стравинский, отметивший «враждебность» оркестра во время репетиций (Стравинский И. Хроника моей жизни. М., 2005. С. 96).
99 … продать мне права на воспроизведение музыки, декораций и костюмов, так как хореография мне уже принадлежит. — Проблема авторского права балетмейстера всегда волновала Л. Ф. Мясина, и он несколько раз обращался в суд. Особенно необходимо это было в 1930-х гг., в период его совместной работы с де Базилем (В. Г. Воскресенским), который действовал без стеснения и не склонен был соблюдать чужие интересы. Известно об обращениях Мясина в суд в 1934 г. (судья Лаксмур — Luxemoore), в 1938 г. (судья Грир — Greer) и в Американскую арбитражную ассоциацию в 1942 г. (судья Джеймс Гиффорд — Gifford, о котором он пишет в своих мемуарах). Судился Мясин с некоторыми труппами и в 1960-х гг. Ясность возникла только после 1976 г., когда был принят акт — Copyright Revision Act, признающий права балетмейстера. Однако то, что Мясин сообщает в письме 1928 г., относится к более раннему периоду. По-видимому, существовала какая-то договоренность между ним и С. П. Дягилевым.
292 12
100 Увольнению Г. несказанно рад. — Речь идет о Гаврилове Александре Митрофановиче (1877 – ?), который был артистом балета Большого театра (1893 – 1928), выступая преимущественно в кордебалете. Вероятно, Л. Ф. Мясин хорошо знал его, когда сам работал в театре в 1912 – 1913 гг., и был он о нем, судя по этой записи, невысокого мнения. Руководил Государственным балетным техникумом Большого театра (1920 – 1928). В документе от 8 мая 1928 г. (РГАЛИ. Ф. 683. Оп. 1. Ед хр. 64а. Л. 9) написано, что руководителем школы необходимо назначить «партийца».
101 Рокси — Так, по названию театра (Рокси тиэтр — Roxy Theatre) Л. Ф. Мясин называет его хозяина С. Л. Ротафеля. В Театре «Рокси» шли новые фильмы, а между сеансами проходили танцевальные представления. С Ротафелем Мясин подписал контракт до 1930 г., но работа оказалась совсем не такой, как ему представлялось. Он хотел познакомить американского зрителя с балетным искусством XX в. и рассчитывал в этом театре возобновить прежде всего свои лучшие балеты. В действительности же пришлось ставить в страшной спешке (новая постановка каждую неделю) дивертисменты с кордебалетом полуобнаженных «герлс» в блестках, умеющих только высоко и в такт подбрасывать ноги.
102 … труппа будет играть еще 2 спектакля во Франции… — В действительности эти спектакли были в Остенде, в Бельгии.
103 … поработаю с Рубинштейн… — См. коммент. 27.
104 Дягилев едет в Нью-Йорк, где начинает сезон 5 ноября. — В действительности никаких американских гастролей «Русских балетов Сергея Дягилева» в 1928 г. не было. Возможно, С. П. Дягилев что-то планировал, но ситуация изменилась, и в ноябре 1928 г. труппа выступала в Лондоне.
105 Сезон в Париже прошел неважно… — Сезон в Париже летом 1928 г. был, наоборот, одним из самых значительных. Были показаны, в частности, «Ода» самого Л. Ф. Мясина и «Аполлон Мусагет» Дж. Баланчина. Но Мясин не любил «Оду», не любил и либреттиста этого балета Б. Е. Кохно. Что касается «Аполлона», то он, по-видимому, не сознавал значения этого спектакля для будущего балетного искусства (см. вступ. статью). Мясин был обижен тем, что не ему С. П. Дягилев поручил ставить этот балет И. Ф. Стравинского, и, возможно, из-за этого не сумел оценить сделанное соперником.
106 … но не из-за Павловой… — В 1928 г. труппа Анны Павловой выступала в Париже одновременно с «Русскими балетами Сергея Дягилева». Известно, что Павлова даже побывала на представлении, где был показан балет, и что он ей понравился. Но вообще, она не одобряла репертуарную политику С. П. Дягилева, его эксперименты были ей чужды. Вероятно, Павлова была обижена и тем, что Дягилев позволил себе сказать о ней в интервью. Он рассказывал об О. А. Спесивцевой, в это время пришедшей к нему в труппу, и признал, что Павлова и Спесивцева очень похожи, что они образуют как бы одно единое яблоко, но при этом, по его словам, Спесивцева — та сторона яблока, которая созревала на солнце.
107 … Дягилев устал и бессилен, а его советчик исключительно бездарен. — К 1928 г. С. П. Дягилев действительно меньше занимался труппой (это сказалось во время постановки балета «Ода»), он был увлечен коллекционированием книг. Упоминаемый Л. Ф. Мясиным «советчик» — Б. Е. Кохно (см. коммент. 13), который с 1920 г. был секретарем Дягилева и либреттистом почти всех созданных в его труппе балетов, в том числе и тех, что ставил Л. Ф. Мясин, и Мясин очень его невзлюбил. Причина была, вероятно, в том, что теперь именно 293 Кохно помогал Дягилеву в определении художественной политики труппы (то, что раньше делал он, Мясин). Теперь же ему предписано было только выполнять чужие заказы.
108 «Стальной скок» — См. коммент. 20. Балет С. С. Прокофьева, показанный в Париже и посвященный Советской России, имел обширную прессу, как положительную, так и отрицательную, что объясняется причинами не только художественными, но чаще политическими (отношением к Советскому Союзу). Наибольший успех имела картина, изображающая завод, где в самом замысле — в музыке и оформлении Г. Б. Якулова и даже отчасти в хореографии Л. Ф. Мясина — использовались приемы, близкие советскому авангарду 1920-х гг. Спектакль вызывал также противоречивые эмоции в среде зрителей, о чем пишут многие корреспонденты. Вырезки из газет хранятся, в частности, в альбомах в архиве С. С. Прокофьева в РГАЛИ.
109 Мой балет новый — «Ода»… — См. коммент. 25, 94.
13
110 По словам еврейчика, помощника Рокси… — Скорее всего речь идет о Леонидове (Leonidoff) Леоне (1895 – 1989), американском хореографе, который работал в театре «Рокси» (1928 – 1931), затем с 1932 г. в мюзик-холле «Радио Сити», тоже принадлежавшем Ротафелю.
14
111 … благодарю за память и пожелания 4 сентября. — Не совсем понятно, с чем брат Михаил поздравлял 4 сентября Л. Ф. Мясина, чей день рождения был 8 августа (по новому стилю). Разве только он с некоторым опозданием поздравлял его с днем ангела, который мог прийтись на 21 августа (Леонид Мученик, и это из святых по имени Леонид — ближайший ко дню рождения Л. Ф. Мясина).
112 Труппа большая <…> работают усердно, что благоприятствует делу. — «Труппа Иды Рубинштейн» (La Compagnie d’Ida Rubinstein) просуществовала с 1928 по 1935 г. с перерывами, пять сезонов. Большинство выступлений проходили на сцене Парижской оперы. Художником всех спектаклей был А. Н. Бенуа. В первый сезон (1928) было показано семь одноактных балетов, шесть из которых поставила Б. Ф. Нижинская («Царевна-Лебедь», «Свадьба Амура и Психеи», «Возлюбленная», «Поцелуй феи», «Болеро» и «Ноктюрн»). Сезон 1934 г. не был чисто балетным. Режиссер Ж. Копо поставил мелодраму «Персефона» с музыкой И. Ф. Стравинского, но шли и балеты М. М. Фокина «Диана де Пуатье» и «Семирамида». О работе Л. Ф. Мясина в «Труппе Иды Рубинштейн» см. коммент. 27.
113 … я встретил ласковую, любящую и заботливую душу… — Л. Ф. Мясин имеет в виду встречу с Е. М. Деларовой. См. коммент. 31.
114 Я обрадовался всем переменам в Театральной школе… — Весной и летом 1928 г. техникум при ГАБТе действительно подвергся ревизии. Проверялся прежде всего социальный состав как учащихся, так и педагогов, был произведен ряд увольнений. Тогда же, 7 июня 1928 г., появилась статья об училище в «Рабочей газете» (№ 139) озаглавленная «Затхлый воздух». Л. Ф. Мясин, никогда не живший в Советской России, когда пишет, что рад этим переменам, по-видимому, не очень хорошо понимает, что в действительности происходит. Он просто радуется тому, что сняли человека, который ему не казался в профессиональном отношении достойным руководить такой школой.
115 Каблограмма — Телеграмма, передаваемая по подводному кабелю.
294 15
116 … Fox (владелец фильмов)… — Имеется в виду Фокс Вильям (1879 – 1952), американский киномагнат, который в 1910 – 1920-е гг. был также президентом Театральной корпорации Фокса.
117 … мой враг, помощник Roxy… — Речь идет о Леоне Леонидове. См. коммент. 110.
16
118 … все время откладывая сезон «Русского балета» в Нью-Йорке. — После смерти С. П. Дягилева в августе 1929 г. сразу стали возникать проекты создания балетной труппы, чтобы продолжить его дело. Л. Ф. Мясин, который в это время был в США, проявлял большую активность. Он обращался и к Э. де Бомону, и ко многим бывшим соратникам Дягилева, а также за финансовой помощью к Т. Бичему в Ковент-Гарден, переговоры с которым тянулись до 1932 г., и к Р. Блюму в Монте-Карло. В какой-то момент антрепренер Р. Гец по его совету приобрел часть имущества дягилевской труппы и хотел в США основать труппу «Русские балеты» во главе с Мясиным, но это не удалось. Тем временем в 1931 г. Блюм объединился с де Базилем из «Русской оперы в Париже», и в 1932 г. они начали формировать в Монте-Карло новую труппу, но не с Мясиным, а с Дж. Баланчиным. В письме речь идет как раз о планах создания труппы в Америке.
119 Я начал работать 15 ноября в Милане… — В миланской Ла Скала в 1930-х гг. Л. Ф. Мясин возобновил балет Дж. Пратези «Старый Милан» и поставил балет «Белкис, царица Савская».
120 … я поставил «Прекрасную Елену»… — Работая в Лондоне с М. Рейнхардтом, Л. Ф. Мясин поставил танцы к оперетте Ж. Оффенбаха «Елена Прекрасная» (шла под названием «Елена!»). См. коммент. 32.
17
121 … вещь, которая почти вся на моей ответственности. — Речь идет об оперетте «Елена Прекрасная».
18
122 «Белкис, царица Савская» (Belkis, regina di Saba) — балет в 6 картинах по библейской легенде. Музыка О. Респиги, хореография Л. Ф. Мясина, художник Н. А. Бенуа. Премьера — 23 января 1932 г. Театр Ла Скала (Милан).
123 … и сделал вторую постановку… — Имеется в виду «Старый Милан» (Vecchia Milano), балет в 8 картинах. Л. Ф. Мясин возобновил в театре Ла Скала балет Дж. Пратези, поставленный там же в 1928 г. Музыка Ф. Виттадини, декорации Скандиани, О. А. Ровескалли, костюмы Л. Сапелли. Премьера возобновления — 16 февраля 1932 г.
124 … где образовалась небольшая труппа, остатки «Русского балета». — Начало сформированной в 1932 г. труппы «Русские балеты Монте-Карло». Во главе встали Р. Блюм (с 1924 г. директор Театра Монте-Карло) и полковник де Базиль. В конце 1931 г. были подписаны первые контракты. Ж. Баланчин назначен балетмейстером с 2 января 1932 г. на 4 месяца, а Б. Е. Кохно художественным советником (conseiller artistique) с 15 декабря 1931 г. на полгода. Л. Ф. Мясин для первого сезона обещал поставить один балет. Труппа показала первым балет «Котильон» в постановке Баланчина 17 января 1932 г. Затем 295 прошел оперный сезон, и Баланчин поставил танцы к «Пророку» Дж. Мейербера и ряд танцев к опере-балету «Родина» Е. Паладилье. 14 апреля 1932 г. был показан балет «Детские игры» Ж. Бизе в постановке Л. Ф. Мясина. Контракт с Баланчиным заканчивался 4 мая 1932 г., и он начал готовить репертуар для своей труппы «Балеты 1933», а балетмейстером «Русских балетов Монте-Карло» стал Мясин.
125 … начинаю завтра работу над «Miracle»… — Речь идет о пантомиме М. Рейнхардта «Чудо» (Miracle) на сюжет пьесы М. Метерлинка «Сестра Беатриса» с музыкой Э. Хумпердинка, где Л. Ф. Мясин ставил танцы и исполнял роль Музыканта (Spielmann). Премьера — 9 апреля 1932 г. в театре «Лицеум» в Лондоне.
126 Антонино — работник в поместье Л. Ф. Мясина на острове.
19
127 Легат Николай Густавович (1869 – 1937) — танцовщик, хореограф и педагог. Учился в Петербурге, с 1888 г. работал в Мариинском театре, где был ведущим танцовщиком и поставил ряд балетов. Покинув в 1922 г. Россию, он в 1925 – 1926 гг. работал педагогом в труппе С. П. Дягилева, затем открыл школу в Лондоне, ставшую одной из самых известных за границей.
128 … на открытие «Radio City» в Нью-Йорк в декабре этого года. — Radio City Music Hall, театр в Нью-Йорке, открывшийся 27 декабря 1932 г., где шли фильмы, мюзиклы, различные танцевальные представления, в том числе и на льду и т. п. Он имел зал на 6000 мест. Здесь работала знаменитая женская танцевальная труппа «Рокетс» (Rockettes), демонстрировавшая танцы «гёрлс».
20
129 Я рассчитываю на постановку с Рейнхардтом в Берлине… — В Берлине Рейнхардт возглавлял Немецкий театра до 1933 г., также открыл в 1924 г. театр «Комедия» и давал спектакли в «Театре ам Курфюрстендамм». Куда и на какую постановку он предполагал пригласить Л. Ф. Мясина в 1932 г., выяснить не удалось.
130 … надеюсь поставить 2 или 3 новых балета и возобновить несколько лучших старых. — В 1933 г. Л. Ф. Мясин поставил в труппе «Русские балеты Монте-Карло» балеты «Предзнаменования» на музыку Пятой симфонии П. И. Чайковского (премьера — 13 апреля 1933 г.), «Пляж» (Beach) с музыкой Ж.-Р. Франсе (премьера — 19 апреля 1933 г.), «Школа танца» (Scuola di ballo) с музыкой Ж.-Р. Франсе на темы Л. Р. Боккерини (премьера — 25 апреля 1933 г.) и «Хореартиум» (Choreartium) на музыку Четвертой симфонии И. Брамса (премьера — 24 октября 1933 г.). Также возобновил балеты «Прекрасный Дунай» (Le Beau Danube) на музыку И. Штрауса-сына и Й. Ланнера и «Матросы» (Les Matelots) с музыкой Ж. Орика.
131 Гец (Goetz) Рей (Реймонд) (1886 – 1954) — американский антрепренер, кинопродюсер. Планировал после смерти С. П. Дягилева организовать в США балетную труппу, чтобы продолжить его дело под руководством Л. Ф. Мясина.
132 … который приобрел весь материал… — Декорации и костюмы дягилевской труппы после смерти С. П. Дягилева в 1929 г. были конфискованы французским правительством и находились на хранении в пригороде Парижа. Гец частично их приобрел и намеревался создать в Нью-Йорке труппу, которую Л. Ф. Мясин должен был возглавить. Но это ему не удалось.
133 296 … надеюсь, что это им удастся. — Теперь, в 1933 г., по инициативе Л. Ф. Мясина, владельцы труппы «Русские балеты Монте-Карло» приобрели у Р. Геца часть принадлежавших когда-то Дягилеву декораций и костюмов, которые стали собственностью труппы, что дало Мясину возможность сохранить в ее репертуаре многие дягилевские балеты.
134 Речь идет о балетном техникуме ГОМЭЦ (Гос. объединение музыки, эстрады и цирка), которое Е. М. Мясина окончила в 1932 г.
135 … купатку… — Вероятно, это выдуманное Л. Ф. Мясиным слово «купатóк», которое относилось к его племяннику, любившему купаться в реке.
21
136 Письмо от мая 1935 г. написано Л. Ф. Мясиным после того, как он вернулся в Лондон с курорта в Словакии Пьештяни, богатом серными источниками. В этот год в его личной жизни во время длительных гастролей в США многое произошло. Он пишет о неприятностях (например, о кражах), о серьезных травмах ноги, которую и лечил в Пьештяни. Но не пишет, что в это время начался его роман с балериной В. Зориной, который и привел к его окончательному разрыву с Е. М. Деларовой. См. Вступит. статью.
137 В Лондоне был блестящий сезон. — Гастроли «Русских балетов Монте-Карло» в Лондоне начались 19 июня 1934 г. в Ковент-Гардене. Были показаны балеты дягилевского репертуара: «Жар-птица» М. М. Фокин и др., а также мясинские постановки «Волшебная лавка», «Русские сказки», «Треуголка», новый балет «Юнион Пасифик» и др. Был показан балет «Воображаемые» (Les Imaginaires) с музыкой Ж. Орика, поставленный Д. Лишиным. Гастроли в Лондоне продолжались до середины августа.
138 … труднейшую вариацию «Синей птицы» из «Спящей красавицы». — Имеется в виду танцевальный номер — па-де-де Голубой птицы и Принцессы Флорины — в дивертисменте последнего акта балета «Спящая красавица». В его состав входит одна из самых виртуозных мужских вариаций, сохранившихся от балетного наследия XIX в. Это па-де-де шло также в балете «Свадьба Авроры», который состоял из последнего акта «Спящей красавицы», дополненного рядом новых танцевальных номеров.
139 «Jardin Public» («Публичный сад») — балет в 1 акте по эпизоду роману А. Жида «Фальшивомонетчики» с музыкой В. Дьюка (В. А. Дукельского), хореографией Л. Ф. Мясина, в оформлении Ж. Люрса. Премьера — 8 марта 1935 г. «Русские балеты Монте-Карло» в театре «Аудиторио» (Чикаго).
140 «Бал» (Le Bal) — балет В. Риети, поставленный 7 мая 1929 г. Дж. Баланчиным в труппе «Русские балеты Сергея Дягилева», который Л. Ф. Мясин вторично ставил в труппе «Русские балеты Монте-Карло». Премьера — 18 марта 1935 г. в театре «Аудиториум» (Чикаго).
141 «Шехеразада» (Shéhérazade) — балет на музыку Н. А. Римского-Корсакова, хореография М. М. Фокина, художник Л. С. Бакст. Премьера — 4 июня 1910 г. «Русские сезоны» в Париже. Продолжал идти в труппе Дягилева все время ее существования, затем вошел в репертуар постдягилевских трупп таких как «Русские балеты Монте-Карло» и др.
142 Женя поехала на лечебный курорт во Франции… — Л. Ф. Мясин уклончиво пишет о Е. М. Деларовой, не признаваясь, что разошелся с ней.
143 … мой врач — физиатр… — Вероятно, имеется в виду физиотерапевт.
144 Вероятно, речь идет о замужестве Е. М. Мясиной. Известно из ее личного дела от 1945 г., что ее муж работал на Украине и что у нее был сын.
297 «ЧЕРНОТА
ДЕЛАЕТ РОСЧЕРК В ДУШЕ МОЕЙ»
Б. Ф. Нижинская. Дневник (1919 – 1922);
трактат «Школа и Театр Движений» (1918 – 1919)
Публикация Л. Гарафолы и
Е. Я. Суриц при участии С. А. Конаева («Школа и Театр
Движений»), вступительная статья Л. Гарафолы (пер. с англ.
И. В. Груздевой), комментарии Е. Я. Суриц и
С. А. Конаева («Школа и Театр Движений»), текстология
С. Б. Потемкиной
Последние сезоны, проведенные Брониславой Нижинской в России, сначала царской, а затем революционной, все чаще приковывают внимание исследователей балета. Именно на эту пору пришлось формирование ее творческой личности, которое привело к последующему взлету. Архив Нижинской, хранящийся в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне, многое приоткрывает в биографии выдающегося хореографа.
В августе 1915 г. танцовщик Александр Кочетовский, выпускник Московского театрального училища, много лет проработавший в «Русских балетах Дягилева», приехал в Киев, куда он был приглашен на место балетмейстера и танцовщика киевского Городского театра. С ним была жена, Бронислава Нижинская, солистка, закончившая петербургское Театральное училище, их двухлетняя дочь Ирина и мать Брониславы Элеонора Береда, в прошлом танцовщица, чей профессиональный путь начался в варшавском театре «Вельки» (Большой театр). Для Кочетовского киевский период был кратким эпизодом творческого пути, который завершился в Техасе, где он обучал танцам дочерей нефтяных баронов. Нижинская же начала здесь международную карьеру в качестве одного из самых известных балетмейстеров-новаторов.
Нижинская провела в Киеве шесть лет. Здесь родился ее второй ребенок, а Кочетовский дважды уходил от нее. Но более важно то, что в Киеве она стала художником модернистского направления. В бурлящей экспериментами атмосфере революционной России и недолго просуществовавшей Украинской республики она открыла собственную студию, которую назвала Школой Движения. Нижинская работала с ультрасовременными театральными художниками и разрушавшими каноны театральными режиссерами, создавала сольные и групповые танцы, в Киеве состоялись первые вечера ее хореографии. Она преподавала в студиях «левого» направления, сотрудничала с украинскими и еврейскими культурными организациями. В Киеве она создала свою первую студию, где царила атмосфера творческого вдохновения и экспериментирования, которую она стремилась воспроизвести на протяжении всего своего творческого пути. Здесь было положено начало ее формальным и теоретическим исканиям, воплотившимся в «Свадебке», балете, открывшем новые хореографические горизонты и ставшем классическим1. Начальный период творчества Нижинской уже давно привлекал внимание 298 исследователей. Сама же она редко возвращалась к этому времени, никогда не касалась спорных политических вопросов и почти не говорила о своем художественном творчестве.
Дневники Нижинской — важнейшее свидетельство этого чрезвычайно существенного периода ее творческого развития. Самые ранние записи публикуемой части дневника были сделаны на Рождество 1919 г., через год после открытия Школы Движений. Можно предположить, что написанное ранее было утеряно так же как письма, костюмы, программы и другие ценности, когда она с семьей бежала из России в 1921 г. Вернувшись к Дягилеву, Нижинская начала собирать свой архив: программки, вырезки, произведения искусства, отражающие внешнюю сторону ее карьеры, а внутреннее развитие выразила в дневниках и тетрадях с хореографическими записями. От киевского периода осталось очень немного документов, и, стремясь восполнить их малочисленность, Нижинская уже в середине 1920-х гг. начала писать о нем. Задумав продолжить то, что было начато в Школе Движений, она попыталась реконструировать свой киевский опыт, делала отдельные беглые записи, касающиеся работы в Городском театре, составила список имен тех, с кем общалась, сопроводив его короткими характеристиками, словно пытаясь сберечь в памяти сведения о людях и событиях, прежде чем они поблекнут окончательно. Нижинская сохраняла связи с бывшими учениками и сотрудниками, обменивалась с ними письмами до 1924 г., когда переписка с эмигрантами стала опасной для советских граждан. Она хранила все письма, и, как видно из ее записок, собиралась использовать часть этого материала в мемуарах. После распада СССР и восстановления связей между Россией и русской эмиграцией исследователи в России и на Украине обратились к изучению творчества Нижинской. Сегодня мы уже достаточно знаем об этой эпохе, для того чтобы, представить себе эту жизнь, насыщенную революционными событиями. Нижинская в Киеве стремилась преобразовать балетную идеологию и практику, создав новый тип танцовщика и новый тип искусства движения.
В балетном искусстве женщины долгое время доминировали как исполнительницы, но очень мало кто из них стал выдающимся балетмейстером. Они чаще работали во второстепенных оперных или коммерческих драматических театрах, и их работы, поставленные к определенному случаю, пропадали бесследно.
В императорском балете, где в 1908 г. начался профессиональный путь Нижинской, все руководящие посты, как творческие, так и административные, кроме нескольких педагогов и костюмеров, были заняты мужчинами.
В дягилевских «Русских балетах», где Нижинская работала с момента основания, ситуация была такой же. Труппа, созданная Сергеем Дягилевым, выросла из дружеского кружка, сложившегося еще в 1890-х гг. Его члены издавали журнал, организовывали выставки, позднее обратились к театру. Женщины находились на периферии дягилевского круга, ядро его состояло из мужчин и — как сам Дягилев — гомосексуалистов. Позже Нижинская вспоминала: «Я была в труппе и чувствовала, что, несмотря на свою молодость, в состоянии поставить балет. К сожалению, я была всего лишь женщина»2.
Брат Брониславы, Вацлав, поступивший в труппу вместе с ней, стал первым танцовщиком, любовником Дягилева и человеком, воплощавшим его проекты. 299 Балеты Нижинского «Послеполуденный отдых фавна» (1912), «Игры» (1913), «Весна священная» (1913) открыли модернистскую страницу в истории балетного театра. Роль Нижинской в их создании нельзя недооценивать. В процессе репетиций Вацлав экспериментировал с ее телом, ставшим материалом, из которого он вылепил медленные, угловатые, напоминавшие фризы движения своего Фавна и Избранницы в балете «Весна священная», в премьере которого ей не удалось принять участие из-за беременности. Через несколько месяцев после рождения дочери и изгнания Нижинского из труппы Бронислава снова приходит на помощь брату, помогая ему в организации балетного сезона в Лондоне в «Палас-тиэтр». Во время лондонского сезона Нижинская в последний раз видела брата на сцене и в здравом рассудке. В апреле 1914 г. она уехала в Петербург, а Вацлав с молодой женой-венгеркой — в Будапешт. Пришел август, и под первые залпы войны на Балканах завершился XIX век. Россия вступила в войну с Германией, Петербург стал Петроградом.
Вернувшись в Петроград, Бронислава в какой-то момент начала преподавать3. Педагогика, никогда не становясь единственным занятием, была, тем не менее, составляющей ее хореографических поисков, и нельзя не видеть связи между ее началом и появлением первых постановок. Вместе с Кочетовским она осела в Народном доме, где ежедневно давали оперные и драматические спектакли по низким ценам. Несмотря на военное время, театральная жизнь в Петрограде била ключом. В сезоне 1914/1915 гг., когда Нижинская с мужем работали в Народном доме, здесь было показано 35 опер. Но танцевальная труппа была небольшой и участвовала только в оперных спектаклях.
В первый год войны, до того как стало ясно, какие огромные потери несет Россия, Петроград охватила военно-патриотическая лихорадка. «Патриотические вечера» стали частью светской жизни. Артисты пели, танцевали, играли отрывки своих коронных ролей на благотворительных концертах в пользу действующей армии, полевых госпиталей, организованных Союзом русских женщин, семей литераторов, призванных на военную службу. Артисты императорских театров пользовались большой популярностью, и балетный дивертисмент в исполнении солистов Мариинского театра нередко завершал представление. Имя Нижинской не встречалось в прессе до марта 1915 г., когда она приняла участие в благотворительном спектакле под патронажем принца Александра Ольденбургского в Народном доме. Разнообразную программу открывал французский водевиль, завершалась она патриотической сценой «Родные тени», кроме того включала 4-й акт из оперы Верди «Отелло» и концертную часть, в которой и участвовала Нижинская. В этом представлении артисты Мариинского театра выступали участие вместе с коллегами из Народного дома. Что Нижинская танцевала, неизвестно. Но, видимо, она произвела хорошее впечатление, потому что меньше чем через две недели приняла участие в благотворительном спектакле на сцене Михайловского театра, где кроме нее, Кочетовского и только что вернувшейся из Лондона Лидии Кякшт были заняты исключительно артисты императорских театров. Что она танцевала, тоже неизвестно, но, вероятно, ей было очень приятно выйти на сцену со старыми товарищами по труппе, с Фокиным и Карсавиной, а также с Михаилом Мордкиным из Большого театра, с которым ей не раз придется встретиться за границей.
300 Хотя Петроград был культурной столицей России, возможности для танцовщиков, не связанных с определенной труппой, были очень ограниченными, и Нижинская поняла, что придется расстаться с городом, который она считала родным. Следует уточнить, что молодые предприимчивые балетмейстеры могли здесь успешно сотрудничать с артистическими кабаре и особенно с театрами миниатюр, во множестве появившимися в Петрограде. В программе Троицкого театра Александра Фокина (брата балетмейстера) обязательно были от одного до трех танцевальных номеров. В Литейном театре Борис Романов ставит балет «Трагедия Саломеи» вскоре после его премьеры у Дягилева, в «Кривом зеркале» Николая Евреинова «публика смеется до слез» над пародиями на «Жизель», «Лебединое озеро» и «Эсмеральду» и над травести Николаем Барабановым, изображающим Айседору Дункан и Мод Аллан. Ни Нижинская, ни ее муж не выступали на этих нетрадиционных сценических площадках. Как и многие другие русские танцовщики, они не мыслили свою профессиональную жизнь вне оперно-балетного театра, полагая, что работать можно лишь в рамках этой привилегированной театральной формы. Тем не менее, возможностей для работы в Петрограде было очень мало, и Нижинские заключили ангажемент с киевским Городским театром на сезон 1915/1916 гг.4 Муж как балетмейстер и танцовщик, жена — как танцовщица. Следующие семь лет, за исключением семи месяцев в Москве в 1917 г., Нижинская провела Киеве.
В соответствии с контрактом Кочетовский должен был приехать в Киев не позднее 20 августа 1915 г. Контракт Нижинской в ее бумагах обнаружен не был, но ясно, что супруги должны были покинуть Петроград в первых числах августа. Это был семейный переезд с двухлетней Ириной и матерью Брониславы, Элеонорой Бередой. Элеоноре это было не по сердцу. Она многие годы протанцевала на провинциальной сцене, родила Вацлава в Киеве, а Брониславу в Минске и положила немало усилий на то, чтобы устроить их в Императорское театральное училище в Петербурге.
Киев, третий по величине город России, вовсе не был таким захолустьем, как казалось Элеоноре. Древнейший город страны, столица Малороссии, он мог стать источником артистического вдохновения. Культурно и социально неоднородный, он открывал большую свободу для творчества. Но в области балета в Киеве практически никаких традиций не существовало. Так же как в петроградском Народном доме, балетная труппа Городского театра выступала преимущественно в оперных спектаклях. Однако у Кочетовского были большие амбиции. Согласно контракту, он должен был ставить «балеты, дивертисменты, а также классические и характерные танцы в операх»5. Через шесть месяцев одна из главных газет города, «Последние новости», отмечала, что поставленные им дивертисменты вызвали огромный интерес публики, «в основном благодаря участию новой прима-балерины мадам Нижинской»6. Анонимный критик также высоко оценил «Вальс-бадинаж» (на музыку А. К. Лядова), который она исполнила с большой элегантностью и «исключительным хореографическим юмором» при полном зале7. Кочетовский — несомненно, с помощью жены — перенес на киевскую сцену «Вакханалию» из балета Михаила Фокина «Клеопатра» на музыку А. К. Глазунова, в которой прославились Анна Павлова и Михаил Мордкин, «Снежные хлопья», вероятно, из «Щелкунчика» Льва Иванова и номер (миниатюру) «Мечты» на музыку Г. Берлиоза.
301 Расширив кордебалет до 24 человек, среди которых было 3 женщины (Валентина Вильтзак, сестра Анатолия Вильтзака, работавшая у Дягилева танцовщица по фамилии Пуаре и Елена Жабчинская из лондонской труппы Нижинского)8, Нижинская и Кочетовский представили киевской публике ряд постановок, основанных на балетах Фокина: «Египетские ночи», «Бал в кринолинах» (по «Карнавалу») и «Комнату Арапа» (по третьей части «Петрушки»), а также «Половецкие пляски». Экзотика «Египетских ночей» имела наибольший успех.
Первый сезон стал вехой в артистической жизни Киева, где дягилевский репертуар не был известен, потому что его труппа вообще не выступала в Российской империи. Но Кочетовский и Нижинская не пошли дальше по пути переноса дягилевских балетов. Вместо этого они поставили «Конька-Горбунка», в котором Нижинская исполнила партию Царь-девицы.
Но для танцовщиков ситуация в Киеве была много хуже, чем в Народном доме. В воспоминаниях, относящихся, по всей видимости, к 1930-м гг., Нижинская писала:
«Киевский [городской] театр считался одним из лучших, но и он был в высшей степени провинциальным»9.
Нижинская с мужем все делали сообща, даже танцы они ставили вместе. К счастью, работали они слаженно, ведь им приходилось все делать самим.
«Мы стремились сделать каждый спектакль как можно лучше, заказали свои костюмы за собственный счет — некоторые по эскизам Бакста, Бенуа и Рериха… Достали все партитуры. К концу пребывания в Киеве у нас собралась большая нотная библиотека: партитуры и оркестровые партии балетов “Шехеразада”, “Исламей”, “Лебединое озеро”, “Половецких плясок”, “Камаринской” Глинки, много изданий Беляева и Бесселя для большого симфонического оркестра… Партитура “Конька-Горбунка” была скопирована в Мариинском (императорском) театре. Короче говоря, наши спектакли недорого обошлись администрации театра.
Для дивертисментов мы привезли ноты и костюмы из Петербурга, те, что употреблялись в спектаклях Народного дома. “Табакерка” — на музыку Лядова, костюмы по эскизам Бакста для балета “Фея кукол”, “Половецкие пляски” — костюмы по эскизам Бориса Анисфельда для лондонской постановки Вацлава, “Вакханалия” — Спендиаров, Бакст, “Осенняя песня” — Чайковский, “Трепак” — Рубинштейн и т. д. Администрация немного тратила на балет, даже когда он начал давать хорошие сборы. Все, что касалось музыки и костюмов, мы оплачивали из своего кармана.
Как это было в оперных театрах по всему миру в начале XX века, на балетных здесь смотрели как на артистов второго сорта. До нашего приезда они, как и хористы, не допускались в Фойе — только певцы, хормейстер и дирижеры. Главный дирижер не вел балетные спектакли, а передавал их второму дирижеру. Понемногу отношение к балету у оперных артистов изменилось. Некоторые из них проходили со мной свои роли. Надо сказать, что публика и критики приняли нас очень хорошо и относились с уважением с самого начала»10.
Естественно, что культурный уровень танцовщиков был очень низким. Нижинская была вынуждена разъяснять им основы профессии: «Понемногу, в течение сезона, я воспитывала балетных, готовила их к работе в наших постановках. Многое из того, что мы делали в дивертисментах и маленьких балетах, для Киева 302 было новым. Мы учили их не просто танцевать, но делать это художественно, показывали, как правильно носить костюм и гримироваться»11.
Усилия Нижинской были замечены. Ее бенефисный спектакль «Конек-Горбунок» прошел с триумфом. Сцену засыпали цветами, подарков было бесконечное количество. «Артистка также удостоилась оваций со стороны ее товарищей, положивших, как и она, в течение двух сезонов много стараний и труда для поднятия балетного искусства в нашем театре»12.
К началу сезона 1917/1918 гг. супруги начали понимать, что пора уезжать из Киева. В оперном театре наступил застой, новых постановок не было, и Нижинская с Кочетовским только поддерживали спектакли текущего репертуара и работали преимущественно в драматических театрах, в варьете и в собственной хореографической студии. Нижинская в своих записках и воспоминаниях не упоминает ни об этом, ни о занятиях пластическим движением и танцем с учащимися драматических, оперных и музыкальных школ. У нас есть свидетельства того, что Нижинская разорвала контракт с театром, Кочетовский занял должность балетмейстера в Вене и что их пути расходились во всех отношениях13. С большой долей уверенности можно предположить, что Нижинская творчески не была удовлетворена.
Если судить по биографическому очерку, написанному Нижинской в середине 1930-х гг., свою «первую композицию» она создала в 1914 г., вернувшись в Петроград из-за границы. В дальнейшем она ставила сольные номера и дуэты, которые исполняла в концертах сначала вместе с мужем, затем одна. Среди ее бумаг имеется программка одного из этих концертов — «Большого вокально-балетного вечера» относящаяся ко времени их пребывания в Киеве, когда они много ставили и самостоятельно выступали на Юге России. Кочетовский был прекрасным характерным танцовщиком, и его номера — «Трепак» на музыку Мусоргского и пылкий дуэт с Брониславой на музыку из «Половецких плясок» Бородина — носили национальную окраску. Еще один дуэт, «Фавн и нимфа» на музыку «Вальпургиевой ночи» из оперы Ш. Гуно «Фауст», был переделкой номера, который они исполняли в Народном доме в 1914/1915 гг. Сольные номера Нижинской, «Кукла» (иногда называемый «Табакеркой») на музыку Лядова и «Осенняя песня» на музыку Чайковского, где балетные движения были использованы в более свободной манере, обнаруживали влияние М. Фокина, чьи новаторские работы были основой репертуара дягилевской труппы.
По всей вероятности, к 1917 г. хореографический стиль Нижинской еще не вышел за рамки фокинского «нового балета» и не содержал даже намека на эксперименты ее брата. Не чувствовалось в ее творчестве и влияния «нового» танца, который стремительно завоевывал себе место в культурной жизни России. От дневников Нижинской 1917 – 1919 гг. ничего не сохранилось, но из ее записок и трактата, который она начала писать в Москве в 1918 г., ясно, что образ ее мыслей резко изменился. Между ее новыми представлениями о том, каким должен быть танец, и всем ее предыдущим практическим опытом разверзлась пропасть. Она редко касается политических событий и никогда не объясняет, каковы были ее «политические взгляды», хотя и упоминает о митингах в Киевском оперном театре и своем «разговоре» с большевистскими лидерами Григорием Зиновьевым и Львом Троцким, но не сообщает, о чем они говорили14.
303 Нижинская приехала в Москву вскоре после Октябрьской революции, для того чтобы, получив паспорта и визы для себя, матери и четырехлетней Ирины, уехать в Испанию к Вацлаву. Елена Малиновская, руководившая недавно национализированными императорскими театрами, выхлопотала им паспорта, но французское и испанское консульства отказали в визах. В то время как состоятельные люди бежали из Москвы, Нижинская осталась здесь. Что касается Кочетовского, то он отсутствовал уже несколько месяцев. В своем «очерке» Бронислава сообщает об этом в телеграфном стиле: «Я ясно вижу свою семейную жизнь. Разрыв»15. Тем не менее, в январе 1918 г. Кочетовский вновь появился в Москве, и они примирились. У них была хорошо оплачиваемая работа в кабаре знаменитого ресторана «Яр», но цены на продовольствие росли так быстро, что денег едва хватало. В марте комиссариат третьего участка Мещанской части Москвы засвидетельствовал, что Кочетовский и его жена Бронислава Фоминична Кочетовская постоянно проживают в Москве в доме 66/68 по Мещанской улице16. В следующем месяце Бронислава уже была беременна.
Месяцы, проведенные в Москве, стали для Нижинской временем серьезных перемен. Она «страстно увлеклась идеями Льва Толстого, познакомилась с философией», у нее сложились новые представления о «воспитании артиста»17. Список книг, имеющийся в конце одной из ее записных книжек, показывает, что круг ее чтения был чрезвычайно широк: Платон, Оскар Уайльд, Аристотель («Этика») Эразм Роттердамский («Похвальное слово глупости»), Марк Аврелий («Размышления»), Чезаре Ломброзо («Гений и безумие»), Байрон («Каин»), Ницше («Веселая наука»), несколько книг о театре и об игрушках18. В это время Нижинская начала писать. В конце жизни она вспоминала: «В Москве я продолжала усовершенствовать свою теорию танцевального движения, обогащая статическую механику, основанную на заранее установленных позициях, добавляя новые виды движений. Я чувствовала, что пора взять инициативу в свои руки и начать готовить танцовщиков новой школы для работы с Вацлавом»19.
Архив Нижинской в Библиотеке Конгресса содержит несколько вариантов ее трактата о движении. Один из них был напечатан в 1930 г. в немецком журнале «Schrifttanz». Другой опубликован Нэнси Ван Норман Бэр в каталоге выставки «Bronislava Nijinska: A Dancer’s Legacy». Сноска в журнале «Schrifttanz» указывает на существование еще более ранней версии — «Школа Движений. (Теория хореографии)», опубликованной в Киеве в 1920 г. Ни одного экземпляра этого издания пока не обнаружено, но, возможно, это было «заявление/манифест», над которым она работала в феврале 1920 г.20 По всей вероятности, потерянная версия выросла из неразборчивой рукописи на более чем 100 страницах общей тетради, которую она называла «Школа и Театр Движений. 1918». Здесь и во второй тетради, подписанной «Б. Нижинская. 1918», она излагала свои планы воспитания нового танцовщика.
Ее целью было воспитание умного и преданного своему делу артиста, артиста по духу и культуре. Она стремилась развить его творческие способности, а не натренировать для будущей карьеры (как было с ней самой). Она предлагала длинный список дисциплин, позволяющих этого добиться: классический танец, характерный танец, стиль в движении, пантомима, свободное движение, музыка и 304 теория музыки, эстетика, история искусства и театра, этика, рисунок и живопись, запись танца21. Она объясняла Малиновской, что «новый Хореографический театр» надо создавать с молодыми талантливыми людьми, не испорченными старой школой, не связанными никакой сложившейся балетной традицией. «Открывая в Киеве собственную школу в феврале 1919 г., я собрала группу одаренных, культурных, хорошо образованных молодых людей. Все они закончили гимназии, многие серьезно занимались музыкой или изобразительным искусством. Ни у кого не было подготовки в области балетной техники, мне легко было с ними работать и научить их основам танца. Они были преданы танцу и искусству», — утверждала Нижинская22.
Меньше года спустя, наблюдая за прогрессом своих учеников, она запишет в дневнике: «Мои ученики не в полном размере (они еще молоды), но уже дают впечатление талантливости. Они уже много больше заурядных балетных артистов, а учатся всего 6 – 7 месяцев. Радуют меня. Так начинается мое счастье. Мои ученики начинают “ходить” — хочу поставить “Половецкие пляски”» (см. наст. публ.).
Свой первый трактат, сохранившийся в архиве в виде незаконченного и еще достаточно беспорядочного текста, Нижинская писала в Москве. Он свидетельствует о ее глубоком разочаровании в балетном театре последних императорских лет. Критиковала она русский «старый» балет, представленный постановками Мариуса Петипа, прежде всего за пристрастие к рожденной в Италии виртуозной технике, которая, по ее мнению, превратила балет в некую демонстрацию женского бравурного танца. Она считала, что настоящий танец был забыт. Все строилось только на «школе» и упрощение подавалось за «танец» (см. наст. публ.).
Нижинская резко критикует и Фокина, создателя того направления, которое в 1910-х гг. стали называть «новым балетом». Критически упоминает и Александра Горского. В другом месте она называет эти «кажущиеся “новые” танцы» «трупом всего старого искусства». Для нового же искусства примером служила живопись, Нижинская много пишет об этом в своей рукописи; и совершенно ясно, что живопись стала источником ее идей, той искрой, что воспламенила ее воображение. Она почти буквально повторяет слова Казимира Малевича, утверждавшего в своем «Манифесте супрематизма» превосходство чистого чувства в творчестве и необходимость отказа от изображения объективного мира.
Язык, которым пользуется здесь Нижинская, приравнивая одно искусство к другому, позволяет понять, насколько ей близко символистское понятие синестезии. Она не ссылается на источники, но эта идея получила широчайшее распространение в начале XX в. Художники из раннего окружения Дягилева все в это верили. Та же идея высказывалась приверженцами Э. Жак-Далькроза, швейцарского педагога, чьи теории, касающиеся взаимосвязи жеста и ритма, были подхвачены как прогрессивными режиссерами, так и теоретиками. Синестезия, или «художественная взаимосвязь между звуками, цветом и движениями» — главная тема труда Жана д’Удина «Искусство и жест» (L’Art et le Geste), изданного в Париже в 1910 г., уже в следующем году переведенного на русский язык князем С. М. Волконским, всячески пропагандировавшим теории Далькроза. Нижинская не упоминает Далькроза, д’Удина или Волконского в своем трактате, но ее, несомненно, интересуют теоретические рассуждения Далькроза о преобразующей роли художника, 305 его вера в то, что жест имеет синтезирующую силу, и в ритм, эту главную идею учения Далькроза о взаимоотношении музыки и танца. Тем не менее, она подменяла тезис о теле, готовом «тесно сотрудничать с музыкой», тезисом о независимости танца. Высказывая мысль, которую провозглашали хореографы свободного танца в 1920-х и 1930-х гг., Нижинская настаивала на том, чтобы музыка предпочтительно писалась после, а не до того, как закончена хореография, а в идеале, чтобы композитор работал, опираясь на партитуру хореографа.
Трактат Нижинской насквозь утопичен. Вновь и вновь она поминает, приравнивая одно к другому, «творчество» и «дух» и, как и Малевич, хочет отринуть «все воспоминания о материальном мире», говорить «на космическом языке»23. «Будущее», возвещает она, «это торжество духа». Согласно Нижинской, «дух» способен полностью изменить общество, создать нового человека и это будет революция в культурном отношении, столь же радикальная, как те политические события, что происходили вокруг. Это единственный случай, когда она в своем трактате упоминает о тех событиях, которые всё в знакомой ей России изменили, когда уничтожались один за другим все составляющие царской власти и на их месте в муках рождалось некое новое, еще неизвестное государство. Не удивительно, что мысль о переменах в сознании Нижинской является первостепенной мысль о необходимости пробудить в личности стремление раскрыть собственный духовный потенциал. Ее жажда изменений во вселенском масштабе, ее космические устремления, как бы бессвязно о них ни было сказано, свидетельствуют о ее интересе к идеям теософов, к четвертому измерению П. Д. Успенского, столь популярным в артистической среде конца царской эпохи24.
Вера в духовную силу искусства побуждала Нижинскую еще больше ненавидеть то, что ей приходилось так часто наблюдать и в балетной среде, — продажность. «Лакействующие», «спекулянты», «кокотки» — вот некоторые из самых образных выражений, которые Нижинская употребляет, говоря об артистах, которые шли на компромисс, отказываясь от «чистого искусства» ради успеха у публики.
Наконец, Нижинская изложила свои представления о том, какой будет ее новая школа. Как и следовало ожидать, она отказывалась от профессионального обучения балету, как оно традиционно велось. Она уважала технику, но хотела освободить танцовщиков от тиранической власти выворотности. Нижинская отнюдь не одна высказывалась против выворотности. Начиная с Фокина русские хореографы — и те, что работали у Дягилева, и те, что остались на родине, — экспериментировали с обратными позициями. Сам Фокин предпочитал неполную выворотность, а к полной обращался чаще, когда надо было создать пародию, высмеять персонаж, как, например, в партиях Балерины и Уличной танцовщицы в «Петрушке». Эти роли Нижинской были хорошо знакомы, так как в обеих она выступала. Ее брат во имя выразительности еще дальше ушел от академической техники в «Послеполуденном отдыхе фавна», создав там движения с параллельным положением ступней, и в «Весне священной», испробовав те возможности, которые открывают «обратные позиции» (носками внутрь). Их он использовал для показа людей древнего дославянского племени, исходя из представления о том, что выворотное положение может служить характеристикой танца, принадлежащего ориентированному на Запад высшему русскому обществу.
306 Московские хореографы были менее привержены балетным традициям, чем петербургские. В более вольной атмосфере Москвы зародились многочисленные студии. Здесь дунканизм, дельсартизм, ритмика, «свободный» танец, «пластическое движение» и акробатика, все соседствуя с классическим танцем, образовывали с ним интересные, динамичные сочетания. Нижинская могла это видеть в постановках Александра Румнева и его группы «Искания в танце» — мастеров, которых упоминали наряду с Голейзовским. В то же время она могла видеть концерты танцовщиков, работавших за пределами балетного театра, в том числе Веры Майя, ее «пластические этюды», где почти всегда использовалась та же музыка, которую выбирала для себя в последующие годы и Нижинская, — произведения Баха, Метнера, Прокофьева, Скрябина, Шопена и Шумана25. Александра Смирнова-Искандер, бывшая актриса кино-драматической студии в Киеве, видела там работы Нижинской в ее Школе Движений и в 1997 г. рассказывала о них Марии Ратановой. По ее мнению, они были близки не столько балету, сколько греко-римскому стилю, основанному на образах, знакомых по барельефам. Там не было пуантов, а упражнения напоминали физкультуру. Кроме того, по ее словам, ученики часто выступали в сандалиях26.
Одним из главных источников этого удивительного взрыва творческой и интеллектуальной энергии было, несомненно, общение с художницей Александрой Экстер. Как и Нижинская, она провела военные годы в Киеве, хотя встретились они в Москве в 1917 г. Экстер была на пике своих творческих возможностей, ведущей фигурой русского авангарда. В это время она исключительно убедительно заявила о себе как о театральном художнике в спектаклях Александра Таирова в Камерном театре. В Москву осенью 1917 г. ее привела как раз работа над «Саломеей», спектаклем по пьесе Оскара Уайльда, где они с Таировым отказались от кулис, писаных задников, иллюзорных декораций и заменили их платформами и геометрическими формами.
В «Записках режиссера» (1921) Таиров высказал ряд идей, которые близки теоретическим взглядам Нижинской и ее последующей постановочной деятельности: идее синтетического театра, сливающего «органически все разновидности сценического искусства <…> в единое монолитное театральное произведение»27, идее «формы, насыщенной творческим чувством — эмоциональной формы»28, необходимости создания «нового мастера-актера», который имел бы подготовку как в области драмы, так и балета и оперы. И, наконец, он понимал огромное значение ритма: «Это первое и главное требование»29. Движение входило неотъемлемой частью в любую постановку театра Таирова, точно так же, как его провозгласила Нижинская, включив в название своей школы. Движение, утверждала она, «дает жизнь танцу», и «через него танец воздействует на зрителя… Ритм живет только в движении»30.
Таиров поручил поставить танцы в «Саломее» Михаилу Мордкину31, чей жизненный путь в эти годы удивительно сближался с Нижинской, хотя сама она в своих записях упоминает его лишь раз, в связи с концертом, в котором он выступил в Киеве с Викториной Кригер32. Жизнь в Москве, как ни богата она была интересными событиями, становилась невыносимо трудной. Семья Нижинских — Кочетовских решила уехать на юг. В середине октября 1918 г. они были уже в Киеве, где 307 было не так тяжело с продуктами и где Нижинская оказалась в «дружественной атмосфере» и, как она писала, могла «начать свою новую работу»33.
Когда Нижинская вернулась в Киев, там происходили серьезные политические и культурные перемены. Революция упразднила монархию и ускорила разрушение Российской империи, выпустив на свободу давно подавлявшийся национализм. В Киеве массовые митинги привели к созданию Центральной рады, а затем Украинской Национальной Республики. Чтобы уравновесить влияние русской культуры, новое правительство провозгласило национально-культурную автономию других национальностей — поляков, евреев, украинцев, что дало толчок развитию их литературы и искусства. Расцвели такие организации, как «Культур-лига», способствовавшая развитию культуры на идише, и Молодой театр, исполнявший классические и экспериментальные пьесы по-украински. Журнал «Театр и искусство» день за днем отражал изменения в театральной жизни города — давление на театр с целью его украинизации, появление еврейских театральных групп, растущее число варьете, театров миниатюр и даже заведений «только для взрослых». Так, например, в феврале 1918 г. журнал сообщал, что в планах Министерства просвещения открытие четырех украинских театров, в том числе оперной труппы в киевском Городском театре, где будут исполняться «оригинальные украинские оперы и оперы, переведенные на украинский язык». Вернувшись из Москвы, Нижинская и Кочетовский застали в Киеве богатейшую музыкальную и театральную жизнь: «Летучая мышь» Балиева, Николай Евреинов в Большом театре миниатюр, балетная студия и труппа под руководством Мордкина в Городском театре34. Александра Экстер на вопрос о том, какие цели в настоящее время стоят перед украинским театром, заданный ей на Всеукраинском съезде представителей художественных организаций, отвечала: «Как можно больше свободы и как можно меньше провинциальности»35.
Этническая и культурная мозаика космополитического Киева была сродни самой Нижинской, дочери танцовщиков-поляков, родившихся и учившихся в Варшаве, а по отцу — внучки и племянницы польских националистов. Она родилась в Минске, но была крещена в Варшаве, что впоследствии дало ей право на польское гражданство. Когда в 1921 г. она решила покинуть Украину, из всех возможностей бегства был выбран путь в Польшу, где благодаря свидетельству о крещении она получила регистрационную карточку, а через неделю и польский паспорт36. Но польского в ней на самом деле было больше, чем официальное гражданство, хотя для беженки и это было немаловажно. Польский язык был ее родным, интимно близким, на нем говорили домашние и подруги матери, из перешептываний которых Бронислава узнала, что такое женская судьба. По-польски она переписывалась с матерью, этот язык был как-то связан с ее ощущением принадлежности к семье артистов37.
Но и Россия не была ей чуждой. «Россия была нашей родиной — писала она, — близкой с самого детства, благодаря своей великой культуре, сформировавшей нас как артистов»38. Нижинская училась в русских учебных заведениях, писала по-русски, на этом языке выражала свои самые потаенные мысли. Позднее, войдя в круг русской эмиграции, она сменила польский паспорт на Нансеновский, который был у большинства русских танцовщиков.
308 В Киеве Нижинская сотрудничала с еврейскими и украинскими культурными организациями. Так, активный деятель «Культур-лиги» художник Ниссон Шифрин создавал эскизы оформления для танцевальной студии, где преподавала Нижинская. Не существует полного списка поставленного Нижинской в Киеве, поэтому нельзя точно установить, работала ли она еще с Шифриным. В дневнике 29 декабря 1920 г. она пишет о работе под названием «Петрушка» или «Петрушки», оформление которой будет делать Шифрин. Она также упоминает его в списке учеников, артистов и друзей, связанных со Школой Движений39. В недавно опубликованной статье Марины Куринной сказано, что «Петрушка» был исполнен на детском утреннике в 1920 г. и что после этого Нижинская начала работать с Шифриным над неосуществленной постановкой «Египетских ночей»40.
В Киеве Нижинскую естественно притянул круг людей, группировавшихся в студии Экстер, центре типичного для революционной эпохи «торжествующего экспериментаторства», где собирались художники Вадим Меллер, Симон Лиссим, Ниссон Шифрин, Борис Аронсон, Павел Челищев, позже вдохнувшие новую жизнь в сценографию в России и за рубежом. Исследователь творчества Экстер Георгий Коваленко описывает ее студию как открытый для всех «творческий клуб», где принимали заказы на сценографические и графические работы, где каждую неделю читали лекции писатели, режиссеры, актеры и критики, в том числе и приехавшие в Киев из Москвы. Сообщения о некоторых участниках сохранились в прессе: режиссер Александр Таиров прочел лекцию «Роль актера в театре», писатель Илья Эренбург — «О ценностях современного искусства», режиссер Николай Евреинов — «Театр и эшафот», художественный критик Яков Тугендхольд — «Искусство вчерашнего дня», Леонид Выготский — «Театр и революция». Киевляне тоже выступали. Поэт Бенедикт Лившиц (с которым Нижинская была хорошо знакома) сделал доклад по теории современного искусства, критик Стефан Мокульский — об итальянской народной комедии, актриса Станислава Высоцкая — об античной трагедии. Выступала и Нижинская41. Сколь ценны должны были быть для нее эти лекции, как много значило, вероятно, ощущать себя частью такого замечательного сообщества, получить признание в качестве теоретика нового танца, когда она еще находилась в самом начале пути.
Но пребывание Экстер в Киеве подходило к концу. В середине января 1919 г., опасаясь приближавшихся к городу большевиков, она бежала в Одессу. Однако до этого она могла встречаться с Нижинской в течение нескольких месяцев, предшествовавших открытию Школы Движений, и еще шесть месяцев в 1920 г., когда Нижинская готовила свою первую абстрактную работу. Незадолго до смерти Нижинская говорила искусствоведу Андрею Накову, который писал статью для каталога работ Экстер, что «художница часто приходила в студию и смотрела на мою работу». Она поясняла, что настоящего сотрудничества у нее с Экстер в Киеве не было: «Я обсуждала с ней свои планы, но ни декораций, ни костюмов она для меня не делала. Я работала с другими художниками: Вадимом Меллером и Ниссоном Шифриным»42.
Записка от Экстер из архива Нижинской (один из немногих документов, которые она взяла с собой на Запад) говорит о том, что у них были какие-то совместные планы, но что Нижинская медлила, возможно опасаясь влияния мощного 309 таланта художницы. Экстер писала: «Я заходила сказать Вам, что решила ехать в Москву, а затем вернуться, чтобы работать с Вами. Если, конечно, Вы во мне нуждаетесь <…> Я буду работать с Вами с огромным удовольствием <…> Бронислава Фоминична, я напишу Вам из Москвы и буду ждать вашего ответа, касающегося моего возвращения»43.
В другом письме, написанном вскоре после эмиграции, Экстер тепло вспоминает их киевские дни и добавляет, что, будучи в Москве, говорила о Нижинской со Станиславским, и он очень хотел пригласить ее и студию в Москву44.
Георгий Коваленко пишет, что, когда в 1920 г. Экстер вернулась в Киев, «город было трудно узнать». Заводы и электростанции не работали, голод, уже ощущавшийся в декабре 1919, резко усилился. Друзья разъехались, памятная ей культурная жизнь — спектакли, выставки, кафе — прекратилась. В мае 1920 г. она снова открыла мастерскую. Из оставшихся друзей самыми ей близкими были Вадим Меллер и его жена (тоже художница) Нина Генке, она встретилась с режиссером Лесем Курбасом. Экстер вспоминала, что самым интересным в городе были представления Школы Движений Нижинской. И не только сами представления, но вообще все, что там происходило. Меллер показывал несколько эскизов и зарисовок танцевальной труппы Нижинской45. Многое в работах Меллера — энергичная композиция, цветовая гамма, даже понимание балетного костюма — было близко Экстер. Особенно ее обрадовало то, что были подхвачены ее идеи, касающиеся применения пластического искусства в театре, нашедшие выражение уже в костюмах Саломеи. Хореографические миниатюры Нижинской поразили Экстер сильной режиссурой, необычным хореографическим языком и выразительностью. Но более всего ее поразило, что эти маленькие композиции соответствовали тем принципам современного пластического искусства, которые разделяла и сама Экстер.
Подобно Экстер в ее рассуждениях о живописи, Нижинская считала движение главным «материалом» танца. У Экстер она заимствовала представление о паузе как о «дыхании» (в противоположность разрыву) в потоке движений и о переходе от позы к позе как о двигательном, а не статическом явлении. «Ритм, — писала Нижинская, — живет только в движении»46.
Подобно Нижинской, Экстер отвергала натурализм, историзм и реализм. Она настаивала на том, что, используя материалы эпохи, их надо творчески трансформировать, а не натуралистически воспроизводить.
Для того чтобы воскресить на сцене какой-либо исторический период, надо «ухватить» его пластическую суть. Например, используя вертикальность готики, можно придать новое значение костюмам и стилистическим конструкциям. Орнаменты должны переноситься на сцену в виде сильно укрупненных фрагментов47.
Нижинской была близка идея Экстер, что в театре цельное произведение рождается через взаимодействие разных искусств. В работах, созданных для Школы Движений, она была не просто балетмейстером, которого позвали для того, чтобы оживить работу, задуманную другими, она была режиссером, как Мейерхольд или Таиров. Ей принадлежал выбор музыки и художественного оформления. В киевские годы Нижинская была богом в созданной ею вселенной, артистом с собственным видением мира, а не ремесленником, специалистом театрального дела.
310 Школа Движений
10 февраля 1919 г. (по новому стилю) Нижинская открыла студию в доме 21 по Фундуклеевской улице, в двух шагах от Экстер, которая жила в доме 27, и через дорогу от Городского театра. (Через год студия переехала на Большую Подвальную, 1748). Она назвала студию Школой Движений. Тремя неделями раньше — 20 января — Нижинская родила второго ребенка, Льва, или, как его звали в семье, Левушку. (Во Франции его стали называть Леоном.)
Название студии было связано с трактатом 1918 г., и выбор слова был неслучайным. В студии Нижинской занимались не балетом, и даже не танцем, а именно «движением». Мирослава М. Мудрак, исследовательница художественного модернизма на Украине, утверждает, что Нижинская руководствовалась «синтетическими принципами системы Далькроза», и связывает ее с местными педагогами «свободного» направления, такими как Адольфина Пашковская, преподававшая танец и свободное движение в школе Лысенко, с А. А. Романовским, который преподавал «пластику» в Оперной студии А. А. Тальновского, или харьковским балетным педагогом Е. И. Вульф, чьи уроки включали много элементов системы Далькроза49. Учебная программа студии Нижинской серьезно отличалась от других балетных школ. Здесь не было классов пальцевой техники, поддержки, вариации, где через усвоение раз и навсегда установленных движений классического танца совершенствуется техника балетного артиста. Курс студии был направлен на то, чтобы сформировать гармоничного современного танцовщика, стремящегося создавать танец, а не только совершенствовать свои телесные навыки. В 1919 г. в начальном, среднем и продвинутом классах было по 11 учащихся. В 1920 г. их количество увеличилось до 20 в каждой группе. Мальчиков было всего 8. Уроки начинались в 9 утра и продолжались до 11 вечера. В вечерние часы все группы занимались вместе. Кроме того, в студии проводились занятия по движению для драматических артистов и оперных певцов50.
В учебную программу, предусмотренную Нижинской в трактате 1918 г., входили как практические, так и теоретические предметы. Практическая часть включала классический и характерный танец, стиль движения, мимику и экспрессию, а также свободное движение. Иначе говоря, студийцы должны были научиться не только выполнять движения, но и изобретать их и создавать из них композиции. Когда позже — может быть, после ухода из «Русских балетов» в 1925 г. — Нижинская надеялась открыть на Западе новую Школу Движений, называемую по-французски École de Mouvement, она исключила из программы свободное движение и эстетику и заменила искусство и историю театра на дискуссии об искусстве.
Используя такую учебную программу, невозможно выучить профессионального балетного танцовщика. Но ни в Москве, ни в Киеве Нижинская и не собиралась готовить профессионалов, она хотела обучать искусству танца как современной практике. Мало кто из студийцев ранее занимался танцем, большинство было гимназистами или начинающими актерами, занесенными в ее студию волной послереволюционного творческого взрыва. Несмотря на это, некоторые из них впоследствии стали профессионалами: «лучшая ученица» Анна Воробьева танцевала у Нижинской на Западе, а потом была балериной Софийской оперы; Янек и Чеслав 311 Хоэры, Женя (Евгений) Лапицкий и Серж (Сергей) Унгер выступали в «Русских балетах». Многие нашли себя в изобразительном искусстве.
Хотя учебная программа была насыщена предметами образовательного плана, основное значение Нижинская придавала исполнительству, и спустя год студия начала выступать публично. В репертуаре были как вновь поставленные работы Нижинской, так и переработанные старые. Это ясно показывает родственность творчества Нижинской «свободному танцу», в котором хореографическое творчество также было тесно связано с развитием новых техник танца.
5 февраля 1919 г. большевики вошли в Киев. Был введен комендантский час. Нижинская, как и все те, кто предпочел остаться в городе, оказалась во власти не зависящих от нее политических сил. Она посвятила себя преподаванию, созданию первых работ, свободных от фокинского влияния, утверждению собственного положения и положения школы в обстановке меняющегося политического климата. По словам Марины Куринной, «она шла на сближение с советской властью и достаточно активно поддерживала ее реформы в области театра» (возможно, с целью сохранения собственной балетной студии). В феврале 1919 г. Нижинская стала членом Центрального комитета по национализации Киевского оперного театра и Городского совета по искусству. «Она принимала участие в концертах, устраиваемых подотделом искусств для командного состава и красноармейцев (для приобщения красноармейцев к искусству в Киеве была сформирована Первая передвижная концертная труппа)»51. Она должна была разделять энтузиазм художников бывшей студии Экстер (в том числе Меллера и Шифрина), которые, украсив здания и трамваи плакатами и транспарантами, превратили Киев в настоящий карнавал современного искусства на майские праздники 1919 г. Для молодых художников это было превосходное время. Нацеленная на перемены революционная идеология оказалась близка искусству, которое Нижинской было интересно создавать.
В конце 1919 г. Нижинская готовила публичный концерт, посвященный первой годовщине студии. Она работала со студийцами по многу часов в день, репетировала свои сольные номера, ставила, красила, шила, вышивала костюмы52. Возвращение к концертным выступлениям, которые она называет театром, со всей их «грязью» и денежными интересами, стали шоком для нее.
В течение следующих недель Нижинская участвовала в нескольких концертах, которые назывались «хореографическими вечерами». Программ этих концертов не сохранилось, имеются лишь краткие упоминания в прессе. Большинство концертов были не групповыми, а сольными: Нижинская выступала в репертуаре, который складывался у нее с 1914 г. Статус Школы Движений изменился в феврале 1920 г. 1 февраля школа выступала перед «комиссией», и хотя Нижинская нигде не уточняет, что это за комиссия, надо думать, что это были какие-то власти, потому что «они продлили субсидию», и «все стали возиться со мной» (1 февраля 1920 г.). Через пять дней состоялось первое публичное выступление школы. «Мой спектакль в Купеческом имел большой успех. Все были там» (7 февраля 1920 г.). В течение третьей недели февраля Нижинская и ее студия много выступали в клубах в окрестностях Киева во время Недели фронта и транспорта, напоминавшей о том, что Гражданская война на Украине и Юге России все еще бушует. Нижинская не сообщает, из чего состояла субсидия, но, возможно, она выдавалась 312 продовольствием и топливом, что было важно в момент усиливающегося кризиса, а также предполагала возможность выступлений на привилегированных площадках. У нее были большие планы — «Поэма экстаза» А. Н. Скрябина, «Ночь на Лысой горе» М. П. Мусоргского (которую она позже поставила у Дягилева) и работа под названием «Фейерверк», задуманная как абстрактная игра света, музыки и движения. Еще одно большое представление было дано 4 июня в Городском театре, переименованном в Первый государственный драматический театр им. Шевченко. Газета «Киевский день» писала, что были показаны «знакомые номера» Нижинской — «Демоны» (предположительно Н. Н. Черепнина), «Половецкие пляски» А. П. Бородина, «Ноктюрн» Ф. Шопена, и «Петрушка» И. Ф. Стравинского. «Надо отметить, что госпожа Нижинская так же хороша, как была. Ее школа сильно прогрессировала со времени выступления в Купеческом собрании. Редкая в наши дни многочисленная публика тепло приветствовала артистку»53. Согласно Марине Куринной, студия Нижинской выступала два-три раза в месяц в главном театре города с неизменным успехом и «пользовалась большой популярностью»54. К сожалению, в архиве Нижинской не сохранилось ни программок, ни откликов прессы на выступления студии.
После концерта 1920 г. дневниковые записи становятся реже, а в сентябре имеется перерыв на три недели. Вероятно, Нижинская куда-то уезжала, или болела, или слишком интенсивно работала. 1 сентября она пишет о том, как ей видится новый балет — «Мефисто» на музыку Ф. Листа. Возможно, этот замысел был навеян неосуществленными планами брата Вацлава, который в 1916 г. в Нью-Йорке намеревался поставить балет на музыку «Мефисто-вальса». Премьера еще одной постановки Нижинской — «12-й рапсодии» на музыку Ф. Листа состоялась 7 ноября и вызвала скандал. В то время, как кулисы были переполнены, зрительный зал взорвался «плевками и руганью».
Меньше чем через месяц школа выступила в Городском театре. Это было первое выступление «детей» под оркестр — новая веха в развитии школы и личный триумф Нижинской. Представление было повторено в конце января и 19 февраля, когда на репетиции был также показан «Траурный марш» на музыку Николая Метнера. Все утверждали, что это было лучшее из поставленного ею. К сожалению, эта постановка больше никогда не была показана на сцене и не возобновлялась на Западе.
Кроме Ниссона Шифрина Нижинская в Киеве работала с художником Вадимом Меллером. Меллер был старше, чем Шифрин, работал в студии Экстер и так же, как Нижинская, несколько лет провел в Западной Европе. Меллер и его жена Нина (чья сестра была замужем за Шифриным) стали хорошими друзьями Нижинской, они переписывались несколько лет после того, как она покинула Киев. Изображения Нижинской, сделанные Меллером, являются ценным иконографическим свидетельством ее работы в Киеве. Эти большие яркие живописные работы, висевшие в студии Нижинской и обычно считающиеся эскизами костюмов, насыщены впечатлениями от ее танцев, интерпретированных художником-модернистом55.
Подобно произведениям Меллера, собственные сольные номера Нижинской были сильно стилизованными и полуабстрактными. В дневнике она обычно называет их «эскизами», иногда уточняя автора музыки. Как Айседора Дункан и целое 313 поколение танцовщиц, исполнявших сольные танцы на эстраде, Нижинская использовала этот жанр, для того чтобы найти собственный язык, облечь в художественную форму свои устремления, пробиться к своему субъективному миру.
Одна из самых впечатляющих работ Меллера представляет собой человеческую фигуру, воинственной позой и грузностью напоминающую самурая. Она называется «Ужас». Тело на ней изображено как игра углов и кривых линий, создающих скульптурный объем с головой в виде овала и ногами как толстые платформы; из середины тела «вырываются» треугольные плоскости. Подчеркнуто движение: поднятая нога тяжело ступает, вытянутая от самого плеча рука подобна мечу. Торс склонен вперед, давит по диагонали работы в глубоком угловатом plié19*. Насыщенные цвета и темный фон создают ощущение угрозы. Остальные работы Меллера светлее. В «Мефисто-вальсе» танцовщица показана в полупрофиль, ее фигура устремлена вперед, а взгляд направлен влево, что создает вращательное движение верхней части тела и эффект барельефа, о котором спустя годы вспоминала Смирнова-Искандер56. Этот прием, присутствующий в самом старом из сохранившихся балетов Нижинской, «Свадебке», напоминает плоскостность балета «Послеполуденный отдых фавна», поставленного ее братом, в то время как тяжелые движения «Ужаса» перекликаются с примитивизмом «Весны священной». Тело также кажется остановленным во вращательном движении назад, в то время как правая нога совершает толчок вперед, что создает эффект драматической борьбы направлений. Как и в других работах Меллера, верхняя часть тела скрыта плоскостью, окрашенной в закатно-желтый и небесно-голубой тона, что, несмотря на отсутствие на рисунке указаний для изготовления костюма, возможно, передавало его многослойность.
В Киеве Нижинская не только стала танцевать иное, она стала танцевать иначе. Она рассталась с желанием быть балериной. В XIX веке балерина являлась символом мистической женственности. В ученические годы Нижинская много работала над усвоением поведенческих кодов и технических требований этой роли — воздушных прыжков, округленных рук, тонкой пальцевой техники, создающих впечатление легкости, грациозности, красоты. На фотографиях в танцевальных костюмах она не выглядит женственной, в белой репетиционной пачке кажется нескладной, слишком мускулистой, не знающей, куда смотреть, какое выражение придать лицу. Даже на сценических фото она выглядит неуклюжей. Так, в «Нарциссе» ее Вакханка скорее изображает сексуальность, чем воплощает ее. Нижинская много трудилась, для того чтобы выработать мягкий пластичный корпус и выразительные руки, нужные в балетах Фокина, но греческая женственность ускользала от нее; ее сексуальность дремала. По ее собственному признанию, разбужена она была великим русским певцом Федором Шаляпиным. Об этом сентиментальном эпизоде Нижинская рассказывает в «Ранних воспоминаниях», делая акцент на артистической и эмоциональной стороне57.
314 После этого несостоявшегося романа Нижинская начала расставаться с внешними знаками женственности, принятыми в эпоху короля Эдуарда VII. На Рождество 1911 г. она коротко остригла волосы. С фотографий, сделанных, когда ей было около 21 года, смотрит серьезная молодая женщина — ясноглазая, решительная, смахивающая на мальчика. Мужские черты — английский костюм, блузка со стоячим воротничком, галстук, платочек в кармашке — появляются в ее костюме в 1912 г., когда у нее возникла собственная трактовка роли Балерины в «Петрушке». Восхищаясь Карсавиной в этом образе, Нижинская не хотела ей подражать. В «Ранних воспоминаниях» она писала: «Я старалась избавиться от преследующего меня образа Карсавиной. Она напоминала фарфоровую французскую куклу, хорошенькую и изящную. Ее кукла, как мне казалось, была чуждой зрителям, собравшимся на площади посмотреть петрушечное представление. Я хотела приблизить куклу к этой простой уличной толпе»58.
В неразборчивом черновике записки Дягилеву, написанной после какой-то размолвки, Нижинская говорит: «… я не балерина, даже не второразрядная балерина». Но, говоря о себе в третьем лице, добавляет: «Нижинская — это исключительный талант, нечто особенное»59.
Это особенное проявилось уже в киевские годы. Разъединив проблемы секса и проблемы пола, она преобразовала их как в своем исполнительстве, так и в своей хореографии. «Нельзя так никого обнимать на сцене — ты ведь девушка», — бранила Нижинскую старомодная и всегда критически настроенная мать, чье брюзжание непослушная дочь пропускала мимо ушей. «Броня, не танцуй в “Половецких танцах” с такой страстью — мне всегда кажется, что ты умрешь», — говорила Элеонора60. Обидные замечания матери не могли ее остановить. Так, в трактате 1918 г. Нижинская утверждала, что любые движения, даже те, что считаются «уродливыми и неэстетичными», могут быть красивыми, «если их “исполнить творчески”», и что движения сами по себе не являются ни мужскими, ни женскими, не несут никакой гендерной окраски.
«Всякое движение, если оно новое, — приобретение. Поэтому надо кувыркаться, вставать на головах, лазать по деревьям, прыгать, ломаться — все надо. Всякое движение — это звук в нашей будущей симфонии»61.
2 января 1920 г. Нижинская писала в дневнике о том, что хочет поставить «Половецкие пляски» как было «у Вацы», имея в виду его постановку 1914 г., где Девушка (роль которой предназначалась Брониславе) танцевала одна, окруженная мужчинами. В замысле центральной фигуры подчеркивались женская мощь и эротика. «Она ходит, танцует над ними. Они все время внизу, несмелые, преданные, боящиеся, желающие, горящие и в зажатости не смеющие перед ней, большой, сильной». Этот образ заставляет вспомнить о так и не исполненном Нижинской сольном танце Избранницы в «Весне священной» и предвосхищает центральную фигуру балета «Болеро», поставленного ею в 1928 г. для Иды Рубинштейн.
Киевские работы Нижинской свободны от крайностей гендерной дифференциации движений, заложенной в самом балетном лексиконе и его практическом применении в дореволюционном балете. На место балерины и принца-консорта пришла новая героиня — мощная, асексуальная, Урания, женщина, которая танцует одна. Эту новую женщину и запечатлел на рисунках Меллер, и друзья вспоминали о ней, когда Нижинская была уже на Западе.
315 Хотя соло были движущей силой хореографической деятельности Нижинской в эти годы, она ставила также групповые работы: несколько сцен из «Петрушки» и «Египетских ночей» Фокина, «Половецкие пляски», отрывки из балетов XIX в., ансамбли из второго акта «Лебединого озера» (без любовных дуэтов Одетты и Зигфрида), Кота в сапогах из «Спящей красавицы» на музыку Шопена (вместо Чайковского) и под названием «Маски»62. Кроме того, она поставила несколько собственных групповых работ. Одна из ранних и наиболее значительных из них — «мерзкие» «Демоны», где движения пяти женщин должны были создать у зрителя впечатление, что он находится перед большим насекомым63. Впервые Нижинская упоминает об этой работе в конце января 1920 г., когда она была целиком занята подготовкой первого концерта школы. (В июне следующего года критик включает ее в число уже «знакомых».) В дневнике она пишет об этом с нечасто встречающейся гордостью: «Мои “Демоны” так хороши…» Олег Сталинский вспоминал, что танцующие были разделены на две группы и «скручивали тела», что создавало эффект «извивающихся червей». Насколько он помнил, музыка была из балета Н. Н. Черепнина «Павильон Армиды»64, что соответствует достаточно консервативному вкусу Нижинской, отдававшей предпочтение Ф. Листу и Ф. Шопену. Рассказывая о «Демонах» французскому критику Фернану Дивуару в интервью, данном примерно в то время, когда она работала над балетом «Свадебка», Нижинская подчеркивала, что отказалась от миметической выразительности в пользу танцевального движения. «Эмоции, — говорила она, — заключены в ритме, в линиях движения, а не в гримасах… Масса должна быть не собранием индивидуумов, а образовывать единую форму, наделенную единой жизнью. В этой хореографической массе каждый может создать так же много нюансов, как это происходит в музыкальной массе в оркестре. Каждая группа имеет собственную жизнь, все группы вместе дают гармонию, как ноты в музыке. Каждая группа вносит свою ноту в композицию»65.
Но не все чувствовали пульс жизни в абстрактных массах Нижинской. Марк Терещенко, украинский режиссер и бывший руководитель пролетарского театра-студии, писал в мемуарах: «… я всегда был на спектаклях Нижинской и, как и другие творцы, не мог не увлекаться формой. В глаза бросалась четкость линий внешнего рисунка спектаклей, организованность и согласованность ансамбля, техническое и актерское мастерство тела, движений, но… в согласованности рисунка я не видел живой человеческой индивидуальности. Исполнители ансамбля обезличивались. Создавалось впечатление, что искусство актера было изолировано от жизни. Особенно поражала у Нижинской символическая постановка “Демонов”. При всей утонченности формы, внешнем блеске рисунка, натренированности актерских тел, которые двигались в точном ритме, в ней было что-то безжизненное…»66.
«12-я рапсодия» Ф. Листа, бóльшая по объему работа Нижинской, стала еще более важным шагом вперед, чем «Демоны». В дневнике она называет ее «совсем отвлеченной» (27 апреля 1920 г.), что полностью соответствует ее более поздним высказываниям о том, что в театре не должно быть «никакой изобразительности, никакой “либреттности”» (14 марта 1921 г.). (В других местах она утверждала, в настоящем балете либретто должно полностью раскрываться через движение, а не через мимику или имитацию слова жестами)67.
316 Когда «Рапсодия» (как она ее называла) была исполнена в Городском театре, ее обвиняли в «большевизме» и отсутствии «грации», в том, что это не балет. Это Нижинскую очень обрадовало (см. дневниковые записи от 7 – 11 ноября 1920 г.). В «Рапсодии», как в «Мефисто» и в «Траурном марше» Н. К. Метнера она стремилась к органическому соединению музыки и движения.
Она пришла к выводу, что наибольшее удовольствие ей доставляла творческая работа (29 августа 1920 г.). «Эти лавры, что будут падать от театральных постановок — небывалых — мне не нужны. <…> мне надо спешить, не останавливаться, идти дальше» (5 мая 1920 г.). В этом суть исканий, которые поддерживали ее в те годы, и изо дня в день она пишет о них, а также о снах и видениях, которые служат пищей творчеству. Это ее единственное счастье, и его отсутствие равнозначно смерти. В дневниках почти ничего не говорится о семье, хотя она жила с матерью и двумя детьми, о муже, который уехал в 1919 г., и даже о брате, пока не приходит известие о его болезни. Другим важным героем дневников является Шаляпин. Он — вдохновитель, источник творчества.
С учениками студии у Нижинской сложились тесные личные и артистические отношения. Они были ее творческим продолжением, инструментами ее фантазии. Но она хотела, чтобы они не только танцевали ее работы, но и прокладывали собственные новые пути, создавали собственные формы.
Ученики обожали Нижинскую. Они сидели ночами, слушая о ее снах и видениях, заботились о ней во время болезни. Они кололи дрова, выбрасывали мусор, носили воду со двора, убирали раздевалку. Работали с нею каждый день с утра до позднего вечера. Большинство учеников Нижинской были выходцами из среднего класса. Надя Шуварская была дочерью профессора-гинеколога и хирурга киевской Александровской больницы, Нина Липская имела медицинскую подготовку и впоследствии вышла замуж за сына знаменитого петербургского врача В. Н. Сиротинина, Пати (Клеопатра Григорьевна Жаховская-Чухманенко) окончила Смольный институт и была художницей, Франя Мятельникова была связана с семьей Пастернаков, Лина Хаскелис происходила из семьи музыкантов, а ее сестра, постоянная пианистка школы, закончила Киевскую консерваторию. Но исключительные обстоятельства, комбинация голода, идеализма и революционной идеологии, уравнивали привилегированных и непривилегированных. Люди делились чем было, мечтали о лучшем будущем и занимались искусством.
Школа Движений стала образцом для тех коллективов, которые Нижинская лелеяла или поддерживала на протяжении всей своей карьеры (ее первая западная труппа — Хореографический театр, Балет Иды Рубинштейн, Польский балет, «Ниагара Фронтир Балле» и мн. др.). Но ни одна из них не могла сравниться со Школой Движений в несгибаемой преданности искусству и самой Нижинской. Это ужасное, но захватывающее время не могло повториться.
Как писала позже Нижинская, в 1921 г. школа жила на небольшие зарплаты и ежемесячные пайки. «Я получила гигантский… академический паек, почти три пуда, помню, как с чьей-то помощью везла его домой на маленьких санках — поднять его было невозможно: полпуда муки, пшено, гречку, фасоль и соль, полтора фунта табака (я тогда не курила), спички, сахар два аршина ситца (из которого сшила Левушке его первые штанишки)»68.
317 Оглядываясь на прошлое, Нижинская с восхищением писала о возможностях, которые открывала революция. «Все, кто хотел работать и хотел создать что-то новое в искусстве, получали помощь от нового правительства»69. Но она убедилась, что за творческую независимость приходилось дорого расплачиваться. Во многих записях 1920 и 1921 гг. упоминаются болезни. Она боится рака (29 января 1920 г.), ей требуется операция (16 марта 1920 г.), здоровье все ухудшается и ухудшается (20 февраля 1921 г.). Нижинская сознает, что между творческой жизнью и болезнью есть связь, и мечтает о дне, когда она станет «сильной и могучей» (17 апреля 1921 г.). Непрерывная работа, недостаток пищи, тепла, воды, рождение второго ребенка, бесконечная борьба, которую она вела до 1920 г., — все это разрушало ее физическое здоровье70.
Нижинская, несомненно, была физически больна, но что-то было не в порядке и в психическом плане. В ее архиве находится свидетельство доктора Д. Я. Эпштейна, специалиста по внутренним и нервным болезням, написанное 10 апреля 1921 г., незадолго до окончательного отъезда Нижинской из Киева. Он свидетельствует, что наблюдал «гр. Нижинскую-Кочетовскую Брониславу в течение двух лет и что она, при слабом телосложении, страдает припадками аппендицита и в последнее время, под влиянием переутомления, тяжелой формой психастении (Psychastenia gravis). Ввиду этого больной необходим абсолютный покой, воздержание от занятий и соответственное лечение. Врач Д. Эпштейн»71.
Несмотря на то, что Нижинская в дневниках и автобиографических записках редко касается своей личной жизни, мы все же можем кое-что узнать о ней. В отличие от других театральных коллективов Киева, студия Нижинской была по преимуществу сообществом женщин — тех, кто ее лечил, кто у нее учился и кто считал себя ее приемными дочерьми. Редко оставаясь одна, Нижинская постоянно жалуется на одиночество, на отсутствие «друга». В ее записках упоминается женщина, к которой ее тянуло, автор исторических романов Ольга Форш, которая тогда тоже жила в Киеве. Нижинская была глубоко и стойко привязана к уехавшей в Сербию ученице Нине Липской. Их связь очень похожа на то, что Лилиан Фадерман называет «идеальной романтической дружбой»72. Это была не просто страсть: Нина принимала участие в самом личном и тайном — создании первых работ, пробе творческих сил. В критический момент, оскорбленная как женщина, преданная неверным мужем и уязвимая как начинающий художник, Нижинская искала любви, утешения и поддержки у другой женщины.
Нижинская и драматический театр
Хотя Школа Движений была местом основного приложения сил Нижинской, она работала также с авангардными театральными режиссерами Лесем Курбасом и Марком Терещенко. Получивший образование в Вене и говоривший на многих языках Курбас был основателем Молодого театра, труппы, ставившей серьезные пьесы на украинском языке. Подобно Таирову, он рассматривал движение как необходимую составляющую своего нового театра и системы актерской подготовки. Хотя переписка Нижинской с Курбасом не сохранилась, отдельные упоминания о 318 нем имеются в ее записках, в первую очередь в связи с ее ученицей Надей Шуварской, которая в 1923 г. ставила танцы в спектакле Курбаса «Газ». Меллер, оформивший большинство работ Нижинской, много работал и с Курбасом уже после ее отъезда на Запад. Труппа Курбаса, переименованная в Киевский драматический театр, в 1920 и 1921 гг. преимущественно гастролировала по украинской провинции.
Когда Нижинская вернулась в Киев, в Молодом театре серьезно работали с движением. Лесь Курбас пригласил Михаила Мордкина, ставившего в Городском театре и имевшего собственную студию, три раза в неделю вести класс выразительного (или «пластического») движения73.
По-видимому, Курбас обратился к Нижинской после отъезда Мордкина. Исследовательница украинского театра Вирлана Ткач пишет о связях между Нижинской и Курбасом, в том числе о помещениях, где они одновременно работали, и об учениках, которые занимались в обеих студиях74. Валентина Чистякова вспоминала о встрече групп Нижинской и Курбаса во время репетиции спектакля «Царь Эдип». «На одной из репетиций Хора (мы репетировали на сцене, в то время как в большом фойе занимались еще ученицы Нижинской) я вдруг увидела, как из этого фойе стали проскальзывать в зал мои подружки по балетной студии и с увлечением смотрели на репетицию, а главным образом, конечно, на меня, “изменницу”, как они прозвали меня, узнав о моем поступлении в Молодой театр…»75
Черты сходства в творчестве Курбаса и Нижинской разительны. Оба провели несколько лет за рубежом и считали себя европейскими художниками. Для обоих главным было новаторство в области формы и непрерывный творческий поиск. Оба верили в способность движения передавать смысл, лежащий за пределами словесного мира. Оба придавали огромное значение ансамблю и исследовали различные возможности его использования. Оба хотели работать с хорошо подготовленными артистами, а не с любителями. Оба предпочитали перерабатывать либретто, а не следовать за ним буквально, использовать его как средство даже в случае музыкальной и театральной классики. Обоих привлекал Шекспир, и оба создали нетрадиционные версии его пьес: Курбас — «Макбета», а Нижинская — «Гамлета» (1934). Но оба стремились к театральности, а не к литературному театру. В 1927 г., когда Нижинская уже давно была в эмиграции, Курбас отдал должное ее влиянию на развитие танца и пластического движения на Украине, одновременно сожалея о том, что никто — ни ученики, ни учителя, ни исполнители — не способны принять ее наследие76. Важно отметить, что для обоих в основе движения лежал ритм. Ритм был основным принципом в практике Нижинской (что особенно очевидно в ее «Свадебке»), хотя ее теоретические высказывания в этой области на удивление неопределенны. В самом раннем опубликованном варианте трактата «Школа и Театр Движений» Нижинская просто утверждает, что «ритм живет только в движении»77. В 1932 г. она говорила французскому журналисту Жану Ролло: «Для меня танец — это ритм. Вы знаете, что такое ритм в музыке. Так вот, это не одно и то же. Танец и музыка — это как две сестры, живущие раздельно. Два отдельных ритма. То же и в гармонии»78.
Курбас был не единственным режиссером, с которым Нижинская работала в Киеве. Уже упоминавшийся Марк Терещенко — один из талантливых театральных и кинорежиссеров, воспитанных в Молодом театре. Когда в 1920 г. его пути 319 с Курбасом разошлись, он открыл собственную экспериментальную театральную студию для пролетарской молодежи, названную драматической группой Всеукраинской центральной студии (или, короче, Центро-студией). Среди преподавателей музыкального, драматического и танцевального отделений Центро-студии были лучшие педагоги Киева: актер и теоретик Владимир Сладкопевцев, преподаватель вокала Николай Лунд, композитор Михаил Вериковский, театральные режиссеры Григорий Гаевский и Алексей Смирнов, художник Анатоль Петрицкий; Нижинская вместе с композитором Анатолием Буцким возглавляла хореографическую секцию. В марте 1921 г. студия была переименована во Всеукраинскую государственную студию на правах высшего учебного заведения под руководством художественного совета, в который вошли Терещенко, Меллер, Нижинская и Буцкой79. Через два месяца название снова поменяли, и студия стала Театром имени Михайличенко. 11 мая 1921 г., меньше чем через месяц после отъезда Нижинской на Запад, состоялась первая премьера нового театра «Первый дом нового мира». Политический спектакль Терещенко, с массовыми сценами, поставленными в духе Нижинской (хотя ее имя по очевидным причинам нигде не упоминалось), был посвящен борьбе пролетариата с капиталистами.
Как явствует из тематики первых постановок Центро-студии, это был театр левой направленности, идеологически близкий Пролеткульту с его программой создания пролетарской социалистической культуры. Пролетарский театр не был нацелен на воспитание артиста-виртуоза, его миссия состояла в том, чтобы «найти выход творческим потребностям рабочих масс». Массовые представления были эквивалентом революции в политике. Центро-студия была открыта для всех. Любой желающий петь, танцевать, играть на сцене мог заниматься здесь. В мемуарах «Страдные годы» Сергей Лифарь вспоминал, как он по ошибке попал в класс Нижинской. То, что он увидел, привело его в восторг: «Ученицы пластическими движениями, грацией оживленного, одухотворенного Ритмом, обожествленного тела создавали великую гармонию с музыкой»80. Когда он снова пришел к ней, Нижинская отказалась его принять, и он был в полном отчаянии. Тогда Лифарь обратился к дирижеру Оперного театра Максу Штейману, который, по мнению многих, пользовался благорасположением большевиков. Штейман посоветовал Лифарю не волноваться: «Мы заставим эту буржуазную балетмейстершу заниматься с тобой»81. Центро-студия открыла Лифарю путь в искусство.
Покинув Советский Союз, Нижинская никогда публично не упоминала ни Курбаса, ни Терещенко. В ее дневниковых записях Терещенко фигурирует довольно загадочным и даже волнующим образом. В связи с открытием Центро-студии она называет его одним из «Всеукраинских министров искусства» (другими являются она сама и Меллер). В другом месте, но опять в связи с Центро-студией она называет его «одним из министров»82. В канун Рождества 1920 г. она рисует змею в павлиньих перьях и подписывает ее МАРК. Столь же двойственным было ее отношение к новой власти, которая, с одной стороны, поддерживала ее творческие начинания, но с другой — пыталась включить ее в нарождающуюся бюрократию при искусстве. Одним их из самых горячих поклонников Школы Движений был критик Самуил Марголин, по словам Нижинской, самый активный деятель Всеукраинского комиссариата искусств и основатель театральной секции «Культур-лига». Членами Комиссариата 320 были также режиссер Константин Марджанов, Сергей Мстиславский, член первого большевистского правительства Украины, автор книги о событиях 1917 г. «Пять дней» (М., 1922) и еще три человека. О своих связях с новыми советскими властями Нижинская на Западе хранила молчание.
Уезжать или не уезжать?
В апреле 1920 г. Нижинская получили письмо от жены Вацлава Ромолы с сообщением, что брат тяжело болен психически. Но уехала она больше чем через год. Это было непростое решение. Хотя в оригинальном варианте «Ранних воспоминаний» (написанных, по-видимому, в 1960-х гг.) эти события поданы как история целенаправленного бегства, заканчивающегося встречей с братом, в дневниках это выглядит несколько сложнее. Несмотря на желание соединиться с братом, ей нелегко было собраться и уехать. Отчасти это происходило оттого, что доходившие до нее сведения о состоянии брата были противоречивы и часто неверны: Вацлав не болен (25 мая 1920 г.), он танцует «Жизель» А. Адана, «Коппелию» Л. Делиба и «Лебединое озеро» П. И. Чайковского в Париже с Анной Павловой, Тамарой Карсавиной и Агриппиной Вагановой (2 марта 1921 г.), он умер в Нью-Йорк (18 марта 1921 г.), он жив и танцует в Париже (24 марта 1921 г.), он жив, но неизлечимо болен, находится в психиатрической клинике (2 апреля 1921 г.). Были и другие причины, удерживавшие ее в Киеве, связанные с творчеством и со школой. Через три недели после письма Ромолы она записывает в дневнике: «Там, в Европе, опять начнется новая жизнь — все сначала надо строить. Здесь все есть уже». И в июне, после показа «12-я рапсодии» Листа: «Надо уезжать, и уезжать невозможно».
Летом 1920 г. в дневнике появляются мрачные ноты: Украина охвачена советско-польской войной, появляется надежда уехать на польском военном поезде83. Она чувствует себя потерянной, одинокой, больной, бесполезной и творчески бесплодной, переживает гибель утонувшей ученицы Нади Черняевой. 31 июля Нижинская идет на вокзал, но возвращается.
Осенью она поглощена работой, воодушевлена успехом «Рапсодии» и «Эскизов» на музыку Шопена, последовавшим за тем «признанием от начальства», может быть связанным с открытием Центро-студии (8 ноября 1920 г.). Запись 27 ноября оборвана на середине предложения и имеет приписку карандашом: «Страницы вырваны перед большевиками». В автобиографическом очерке Нижинская вспоминала обыск, чекистов, ищущих оружие в колыбели ее сына, потом их визит в школу84. В записках она упоминает другие встречи с ЧК, одна из которых была связана с ученицей Нюсей Воробьевой, объявленной «государственной преступницей»: «Помню, как мы с Ниной Васильевной ходили в киевское Чека хлопотать об освобождении Нюси в дни ужасного террора. Такие хлопоты были очень опасны. Артистов обычно отпускали, но для Нины Васильевны было рискованно показывать свою симпатию Нюсе»85.
20 февраля 1921 г., через два дня после показа новой работы на музыку Метнера, Нижинская отменяет запланированную поездку в новую украинскую столицу: 321 «Сегодня идет поезд на Харьков, и я опять не поехала. Очень боюсь, что буду жалеть. Оставить одних детей для меня оказалось совсем невозможным. Кажется мне, будто что случится, и я их никогда не увижу. Потому, думаю, лучше остаться».
Возможны разные объяснения этой записи. Может быть, она хотела хлопотать о выездной визе, может быть, хотела обратиться к наркому просвещения УССР Левицкому которого она упоминает в записках в связи с тем, что он распорядился выдавать учащимся Школы Движений ежемесячный продовольственный паек. Бежать через Харьков было невозможно, потому что он (в отличие от Минска) находится далеко как от польской, так и от белорусской границы. Совершенно ясно, что Нижинская боялась ареста. Кольцо вокруг нее сжималось. 8 марта она пишет о последней «мерзости»: «Искусство делают государственным». Но уже через две недели, точнее 21 марта, — появляется странная запись: «Все внутри меня от моей Школы рассыпается». У Нижинской было много причин покинуть Киев, но «мука потери Школы» удерживала ее. К 19 апреля относится последняя дневниковая запись, сделанная в России: «Сегодня утром и эта тетрадь казалась мне чужой — прошлой… Тут, может быть, кончится часть первая моя».
Затем с матерью и детьми села в поезд, идущий в Волошик, якобы для того чтобы узнать об условиях работы в местном театре, а в действительности для того, чтобы приблизиться к польской границе. Побывав в театре, она тайком села на поезд в Проскуров. Артисты бывшего Александринского театра соглашаются взять ее в свой салон-вагон, а кондуктор прячет мать с детьми в своем купе. В Проскурове, сильно пострадавшем от погрома, устроенного в 1919 г. Украинской народной армией, было полно чекистов. Нижинская имела при себе большую сумму денег в царских рублях, с помощью которых она подкупила некоего К., который договорился с пограничниками о том, что они за деньги прикинутся спящими, дав возможность Нижинской с семьей перейти реку Западный Буг. К сожалению, К. присвоил немалую часть вещей, хотя согласился отдать ей театральные костюмы. На следующий день, 10 мая, семья получила пропуска для проезда в Варшаву.
Впереди маячила новая жизнь. Было непонятно, какой она будет. Нижинская покинула Западную Европу, будучи лишь помощницей брата-балетмейстера. Теперь, через семь лет, пройдя через много испытаний и приобретя опыт, она возвращалась. Нижинская писала Дягилеву: «Теперь я знаю, что могу многое сделать».
322 ДНЕВНИК86
[27 декабря] 1919 г.
Старый стиль.
Киев.
27-го декабря день моего рождения. Проснулась утомленной, всю ночь шила костюм, красила, вышивала. Это не композиция, а костюм, из того, что было, — но очень хорошо, я довольна. — Случайный. — В Еврейской студии87 урок, потом говорила с учениками. Совсем как-то сбоку подходят к танцу. Рассказывают с восторгом о том, что открывается новый Молодой театр88, что там все так будет свежо, ново. Откуда? Приглашают Санина и Попова89, потому что нет других сил режиссерских — но театр будет молодой. [Почему нет молодой свежей идеи — зачеркнуто], а театр все сочиняют, заказывают. Там все будут молодые актеры, а режиссеры ставшие уже профессионалами, со старыми идеями и самой ненужной разрушающей театр задачей — дать во что бы то ни стало что-то новое по форме, не то, что было до сих пор, непохожее. Но сейчас если влить правду, чистое творчество как идею, уже все новое. Если искать те чувства, которые я хочу передать, только на них смотреть, их чувствовать, уже будет иной театр. Не надо выдумывать форму новую, надо видеть [углублять себя — зачеркнуто] Жизнь. Сегодня в ней все несет новое, новую. Жизнь не останавливается. Если в человеке появляются новые ощущения, форма сама выльется новой. Это у нас не понимают в театре, во что бы то ни стало ищут только новую форму или просто, будучи пустыми, обманывают на этом.
В моей школе такие трогательные ученики90. Все празднуют день моего рождения91. Я раньше знала, как меня любят. Все-таки все это очень волнует. Теперь цветы и все мелочи — драгоценности большой любви ко мне. [Нету Нины с нами сегодня, она все [нрзб.] с нами92 — зачеркнуто]. Для радости моих учеников танцевала им несколько новых эскизов. Некоторые танцевала очень плохо сегодня, нет еще нужного тела, непривычка к другому по твердости костюму93. Что было плохо, мне не удавалось, я еще раз повторила, поправила и была лучше — понятнее. Я очень взволнована все время, как эти мои первые [нрзб.] приняты. Видела, как танцы эти всех «наполняют», как они дали им ощущение другой жизни и как мое творчество дало им стремление идти по моей дороге. Это мое счастье. Мне жалко было расставаться, попрощаться до завтра с ними — моими учениками. Если бы могла, все творчество, силу, какая есть во мне, перелила в них. Дать им все, что я имею, чтобы они могли потом больше, сильнее, лучше, чем я, прожить свою жизнь в искусстве. То, что их так трогает, волнует мое творчество — меня сегодня это немного ободрило, обрадовало. Чувствую свою беспомощность в том, что вижу, хочу; кажусь себе совсем ненужной. Сегодня, как капли какие-то, успокоили немного — торжество мое успеха. Все они [так — зачеркнуто] мне дороги, как дети. Строю разные планы, но чувствую все-таки, что ни на один день не могла бы бросить их. Как всегда, не могу спать после своих танцев.
28 [декабря] суббота [1919 г.]
Очень хорошо занималась с ученицами. Но пришла вдруг такая тоска, что чуть не расплакалась на уроке. Только вечером у себя в комнате больно покатились, полились слезы. [Села на Нины кресло — нет Нины — утешило, успокоило — зачеркнуто]. Немое одиночество.
323 29 [декабря 1919 г.]
Делала «Петрушки»94. Был художник Шифрин95, он будет делать декорации и костюмы. Тоска-мука не оставляет меня. Вчерашняя тоска такая черная [?], не могу себе объяснить, успокоить. Может быть, сейчас, когда так трудно бороться с жизнью — хочется, чтобы был кто-нибудь со мной и разделил трудность жизни? Нет, знаю, что всегда сама искала бы выхода, сумела бы бороться [с] трудно[стями]. Скоро девять лет и с одинаковым горем чувствую необходимость хотя бы издали тебя видеть, слышать твой голос. Чтобы ты улыбнулся мне96. Протянул мне руки. Ты мое солнце — то, что дало мне жизнь.
После своих танцев [творчества — зачеркнуто] не могла спать ночью. Утром рано совсем бодро проснулась. Творчество брызжет — дает жизнь. Гонит [всякий — зачеркнуто] сон. Вспомнились те первые дни. Когда только тебя встретила. С первой встречи, сразу какие-то твои лучи света от тебя вошли в меня. Так потопили [такое было — зачеркнуто] меня большим счастьем, все исчезло, уничтожилось, жила одна (я не знаю, можно ли это назвать) любовь. [Было тоже — зачеркнуто] Такое ощущение, совершенно однородное, какое испытываю, когда творчество заполняет меня. Меня сегодня изумила эта одинаковость. Тогда тот свет, свет твоей силы, мощи упал мне в лицо, дал жизнь, новую жизнь, только [после этого — зачеркнуто] тогда, с тех пор, стала чувствовать возможность к творчеству, стала посещать [оно] меня, будто тот большой колосс поделился со мной, вложил часть себя, часть своего огня, — и оно живет во мне, растет. Может ли быть кто-нибудь необходимее, нужнее мне для меня. Было время, может быть, я была сильнее. Казалось мне совсем не нужным быть, видеть тебя, казалось, что могу быть счастлива тем чувством, что ношу в себе. Тем, что Федор всегда одинаково мне близок, всегда со мной. Почему сейчас гнусь от горя, горе гнет, что-то поистине мое, только мое — не со мной. Сама бежала всегда ведь от Федора. Так надо было. Не могла почему-то отдать свою любовь ему, боялась сломать то большое, потерять любовь свою, которую, будто предчувствовала — знала, нельзя ничем вынуть из меня. Будто знала, если потеряю любовь к тебе, не будет меня такой, какой всегда хочу себя чувствовать, быть с частью тебя в моей душе — существе.
________
Я ходила полурадовалась, полувеселилась, хорошей казалась, нужной не была, [что-нибудь всегда — зачеркнуто] боялась [моей — зачеркнуто] ненужности, прятала себя, в глубине знала, [что когда-то — зачеркнуто] потом смогу большое, [сейчас хожу, брожу, ищу — зачеркнуто]. [Вдруг подошла к самому солнцу, так попала, увидела большое, очень большое солнце. Остановилась, вся смотрела — лучи не жгли, не палили — забрались ко мне. Я им не дала убежать, уйти, зарыла в себе — зачеркнуто] [Пряталась, пряталась — зачеркнуто] Прятала, скрывала все в себе, но вдруг большое солнце зарыло во мне лучи свои. Я была маленькая — лучи такие драгоценные, так хотелось [в солнце выкупаться — сожгла бы себя — зачеркнуто] никогда не расстаться с ними. Убежала от своего счастья с лучами солнца, запрятала их в себе — они встретились, [зажглись] — солнца кусочек, родилось, [жгло больно, нужное такое было — зачеркнуто] ярким все стало, [дотронусь, лучики мои проходят — живет все. Жило мое крошечное солнце. Крошечное [нрзб.], крепко [нрзб.] Внутри все грелось — зачеркнуто] Лучи заползли глубоко в мое сердце и радовали много, болью жгли, неземным счастьем лучи, светлой была.
324 1 января 1920 г.
Как-то придумала сказку — было хорошо. Сейчас не могу написать, слишком рассказывается, что было. В первом виде как-то было хорошо, все в форме [эскиза] сказки: как два раза родилась — от лучиков. Выросла травка маленькая, потом цветочки, растеньица очень занятные. Это был мой садик — творчество мое, рожденное Любовью. Цветов не срывала — лелеяла, берегла. В каждой травке, ветке, цветке был луч того солнца, что дало мне жизнь. Мне ли их не беречь, не любить — этот сад так разросся — [растения — зачеркнуто] травы, листья были такие особенные! В них ведь в каждом были лучи солнца! Неожиданно скоро все они стали светлые, светящиеся, [потом — зачеркнуто] делались все ярче. Так [вдруг — зачеркнуто] осветили все кругом [такое вдруг — зачеркнуто]. Будто глаза вымылись, и первый раз я стала видеть. Кругом далеко все [светло и каждая булавочка будто рядом лежит — зачеркнуто] встало близко со мной. Все новое — неожиданное, а старое — такое другое. Глаза смотрели на садом освещенное, и все вливалось в них. [Родилась мысль — зачеркнуто] Мысль стала расти такая буйная, большая, [кидающаяся — зачеркнуто] будто голова ширилась и медным кольцом [одевалась — зачеркнуто] сжималась, изнемогала. А глаза — мысли все дальше впивались, мучили мозг. Творчество уже брызгало из каждой жилки сада — и свет проникал уже глубоко в землю. Не было сил только упасть в глубину и оттуда поднять наверх достояние. Но глаза видели, и мысль кидалась, поднимала, давала такое счастье — жизнь. Казалось каждый раз — больше не [будет — зачеркнуто] хватит сил — [еще выжималось напряжение — зачеркнуто] руки мозга протягивались в глубину-темноту, где одним лучом освещенное лежало то драгоценное [поднимали, вбирали, никогда не отворачивались — зачеркнуто]. Этого драгоценного набралось уже много. Но скоро, но скоро будет так много его, что свет [брызгать — зачеркнуто] будет течь из меня, уже чувствую, как струи льются, освещают голову мою. Когда засвечусь вся, буду солнцем — буду тем, что каждым дыханием каждой пóры моей люблю: подойду к солнцу моему, не сожгусь, [не] сгорю — сольюсь с ним — буду в нем или с ним… Жду и верю… Так кончалась сказка.
2 января [1920 г.]
Вчера ночью проснулась как от тока. Новые мысли, ощущения заполняли меня. Казалось, что-то новое опять увижу — пойду дальше. Уже несколько дней что-то теснится во мне, не дает сна, мучит голову.
Сегодня [проснулась — зачеркнуто] во мне так плохо, гадко, будто упала откуда-то, ничего не могу, не буду. Все это были сны, миражи, за которыми я бегала, а я сама ведь такая — никакая.
Мои ученики Сережа, Янек97 великолепно делают Арапа98 и Петрушку. Я очень довольна. Когда начинала школу, говорила, что моя система должна дать блестящие результаты — не будет дилетантского ни одного движения, ученик так должен понимать и знать движение, что будет точно его воспроизводить, что даст абсолютную правду в выражении. Ученик мой будет казаться совсем другим артистом — большим артистом. Мои ученики не в полном размере (они еще молоды), но уже дают впечатление талантливости. Они уже много больше заурядных балетных артистов, а учатся всего 6 – 7 месяцев. Радуют меня. Так начинается мое счастье. 325 Мои ученики начинают «ходить» — хочу поставить «Половецкие пляски»99. Она одна (как и у Вацы100) и мужчины. Она ходит, танцует над ними. Они все время внизу, несмелые, преданные, боящиеся, желающие, горящие и в зажатости не смеющие перед ней, большой, сильной. Потом надо сделать мое, то давнее, что хочу — Японца-Саму[рая]101, как я ощущаю по их гравюрам102, но не как «стиль», [а] стиль в глубоком понимании. Трудно достать только войлок, надо из него большие толстые сандалии сделать, чтобы ступня была почти совсем кубической103.
Теперь еще носится что-то, что очень хорошо вижу. Это я не умею называть словами, это то, что я еще ни в чем не видела, не слышала, это то, что чувствует мое нутро. Передать счастье творчества — сияние, передать восторг и свет перед тем, чем-то неизвестным, что наполнило мир такими сплошными золотыми нитями, в которых купаюсь. В творчестве напрячь свою волю, и все это потоком хлынуть в толпу, дать им это счастье, налить их этим счастьем — дать увидеть Бога.
Я чувствую, что начинаю приобретать еще новое умение — умение владеть силой заражения. Теперь я уже вижу эти лучи, что струятся из меня во время творчества, и могу — не сильно — владеть ими.
3 января 1920 г.
Как бесконечно одна. Когда посмотрю на свою одинокость, — жутко. Никого не радую в той степени, в какой могу — совсем одна. Только творчество облегчает душу, дает возможность жить. Трудно. Книгой зачитываю боль свою. А надежда впивается глазами вдаль — ждет. Не может быть, чтобы глаза мои не дождались ласки видеть его.
4 января 1920 г.
Утро.
Просыпаюсь с мыслями о тебе, и это единственное, что утешает меня.
5 января [1920 г.]
Остановись, послушай правду мою. Скажи, любят ли тебя? Видят ли тебя? Но почему никто не падает на колени, не слепнет перед тобой. Или они не видят пылающего пламени солнца в тебе? Или они звери, покрытые бегемотовой кожей, что лучи твои не проникают к ним. Лучи, свет твой пугает унылую бедную комнату мою святым присутствием и [глазам — зачеркнуто] так ново, страшно смотреть на вдруг блестящие драгоценные стены мои, мне не вынести ноши моей, я [падаю — зачеркнуто] склоняюсь перед тобой, вся покрытая, окруженная, [освещенная искрами солнца — зачеркнуто] омытая. Почему вздох восторга не превращается в гул около тебя. Почему слышу вопль больной кожи, об которую обломались твои святые лучи и рассыпались у ног твоих?
Почему стонут и только свою кожу подползают лечить под [священный — зачеркнуто] чудотворный жезл твой?
[Или — зачеркнуто] Глаза слепые их, может ли быть, чтобы не видели [божественности твоей — зачеркнуто] чудесного света твоего, заполняющего весь мир, счастьем и улыбкой тебе отвечающего. Или, может быть, эти слепые кроты ползают у ног твоих и собирают драгоценную пыль с каждой доски, где наступила 326 нога твоя, твоя, чтобы потом обмыть глаза свои. Скажи, горит ли хоть маленький огонечек перед образом твоим и радует тебя ответным огнем, [тогда и я уйду от тебя, унося кусок пылающего солнца твоего [с лучами его посылая крик восторженной Любви — зачеркнуто], посылая в мир драгоценные лучи его, пылая светом его, освещенная восторженная счастьем нести тебя и глазами [дотрагивающаяся, ласкающаяся — зачеркнуто] ласкаясь в лучах твоих! — весь абзац зачеркнут].
Скажи, улыбнулись ли глаза твои на цветочек любви, который я положила у ног твоих, и я уйду, купаясь в восторге и питаясь улыбкой твоей.
_______
Невозможно пережить эту мерзость! Сегодня участвовала после долгого перерыва первый раз в театре104. Не было для меня хорошего пианиста и, Боже, как все скверно было. Никакого вдохновения творчества, чувство, будто была на базаре, будто сделала самое скверное, что только возможно. Никогда не надо так случайно выступать, надо все со всеми срепетировать, знать каждый вершок сцены, быть в ней, как в одежде, и с музыкой, как с собой. А тут все было чужое — и вот сейчас я самая несчастная. Единственное мое счастье, счастье в творчестве ушло от меня. Было Искусство, сейчас его нет у меня. Эта ужасная неправда, обман от меня на глазах всего театра, издевательство над самой собой [все без творчества — зачеркнуто]. Почему я не повернулась и не ушла со сцены. Как преступник чувствую себя. Отравленная неправдой теперь неделю не смогу творить. Не верю в себя. [Завтра надо делать «Петрушки»105. Как это будет? — зачеркнуто] Ужас. [Гадко, мерзко — зачеркнуто] Хорошо было бы не быть, умереть, исчезнуть, только не чувствовать всего этого. Хочется бросить все: и школу, и себя и уйти куда-нибудь, уйти ото всех, всего, себя. Отчаяние покрывает меня. И нет никого, кто бы положил руку на голову — успокоил. Эта ужасающая одинокость. Этот ужасный скрип отчаяния, [это ужасное — зачеркнуто] напряжение, хотящее как бы выбросить [все — зачеркнуто] эту боль, тоску. Бог светлый, огненный, ничего нет у меня, все отлетело. [Хотя бы кусочек творчества, мука, мука — зачеркнуто].
7 января [1920 г.]
Почему нет Нины со мной? Думает ли она обо мне? Увидимся ли когда-нибудь? Или ей так же трудно будет расстаться со своими родными, как было и со мной. Перечитала свое письмо к ней, и так вспомнилось ярко ее присутствие около меня… Больше не надеюсь видеть Нину. Редкий человек для меня Нина — может быть, единственный возможный друг, но у меня все отнимается в жизни, и я остаюсь одна. Так вот и Нину жизнь увела. Осталось со мной только знание, что такое любовь и истинное преданное чувство, и еще стало тяжелее и еще одиночее.
Ото всех этих концертов отвратительный осадок106. Если бы возможно было иметь свой театр, где все шло в одном том истинном [искусстве — зачеркнуто] порядке. Кругом какой-то шантаж. Ужасная печаль на душе. Гадко.
Кажется, надо решиться и навсегда оставить сцену, отрезать, тогда не будет этих вывихов. Чувство полной своей непригодности ни к чему давит меня. Все мои ощущения и предчувствия чего-то возможного во мне — миражи, злые миражи. Ничего не могу, ничто я есть, [худо — зачеркнуто], плохо.
327 О, если б можно было одного человека посадить на стул и для него, понимающего, чувствующего, поток ощущений и [чувствований — зачеркнуто] правды вылить в искусство. Закрыться на ключ… Что говорю я? Верно, эту муку надо нести. Почему я жду радости от искусства [или это так [нрзб.] — зачеркнуто] — давать истину — всегда крест, и надо уметь терпеть и видеть и не чувствовать кулаков и ударов. [Только бы силы. Много их надо. Есть ли они у меня? Будут ли они у меня? Господи, благослови — зачеркнуто].
А сейчас пока все ненужное, тяжелое, как железный обруч, давит меня. Все для меня чужое вдруг стало. Нет сил быть одной, нет сил все держать в себе, все самой, одной. Нет никого. Хотя глаза мои со страшным голодом ищут, кому бы можно было протянуть руку, перелить хотя бы чуть-чуть себя, кто бы понимал все, что я хочу, ищу. Все чужие, совсем чужие, мучительно чужие. [Нины — зачеркнуто]. Никого нет. А может быть, [не она нужна? — зачеркнуто] никто и не нужен. Федор, один Федор — от которого загораживаю все мысли, обманываю чувство и [без которого] жить, быть не могу. [Надежды потухшие, совсем [остылые — зачеркнуто] холодные; нутро [1 слово вымарано] стиснуто, стонущее о нем — зачеркнуто].
Секунда его присутствия, секунда счастия для глаз, секунда счастия дышать в одной комнате, мне, его улитке! Зачем не сумела увести все эти думы от себя? Почему пускала его в себя, ведь потону. Но уже нет сил, нет опоры. Федор, Федор — счастье писать твое имя и страшно. Все ужас, волны хлещут через мою голову, мутят, приводят в отчаяние. Не погибну — и это мучительно, жить и не быть. Что надо сделать в себе? Ведь можно уйти? Даже мышцы лба болят в судороге. Не хочется положить голову на подушку, расстаться с этим карандашом-другом, будто беседующим с кем-то близким. [Нину] очень хотела бы, говорить [с ней] — так успокоить, увести мог[ла бы — зачеркнуто] На чем закончить, как остановить себя? Ненавижу муку свою, боль свою, напрягаюсь, размахиваюсь, сбросить хочу. [Легче жить — зачеркнуто] И не могу.
8 января 1920 г.
Снился мне. Ласковый, любящий, заботящийся. Улица Петербурга. Театр. Его голова ласковая на руках моих. Его забота не кинуть тень какую-нибудь на меня. Как светло сейчас. Хорошо.
[Надо оставить сцену. Я не могу чего-то, что хочу как артистка. Мои композиции тоже не хороши. Уйти. Живопись, краски давно привлекают меня. И там я одна с красками, с собой. Театр — этот свет. Или надо свой, совсем другой театр. — зачеркнуто].
9 января [1920 г.]
[Ужасно больно. Одна из учениц старшей группы, ударной группы, ушла от искусства. Ради заработка пошла танцевать и не пришла ко мне, чтобы я помогла сделать это возможно лучше, а к какой-то танцовщице, которая может ей сделать возможно вульгарнее, под вкус толпы матросский танец! [Профанация — зачеркнуто]. Моя ученица107. Почему одно разочарование за другим? Почему не несут себя, [не] поднимают к себе, а только развлекают.
Как шантанная этуаль… Без любви, без таинства того, что несет людям. Все [делается] мной только для этого, и мои дети-ученицы наряжаются в штаны… 328 Больно. Если бы пришла бы ко мне, и из этого танца матросского [я] сумела бы сделать то, что надо нести в толпу, народ. А то этот обман. Гадко, трудно.
Как плохо себя чувствую. Всю ночь не спала. Сейчас шатаюсь, внутри все болит. Очень трудно. Мучит все. — Вся запись за этот день зачеркнута.]
10 января [1920 г.]
Небо черно-синее, звезды, как блестки, рассыпаны, улица пустая, фонари с будуарно-розовыми огнями, колонны высокие с черными тенями [устрашающими — зачеркнуто], делающие такой пустой черный фон, дорога блестит, дома потушены, [около бесконечная любовная стена — зачеркнуто]. Иду вдоль стены, поближе — будто не одна. Верю этой каменной несдвигаемой стене [Лучше чувствую и чувствовать около плеча — зачеркнуто].
Иду дальше в ночь.
11 января [1920 г.]
Устала ужасно. Сегодня с 10 1/2 до 2-х часов репетировали «Эскизы»108, с 2-х до 9 ч. давала уроки! 11 часов на ногах в движении. На репетиции ученицы опечалили — относятся так, будто урок — это важно, а на репетиции — это удовольствие, можно быть свободными от работы. Не понимают, что весь урок и их отношение к нему готовит их к порядку в театре — в творчестве. Сегодня так заработалась, [что] ничего не чувствую, не понимаю. [Буду хорошо спать — зачеркнуто].
12 января [1920 г.]
Утешаюсь школой. На сегодняшней репетиции эскизов. Все они вместе очень хорошо складывали мои эскизы. Больше чем хорошо. Нужно свой театр. Очень хочется это показать в театре, [чтобы не распалось — зачеркнуто]. Потом дальше работать, идти. Ужасно хорошо, когда моя молодежь из-под рук будто краски бросают на полотно, делают то, что хочу, и передается нужное мне. Хорошо. Всего этого только мало. Надо больше. Это придет, будет. Буду работать. Хочу.
13 января [1920 г.]
Вижу этот фейерверк109. Надо его во что бы то ни стало сделать. Надо найти средства. Всех пустить танцевать не по полу, а вертикально. Фон бешено сменяющимися красками. Там наверху движения и падающие вниз, и прыгающие наверх [2 слова вымараны] бешено, может быть.
_______
Для него, чтобы на момент мыслью был со мной. Может быть, опять видеть его перед глазами и для него творить.
14 января [1920 г.]
Поет тоска. Даже слов ищу — в слово, может быть, вложу, что рвется из меня, одену ничего не рассказывающее слово полегче в такую песню — должна вонзиться, должна с этой песней вытечь боль из меня.
329 Те же места, только зима — могила — ночь — пустота. Совсем никого нет, ни своего, ни чужого. Рядом со мной идет ни свой, ни чужой — пустой.
Ноги идут по тем же местам, только снег разделяет следы прошлого и настоящего. Те же огни, на тех же местах, только не в зелень, а в вату[ввернуты]. Опять так же, будто небо со звездами опрокинулось [в воде — зачеркнуто] [Неба нет — одеялом закутано — зачеркнуто]. Внизу подо мной горят огни.
Мне так нужно опереться на твою руку — тебе мое, свое, ни во что не одетое, слово сказать. Кто-то держит меня за руку, поддерживая [Только касается меня — зачеркнуто]. Беспокоит нас одиночество. Так торжественно бело кругом и так нелепо розовые фонари дышат под инеем. Ноги нарочно впиваются в снег. Скрипнут зубы. Снег под ногами скрипит в аккорде с [нрзб.] зубами. [Интересный разговор разговаривается — зачеркнуто]. Бездарно стучит в этом сне неприятный разговор. Уже снег, и деревья, и вата, и черное, и розовое — во мне. Скорее хочется в комнату к одной себе. Ночью, может быть, друг ждет меня, и встану на колени поблагодарить тебя за тяжесть, разделенную со мной.
18 января [1920 г.]
[Надо уйти от этих мыслей о Федоре. Совсем вынуть. Одно творчество. Федора нет и не будет — зачем смотреть на боль свою — отвернуться, заглушить. А в творчестве — не то. Даст счастье.
Говорят, Федор едет сейчас — возможно ли? — Вся запись зачеркнута]
21 января [1920 г.]
Какие новые желания… Хочется оставить школу. Хочу сейчас, только нельзя этого [делать]. Когда уже многое им дам, пущу их в мир и дальше больше не буду делать в Школе. Моих детей как-нибудь где-нибудь устроить. Сама — уйти совсем одна и идти. На каждой улице мочь танцевать — фонари, дома были [бы] фоном мне и дорога тоже. Прийти в какую-нибудь студию художников и тоже танцевать что хочу, где хочу. Никогда не войти в пыль театра и ограниченных возможностей театра. Не быть [ученицей], а как есть сама. Одежа надоела эта, это не мое. Все свое, только, что хочу, что есть я сама — так надо.
22 января [1920 г.]
От всего отреклась — а буду опять в театре. [2 слова вымараны.] Буду показывать работы нашей Школы. Надо очень много сделать. В 10 дней все. Сегодня колесики всей моей машины крутятся вовсю. Ничего не понимаю. Много сделала. Работала от 10 утра до 10 вечера. [2 строки вымараны.] Может быть, смогу что-нибудь сделать для искусства. Пусть Бог поможет.
Так было мне хорошо во время работы — так бодро, счастливо, а сейчас, может быть, устаю — пусто и не нужно все. Жалко, что не могу Нину порадовать всем тем, что сейчас делаю. Жалко, что все даже не для кого-нибудь чуть-чуть близкого. Но так и должно быть. Федор все бродит во мне, перед глазами, в мыслях. Все делаю, думая о нем. Видела во сне на днях, будто в театр по лестнице высокой, там наверху, где была я, нам раздавали свечи. Я их взяла 6 штук и все оставила себе, никому не передала, а он остановился передо мной и говорит: «какие у тебя прекрасные глаза». 330 И мне так странно во сне, что он только сейчас это увидел, и мы с ним пошли выше вместе и так был нежен, так ласков.
Толкую сон — что встречусь с ним, и это дает мне бодрость работать, жить и идти по пути, на котором мы с ним будем вместе, должны столкнуться.
24 января [1920 г.]
Репетирую, готовлюсь. Кругом такой гной. Эти художники такие же торгаши, как и мы, артисты, еще хуже, наглее. Встретила двух молодых110, может быть, можно что-нибудь сделать с ними. Лучше откажусь от всего, чем эту интригу подпустить, позволить тронуть себя.
Мои «Демоны» так хороши, такая «мерзость» получилась111. Все восторгались. А у меня печаль — ученицы любят мой вкус, и сами входят в это, но не любят того большого, что люблю я. Нет творчества или не… Какая тоска. Мир откатывается все дальше. Сегодня взята Одесса112 — может быть, Нина скоро будет со мной. Какое это было бы счастье. Никого нет, все любят кожу, что видно глазами, а того, моего, не любят [не знают — зачеркнуто].
29 января [1920 г.]
Какая ужасная печаль, я совсем больна. К воскресенью надо дать наш концерт — мне так хочется, чтобы хорошо, а как будет? Почему нет Нины? Как хорошо «Демоны» сложились? Как все сама сделаю? Как все будет? Совсем одна. Одной все надо делать. Как быть? Бог даст. На сердце такая печаль. Все ученицы [уделяют] столько внимания во время болезни, особенно Рая, Лина113. Скоро могу умереть, боюсь, не рак ли развивается. Бедные мои дети, мама. Бог поможет.
31 [января 1920 г.]
Какая мерзость, плывет внутри. Вся дрожу. Все ощущаю кругом, и это омерзительное [болит — зачеркнуто] наступает и так безумно — до умопомрачительности пугает возможностью прикосновения.
1 февраля [1920 г.]
Завтра наш концерт. Сегодня была комиссия, нас смотрели. Все хорошо. Я радуюсь этим концертам. Во всем, что сделала в эскизах, собралось как бы все, что сделала за год. Вижу результаты. Продолжают субсидировать школу. Вообще вдруг стали носиться со мной. В чем дело? Жду сделать от себя большое. Все это мелочи, машина — когда творчество будет — сиять. Все вижу себя, как брожу одна по улицам танцуя.
Эти дни так думаю о Нине. В конце января хотела здесь быть, и нет ее. Как много сделалось за два месяца, пока ее не было. Как это бы ее радовало. Будет ли когда-нибудь со мной вместе? Может, никогда больше и не встретимся. Так ужасно тоскливо.
Голова как в тисках, ничего не понимаю от усталости, от напряжения все обдумывать, решать, делать, действовать одной.
2 февраля [1920 г.]
Утром проснулась, совсем не чувствую дня концерта, так и случилось — его не было. Пока шли на концерт, так хотелось, чтобы Нина была с нами, так приятно 331 было говорить с Пати114, потому что можно было говорить о Нине. Пришла после концерта, так ужасно одиноко, пусто. Тоскую. Рая все время со мной. Совсем это не надо. Когда я совсем одна, лучше действую. Разные ненужные разговоры, но я совсем не знаю, что делать с людьми, которые меня любят.
3 февраля [1920 г.]
Писать не хочется, ничего не хочется. Эта опять ужасная муть после концерта в моих любимых «Половецких плясках».
4 февраля [1920 г.]
Сегодня первый наш школьный спектакль115. Очень хорошо. Я танцевала сегодня свои «Эскизы» как никогда хорошо. До сих пор во мне радость творчества. «Этюд» Шопеновский116 так хорошо взяла, точно до начала — чувствовала, как завязала зрителей с собой. Потом началось действие. Тела не было, только я вся сгибалась, комкалась, пружиной выскакивала. Было что-то отвлеченное, что действовало. Ученицы и ученики хороши — «сдали экзамен», а всё вместе — публике очень нравилось, а для меня не то — ушли, другое надо. Так мало, пусто.
7 февраля [1920 г.]
Еще мой спектакль в Купеческом117. Очень большой успех. Все были (Худож. мир). Чуть-чуть кружится голова от успеха. Так давно не показывалась — казалось, ничего не умею. Боюсь честолюбий. Только это не то. Когда смотрю на то, что сделала, — такое ничтожное, маленькое, совсем не ценное. Даже не так: это хорошо как маленькая капля того моего, большого, что хочу, вижу.
Теперь хочу сделать «Поэму экстаза» Скрябина. Еще не вижу — только предчувствую, что мне надо.
10 февраля [1920 г.]
Пати у меня второй день сидела до 6 часов утра. Рассказывала ей свой «Фейерверк»118. Придумывался оркестр. Совсем ясно рассказывала. Хочу, как механизм чтобы все двигалось перед глазами, свет окутывал дымкой, прояснялось тело: то руки, то ноги скрывает и выявляет фон все меняющийся. Снопы света, бешеность движения в музыке, декорациях, свете. Тела сверху вниз капают и летят вверх. В оркестре медь, деревянные и контрабасы. Стекло бьется, пересыпается, звоны — новые удары барабана, меди, досок, финал — выстрелы в оркестре из орудия и ослепляющий прожектор на миг на публику. Все выключается. Поэма экстаза (не Скрябин)119. Темнота, свет струей плывет, а внутри, как ядро, дышит масса, двигаются вперед (диагональ), расширяются, блестят. Черное спускает[ся], давит, краски надвигаются, вздох — уходит с полу через [нрзб.]. Брызги золота пляшут и в них купаются. Дальше я еще не знаю. Пати тоже увлекается.
Я делаюсь «не от мира сего». А это все так просто, естественно и необходимо. И только так. Можно и без людей, одни краски, свет, звук. Можно темное панно однотонное сверху донизу, светлые тени, сверху донизу спаянные, как кружево заплетенное, как пауки, движущееся, тянущееся.
332 11 февраля [1920 г.]
Какой мерзкий базар сегодняшнее собрание школы. Хотели мобилизовать силы для творческой работы, а их нет. Все зубами держатся за сегодняшнее мерзкое благополучие и, как стадо, бегут за куском сена. Плохо им — у меня что-то оборванное, и будто еще дальше ушла от всех. Будто от своей одинокости еще что-то оторвано. Трудно.
18 февраля [1920 г.]
Ночи творчества. Сплю 2 – 3 часа. «Египетские ночи» хорошо выявились120 — пишу доклады-манифесты. А внутри солнце распирает, не дает жить.
6 марта [1920 г.]
Жду Нину. Сердце поет панихиду — знаю, уехала, но почему-то особенно жду сегодня.
12 марта [1920 г.]
Что-то ненужное сидит во мне. Мучит. Не могу, не знаю, что писать.
15 марта [1920 г.]
Почему-то ничего не знаю о Нине. Не может быть, чтобы Нина ушла. Была и исчезла. Что-то совсем непонятное. Внутри сверхнапряжение — этот случай с покражами. Вчера было признание. Чудо и жуть от обыкновенности, от спокойствия. Никаких чувств не было, не знала, что надо мне сказать ей. Вернее, знала, только все это не нужно. Слишком обыкновенно. Какая-то мука во мне. Будто вся вина соскочила в меня, и я несу тяжесть. Виновата, конечно, я: почему раньше не остановила. Попросила, и пришла, и созналась. Почему раньше все это казалось мне невероятным. Чудеса бывают.
_______
Теряется Нина, и писать всего не хочется, не для кого. Все писала Нине, просила, будто разговаривала с ней. Неужели еще и еще раз обман — уйду совсем от людей.
16/29 марта [1920 г.]
К 1 маю надо сделать спектакль наш новый. «Клеопатра»121, «Ночь на Лысой горе»122, «Поэма экстаза»123, а у меня болезнь — нужна [операция] и обессиливают заботами обо мне, надо все забыть — все болезни, начать работать, а меня все время тянут на землю, к моему телу. Раздражение вырастает во мне, мутит меня. Раздражение — не умею, нет воли, силы больше, все привести в порядок. Много надо сделать, действовать максимально, а меня носят на ручках. Живу не своей жизнью, и все плохим мне кажется, безвозвратным. Раздражаюсь. Во всем не права я. Плохо. Может быть, могла бы остаться совсем одна, без намека на какую-нибудь жизнь и [нрзб.] около меня. Но раздражение и растет во мне от одинокости. Вдруг не хватило сил выносить все. Все окружающие не мое. Только жаждущие губы пить хотят, а внутри вечная жажда. Губы холод принимают за влагу — этой влаги мало, жара губ уничтожает росу, а солнце палит внутри, выкупаться в море не может.
333 25 [марта] – 7 [апреля 1920 г.]
От Ромушки124 письмо. Ваца тяжело болен. Душевной болезнью125. Какая издевка Жизни. Все строила для него, чтобы ему отдать, помочь, и вот ушло. Поистине, надо все всегда делать только в себе и исходя из себя. Надо ехать. Ехать немедленно. И вот еще раз так печально, совсем одна. Теперь даже нет брата. Надо оставить Школу.
28 [марта] [1920 г.]
Получила письмо от Нины, она в Сербии; еще одно, что дает мне толчок ехать — там увижусь с Ниной. Совсем не могу жить, вся воля вдруг исчезла, и вылезло все несчастье жизни. Уже не живу здесь, уже рядом с Вацей, уже с ним разговариваю, уже вместе творю. Школу жалко, жалко больше чем до слез. Только знаю, что все будут со мной. [2 строки вымараны.]
27 апреля [1920 г.]
Новый стиль.
Творится. «Рапсодия» Листа126. [1 слово вымарано.] Хорошо. Совсем отвлеченно. Все это еще больше зубами держит меня. Трудно уехать. Там, в Европе, опять начнется новая жизнь — все сначала надо строить. Здесь все есть уже. Знаю, что все, что дóлжно мне делать, буду делать на каждом месте. Жизнь вынуждает. Еще в большую одинокость бросает. Ничего со мной не остается.
4 мая [1920 г.]
Вторник.
Новый стиль.
Воля моя, проснись — собери силы. С ужасом смотрю, как она часто изнемогает. [2 слова вымараны.] Будь с собой, больше одна. Не давай никому брать себя на руки, ни делать хотя бы маленьких твоих дел. Все это бросает меня сверху вниз.
Чувствую силы — вижу грехи. Нужны одни действия — все остальное разврат. Все уничтожать ненужное — то, что растворяет, усыпляет мою волю. Чувствовала всю неправду, весь обман и себя, и окружающего. Как могла? Для меня это не настоящее. Все что я делала, что плодила — моя мерзость. Так погибну, не буду жить. Я должна не переставая смотреть на себя — творить себя — не хвалиться собой — не показывать себя — не рассказывать — не знать, не видеть любви к себе. Только нужное, в самом большом, понимание, — давать им. Никаких слабостей.
Детей моих знать, если я их мать, я должна их делать. Никаких отдыхов, никаких. Всегда в действии. Этих двух людей — Иру127 и Леву128 — надо сделать, всегда делать. Потому что они мои дети по крови — забросила их, не занимаюсь ими, а других творю. Должна посмотреть — встать отдаленно и делать просто как людей. [Я их не — зачеркнуто] родила [они чужие — зачеркнуто] их [надо сделать моими — зачеркнуто].
Силы, больше силы и все прочь. Одна, напряженная, действующая.
17 мая [1920 г.]
Не знаю, прочтет ли Нина все это, но еще хочется сказать ей побольше самых ласковых слов. Этому поистине моему другу. [1 предложение вымарано.] Такая ясная, 334 понятная, истинная — бесконечная правда во всем. Не видала, не встречала такой правды. Всегда тоскую по ней — по правде — Нине.
18 [мая 1920 г.]
Вторник.
Будто ушло что-то. С самым дорогим рассталась. Хожу, и как друга моего лучшего тоской оплакивала, так и сейчас. Все сливается в одно. Жду, что мелькнет синий галстук. То же место, то же ожидание и нет [его], но во мне есть все, как было. Это радует. Эти дети, эта школа вдруг разбудила меня во время творчества моего и вижу — все чужие. Они все — это совсем не я. И хожу одна, и тоскую, что ушло от меня. Но то большое, что родилось во мне — создалось, — живет, радует.
25 мая [1920 г.]
Ваца здоров — так говорят. Бог добр к нам. Теперь надо скорее быть с ним. Надо отдать все, что у меня бродит, — пусть сделает это в театре, а мне идти дальше — куда? Еще сама не знаю «словом», но чувствую, предчувствую, что надо. Эти лавры, что будут падать от театральных постановок — небывалых, — мне не нужны. Если это может сотвориться кем-то еще другим — очень хорошо, а мне надо спешить, не останавливаться, идти дальше. Одна не поспею сделать всего. Нужно бежать скорее к тому главному молчащему «безнаградному», только нужному, перешагивать через ступеньки, и если кто их помогает складывать, тем лучше.
[Горящее солнце, пляска лучей, праздник чувств. Совсем не то. Слов нет — зачеркнуто.]
26 мая [1920 г.]
Сколько мусору накопилось. Сколько пробок не дают дышать моим пóрам. Надо все напряжением воли взорвать, вырваться на солнце, свет. Уже начинаю изживать себя. Надо от всего отказаться — остаться одной, без ничего. Все сначала, все сотворить. Радует; и, будто конь застоявшийся, рвусь в бег. Не знать этой скучной жизни, пригибающей голову к земле. Не знать этой тоски, этой борьбы за «существование». Надо сделать нажим и бежать.
Вижу себя в будущем: младенца нагого в лучах солнца, только что родившегося. Все во мне радость, все во мне свет. Нет прошлого у меня, не понимаю еще слова «будущее», и только [1 слово вымарано] ослепительное настоящее окутывает меня. Живу в этом свете, в этой густоте радости — это дышит мой
Сон.
Мое золото капает ему на руки. Так неожиданна мне радость его. [Разве не помнишь — зачеркнуто.] Будто забыл зерен золота, брошенного в меня? Вместе со мной росло оно, накапливалось. От тебя, от жара солнца твоего, солнце мое, к тебе на руки капает золото мое. Не узнаешь собственности своей?
26 [мая 1920 г.]
Я не знаю, что с собой делать, так мне не хватает тебя, твоего мозга, силы, [1 слово вымарано]. Это лето так напоминает тебя. Эти ночи такие же тихие. Я возвращаюсь к тем же местам. Там совсем не пусто — там ты. Я обнимаю все пространство, я целую 335 стены, эти дорогие стены, около которых было так тихо! Хорошо — ничего не мешало, все было нужным в мире, и такой бесконечный покой был во мне. Около этих стен опять нахожу покой, нахожу себя, и так бесконечно люблю то, что мне дает это.
_______
Бесконечная радость блестит во мне. Потому что синее пришло ко мне. Оно ширится, обхватывает, обнимает меня, и радость охватывает меня от той глубины, в которую погружаюсь. Из этого синего брызжут золотые лучи, и радость моя вспыхивает [потому что — зачеркнуто] от прикосновения их. Что-то было серебряное, испаряется из него, растет вокруг меня. [Передо мной видимо только синее — зачеркнуто.] Я вижу только синее, я вся. Я вся стекаю только к синему, а бело-серебряное, золотом пронизанное, непроницаемое, окутывает всю меня. Ничто [не касается — зачеркнуто] чужое сквозь серебро — прозрачность не дышит на меня. Я вся в синем. Я тону в синем.
1 июня [1920 г.]
Позавчера был мой спектакль, танцевали мои дети «Эскизы» и «12 рапсодию» Листа. Сколько энергии, сколько радости, сколько всей меня вложено в это. А сейчас все пусто, ужасно тяжело, что все это ушло. Сейчас уже больше ничего нет. Так бывает страшно, когда остаюсь без творчества, работы. Надо уезжать, и уезжать невозможно.
13 июня [1920 г.]
Воскресенье.
Андреевский собор. Встретила живого человека, радуюсь очень — Ольгу Дмитриевну Форш129. Хорошо видит и сразу все слышит. Верно, много может, не знаю, что сделает. Предчувствует слишком. Она — «дом ужасов». Не знаю, совсем — навсегда заколдовали ее демоны или может еще выплюнуть их. Любит их, кажется. Жизни много в ней [стальной жизни — зачеркнуто], только испугана она смертью. Не понимает, как я не вижу, что все мое, что я делаю, распнут, только за то, что не могут так быть — жить. Она не верит, что у меня нет страхов, и говорит, что страх должен убить все Мое. Может быть, она много старше меня и испытала эти страхи и вновь боится их, а я, как ребенок, пробую ходить, не боюсь того и научусь этому, потому что не знаю еще, как можно сильно упасть и разбиться. Я знаю, что не должна предугадывать будущее, тогда не испугаюсь, а вот сейчас, только сейчас делать и видеть. Ужас — это то, что мы не узнали еще, не можем себе представить, объяснить, не видим, не слышим, не можем взять еще в себя как обыденное. Надо только уметь заставить себя остановиться, тогда мы разглядим, тогда посмотрим, увидим, увидев — услышим, [2,5 строки вымараны], возьмем в себя, проглотим.
Я не уехала130, осталась, и, может быть, это крайне важно было остаться для меня. Не могла уехать спокойно — боль потери Школы грызла бы. Боль дурная, как почти всякая боль. Школа стала уже делаться удобством Жизни, с чем очень хорошо, спокойно. Признание, жадность расстаться с тем, что сделала. Ребенка бросить нельзя, но если надо ехать… Нельзя сидеть, боясь боли разлуки. Интуитивно чувствую, надо ехать, хотя для мозга это абсурд.
336 Уже «признанной» себя вижу вдали, перестала бросать на крест желания мои, уже личным «домком» стала обзаводиться.
Все прочь! Не позволяй Жизни гладить тебя по головке, не устраивайся под ласкающую руку — сама ласкай Жизнь, твори, дари, оберегай. Если Школа может превратиться в соблазн — уйди, потому что все равно ничего ей не дашь, а станешь брать только для себя. Тогда можно лучше устроиться, не правда ли?
Береги себя — все брось и беги в одиночество спасать себя, собирать. Нет ценности, которую нельзя было бы бросить ради этого [2 строки вымараны] [ради] истинной Жизни.
Не заходи в темные коридорчики, а иди солнечной дорогой. На ней не страшно, не упадешь, не ушибешься: всех, все увиди[шь], выпьешь и отдашь, где надо.
«Капиталы» мои растрачены, и мне надо бежать копить их, чтобы не начать жить на «чужие средства».
14 июня [1920 г.]
Понедельник.
Надо что-то мне сделать в этой Жизни, что — я еще не знаю. Все, что делала, может быть, нужно, но не важно. Все это рассказывается, до всего этого дотрагиваются. Что-то должно быть солнцем, давать жизнь всем. Но такое большое, перед ним я сама встала бы на колени, не посмела бы раскрыть, заволокла бы тайной из боязни сжечь им людей, неожиданности погубить их, уничтожить тех, для кого это что-то должно давать Жизнь. Самой — земной трепетать перед этим — всегда видеть, молиться и питать это.
Так чувствую, так хочу, вижу: высь и яркость — там нахожусь. Посмею ли, дерзну ли? Для меня не дерзновение — необходимость. Будет ли сила сотворить это? Вспоминается привязанное к каждому человеку слово «рабство». Слишком присматриваемся к нему, слишком позванивает оно около ног наших.
Прочь! Разруби все веревки, все нитки. Страшно?! Только так. Вижу, как улетаю, вижу, как ничего не спасает, нет ни утеса, нет ни бревнышка зацепиться рукой, плыву, потону в стихии, вовеки Я — зерно, разложусь в ней, и родится то, что предчувствую.
30 июня [1920 г.]
Много дней мучительно напрягаюсь и мозгом не могу [нрзб.] схватить, что вижу. Хочу передать не свой ужас перед ужасным, а сам ужас. Этот комок эссенции мышц, собранный с площади всей России. Комок вижу, но эта площадь давит, моего тельца не хватает (Федора бы!). Вот хожу, собираю в себе, обессиливаю. Надо показать этого — это не ужас, это не революция, это не имеет названия, это все то, что накопилось во мне за революцию: не испуг, не порицание — стихия [2 слова вымараны].
________
Просыпаюсь, все тело болит, встаю, голова наливается черным, и я чуть не падаю. Будто все черное — злое, не хочет позволить дать увидеть, этим обессилить 337 себя. Никогда ничего так трудно мне не давалось. Я все знаю, но [не могу] схватить, руками зажать.
Я вижу даже форму, но это не самое важное для меня сейчас — это даже мешает.
Черная дверь, нигде свету нет. Падает луч света с ударом легким барабана, следующий всей силы удар, и сверху падает «раздирающее», и в паузе грандиозной закрепляет себя. Молча (без движения). Тянется, наступая на зрителя. Не испугать должно. Безумной густоты движения, будто в густой мерзости, сердце бьется медленно-неподвижное, вдруг захлебывающееся, заполняющее, раскрывающее, топящее собой — одно только видимое, все собой покрывающее.
7 июля [1920 г.]
Умерла Надя Черняева131, умерла. Это «умерла» не касается меня. Я жду, я слушаю печаль, горе — нет его. Потеряна — такого определения быть не может. Ушла — нет! Со мной, здесь, рядом, везде! Вот она улыбается… Это все тело, да, да, конечно, это умерло. Невероятно. Ты не умерла, Надя, ты улыбаешься мне сверху. Ты меня любишь теперь, ты меня сверху всю видишь. Я много бываю гадкая, тебе неожиданно это? Можешь [отвернуться — зачеркнуто] отплыть. Невозможно. Оттуда должна любить меня. Тогда такая буду жить. Нужно [жить] летя вверх, имея стремление, направление. Я сижу, я вся ушла, вышла из себя. Я вижу, я есть. Этого я не могу. Почему-то нельзя мне это писать-рассказывать. Нет горя. Спасибо тебе. Я оторвана, я там. Как трудно вернуться к этой жизни. Как все, что завтра надо делать, кажется ненужным или чужим, то, о чем рассказывалось, — чем-то шелестящим бумажным.
Черно опять, и свет струится. Сила его, чувствую, как тянет мышцы лба и открывает мне глаза. Все это такое напряжение. Мне не вынести — но я не могу уйти, не увидев, не подняв, не приняв. Светишься, светишься надо мною. Серым, перерезанным огненными кольцами, наклоняешься, заглядываешь в меня, я слышу, как бултыхнуло сердце мое.
Ты вошла туда и вот снопом искр взлетаешь, унося себя и меня из сердца моего. Ты живешь, я вижу, как ты плаваешь надо мной. Это не материальное, но существующее. Это живет. Как это случилось, что ты раньше там, уже переступила — в высшей жизни. Ты любишь, ты будешь помогать мне.
Сегодня я родилась еще раз. Я вижу, для чего надо жить. В каком движении направлять, вести себя. Я там была. Это маленькие делишки. Неужели по-настоящему я их делала? Как это все уничтожить!
Идя наверх в то, что надо мной, дела мои нужными каплями будут струиться из меня, падать на мир.
Большое что-то совершилось — совершается. Только бы не выскользнуло. Надо закрепить, установить. Надя — свет. Вот ты уже прибыла — на место. Вся в свете и такую радость дала. Свет, свет.
________
Господи, Господь, почему жутко мне чувств этих стало. Чистым сердцем и губами зачем пишется это? Вот что, Броня! Вот только это «зачем пишется», может быть, стать плохим.
338 31 июля [1920 г.]
Была на вокзале, вернулась. Казалось, так просто. Остаться нельзя. Не самолюбие, а пустота не позволяет. Умру здесь. Друзей нет. Все скупятся на свои чувства. Скряги, смерть друга для них лучше, чем отдать ему напрасно чувство. С. Д.132 настоящий кажется. Собраться в себе и решить.
Надо суметь начать работать сначала, но не хватит сил. Без отдыха, болезни. Может быть, надо было ехать. Может быть, еще надо поехать. Здесь умру и в дороге одинако[во]. Везде одинаково. Дети, можно ли их бросить в столько опасностей потому, что это нужно мне. Смертельная тоска — одинокость. И опять нет Федора. Нет жизни. Федор, когда перестанет скрежетать во мне.
_____
Раньше привести себя в порядок, дать возможно больше любви детям и матери моей. Облегчить ей жизнь своей любовью, занять возможно больше места.
Разве возможно что-нибудь писать, разве возможно сейчас собрать себя? Я вся [положена — зачеркнуто] брошена на раскаленное железо моего мозга и шиплю, уничтожаясь, как брошенная на него капля воды.
Чем глубже срывы, бунты мои, чем больше напряжение дать, тем [недописано]. Федор, Федор, улыбка моя, куда все это делось, куда ушло, почему не мое, почему не со мной?
15 августа [1920 г.]
Школа внешне очень хорошо. Совсем поставила на ноги. Работаем как никогда. Я еще качаюсь, не вылечив, не собрав себя. Бросила в это путешествие. Шатаюсь, неуверенность. Думаю, в дороге обрести силы. Так нельзя. Сейчас моя одинокость опять поет свою огненную песню. Опять я внешне стальная, а внутри…
Я не могу жить, когда меня не любят. Разве кто-нибудь когда-нибудь любил меня?.. Все это есть около меня.
Как в раскаленную пустыню брошена я; горячим песком набиваются раны мои.
Никто не идет впереди, не защищает своей спиной от огненного песка. Иголками вонзается боль в раны.
Меня окружают обожатели любовью, будто бы защищают. Разве так?
Я брожу, и это кольцо бродит за мной.
Кто загладит бесконечно болящие раны? Кто возьмет за руку, выведет из пустыни?
Эти дни раскаленной тоски защищаются. Ужасное напряжение выбросит из себя огонь — творчество, чтобы жар пустыни одиночества казался рядом прохладной струей. Этот вдруг наступивший пустой трясущий холод в воющей ночи, ужасные хищники пустыни сбегаются отовсюду.
[О, это — зачеркнуто] солнце, ножами палящее мое тело. [О — зачеркнуто] эта боль, всегда исходящая от тебя, пылаешь ли ты перед глазами моими или… Тогда эти ночи без луча тепла, этот скрипящий лед, ледяная мука.
Круглая земля и Федор там, за выпуклостью. Глазами не достать. Срезать горбушку по самые пятки. Какая свободная дышащая дорожка. Глаза совсем видят. 339 И ноги, грудь, сами втягиваются в освобожденное пространство. Мои ноги, только меня всасывает движение сброшенной крышки. Я не вижу его движения. Мучительная неразрешенность.
Надо крышку опустить на место.
16 августа [1920 г.]
Писать не умею, какая-то «литература» вместо настоящего. Люди какие-то — все это не настоящее, выдуманное. Дела какие-то будто «мировой» важности — ерунда все.
Какая-то густая противная патока течет кругом по мне, всюду.
Чистого воздуху бы вздохнуть от всего, [от] всех отдохнуть. Камни из груди выкинуть. Перестать видеть, перестать видеть! Людей и себя — противно — нужного ничего не делаю — кажусь себе нужной, а все это миражи.
18 августа [1920 г.]
вторник.
Еще один творческий мираж, и так, верю, будет действительно истина. Жаль, что обман, и знаю, меня кругом всё, все обманывают.
20 августа [1920 г.]
Какой-то перелом, и не знаю — падение ли это или что другое. Я ничего не умею, ничего не могу. Во мне все болит, мои руки и ноги налиты чем-то тяжелым, больным. Я чувствую, воспринимаю все иначе, как будто перерождение организма — настолько все другое. Ослабление воли или же это овладение. Ничего не знаю. Так ничего не могу. Нет творчества — будто смерть.
25 августа [1920 г.]
Я захворала какой-то тяжелой, трудной болезнью. Я задыхаюсь, тяжелая вата внутри меня. Так жить нельзя. Кошмарное одиночество. Все около меня ненужные. Что-то во мне неправильно. Ничего не могу писать, ни в чем не могу разобраться, т. е. я вижу, знаю: сил только нет, напрячь себя, писать на бумаге.
29 августа [1920 г.]
Люди начинают липнуть. Слава приходит. Так. Нужно мне это? По большому, кажется, нет. Дали бы возможность спокойно, тихо работать. Ничего не надо бы было. Много, много делала бы. Сотворила. Открыла дверь — Федора впустила. Все для него? Уже точка предела моего отчаяния совсем близко. Мне душно. Все сдвигаются, все теснятся ближе и ближе. Тебя нет. Тебя все еще нет. Но, кажется, мое имя уже касается иногда твоего уха и твой мозг на миг видит меня. Когда глаза мои выкупаются в улыбке твоей?
На полу от них зеленый свет. Настраивает на танец. Нет, мне тяжело. Форма, что в «Эскизах» и «Рапсодии». Все остро, воздушно. Начало совсем темно. Фигуры лежат на полу, от них свет до самого верху. С их движениями прибавляется свету 340 на сцене. С появлением Мефисто брызжущий свет на миг и мягкость света. В красках еще темное, неопределенное беспокойное, протестующее. В танце — собирающееся, растущее, оживающее, но не своей волей; всё идет за волей Мефисто133. От него для них исходит жизнь, свет. Момент протеста — затемнение в красках, густота в движении. Опять завораживание. Нарастающий протест. Тот же прием завораживается. Опять свет жизни. И вдруг все схвачено в руки Мефисто, брошено в счастье чувств. Золото розово, золота много, праздник, ослепительный свет — купаются в своем танце, тонут в собственной атмосфере. Счастье. А сквозь это тонким, тонким лезвием, нитью прорезается то самое главное, для чего все двигается, для чего нужно было бросить и это движение. Оно злое, острое. Такое мягкое, нежное, упругое, острое бархатно [за чем, не видно — зачеркнуто]. Так утонченно отрицательное, злое, развратное, бешеное, гневное, в такой степени утонченно, где теряется омерзение, где охватывает восторг прекрасного, этим берет в плен, этим залезает в организм, разлагает.
Вырастает уже беспокойный. Тревога нарастает. Алость крови, темная, светящаяся земля. Начинает кипеть. Уже все в своей правде танцует. Уже не отодрать выросшего. Трагизм безысходности. Порывы бросают в одну, в другую сторону. Высшая точка протеста кипения, огня. Кризис. Тогда сбрасывает Мефисто вниз, к прежнему милому возвращает. Уведены; перелома не было. Воспоминания. Трагичность ясна, все кипит, бросается в светящейся ночи. Разбивается, не оставив ничего.
Сегодня почти готов эскиз для декорации «Мефисто». Это еще не то, что хочу. Еще плохо держу кисти в руках и никогда не писала красками-маслом. Представление о том, что хочу достигнуть — это уже много. Настоящий художник-мастер поймет, что я хочу.
Из этих напряженных завитков… Должны закружиться, уйти, сверху упадут острия, образуя как бы зонт, оттуда Мефисто падает [и опять — зачеркнуто] на землю. Набросок тоже уже в карандаше есть.
Уже заработала. Осталась опять совсем одна. Пати уехала. Правда, есть Ольга Дмитриевна. Повидала ее и обрадовалась — как бы проснулась к Жизни. Богатый человек, только какая-то небрежность к самой себе, почему-то еще нет всего возможного, как-то пропускается время.
Да, как хорошо, что одна. Правда, теперь не будет остановки, трудно, но как чист воздух. Я дышу только собой, ничто не сковывает моей воли, я вся сама, я своя.
2 октября [1920 г.]
Скоро люди научатся видеть не только тех, кто зарабатывает себе вывески. Скоро люди будут видеть тех, кто ничего не хочет для себя — все отдает. Отворачивается от «патента за изобретение». Пока взгляды людей приковывает только вывеска — видят, только когда «дающий» сам кричит: «я раздаю», и этим отнимает право крикнуть получившему: «это стало мое». Все люди — самые великие — скоты. [Или люди нужны — зачеркнуто.] Для них люди не есть подобие их самих, от себя дают им не для того, чтобы поднять к себе, дать им радость. Дают не для того, чтобы это стало поистине их собственностью, чтобы они забыли, кто дал, [чтобы] 341 срослось с их телом, стало их частью. Они дают, [потому что] люди нужны им только для того, чтобы они не забыли, как они были велики.
Скоро забудут слово «непризнанный», и как будет много признанных. Скоро великие начнут произносить там, откуда они не попадут в историю. Скоро будут давать там, где сидят не только понимающие их «величие».
Перестанут сердиться, что их никто «не понимает» и создавать понимающих. Скоро любовь разольется по земле.
9 октября [1920 г.]
Принесли известие — Федор будто уже «пропадает», как артист «дряхлеет», ничем не интересуется… Вдруг захотелось написать ему. О чем? Вернее, зачем. Для меня это бессмысленно. Ехать ли, чтобы глаза мои увидели улыбку его, писать ли ему о себе. Знаю хорошо, [несколько слов вымарано] что не нужно мне это, если это исходит от меня. [1 слово вымарано.] Но сейчас совсем неожиданно хочется писать ему, не для того чтобы получить что-нибудь, а чтобы дать. Вдруг представилось, что [ему] может быть радостью знать, что любят и что солнцем его согревается, растится творчество мое. Надо написать ему об этом. Не может быть надоедливым письмо мое, если ничего не жду для себя, просто посылаю письмо ему как подарок.
Как-то странно, непривычно для меня это. Вот уже 10-й год закрывается после встречи моей, и никогда не хотелось мне пойти встретить или мне писать ему. Для меня [1 слово вымарано] это невозможно — не как гордость, будто я жду, чтобы он пришел ко мне.
[И вот — зачеркнуто] сейчас у меня двое детей, милых моих деток. Может быть, эта тетрадь попадет вам когда-нибудь в руки. Не вините меня, что я вся не вашего отца. Не вините меня, что вы живете, я вам дала жизнь, и нет вашего отца с вами.
Так бежала от любви Федора, [потому что] он уже не мог быть всецело мой. Боя[лась] потерять свою любовь, себя.
Встретила Александра134. Мне казалось, он так много любит меня. Могла ли я оставить человека мучиться тою же мукой, что и я.
Я вся отдалась любви Александру, и эти бешеные минуты муки вспыхивающие — я умела закрывать и заставлять молчать. Я умела заставлять молчать мое лицо, глаза, когда видела потом Федора. Мне часто казалось, что победила. Если бы больше — верьте — настоящей любви было у Александра, я вспоминала бы все в прошлом как большую светлую радость.
Дети мои, ты, Ира, родилась, когда отец твой был единственным, самым любимым другом моим.
Ты, Левушка, — ты был счастливое дитя. Я верила Александру тогда, что он может переродиться, что он переродился. Я поистине верила, наконец, в свет нашей супружеской жизни, вернее, в наш общий путь. Федор жил отдельно внутри меня, все муки, желания встречи, воспоминания твоих дорогих «улыбок» ушли от меня. Мне казалось, что мое счастье начинается в полном цвету.
Я, наконец, чувствовала, что [вымарано] у меня есть супружеский дом — я ждала сына, я ждала начала моего большого Дела, я видела ясно мой путь. Спокойствие в моем доме и любовь — Школу. Потом Театр с творцами-артистами — людей, которым дала радость, моих детей-цветочков вокруг меня, друга-мужа около меня. Александр 342 был слабее меня — путь мой не стал путем его. Женой его я не осталась — гнилое развлечение мутило его мозг. Дети не были его детьми — в мозгу любил их, но… тяжело писать обо всем этом. Надо было взять детей у отца, чтобы не пропала и мать их. Знаю, чем я должна быть. Чтобы оправдать отнятого отца у детей [1 слово вымарано], можно было перестать быть женой. Но Александр — у него было какое-то особенное свойство терять все свое лучшее и воспринятое мое, как только не сердцем, а занятием, часом, минутой я оставляла его одного. Так надо было сделать.
Когда разрушилось, уничтожила до конца в себе Александра (как-то просто все вышло во мне без боли, все сразу выжглось) — [Федор — зачеркнуто] [4 строки вымараны.]
Главное, как моя «вина»: все, что вижу, весь мой путь имеет двигатель — любовь — [к Федору любовь — вымарано].
15 октября [1920 г.]
Федор — солнце — сияющее Солнце, комок радости, творческая мудрость, колосс воли, свобода духа, треплющая тяжелые тучи. Это драгоценные камни, спаянные в великий храм. Храм без моления, храм без молящихся. [Сияющее солнце заняло все углы — зачеркнуто] Одно пылающее солнце — сердце [трепещущее — зачеркнуто], как лампада [1 слово вымарано], наполняет [весь — зачеркнуто] храм ослепительной блестящей атмосферой, вбрызгивается в стены, вырываясь навстречу небесному солнцу Бога. [2 строки вымараны.]
Я не умею рассказать, что вижу, той необычайной пляски искр [кончиков лучей Солнца от встречи — зачеркнуто] двух солнц, обламывающих свои лучи при скрещивании драгоценной твердости камня. Эта ослепительная встреча двух солнц! Раскаленный жар, мучительный блеск золота, венец распаленных игл, безумное дышащее сверкание, как бы паром окутывает величественный одинокий храм.
19 октября [1920 г.]
Любовь — это эссенция [самой высшей — зачеркнуто] всякой Религии. Всякая авантюра на любви — позор для Человека. [Любовь поистине может идти навстречу только истинной любви — зачеркнуто.]
Никакой суррогат не может питать истинного Человека. [Как — зачеркнуто] Любовь есть божественное завершение в человеке. Любовь не разлагается на части. Это обман алхимика. [Того] кто видит эту возможность части и радуется этой частице.
Плохое зрение или дурной вкус соблазняет какой-нибудь светящийся предмет. Совершенный человек хорошо видит [2 строки вымараны], обладает истинным отношением к поистине завершенному, единственно великому ценному.
24 октября [1920 г.]
Черные букеты… Синяя луна… [1 строка вымарана.] Траурная тема…
«Рапсодия» и «Эскизы» (Шопен) в городском театре. Было хорошо от шума протеста в переполненных кулисах. Немного стыдно за их плевки, ругань — как выражение 343 протеста. Здесь даже драться не умеют. Если б это был Париж — там умеют ответить на Революцию в искусстве. Там враг достойный, а здесь… Бесконечное убожество — даже не гниль от искусства, просто гладкая поверхность, вязкая, клейкая, бесцветная, по ней корявым пальцем написано — нет искусства. Мне стыдно и чувствую обиду. (Нет, это не обида, а неудовлетворенность.) Они смотрят.
Не знаю, как зал, там были рабочие. Пришло несколько — восхищенных. Разве это недостаточно? Это все.
Надо только, чтобы «детишки» были мои крепки. Крепли от нападений.
8 ноября [1920 г.]
Кажется, опять признание от «начальства». Есть льстящие. Такая смертельная тоска.
11 ноября [1920 г.]
Скандал после «Рапсодии» все продолжается135. «Это большевизм от искусства», «Это оплеуха всему искусству», «Никакого изящества — это не балет». Чувствую большую бодрость от «Рапсодии». Эти занятные, веселые [песни] — венок похвал.
14 ноября [1920 г.]
Этого света, этой радости я не могу записать сюда. Я не умею передать словом этой оторванности от земли — сияющей святости, когда ты посещаешь меня.
Я знаю только твердо, что это не сумасшествие, не фантазия. Я вижу, как ты входишь. Я вижу не улыбку, не глаза твои, но я вижу и улыбку, и глаза твои. Ты весь со всем, что есть в тебе и вокруг тебя. И я совсем реально чувствую посещение твое.
Глаза моего Я так ярко видят тебя, что мое человеческое не выдерживает, внутри что-то щелкает, куда-то вытекает Жизнь тела, но я не теряю сознания — я вижу тебя.
15 ноября [1920 г.]
Милая Ольга Дмитриевна, почему я так мучу ее? Еще не знает, не видит меня и главное не чувствует, что люблю ее не как всех людей, которых встречаю, а как что-то близкое, что совпадает со мной. Что с ней я как с собой, своей сестрой.
27 ноября [1920 г.]
Готовлю спектакль, ничего (вырваны листы перед большевиками) [приписка, сделанная позднее]136
— глупость…
1 декабря [1920 г.]
Все сжато в свинец, и моя тоска не находит уже слов. Даже бумаге не умею ничего сказать. Слов не стало, они бессмысленно глупы. И не найти, во что вылить — не нужно это, каменеет все внутри. Все тяжелеет, тяжесть наливается, каждое движение [тяжелым стало — зачеркнуто]. Ничего не страшно, все просто, все не нужно — от всего этого какая-то сокрушающая сила идет от меня, равнодушно бьется сверху вниз, раздвигает вперед. Сам Федор мой — все мое — потому не 344 нужно, бессмысленно писать ему. Совсем близким стал, ясным — потому житейски искать его, писать невозможно для меня. Эта тяжесть все увеличивается, носить ее страшно мучительно (не болью человеческой, а ничем не [окрашенной — зачеркнуто] облегченной тяжестью). Эта же тяжесть, как пресс, стирает в порошок все ненужное — дает мощь, чугунным колоссом делает.
2 декабря [1920 г.]
Сегодня спектакль моей Школы в Государственном театре. Первый раз «дети» мои танцуют с оркестром. [Давно — зачеркнуто] Один из пунктов достигнут будто бы. Еще год тому назад — меньше — для меня был сегодняшний день большим торжеством. Сегодня я совсем спокойна — нет ни волнения, ни удовольствия. Все это не то, что хочу, к чему иду. Сцена, и театр, и искусство — все это милые «игрушки», знаю, не этим кончу, не этим должна кончить. Вот эти «игрушки» перестают радовать — знаю, пока это нужно, пока единственно, что могу бросить в мир.
20 декабря [1920 г.]
Опять сон. Опять Федор со мной — ласковый, заботящийся. Все это так близко. Или уже сон стал для меня действительностью. Так давно не видела, не слышала его, что уже сон для меня реальность и хожу будто с ним все время и не верю, что это был только сон.
Эта новая полоса меня пугает, это уже что-то ненормальное. Надо, надо скорее так или иначе прийти к чему-нибудь. Мне так надо его видеть. Возможно облегчение? Ведь возможно, что это кончится. Какая-то тихая жалость стонет. Стонет, что, может быть, и это был мираж.
21 декабря [1920 г.]
Я задыхаюсь от нелепости жизни. Я радуюсь и плачу от «нелепости» Жизни. Я вижу, что несчастья нет — все это радость, все, что хорошо живет, двигается, врезывается острым плугом и оставляет глубокий след. В этом следе разве я не вижу блестящую сталь? Разве я не вижу и не слышу мелодию напряжения воли — на плуг.
Разве нужно плакать, что я не плуг и не земля, которая чувствует руку воли, с ласковым шорохом обмывает сталь? Разве глаза мои не должны радоваться борозде?
Разве не радость знать, что ты тоже пахарь и идешь (почему не рядом?) по другим полям? Испытываешь ведь счастье, когда нажим от рук твоих оставляет острый глубокий след.
Но почему нет рук, которые касаются головы моей?
24 декабря [1920 г.]
МАРК137.
Сон, где я не Я и встречаюсь с другим Я и мне так важно тому мудрому Я доказать законность мыслей моих. Я молодой мужчина на берегу в гранит закованной реки, а другой пришел из-за реки оборванный юродивый, но столь сильный и значительный, что я младший брат (но тоже, тот же я) должен влиться своими чувствами и мыслями. На нас обоих один и тот же знак, и мы оба Марк.
Трудно записать мне по ощущению этот сон.
345 8 января 1921 г.
Может быть, все мираж. И как смешно, что кажусь себе нужной. Что-то отвоевываю — все ерунда. Много есть имеющих больше прав. Я так думаю.
26 декабря / 8 января [1920/1921 гг.]
Некоторое время пишу свою книгу о Движении138. [Когда] начала ее писать, думала, это нужно, знаю, что большое влияние должна [она] оказать на театр — изменит ход всего искусства. И все-таки сейчас (может быть, это чисто женское) зачем это нужно, и может быть, все это только для меня важное и значительное и совсем никому, ничего не сделающее. А я все выдумала, и не нужно ничего писать. Писать постольку, что лучше [и] шире сумею передать свою «систему». А может быть, все это уже есть, и если нет, [то] кто-нибудь лучше сделает. А самое главное, что от меня, небольшого человечка, это может быть — казаться значительным.
_______
Какая гадость, какое мне дело, кто что может, кто что сделал и сделает. То, что могу, и не в зависимости от качеств никто не может сделать, потому что я — есть я. Какое мне дело, погладят меня по голове или нет — важно и столь важно — я должна действовать. Если плохо, это уйдет, сотрется. Каждый должен столько, сколько он может делать. Если рядом видит, что работа не сделана, — сделать. Пережевывать — разводить мусор — ну, это делают бездарности. Ясно.
21 января [1921 г.]
Повторили еще раз наш спектакль. Все то же, как всегда.
11 февраля 1921 г.
Лежу больная. Хотела ехать на Минск — не дали пропуска. Так сильно на меня подействовало, что все нервы болят, как нарывы.
Вчера была годовщина Школы. Уже 2 года прошло. Будто не 2 года, а всю жизнь была вместе с ними. Так много изменилось во мне и вокруг — не верю этим 2 годам — будто новая большая жизнь.
Совсем ослабла, и ни мозг, ни руки не шевелятся.
Стоит ветка сирени рядом, чудно пахнет. Среди зимы — струя весны.
_______
Когда просыпается весна, этот первый миг каким восторгом наполняет. Короткий миг, потом он уносится куда-то. Восторг [который — зачеркнуто] поднимает дыхание, все тело [1 слово вымарано] готово полететь за этим пронесшимся запахом весны. Все поры раскрываются, все на миг золотое. И такое неизъяснимое счастье заливает собой все.
В Монте-Карло много лет тому назад139 — [точно — зачеркнуто] это было совсем недавно. Чудная весна. Встреча с тобой и от тебя этот весенний восторг. Этот кружащий, уносящий в [высь — зачеркнуто] неизъяснимый восторг. То, что [сливается — зачеркнуто] живет в миг — от тебя неперестающая волна. Этот восторг, бесконечная радость, молодость, жизнь поднимаются со всей силой, как первое 346 ощущение весны. Этот восторг от тебя, как от весны, но не в миге, а не прекращающий жить, — ношу в себе. Потому так радует запах цветка, потому такое волнение от первой волны весны, во всем этом ты, сияющий, весенний, чудный, радостный, дающий такое счастье одним воспоминанием твоего присутствия.
______
Они закрыли меня в клетку, закрутили в крепкую цепь и слушают мои песни и думают, это песни свободной птицы. Мне некуда лететь из моего сада, все здесь мне дорого, но почему сад закрыт и на моей ноге цепь? Скоро не выдавить больше песни, скоро зачахнут песни.
Сколько бы ни кормили, ни холили, свободная голодная жизнь лучше. Нас мало — мы творцы жизни — мы делаем жизнь — разве мы можем быть чьей-нибудь собственностью? Бездарных рабов, тех, кто всегда услуживает, угождает или лишних, лентяев, их надо приковывать, выжимать, но нас разве нужно сторожить? Разве не везде и всегда для всех и всем я принадлежу? Никому не принадлежу — Миру, Жизни.
_____
Тяжелая безысходность, больше не могу работать. Мне надо видеть Вацу — знать, что он делает, здоров ли он? Мою мать увести от этой тяжелой жизни140 для нее без Вацы. Как это сделать? Я совсем не могу чувствовать себя [в] клетке. До сих пор я работала и знала, что я здесь потому, что я хочу, и вдруг теперь меня не пускают141. Я не могу ехать, куда мне хочется. Не хочется, а в чем есть органическая необходимость. Дикость. Сумасшедший дом. Клетка.
14 февраля [1921 г.]
Вчера пришло письмо от сестры Ромы142. Опять зовут. Опять начну что-нибудь делать.
19 февраля [1921 г.]
Сегодня много сделалось. Уже 4-я репетиция «Marche Funèbre» Метнера143. Одна сплошная масса — ничего случайного из отдельных групп, но все связано намертво стеной движения, а все переливается. Тяжесть не обезволенная, скорбь зажатая, стиснутая.
Говорят, что это лучшее, что сделала, — для меня не хорошо. Пробую силы от техники — сильно — есть движение, но не та форма в отдельном теле, которую хочу — отдельных тел нет в марше — куски.
Сделала один «Этюд» Шопена144 — хорошо. Еще один «Этюд» делала, не могла справиться — не знаю, может быть, плохо играли. Сегодня много сделано — потому что никогда так, до боли, не нужно мне было положить свою голову на плечо Федора.
Сегодня идет поезд на Харьков, и я опять не поехала145. Очень боюсь, что буду жалеть. Оставить одних детей для меня оказалось совсем невозможным. Кажется мне, будто что случится, и я их никогда не увижу. Потому, думаю, лучше остаться. 347 Но что делать с Вацей, с ним необходимо быть. Мое здоровье все больше и больше разрушается. Чувствую это тогда, когда не творю — просыпаюсь.
23 февраля 1921 г.
Концерт Бетховена. 3-я симфония. Дорогой мой друг, где ты? Так близко вижу тебя рядом. Надежный, преданный. Почему нет со мной? Кто-то сказал, что ты погибла146. Но это не может быть! Но почему уже год, как я ничего не знаю о тебе. Одной тебе верю, одну тебя встретила, никого больше не знаю. Все, что, по-моему, правда и порода от Человека, было в тебе. Где ты?
25 февраля [1921 г.]
Бесконечная неотпускающая тоска. Я не могу работать в искусстве рядом со спекулянтами от искусства. Мне душно. Как сделать, чтобы их руки не трогали меня.
2 марта [1921 г.]
Трудно справиться со всем, что разбито, что сдвинуто с места, — опять нужны нечеловеческие силы все привести в порядок в себе. Одна за другой вести бьют меня. Ваца будто в Париже и занимается классическими танцами. Имеет свой театр, идут балеты «Жизель», «Коппелия», «Лебединое озеро»147. Он в компании Кякшт148, Вагановой149, Павловой150, Берже151, Карсавиной152. Что же это? Прославляют пальцы?153 Париж бегает опять смотреть на отдельные pas, выдуманные для танцовщиц. Потом читаю, будто идет «Священная весна»154 — но ничего дальше. Как все это сложить? Бедные мои мечты быть вместе с Вацей!20* Дальше — Кочетовский в Париже открыл Школу155, пользуется большим успехом и готовится к спектаклю. Могу ли думать о Париже теперь. Куда идти мне? Кочетовский, разве ему нужна Школа, разве он что-нибудь может? Проволокивает мое детище по грязи, добывает себе деньги и славу на самом драгоценном для меня, о чем любя и веря ему, раскрывала.
[Еще где — зачеркнуто] Так, будто в клещах, жмет меня жизнь. Я не погибну. Я одна знаю, что выкуют из меня эти удары. Я знаю, какую мощь даст эта мука. Но как смертельно болит Жизнь моя.
Смертельно болит. Все, что называется «жить», в безумной боли умирает. Улыбки жизни исчезли совсем.
Ничего не хотеть [1 слово вымарано] от жизни. Своей Жизнью наполнять мир. Только делать. Как хочется улыбнуться чуть-чуть. Дать отдохнуть напряженности боли моей. На Востоке драгоценное Солнце — Федор156. На Западе Кочетовский. Мои глаза смотрят только ввысь на Отца Жизни моей.
3 марта [1921 г.]
[Весна. Грязная улица улыбается. Иду, ступаю в лужи и радуюсь весенней грязи на моих ботинках. Какой детский праздник. Какой восхитительный беспорядок. Какое предчувствие весны — зачеркнуто.]
348 Опять весна, и опять в воздухе трепещет счастье. Творческая струя побежала по земле, и все мои пульсы и нервы подпрыгивают, танцуют.
Какой детский праздник! Мы — природа — переезжаем на другую квартиру. Какая суматоха, какой восхитительный [1 слово вымарано] беспорядок. Грязь улицы улыбается мне восторженно. Мои ботинки влюбленно-нежно перепрыгивают по оголенным камням. Серые кривые улицы, дома с мутными еще глазами, зевая, никак не могут проснуться. Люди скучные, тоже серые [2 строки вымараны] бродят, как проснувшиеся, ничего не понимающие мухи.
Одна моя озаренная душа подпрыгивает и пляшет на просторе. [Она участвует в ремонте — зачеркнуто.] У нас, детей, много дела в этой весенней суматохе, только мы, дети, умеем радоваться еще нерасставленным вещам, так восхитительно участвовать в работе Отца (Творца). Мы тоже помогаем вымыть пол, высушить, ветром легким вымести пыль. [1 строка вымарана.] Какая восхитительно большая игрушка мастерится на наших глазах. Ковры постелются, яркие, вытрушенные [от] пыли. Невидимые маляры чудными красками побрызгали, какой узор, понятный только мне, смогу я разглядеть на них. К черным букетам в садах приделали лакированные крошечные листики, птички посидели на них. А сколько духóв Отец вылил на землю! Целую большую банку разобьет над головами города.
Все ярким синим глубоким потолком накрыл сверху. Нанизанные жемчуга свиснут к земле, и лучик солнца будет купаться в них. Играя, такой смех побежит, застучит по камням, играя, такие искры забрызжут из каждой жемчужины. Такая радость, такие песни будут бежать от вымытой в жемчужной золотой шалости [?] головы моей. [1 строка вымарана] [Нам, детям, мало смотреть, участвовать в работе Отца — зачеркнуто] [1 страница вымарана.]
Как хорошо, как сладко играть у ног Отца — Бога моего21*.
8 марта [1921 г.]
Последняя подлость, нет, это слишком сильно, — мерзость лакеев. Искусство делают государственным157. Нас, художников Божьей милостью, на «суд», на «признание» выставляют, как обезьяну в клетке. Новый экземпляр в государственном зоологическом саду, «породистая мандрила» Нижинская со всем ее потомством.
Нас, творящих Жизнь. Почему я не умерла от горя, почему мое возмущение не взорвало меня в клочья.
Нас «признали»! Сафьяновый ошейник с погремушками надели. Мы достойны получать государственные привилегии!
Как смеют показывать.
Как смеют разглядывать и оценивать. Жалкие оценщики, негодяи, торговцы несчастные.
Или действительно надо слово звать на защиту. Мы творящие — не галдящие. Мы — поистине творцы, говорим только нашим творчеством. Гвалт лакеев заглушает наши святые песни. Галдящие не дают им услышать наши песни, и бедная толпа «созерцает» только, «вникает», «раздумывает», «понимает». Видит лишь наши открывающиеся 349 рты для песен. Или поднять всю свою творческую силу на защиту? Наше самое острое орудие, наше сотворенное искусство.
Только найти тишину — крепкий замок от галдящих.
14 марта [1921 г.]
Понедельник.
Вчера уехала Эстезия и увезла мое письмо к Федору в Москву158. Через сознание еще не прошло, не верю, что это сделалось. В этом месяце будет 10 лет, как мы встретились. Это хорошо, что я послала письмо. Только бы Федор прочел его, как я ему его писала. Я ничего не жду. У меня просто была органическая потребность [чтобы — зачеркнуто] написать. Мне не нужно, чтобы Федор думал обо мне, мне так было бы хорошо знать, что Федору чуть-чуть хорошо, что где-то его любят. Вдруг как молния прорезает море, что, может быть, ему захочется что-нибудь написать мне — может быть, из вежливости. Может быть, я увижу несколько строчек, написанных его рукой. Все это вздор — я могу себе поклясться, что не для этого писала ему.
Его несколько слов ко мне дадут мне право еще раз написать ему. Смогу поделиться моими мыслями об театре. Сегодня полная весна, еще холодная, но весна. Солнце радует, еще никогда не чувствовала так сильно весну. Мне кажется, что я участвую в этом ремонте природы, будто я помогаю расти траве, будто без меня не откроются почки. Как я жду лакированных листиков и совсем низкого зеленого ковра у моих окон. Как близок мне Бог, совсем родной, свой, понятный и такой большущий, так сладко чувствовать всю силу и волю Его, кончика которой не могу разглядеть. Но лист и весенний воздух, это сделано Его Руками, и мое сердце подпрыгивает от радости. Я чувствую какое-то возрождение во всем — будто глаза вымыты. Или это потому, что я послала письмо, или потому, вернее, я послала письмо, что такой праздник кричит внутри меня. Хожу, и вся моя радость рвется к Федору. Как было бы восхитительно помочь ему в создании театра (его вокального). Ему это, наверное, нужно. Я так много вижу. Это ему бы пригодилось. А какая радость что-нибудь ему подарить. А может быть, встретиться в творческой работе. Возможно, участвовать в этой работе. В опере ничего не сделано, и так много можно сделать. Конечно, я не говорю об улучшении оперы, этого театрального отжитка159. Вокальный театр надо делать сначала. Надо создать также Школу. Также уничтожить акробатизм в пении. Сделать художника пения. Не высокой нотой, а жизнью, движением звука должен владеть поющий. Сделать музыкальных певцов прежде, позднее развить к восприятию и творчеству в музыкальном смысле. Как пианизм не от техники, звучания, а [от] выявления композитора с той стороны, какую воспринимает художник-пианист.
Дирижер-режиссер-композитор-хореограф — это, вероятно, одно в моем представлении. Я говорю, режиссеру Вокального Театра дóлжно быть в полной согласованности с дирижером — позднее я расскажу как.
Дальше. Уничтожить надо всю «поэтическую» сторону. Никаких слов. Артисты последнего толка вкладывают все свое выражение в слова вместо музыки, между тем как музыка есть главное в Вокальном Театре.
Хор не есть фон. Артист не есть личность. Это оркестр (не сегодняшний, конечно). Оркестр больших художников — не ремесленников, равнодушно играющих 350 и машинально подчиняющихся дирижеру, а за движением дирижера идущих, вкладывая в организм целого кусочек, сотворенный всецело отдельным музыкантом, живущий его собственною жизнью, льющийся в данном им движении, [дыхании — зачеркнуто]. Театр не личности, а театр действия160. Я тоже это говорю вообще о всяком театре. Дальше. Нет партитур, но можно взять фрагменты из старых опер. Вычеркнуть все слова. Или пусть себе их поют, уничтожив смысл их, дав смысл музыке — вернее, выявляя только музыку. Я ясно вижу ту форму, которую начерчивает каждое движение в музыке — это не перестающее, двигающее, уводящее все время за собой — всегда видоизменяющееся. Движение тел, всей композиции должно не «литературность» дать, [2-3 слова вымараны] надо сделать музыку объемной. Воспринимаемой глазами. Весь Театр должен петь от зрелища. Восприятие от глаза должно быть однородно слуховому. Никакой изобразительности, никакой «либреттности».
Масса, движущаяся в композиции тел, иногда поющая в движении отдельные соло, может быть как завершение чего-то, а может быть как начало, брошенное только что движение и переливающаяся масса. Состояние — создать [я вижу, как оно] творится, наливаются движения нужным мне — [мною] художником [заданным] темпом [который] им дал ту силу или успокоение. Я хорошо это вижу.
Дальше. Партитура. Может, пока что можно взять часть симфонии какой-нибудь. Голосами дополнить для фрагмента. Это как проба. Безусловно, композиторы музык[и] найдут после этого нужную форму. Не будет их парализо[вы]вать установившаяся традиционная форма. Как хорошо слышу, как вдруг из двигающейся, плывущей массы, устремляющейся в медлительном потоке кверху, вырывается голос, дает взлет там, где тело не способно оторваться от земли. Или крутящиеся густые ползучие тела, шуршащим вздохом [1 слово вымарано] прибивающиеся к земле. Песнь, одна песнь беспрерывная, переливающаяся в тело, которое купается в музыке. Самоё все поет. Движение до конца, до последнего атома в театре — это правда. Не может быть брошено в большое движение мертвое неподвижное тело — это неправда.
Опять я больна, опять так страшно, что дети и мама могут остаться одни. Кто-то сказал, будто Ваца в Нью-Йорке умер. Какие все страшные вещи. «Если бы не слабость воли, человек не уступил бы ангелам, ни самой смерти»161. Мне нельзя умереть — не время. Опять мои мысли ходят вокруг нашей балетной партитуры162. Пока ее не будет, не будет моего искусства в том размере, как мечтаю. Надо канонизировать движения. Сделать октаву звуков — движений. Не отдельные движения записывать, а собрать в одно и дать ноту. Необходимо над этим работать. Нельзя, чтобы это ждало, когда я смогу с тихой головой посидеть.
Целый день физической работы. Некогда остаться одной с собой. Даже творю уже в установленное время. Я не жалуюсь, я хочу работать. Надо переменить темпы работы. Нельзя так больше, не [надо] торопиться. Чуть покою, взять все заботы, и я смогу что-то сделать. Моя школа в расцвете, все идет хорошо, уже все действуют — почему мне кажется, что ничего мною не сделано? Есть ряд композиций — отличает их абсолютная обособленность (не хочу сказать новая форма), знаю, пока я одна 351 только это могу и делаю, и не потому, что я одна — хорошо, есть завершение уже. Уже не форма, а движение рассказывает, уже движение начерчивает форму. Уже язык движения стал так понятен, и так много могу им рассказать. Почему все это кажется таким ничтожным, ненужным. Мои творческие провидения пугают меня. Я делаюсь дерзкой перед Богом. Мне уже мало вложить себя в Танец, в Театр. Мне мало выстроить Храм и остановить солнце над ним, чтобы прозрачные серебряные стены с сапфировыми глыбами, спаянные золотом, сияли всеми собранными только в нем, Храме, лучами. Мое творчество рвется от земли и создает миры. О, слабость воли человеческой. Дочь Бога — покорность моя, завяжи размах крыльев моих. Собери все [1 слово вымарано] движения бросаемые, развязываемые в мировом пространстве, верни к себе и положи в какую-нибудь ничтожную коробочку-формочку, — может быть, кроты прозреют, может быть, гной смоется с глаз земли, может быть, это существо — творчество сможет жить здесь и, вырываясь для каких-нибудь счастливых глаз сквозь стенки своей формочки наполнят золотыми нитями-движениями несчастную землю. Может быть, будут счастливые глаза, не страдающие кротиной близорукостью. Может быть, эта ничтожная серая коробочка сможет быть солнцем для темных электрических холодных гусениц.
А над всем светит Большое Настоящее Солнце, сотворенное Богом.
18 марта 1921 года.
Ваца умер. Это видно. Прочитала в журнале «Культура театра»163. Так написано, что верю. Больше не увижу Вацу — может быть, он очень ждал. Бедная мама. Она не должна знать. Но как ехать? Ехать надо.
Все, что хотела подарить Ваце, теперь должна сделать еще больше для него. Бедная Ромушка и Кирочка164. Все так ослепительно хорошо начиналось для нее, и [вот] такая трудная [жизнь], потом горе, сумасшествие. Так много жизнь отняла у нее. Может быть, я смогу ее утешить. Может быть, ей будет легче со мной. Надо быть с ними, но как сделать?
Тяжелое колесо все накручивается, сворачивает все ненужное, житейское. Все остальное, настоящее остается с нами. Надо не терять зрение. Ваца со мной. Хорошо, что Стась165 и Ваца уже вместе, оба в одних годах скончались, оба тоскуя без матери и сестры, вдали от них. Возможно ли это. Ваца живет. Он живет. Я сделаю все, чтобы он жил не только для меня.
Отец мой, дай мне здоровья, дай силы. Я ни на что не ропщу, любя меня, все так делает Бог. Страшно за своих малюток. Наступает моя очередь.
19 марта [1921 г.]
Надо научиться молчать и в то же время уметь действовать. Из стекла, как бы его ни шлифовать, как бы ни оправлять в драгоценный металл, оно не станет бриллиантом. Надо хорошо видеть и не подходить с одним требованием, а главное, ничего не переделывать. Нельзя ничего сотворить в другом человеке, можно сотворить только в себе. В себе собирать, очищать, растить, не удаляться ни на один миг в сторону, — в это время умирает Жизнь внутри меня.
Вечное стремление людей что-то сделать в другом — отвратительная филантропия. Тогда нельзя приготовлять дорогу — делать удобной для себя жизнь, забегая 352 вперед, не участвовать в настоящем. Потому что, когда мы вернемся, придется наново создавать себя, а там умрем, станет преградой, несчастьем. Видеть, знать эту светящуюся мышцу внутри себя, не покидать собой ее никогда, не смотреть никуда — [это] все детали, важно только темп, сила, свет Жизни — мышцы моей.
Тысячи движений от дыхания жизни, бросаемые в пространство, наполняют атмосферу вокруг меня, делают непроницаемый панцирь для всех несчастий. Эта атмосфера движений исчезает, как только нет подающей жизни — силы изнутри. Эти движения летят вперед, как иглы-стрелы, въедаются во все окружающее, получают мною сотворенную жизнь, живут мне родственным темпом. Я могу не оглядываться в стор[он]у, не заглядывать вперед. Вокруг меня могилы. Творческим Движением живет сотворенный гармонирующий мне Мир. [отвечающий — зачеркнуто] Он весь дополняет, помогает — сливается со мной. Нет несчастий. Не знать этого — губить жизнь, заниматься ханжеством.
_______
Подойти можно, [вернее], следует к тому, во что можно хотя бы частично перелиться. Все остальное отобьется, отскочит силой, бросаемой от меня. Не позволять камням, мусору отнимать, растрачивать хотя бы часть воли моей. Это расточительство.
Разнородные движения мои [1 слово вымарано] ищут, куда положить себя. Сохрани их в пространстве, но не дай умереть ни одному, попавшему в каменный мешок.
Редко кто может выдержать в целом все исходящие от меня темпы.
Движения. Некоторые стремления-движения от меня сливаются, если есть однородность, вернее, однотекучесть (густота).
Мой аппарат собирает Мировые движения — это его органическая возможность. Эти собранные Движения надо уметь выдерживать. Они дают рост мне. Нельзя такую силу бросать в мирскую жизнь — не все могут быть обладателями ее. Сила движений такого порядка убивает творческое соединение со мной и, выброшенная из меня, не найдя почвы, разбивается, измельчается — опошляется. Это не деспотизм, не демагогия — это высшая справедливость Мирового Равновесия.
Эта сила, перебрасываемая от Мира ко мне и дальше. Мое22* как линия, очерчивающая контур формы, в которой живут узором другие движения — жизни [продолжая — зачеркнуто]. [Хотя они живут] своим движением, своей жизнь[ю] — но вовлеченные [замкнутые — зачеркнуто], окутанные общим темпом не [нарушают] Мирового темпа.
Уклонение хотя бы чуть-чуть в сторону от правды [все] ломает, [все] скрещивается во встречных движениях, вызывает протест, нарушенные Законы, продолжает сотрясать, ломать, от каждого слома [возникает] еще удар для слома и следствие — Революция, стирающая все. Стихийное Мировое Движение. Стертые в порошок формы из Хаоса возрождаются в новую жизнь.
353 Все должно устремляться, не потерять своего темпа, данного мне природой, надо слышать хорошо общий темп.
Ба, ба, что-то я запуталась, тут надо хорошо еще думать. Позднее закончу.
_______
Оболочка материи, оболочка моего собственного тела, оболочка сферическая (может быть), дальше, наконец «Царствие небесное», только что, наконец, родившаяся Жизнь.
Все прежде бывшее постепенное развитие зародыша: кокон — гусеница — наконец, бабочка. Какая нелепость! Почему тогда производиться не в «Царст[вии] Небесн[ом]».
_______
Ну а если производитель Мировое Движение.
Тела, звучащие этим темпом (не целым, конечно, а одной тончайшей нитью) однородным, сливаются в одно в ребенке; ребенок, человек собирает, прикладывая к общей энергии круговое движение во всем.
_______
Высшая Творческая Энергия посылает от тела к телу свою энергию — каждое тело, вбирая эту Энергию, сотворяет себя, посылает уже могущее жить в [2 слова нрзб.] его атмосфере движение. Эти движения166 продолжают свой путь. В свою очередь, передают свои Движения другим Телам и т. д. Таким образом, заполняют маленькое пространство. Более сильный аппарат имеет большую силу бросания и качества самого Движения. Нет деспотизма Власти, но есть общая подчиненность Действию.
«Подчиненность» — Жизнь.
Бездействие — Смерть.
_______
Ничего одинакового, ничего повторяющегося, каждый раз иное для иных организаций. Это не уничтожает, не убивает — дает толчок к творческому Движению. Справедливости надо учиться у Мировой мудрости. Организованность!
_______
Вобрать, сотворить и всегда отдать. Нет собственности, потому нельзя наслаждаться содеянным, нельзя уходить от главного. Единственная моя собственность — мое Действие. Потеря этой собственности — потеря Жизни.
Для меня важна не точка, куда пришло движение. Я не могу быть созерцателем того, что сталось с моим движением. Когда оно стало организмом другого тела. Для меня важен рост движения, вернее, аппарат, подающий эти движения.
_______
21 марта [1921 г.]
Все внутри меня от моей Школы рассыпается. Школу, как она есть сейчас, надо уничтожить. Начну позднее опять, вероятно, но совсем с иной жизнь[ю]. Так нельзя, не могу больше притворяться, учить, будто создавать, когда все обречено на уничтожение. Если мне не дать собраться со своими сила[ми], оставить меня одну с собой, я постепенно разрушу сама себя.
_______
354 Вечер этого же дня. Хожу и мечусь. Где же все то, что знаю только законно? Почему разбрасываюсь, заполняю время и боюсь остаться с собой? Почему вдруг какая-то жуть появилась, почему боюсь завтрашнего дня?
Феодор.
22 марта [1921 г.]
Школу рассыпала167. [Все] сломалось.
23 марта [1921 г.]
Вот уже и нет Школы. Что же осталось мне? Мои собственные малютки и мама.
Страшно мне? Нет! Иначе нельзя. Непривычно больно, но это все пройдет. Хожу, и улицы, и воздух — все чужое, а может быть, новое. Пустота внутри: ни печалиться, ни радоваться не могу.
Нет смелости затанцевать на улице, а сейчас мне только это надо.
Если бы я могла пересилить эту непривычку так близко видеть людей, когда танцую!
И от окна подвала есть уже у меня танец. Колонны университета, там хорошо. Входы Михайловского монастыря168 — изумительно.
Моя восхитительная Андреевская церковь169! Как хорошо внутри тебя и вокруг.
Радость брызжет отовсюду. Будто мой собственный дом. Весь алтарь мой. Кругом церкви каменная панель, будто паркет салона… Так рвутся ноги танцевать на нем.
Кругом горизонт — алый и серый, и звездный — мой. Ничего не мешает мне дотрагиваться глазами до самого севера, видеть Петербург — Федора.
Федор получил, читал мое письмо или это еще не сделалось? Нужно ли это?
Как стыдно себя, когда так думаю.
Это свершилось, ушло. Было ему хорошо — радость.
Если он в недоумении пожал плечами — какое мне до этого дело. Я люблю его.
24 марта [1921 г.]
Валяюсь в кровати. Трудно встать — незачем. Через несколько дней Пасха. Надо что-нибудь сделать для мамы. Денег нет. Нужно достать.
Никакой обиды не чувствую и никого, кроме себя, не виню170. Только начать сначала не могу. Почему они все стонут не о том, что нужно. Упало солнце к их ногам, а они стали котлеты на нем жарить. Я еще беспокоилась, не обожгло ли их оно. Но они все очень хозяйственные. Вот так.
Слухами о Ваце мучат меня. Боятся, цацкаются со мной — только больно делают. Думают, не выдержать мне двух смертей171. Говорят, будто он жив и танцует в Париже. Не верю. Иногда только блеснет искра. Сейчас никого и ничего не осталось. Лучше не мучить себя надеждами.
Кажется, больна я очень, ни о чем думать не могу, ничего знать не хочу.
25 марта [1921 г.]
Самый обыкновенный сон, но от чего-то ужасного я проснулась, и после вся комната наполнялась ужасами.
355 Где-то на юге какой-то дом одноэтажный очень больших размеров. Может быть, это был театр. В нем очень много людей. Не видится, но чувствуется в нем сцена и концертный зал и где-то веранда-ресторан. Я хожу по узким коридорам и чего-то ищу. Мне говорят, что танцует Нижинский. Подхожу к одним из дверей, которых так много, у них много толпится народу и шуму. Стоит человек в костюме, он называется Нижинский, но совсем чужой. И я знаю, что он присвоил себе эту фамилию. Он хорошо меня знает. Подходит к роялю и начинает играть Шопена: «Правда, я играю совсем как Вы?» Но он совсем играет не так, как я люблю, а именно так, как не надо — «с переживаниями», пафосом. Передо мной он держит себя открыто, не притворяется, что он Нижинский.
Что-то мучительное накапливается внутри меня, невероятное беспокойство. Я выхожу на какой-то въезд. Большая широкая лестница (все деревянное, совсем новое, белое) сбоку большие выступы, очень высокие. Ряд каких-то не заборов, а очень высоких рам раскинуты на большое пространство. Вдруг толпа на мой выход начинает прибывать. Я знаю, что что-то случилось с Вацей. Толпа не может ко мне приблизиться. Я стою высоко! Кто-то отделяется, мужчина в белом бежит с распростертыми руками — он очень далеко — бег его почти падающий. Я не слышу слов крика — но все от него кричит каким-то неистовством о несчастии с Нижинским. Для меня это не неожиданность. Худшая жуть охватывает меня, толпа прибывает, какая-то ужасная вина передо мной владеет толпой — они где-то внизу и на расстоянии. Медленно опускаются на землю на колени. Вижу, голова мамы высовывается из-за косяка входа, загороженного ко мне. Ужас, что мама может понять и это убьет ее, скручивает меня. Мое тело делает петлю движением, невероятной силой выкидывается наверх, я вся гипнотизирую, завязываю с собой толпу и заставляю кричать радостное приветствие Вацлаву Нижинскому.
От этого напряжения просыпаюсь и вся дрожу от ощущения своей комнаты, будто вся она наполнена ужасами. Хочу пойти позвать кого-нибудь, но это еще страшнее. Один ужас реализуется. Это рыжий человек — соломой подстриженные волосы, глаза замазаны темной синей краской, и что самое ужасное — руки с[т]иснуты и ноги, все совсем мертвое, неподвижное.
Какой-то сон опять овладевает мной, и это, когда на миг просыпаюсь, дает облегчение, что то первое все ушло.
Но опять меня что-то преследует, меня арестовывают, какая-то женщина. Кандалы для меня приготовлены, но я умею объяснить ей, что на меня их рано одевать, что мне нужно сделать свои дела, а главное, что я невинна, потому спокойна и покоряюсь. Взяли меня вот за что. Ехала какая-то высокая коляска, в ней трое куда-то спешащих людей, а между верхом, накрывающим коляску, сложенным в складках, лежит и прячется какой-то отвратительный гримасничающий человек. Никто его не видит, но он был опасен, и когда я показала его, то коляску остановили, все люди оказались в чем-то виноватыми. Я остановилась около них, и они сейчас же завели разговоры о живописи. Тут я никак не могла уйти от них, хоть чувствовала в этом страшную опасность. Рассказывали мне о новой иконописи, о повторяющихся предметах, образующих радуги, и показали художника, которого все за это гонят. Будто это очень хорошо. Только мне совсем не нравилось. Тут пришли и меня взяли, но очень ласково. Дали кандалы, но я не надела их.
356 Все приходят, знать хотят, что всем делать дальше, а по-моему, они больше должны знать это, чем я. Они, если немного любят меня, должны видеть. Я же ничего не знаю, только то, что все ерунда, и ко всему у меня бесконечное равнодушие. Все срезано — голый пласт. Может быть, морозом обхватит, и я [нрзб.] и, может быть, новые свежие травки вырастут. Разве я знаю, что со мной сделается, что сотворится от всего этого? Перечла письмо к Федору отосланное, и какой-то жгучий стыд мучит меня. Зачем этот пафос. Но была весна, и я так чувствовала.
26 марта [1921 г.]
Всех успокаиваю, все время приходят. Хорошо владею спокойствием. К ночи [как] мешок — вытекла жизнь. Боже мой, какой мукой сжимается все мое существо и плачет.
27 [марта 1921 г.]
Пасха.
Совсем разбита. Больна. Пришло письмо от Нины. Как я ему бесконечно радуюсь. Днем так было. К вечеру в письме вижу что-то чужое будто у нее ко мне. Хотя все письмо полно заботы о нас. Или я очень больна, и к ночи всё, даже радости дня умирают. Как мне надо к Ваце и как страшно — я уверена, что с ним что-то случилось. Что буду делать там, совсем не знаю, но не могу сидеть в неизвестности.
2 апреля [1921 г.]
В газетах опровержение. Ваца жив, но безнадежно болен, находится в психиатрической лечебнице. До сумасшествия доведут всякими такими известиями. Я ничего не могу делать.
Мука за мукой бьет меня. Мои ученики уже ищут, куда «приложить себя», припрятывают, утешая, что все равно, что они получили от меня, останется при них. Я не могу, не хочу разговаривать с ними. Они поступят так, как я лишь намекну им. Но когда окрепнут силы их? Почему до сих пор не знают: ничего нельзя спрятать, отложить в сторону — оно погибает. Сохранять можно, растя, заставляя быть все время в действии. Думают, что можно положить драгоценности в шкатулку и спрятать. Когда понадобятся — вынут. Несчастная обывательская логика! Разве стоит останавливать? Жизнь отметает мусор.
_______
В моем больном мозгу сейчас еще мелькает, намекает. Бред мой это или уже творческое рождение накапливает свои силы.
Куда я лечу? Все виденное как донесу, положу на землю? Я мучительно устала. Я жду, что восторг перед неожиданным видением выбрызнет фонтан творческих сил.
Но пока я вижу все яснее и яснее то, что я очень хорошо знаю, что мне очень близко, просто — слишком просто. Тем необходимее выстаивать — сотворить. Моя напряженность ждет выдоха — чтобы сотворить, надо еще больше сжаться и броситься в глубины — оттуда поднять. Это будет.
357 Театр — что с ним делать! Сделать искусством — живым — такое большое пространство — я подняла все действие с пола на вертикаль. Дальше эту стену я заставила жить («Мефисто»), заставила танцевать плоскости172. Теперь надо саму раму театра взять как поле зрения — создать такую жизнь внутри, чтобы эта рама плясала, представлялась уносящейся ввысь, в сторону, чтобы можно было [делать] головокружительные полеты со всем зданием, стоя на земле. Сотворить это и этим унести и в глубину и т. д.
Разбудить эти дремлющие сердца, разбить этот съедающий покой — уничтожить театр, который разглядывают, как ковер173, по которому ходят пестрые букашки (это в лучшем случае).
Мое сердце рвется на это чудо, мои мозги мучительно напрягаются, чтобы запечатлеть ту машину, которую сотворила моя фантазия. Я хорошо вижу все на своих местах, все в действии. Я продолжаю творить в кулисах, на колосниках, в фонарях. Мой мозг слаб, чтобы знать, как это делать, ноги помнят каждый винтик.
5 [апреля23* 1921 г.]
Что-то выясняется, что-то намечается. Чем сильнее, тем жутче. Опять крестовую жизнь надо начать сначала.
Ничему никогда «учить» не буду. Это распылять себя. Все надо восстанавливать, реализовать. Нельзя творческие моменты разбрасывать, рассыпать. Надо все собирать и ставить. Хотя бы от маленькой коробки, сделанной, поставленной больше оправдания, чем от насильно втискиваемых моих творческих сил в других!
Школы нельзя делать мне. Она сама создастся около меня. Ученики больше воспринимают, участвуя в работе, а все «науки» для отдаленной цели (мне близкой, но им непонятной) пропадают, какое бы усилие ученики ни давали — они не могут видеть — тянуться. Ближе пододвинуть надо.
7 апреля [1921 г.]
Ужасное утро. Иду на комиссию. Вернее, ужасные две последние ночи. Трудно жить. Страшно начинающихся дней. Мука потери школы. Уже готовятся на спекуляцию174. Скрывают от меня. [Сами понесут на площадь — зачеркнуто]. Я уничтожу в себе всю духовность — этого не должно быть, это дает такую ужасную муку. Нельзя сделать человека — нельзя сделать и творца. У стариков-мастеров была, очевидно, большая правда — истина. Мы еще наивны. Потому так живем. Все ошибки сделают то, что нужно.
Ужасно только болит. Но надо рвать. Все сотворенное в другом, крепкими венами, по которым перетекла моя кровь в них, спаяла меня. Порванные нити истекают кровью. Мне надо рвать их.
Анемия угрожает мне, оставить так дальше тоже нельзя. Моя кровь не помещается в сосуды — не перерабатывается — загнивает в них. Надо рвать, чтобы самой не захворать гангреной и им дать жить по-маленькому, как они умеют. Теперь рваные жилы мои кровоточат.
358 Все силы напрячь, чтобы не истечь — остаться жить.
14 апреля [1921 г.]
Четверг.
Безумная раздражительность мучит меня. Опять болезнь расползается по мне. Опять не умею остановить больную тоску — заполнить пустоту в себе. Сегодня 10 лет Ф[едору]175.
17 апреля [1921 г.]
Как давно все это было. Все, что делала, — ночь — прошлое. Я опять рожденная, растерянная, нетвердая. Еще руки не умеют взять, мозг не думает, только круглые глаза смотрят. Я еще ничего не знаю — но я знаю, что впереди. Я сильна — могуча. Сейчас мне надо только «пастись», набраться здоровья, силы, собрать мозги, научиться ходить. Я все сейчас разучилась делать, я ничего не умею, ничего не понимаю. Мне 30 лет, но я ребенок — младенец.
В мозгу ничего не складывается — есть желание ходить, но нет желания еще попробовать ходить. Мне все непонятно. То, что еще вчера было так просто, ясно, сегодня ушло. Круглые глаза мои все расширяются — не умею даже напрячь мозг — его я не чувствую у себя — чтобы что-то разгадать. Мне очень неловко, когда я с людьми. Я притворяюсь прежней, говорю «умные» фразы из прежней моей жизни, бессовестно обманываю, скрываю, что ничего не понимаю, не умею. Все мне кажутся такими большими, взрослыми — чужими. Я с другого Мира, другой [жизни] — [для меня здесь] все старики. Младенец вырастет. Он будет сильный! Если недоумение и все растущее непонимание не заморозит его.
Как долго я буду завернута в пеленки? Жизнь быстро разворачивает меня. Мне некогда. Нет рук, держащих меня. Я сама родилась, сама питаюсь — надо творить Жизнь. Что надо? Знать, что надо? Как можно это знать? Всегда все иное, ничего не повторяющееся. Все в кусочки рассыпалось. Этого и складывать не надо! Все сотворится, поставится наново! С самого основания.
Моя игрушка, Театр, не может положиться в прежнюю коробочку. Деревья, цветы, солнце, все другое… Я даже не помню, какими они были. Что же, они все слепые или притворяются?
Старые кости варят, заправляют молодым луком, разъедающим перцем.
Такое блюдо хорошо выглядит, взять на язык остро, соус прекрасный.
Ничего не проглотит никто, зубы поломают или выплюнут. Желудок стонать будет, во рту, правда, останется приятность.
Бесконечно бездарно.
А все человеки от искусства — бездарные лакеи. Были лакеями и остались лакеями. Это взрослые. Дети плачут, получают подзатыльники, бьют их, только они еще сильнее от этого кричат.
Я не позволю научить меня смотреть так, как видят они, я не лягу под штамп. Я Божьей волей — Божьими глазами вижу жизнь.
Мне хорошо беседовать с Богом — удивительные уроки дает мне, картинки показывает, глаза мои круглятся, голова горит, руки протягиваются, нервно бегают. [Боюсь] сложить подобье волнению моему. Но я еще ребенок, мне надо расти.
359 19 апреля [1921 г.]
Вторник.
Сегодня я не уехала176 — слышу, что едет Эстезия сюда. Волнение охватывает столь сильное, что я теряю силы.
Я знаю, что не может быть никакого письма ко мне177, знаю, что может быть, она его [Федора] даже не видела, но одно подтверждение от нее факта — он читал мое письмо.
Когда кто-нибудь приходит из ее дома, когда представляется возможность ее увидеть, безумно радует, до потери сил, обморока. Ноги слабеют.
Когда сейчас я думаю о встрече с ним, об этой возможности в будущем, я теряю сознание. Думаю, сейчас у меня не хватило бы сил перенести такую радость — я падаю.
Я еще раз, последний раз бегу от него — еще мои драгоценности не созрели для дара. Какая могучая струя выбьется из меня! Омоет небеса, золотым ковром ляжет у ног его! Серебряным сиянием буду стоять на нем, синим, изумрудным пламенем буду смотреть на него…
_______
Сегодня утром и эта тетрадь казалась мне чужой — прошлой. Эта тетрадь сделалась не я — что-то приторно-сладкое. Я совсем иная или я сделалась другой. Как надо, что надо… Прийти должно.
_______
Тут, может быть, кончится часть первая моя.
13 мая [1921 г.]
Варшава.
Как сказка! Не понимаю, не верю…178
Как это случилось и откуда я взяла силы.
До сих пор еще дрожу. Все мне кажется, что кто-то гонится за мной.
Вацлав болен, даже говорят, умер (по русским источникам). Он жив, я знаю. Неужели безнадежно болен? Как больно, как падают силы. Я еще надеюсь, что он здоров. Когда я буду около него? Я еще в пути. Нину увижу?
Как тоскую за учениками моими! Бедные, что они там делают! Как рвутся быть со мной! Бедные дорогие дети!
Неужели весь этот тяжкий путь сделала уже я? Это не сон? Я перешла границу. Я за границей — дома.
И это рабство кончилось…
Нина, как хочу тебя видеть!
Ваца, как хочу, чтобы ты был здоров!
Как хочу успокоить Рому.
_______
Опять я начну строить чью-то жизнь. Это можно?
Нет только здоровья Вацы!
360 15 мая [1921 г.]
От Вацы и Ромы телеграмма179. Ваца жив и здоров. Какое счастье.
Я так устала, что ясно еще не понимаю всего, что со мной делается. Мне кажется сном Варшава. Сном — телеграмма Вацы.
Эти три недели пути не прошли мне даром. Я не могу отделаться от страха — мне все кажется, что кто-то меня преследует.
Эта ужасная ночь, когда мы должны были переправиться через границу и когда на самой границе нас хотели арестовать (не смогли перейти), надо было возвращаться с Левушкой на руках. Следующий день, когда Чека разыскивала артистов, и опять мы шли несколько верст почти без надежды. Помню, с какой радостью бросилась я в реку, переправляясь [1 слово вымарано] в Польшу, как дрожала, когда мама осталась на другой стороне, не понимая ее страху перейти через воду. Две недели до перехода через границу, когда каждую минуту мне казалось, что меня должны арестовать, что за мной вслед посланы чекисты. Как я боялась выйти из теплушки, детям крикнуть… Ужас. Ужас.
Не в порядке и то, что пережила, не смогу рассказать, у меня нет сил.
Ваца мой дорогой, Ваца здоров. Как хорошо! Скорей быть с ним, или опять начнутся какие-нибудь муки? Наверное.
19 мая [1921 г.]
Бывают короткие встречи. [1 слово вымарано.] Тоска мучит, как об отнятой моей игрушке. Почему — игрушка не моя — смотрю и жду вдаль. Зачем же это. Или воспоминания приняты мною за сегодня. Или мука непонятая, меня не дотрагивающая, может вползать в меня?
_______
Как случилось, что не читала до сих пор «Песни Билитис»180? Как случилось, что их не знала? Обнаженная правда! Прекрасная. Улетает гнилая мерзость разврата…
Как волнует эта трагедия — не разорванной любви, а самой любви. [1 строка вымарана.] Как смеется жизнь! [2-3 слова вымараны.]
Безоглядность.
Какой аромат веет из веков. Ничто не уничтожает восторга, никакие накопленные привычки и понятия веков. Какая творческая сила!
Века сброшены — я совсем рядом, аромат «Острова»181 кружит мне голову. С широко раскрытыми глазами наяву я ступаю по изумрудной траве.
[1 слово вымарано.]
21 мая 1921 г.
Суббота.
Потребность творчества разливается по всем моим жилам. Но я на бездорожье — в дороге. Творческая беременность тяжелит, мутит. Рвоту вызывают все прежние вкусные блюда — мои «Эскизы»182. Хочу видеть Дягилева, для меня он — девятый месяц. Может стать повивальной бабкой моего творчества183. Может быть, стать отцом моего творческого ребенка.
361 Или суждено родиться Божественному? Богом — Отцом посланное, Святым Духом мне возвещенное, моими одними любящими руками положить в ясли Жизни.
_______
Я совсем одичала и не умею обращаться с Европой! Мои угловатые тяжелые манеры варвара смущаются и ежатся. Тухнет свет первобытного костра — фонари, лощеные сверкающие паркеты — конфузят мою сине-черную [1 слово вымарано] звездную юбку, мою обожженную поцелуями солнца кожу. [Я умеряю свой живой алый огонь — зачеркнуто.] Я моюсь в серебряном свете, но холод мертвого огня не тушит медной алой мощи, и варвар вырастает над городом, весь алый пляшет на лунах города под оглушительный оркестр треска скрипок, взрывы [1 слово вымарано] пузырей под огненными пятками гиганта.
[Все бриллианты сброшены, краски стерты, обнажающий туалет сменен черным бельем. Расправилась красавица, раскинулась на свет, соблазняет летающие мечты творчества контрастно блестящим алебастром тела. Тончайшие кружева — сплетаю тени садов. — Зачеркнуто.]
2 июня [1921 г.]
Я в Вене. Ваца очень болен184. Но как он счастлив. Ни меня, ни маму не узнает — говорит что-то чужое. Но как смеются его глаза, и как он счастлив. Весь он ушел в подсознательный мир и, быть может, забыл, потерял технику складывать фабрикованные слова и фразы, но все изнутри, я вижу, радуется на нас.
Я не знаю, будет ли он здоров, — но все, что есть в нем сейчас, и как случилось все это, мне совсем ясно. Я знаю хорошо, как он ушел слишком далеко в свои видения и забыл дорогу назад — не щупал своих мышц, не смотрел, есть ли у него на это силы. Сейчас он счастлив. Я знаю, что верну его жизни! Может быть, отниму от него колоссальнейшее счастье при жизни не знать о земле. Землю заставлю всегда помнить его. Всю его работу докончу. Что могу, расширю. Свое начну опять как продолжение того же искусства, которое создал в этом веке Вацлав. Вацлав должен будет радоваться, где бы он ни был, на земле или в небесах. Все, что я делаю, достойно Большого Искусства — сейчас будет больше, лучше.
_______
Сама я не могу еще прийти в сознание. Вероятно, реакция. То большое счастье, которое ожидала столько лет, если вдруг окажусь [опять здесь и [нрзб.] — когда прежнее — зачеркнуто] в Вене и дальше, сейчас ушло, я ничего не чувствую. Для меня все безразлично — я бесчувственна.
У меня ничего не болит, даже воспоминание Школы, друзей. Даже Нине писать не могу. Город, улицы, [которые] я очень люблю, — для меня все мертво. Здесь быть нельзя, надо ехать в Америку, там начинать. Смогу ли? Не знаю. Что-нибудь делать не хочу. Очень хочу.
Мне показывали тетрадь Вацы185 как тетрадь больного, но она слишком здорова. Может быть, и мою тетрадь будут читать как бред?
362 6 июня [1921 г.]
Понедельник.
Еще что-то сломалось. Еще раз осталась совсем одна. Взять имя Вацы — хорошо знакомую марку! Высокостоящую! Под флагом зарабатывать деньги. Продолжать имя Вацы. Но я артист-художник — не поденщик. Если продолжаю чистое искусство — творчество — делаю, что любил Ваца — чем он был сам186. Разве ма… [недописано].
Вторник.
Договорились. Ясно, [что] с Ромолой — по крайней мере сейчас — ничего делать нельзя. Все сломано, исковеркано. Бедная, глубоко несчастная женщина. Никакой радости в жизни не видела. Во мне сразу ищет тоже врага. Боязнь за будущее детей заставляет выдумывать ее невероятные вещи. Еще остался «один капитал» — «это имя Вацлава Нижинского»187. Возможно с ним делать спекуляцию. Мою помощь, мой долг перед братом и его детьми отвергает. Боязнь, что я лишу свободы, и тут же хотят меня лишить свободы, [хотят] чтобы я работала под маркой Нижинского, так как на это «побежит много учениц». Господи, Отец мой, что за брак был у Вацлава! Вацлав, я знаю, тиран, деспот с большим добрым сердцем. Ромола совсем другой организации. Вацлав хотел только искусства. Для него работал. Надо было искать для детей.
В какую ужасную муку превратил жизнь Ромы!188
Как бесконечно мучился, не понятый ни в чем. — Надо [недописано]
_______
Сейчас я здесь — зачем? Совсем лишняя — совсем не вижу, как могу спасти эту женщину от всего омерзения на жизнь и людей. Я хочу работать для детей Вацы и для него — мне не дают этого права. Я сделаю много. Сейчас какая-то противная густота внутри — глаза не хотят смотреть на мир.
Здесь никого нет, кто немного знает меня. Хорошо начать все сначала. Так лучше.
_______
Родная Нина, если б ты только знала, какое глубокое горе зарылось в меня. Да, да, я не права. Сейчас, если надо, надо отдать последнее. Это последнее — мое искусство — это все, что я имею, что так безумно хотела подарить Федору: обрадовать его глаза, видеть его улыбку. Как я плачу сейчас, стоя у этой могилы. Нет, никогда я не хотела быть ни «знаменитостью», ни «признанной». Ты знаешь это лучше других. Но все что имела — творческую силу — было рождено любовью к Федору. Мое искусство имело такое знакомое, дорогое мне лицо. Как совсем иначе знаю его, так совсем иначе смотрело творчество мое.
Все меняется на деньги — они дают «благополучие». Мне они никогда не нужны были — я не выменивала на них моего искусства. Почему тебя нет сейчас около меня, Нина! Какое все чужое. Никакое горе не вязло так мерзко во мне, и никогда так больно не капали слезы мои. Никогда больше творчество мое не выбрызнется фонтаном, не вымоет синего свода и не ляжет золотым ковром у ног Федора, и 363 мои глаза не будут пылать сине-изумрудным восторгом в ответ на его радостную улыбку.
[Мое тело кажется мне — зачеркнуто.]
9 июня [1921 г.]
Четверг.
Вся я затянута в чужую перчатку — тело мое кажется мне неуклюжим, и, может быть, уже больше я ничего не могу? Пальцы рук моих вяло свешены, и я не слышу [1 слово вымарано] пения рук своих. Или, может быть, совсем тихо, печально плачут они — испуганно сжаты, боятся движения.
_______
Надо напрячь себя и сделать свою книгу с системой189 — сейчас время. Если не сделаю сейчас, не сделаю никогда. Не надо никому ничего рассказывать — надо работать. Дети мешают работать. Это можно всегда устроить. [1 слово вымарано.] Мне кажется, что я могла бы рассказать много нужного и от внутренней жизни артиста.
10 июня [1921 г.]
Сегодня я радуюсь — письмо от Нины. Милая Нина все та же — дорогая. Совсем не знаю, что буду делать, если Нина не приедет, думаю, не сумею обрести силы начать работу — ничего не понимаю. Я больна, устала, Рома тоже больна и устала, какие у нас дела могут быть.
14 июня [1921 г.]
Так просто всегда жила, так просто всегда поступала и все вокруг меня не смело иначе быть со мной.
Здесь будто родные, но какие чужие! Начинаю понимать — со мной играют, может быть, издеваются, испытывают мое терпение. Может быть, я около слишком замученных властью, может, и теперь на мне пробуют обратные удары.
Но я совсем не замечала этого, и вот сегодня ясно, что-то так.
Бедные люди.
Нет дела у них никакого, нет жизни другой — занимаются пустяками. Я думаю, как должно [быть] тяжело жить им и противно. Для меня это так ново, так неожиданно, что голова у меня кружится и мучит меня это. Больно.
Давно ушла от всякой интриги — это убивает Жизнь. Что ж, теперь тоже уйду — чего бы мне это ни стоило. Я умею быть крепкой и не крикнуть на удар. Удар откидывается сам обратно.
_______
Милая, милая Нина.
_______
15 июня [1921 г.]
Итак, я остаюсь одна. С Ромой ничего не будет. Она не хочет — говорит, потеряла экстаз. Нужно начинать одной, это страшно, но хорошо. Так хорошо, много 364 лучше — подчиниться и быть поденщиком я не могу, и если она это поняла — тоже хорошо. Мне стыдно того состояния, в котором я сейчас живу. Мне кажется, что я вся одета в чуждую мне кожу, до такой степени меня не знают, не понимают, приписывают чужую мне жизнь. Это гипнотизирует, не дает свободно дышать — делает какую-то ужасную неловкость.
16 июня [1921 г.]
Вчера мы с Ромой много говорили. Трудно мне, не знаю языка. Она очень сильно воспринимает все — человек нового порядка. Любить Вацу — любит.
18 июня [1921 г.]
Любящие души где-то вдали. Знаю, как плачут, не зная, что со мной. Любящие души знают меня, тоскуют, что не могут заглянуть в глаза. Они видят каждый сотворенный момент, и кажется мне тогда, что не зря живу — веселюсь их радостью.
Здесь всем чужая, ими сделанная под каждодневную вéнку, под женщину-артистку, собирающуюся взять что-то от жизни и ограбить каждого находящегося вблизи. О, как душно-липко-мерзко.
Если б могла сейчас танцевать — творить — вылить все, что внутри меня. От безысходности написала костюм полишинеля и радуюсь ему — сделаю танец. Он мне совсем не нужен — чуждо мне кого-нибудь изображать, но кто-то обрадуется, может быть, на пляс этот.
Друзья мои близкие молчат. Нина не пишет, может оставаться спокойной, зная, что я не радуюсь. Радуюсь много ее письмам — разве она этого не знает. Все уходит, все вдали — всем я чужая, совсем одна. Одни ребятки жмутся ко мне и ждут счастья от меня.
Левушка болен — не могу позвать доктора — денег нет. Надоело спрашивать. Так привыкла сама чувствовать все что кому надо, так непонятно все вокруг. Может быть, и Ваца ничего не понимал. Может быть, и его эта Европа задушила. Закрытые ящики с ключиками — не люди.
Искусства нет кругом, и ни по каким причинам оно им не нужно190. Хрюкают около корыта — в кабаре, кафе, за чаем дома, рассуждая об несуществующих интригах, туалетах, любовниках. Фонари не горят ярко, шум улиц не заглушает. Семейства без семьи чинно сидят рядом с кокотками в кафе. Кафе и кокотки, все вокруг бездарны и нет пульса [большого — зачеркнуто] Города.
_______
Получила сразу два письма от Нины. Огорчилась. Не тем, что не может приехать, а чем-то чужим, что есть в письме. Все миражи, миражи. Счастье это всегда правда от нее и правда, что нельзя притыкаться к чему-нибудь, к кому-нибудь. Но не так думала, не этого хотела… Все одно и то же. Еще раз тихо плачет внутри что-то потерянное, [обманутое — зачеркнуто], мною созданное и ушедшее.
Что делать с жизнью?
Издеваться над ней? Смеяться и плакать, радоваться всему, не разбираясь, настоящее это или миражное?
Но я-то так не могу.
365 21 июня [1921 г.]
Плохо мне. Ночи страшны — мозг горит — мешается что-то в голове. Страшно. Может, болезнь Вацы плывет ко мне. Припадки бешенства с детьми до слез конфузят меня.
22 июня [1921 г.]
Как можно скорее сделать — устроить свои дела — жить совсем самостоятельной жизнью. Бешенство овладевает мною — все истории с деньгами, сделают меня более свободной — все дальше и дальше ухожу, когда вижу отсутствие аристократизма. Ничто не уничтожает у меня так сильно чувства к другому человеку, как гадкая манера дать деньги.
Вторник.
Вчера все разорвалось окончательно с Ромой191.
Я с ребятами и мамой, с некоторыми долгами осталась без ничего совсем, всем чужой. Для работы не сезон. Бог милостив, предстоят муки, их, может быть, много будет, но все проходит.
Один Отец Бог опекает нас сейчас.
30 июня [1921 г.]
Начинается ужас. Денег нет совсем, и дали счет на 25 000 крон. Откуда я их могу взять? Разве устроится какой-нибудь ангажемент и дадут вперед денег. Сегодня ходила продавать свои оставшиеся любимые маленькие вещи. Крупное давно все продано. Иконки, памятные колечки и т. д., мамы есть вещи. Дико неприятно это делать. Получила 6 000 крон, они ничего не устраивают.
Сегодня получила маленькое Нинино письмо. В нескольких строчках вижу, как много заботы обо мне. Легче переносить всю эту мерзость.
Бедные мои детишки, бедная мама, как-то стыдно перед ними за свою сейчас беспомощность.
Надо что-то предпринимать, но что могу сделать — не знаю языка, никого здесь нет близкого, близкие стали враги.
Откуда-то должна прийти помощь, верю этому.
Бог никогда не оставляет нас.
3 июля [1921 г.]
Вчера получила телеграмму от Дягилева — могу у него начать работу с 15 сентября. Надо бы поехать к нему переговорить в Венецию. Вчера подписала контракт к Moulin Rouge192 — до 15 сентября за 180 000 крон. Могу теперь быть спокойной — дети и мама получат все. Маму вчера взяла из санатории домой193. Радовалась и радуюсь телеграмме Дягилева. Счастлива, что там буду работать, — знаю, что очень тяжело будет — много будет скверного.
Контракт в кабаре.
Ничего. Все равно, где быть профессионалом. Сидит ли публика в театре и притворяется, что глотает «искусство», или оторвать немца от котлеты, заставить перестать жевать, восхититься мною около пьяной публики. Это не так скучно, можно занятные 366 вещи придумать. Что-то перевернулось во мне, новый путь ведет меня — жалко прошлого, тяжелого, громадного, страшного, темного и кровавого. Жидко, нудно, пошло, развратно, ватно, ноздревато, как губка, болотом, жидкой мерзостью пропитано — одуряет.
Мешает.
_______
Много пишу красками, отвожу душу. Танцевать необходимо — как дышать. Углы улиц, асфальт соблазняет в потемках ночи танцы кабака танцевать.
7 июля [1921 г.]
Бары и кафе и венские вальсы — нудно. Хочется Париж почувствовать.
11 июля [1921 г.]
Что сделалось со мной? Какой-то бездарный мешок. Мне трудно о чем-нибудь думать, я ничего не хочу, у меня нет ни к чему силы — четыре дня хожу с мучающими меня чувствами и не могу написать ничего, что хочу, Нине.
Усталость нескольких лет, может быть, вылезает из меня или же я тону в этой грязной луже. Утром механически бездарно, немного работаю, целый день и вечер сижу в кафе-баре, ничего нет в моих чувствах, ни от чего нет толчка. Сплю или загниваю? Боюсь всего этого. Нина скорей бы приехала.
_______
Может быть, меня кто-нибудь гипнотизирует, никогда ничего подобного со мной не было. Мозги мои и воля лежат где-то на дне моря, совсем безнадежно делать усилие вырваться из этой гнетущей тяжести, атрофирующей всю, какой я была раньше. Утрами мое тело болит, будто кто-то всю ночь мучил меня, будто тяжести носила на себе. Я не могу поднять руки, не знаю, как положить голову на подушку.
13 июля [1921 г.]
Если мне кто-нибудь своей мыслью не поможет оправдать всю мерзость, [1 строка вымарана] не поможет выпрыгнуть, я покончу с собой. Всю мерзость-неправду ощущаю так резко — я вся себе противна, потому что я тоже неправда, мерзость. Может быть, еще хуже в самую глубь потока попаду, я знаю, так будет, если Нина не приедет, не встряхнет мою волю, не выбросит меня на берег. Вижу, что будет, — будет очень скверно, нет воли, силы самой что-нибудь сделать. Какая жуть закутывает меня… Ведь я сейчас ничего не делаю, не говорю настоящего — вижу эту ужасающую мерзость. Внешне все мило — внутри…
Мозги коченеют — столбняк мозговой.
Всю волю дать на то, чтобы быть рядом, прибыть и чувствовать — пустоту. Мое кусками вырывается. Мое миражом оказывается.
Мое — пустота.
Мое — игрушка в чужих руках. Все что, я думаю, мое органическое — это руки других организмов, играющих в мое.
Я тону в омерзении к самой себе.
Ненужность.
367 16 июля [1921 г.]
Разве вы не видите, что солнце стало черным [тяжелым — зачеркнуто] куском, что синее светлое небо замазано углем, разве вы видите золотые лучи солнца? Черные слезы черного солнца купают землю. Разве есть легкие скользящие объятия, разве не чувствуете, как судорога сжимает Мир?
Черные разделяющие занавес [2 слова вымараны] падают на два трепещущих куска. Весь Мир покрыт этими Черными Камнями. Ветры Черными Вуалями разнообразят каменную черноту.
Сверлящие души прогрызли старые мешки радости, [упало — зачеркнуто] рассыпалось серебро, сапфиры в этом леденящем, абсолютно черном холодном подвале.
_______
Эти серебряные брызги [миражами — зачеркнуто] [как] миражи станций мелькают в глазах, [нрзб.] несущихся черных масс, создают иллюзию возможности [покинуть — зачеркнуто] выбросить себя из бесцельно ветром несущего потока. Чернота делает росчерк в душе моей.
23 июля [1921 г.]
Суббота.
Страшно жить. Никого нет кругом. Еще страшнее, чем в России194. Там были надежды, тут все порвано — совсем некому протянуть руки и уж поистине никому нет дела до нас. Со мной мама и двое ребят, и я отвечаю за их благополучие — первый раз чувствую, как это неестественно и как совсем нет у меня силы на это.
Такая тоска мучит — потому что хочу дать им все.
Сейчас еще страшнее захворать, еще страшнее вся жизнь, чем в России. Где все так, как я сейчас здесь, все разделяют одну участь, моя доля многим была лучше иных.
Куда-то гонит человека вперед — впереди ничего нету — человек «разоряется» от убегания — мышцы воли вырабатываются. Но и бег делается стремительнее — так всегда.
25 июля [1921 г.]
Понедельник.
Сумасшедшим огнем горит голова. Руки стыдящим зудом наполнены. Каждый тоже страдает этим стыдом. Жизнь учит жить. Никогда нельзя быть собой, делать что хочешь, можешь: мерзость заползет, отравит жизнь. Когда я научусь знать, что я Бог195, что кругом черви. Все еще говорю, действую, как с собой равными. Черви расхищают, съедают тело мое — какое безумное смердение. Мне не вынести этого.
26 июля [1921 г.]
Все продано, все авансы взяты: до спектакля еще неделя, денег нет. Как это будет завтра? Оказывается, что деньги — это очень важная вещь для самочувствия. Хоть бы уроки какие-нибудь найти — моего жалованья может не хватить. Что буду делать дальше? Бог поможет с этим устроиться. [1 строка вымарана.]
368 Нина моя единственно близкая родня196 — скоро увижу тебя! Затем, чтобы опять ты уехала. Как люблю тебя, как радуют твои письма, как ищу ласки в них, как дорог листочек от тебя, переданный мне, — эта маленькая страничка, которую держала ты в руках, в своих пальцах, ищу губами, чтобы чуть-чуть быть ближе к тебе.
Искать ничего не могу, ничего мне не надо — быть с тобой. Если нужно тебе уйти для твоего счастья, просто для покоя, я отдам тебя принцу, твоим родителям, если тебе там лучше. Тебе надо сделать другое. Почему ты где-то прячешься, когда ты единственная, почему ты не берешь свое кругом.
Мои милые синие глаза, мой любимый мозг… Почему это неестественно людям? Почему нам нельзя быть всегда вместе, почему [не радуются — зачеркнуто] близкие не будут радоваться на нас. [1 слово вымарано.] Надо будет делать равнодушное лицо, устраивать [1 строка вымарана].
Люди не любят, входят в коммерческую сделку. Это показывается официально. Все довольны.
Почему не радуются всякой любви, всякому малейшему счастью.
Какое мне дело до людей, я их так органически всех не переношу. На хорошем расстоянии мне с ними хорошо бывает иногда. Чем ближе подходят, тем большее омерзение охватывает меня — от всех «баб» и «мужиков». [1 строка вымарана.] Я чувствую, что стоит еще жить, [хотя] все каменно, тяжко, ничто не улыбается, мучит.
[1 строка вымарана.]
28 июля [1921 г.]
Трудно представить, как жить дальше. Никого нет у, около меня, я совсем одна. Будто в пустом пространстве вишу. Нет почвы. Но что же делать? Может быть, это сделается, что опять около меня будет моя Мастерская, все то, что я люблю.
Дягилев молчит. Ничего не пишет. Буду ли у него зиму — боюсь, что нет. Ничего знать вперед нельзя. Я уже боюсь всего, что ждет меня впереди. Бог милостив — всегда заботится о нас.
Мечтала, что смогу начать что-нибудь делать из своих композиций у Дягилева, но он действительно стал бабушкой197: взял Романова198 и Смирнову199. Что все это будет — опять Фокин200? Странно, глупо все на свете устроено.
Ужасающая давящая тяжесть — безумно страшно.
Сегодня еще [2 строки вымараны]. Неужели и эта единственная радость отнимается у меня? [Нину не увижу — вымарано] Надо не падать духом все же и начинать работать. Может быть, найти помещение здесь, в Вене, открыть Мастерскую201. Оттуда вытечет все что надо. Но на все нужны деньги, а их нет. В этом несчастье.
Если бы не мои ребятки и мама, право, не стоило бы жить на этой круглой земле, рядом со всей этой мерзостью.
Мой Отец, как случилось, что забыла в эти дни о Тебе! Не пришла под Твою ласковую руку. К Тебе, который дал мне таких прекрасных деток, к Тебе, который не оставлял нас в голодной России, в России затекающей кровью.
Сколько раз я забывала обо всем. Счастье сияло в мире. Я видела и чувствовала Тебя.
Сейчас, Отец, сохрани нас, если есть на это Твоя воля.
_______
369 Вечер. Я жду, что Отец сделает мне подарок. Я чувствую его заботу. Я счастлива — хожу и радуюсь. Будет хорошо. От Тэссы202 узнала, что с уроками ничего не вышло. Все это ничего, будет хорошо. Я это знаю, хотя на завтра и не имею ни одной кроны.
31 [июля 1921 г.]
Завтра начинаю танцевать в кабаре. За что мне будут платить там деньги? Я туда лезу с искусством. Разве это там нужно? Есть светлая точечка радости — Нина приедет. Чувствую, как стеклянный колпак радости накрывает меня — туда ничего не проникает.
31 [июля 1921 г.]
Почему Дягилев ничего не пишет? Сейчас мне очень хочется к нему в труппу. Хотя знаю, что это соглашательство.
Рома уехала. Тэсса тоже. Бедный Вацунел в этом каменном мешке.
2 августа [1921 г.]
Второй день уже танцую. Вчера много публики, много шуму, успеха, цветы — пьяная голова. Всю ночь не спала. Сегодня весь день сердце прыгало, сжималось. Я танцую для этой публики, омерзение. Я так люблю свои «Половецкие пляски»203. Скоты. Детям даю есть. Надо радоваться, что могу заработать — все равно как. Трясусь, что так может продолжаться дольше. Иду домой, открываю двери. Может быть, Нина приехала. Никого нет.
Что я бы дала, чтобы ты была сейчас здесь.
Эти муки никто не знает. Это кабаре, [которое] будет еще мне ставиться в преступление, для меня это высочайшее геройство. Пот выступает от всех омерзительных чувств. Вся наполнена ими. Ничего не могу оправдать ни в себе, ни в других. Так душно, такая петля давит. Если бы имела право, сама перерезала эту жизнь.
Удивительно ненужно прожила жизнь. Ничего не оставляю после себя. Одно горение в творчестве — ничего не реализовано. Никому ни за чем не нужна прожитая жизнь.
Любила Федора. Боже, как я его любила. Не взяла этой любви. Теперь пишу ему письма, жду его, когда дать ему нечего. Обманула его, писала, что все мое искусство он. И вот его ликом деньги зарабатываю.
Какая-то жажда разорения во мне все и всех выбросила, раздарила, распродала.
Вот Нина дороже иконы, искусства, всего, что есть во мне. Это Жизнь говорит: не мое. Так оно и есть. Что мне делать с мамой и детками? Жить мне больше невозможно. Они счастливы тем, что я есть. Могу ли им дать мою же муку. Они молоды, мама стара. Все впереди, все окончено. Я женщина, я слаба, может быть, слишком сильна, чтобы что-нибудь взять, что даст упокоение житейское, но будет клеймить меня неправдой.
Покорность, покорность. Как вся Россия сейчас терпит, то ли переносят бедные беженцы, тоже одиноки — хуже бесталанные. Стыдно это. Все это я знаю, легче не делается.
370 3 [августа 1921 г.]
Среда.
Нина моя приехала.
10 [августа 1921 г.]
Среда.
Нина уехала. Все время съедает [6 строк вымараны].
Нет ощущения у меня, что есть у меня [2 слова вымараны]. Совсем одна опять.
Для нее: жалко такого человека. Семья, атмосфера гнилого «аристократизма» съедает Человека свободного, большого, с таким необыкновенным мозгом, смелостью. [1,5 строки вымараны.]
Все что пишу, ерунда, не то.
Мой друг, единственный человек, который был мне дорог, близок, вернулся ко мне чужим (не для меня). Еще жизнь вычеркивает маленькую опору.
Мне жутко — так надо.
От Дягилева телеграмма: придет администратор для переговоров204.
Дай Бог, чтобы мы сговорились, чтобы я могла там начать работать.
Совсем чужое для меня место. Но это, может, начало начнет новую линию. Меня очень беспокоит.
Я хочу быть там, и я не знаю, что делать, если я не буду там.
Все чужое, но Дягилев свой — слишком дипломатичен. Это скучно. Трудно.
_______
Другими лицами, другими интересами окружена. [Нина] — живет ими.
[3 строки вымараны.] сестре, свет и т. п. [1,5 строки вымараны]
Почему больше не хочется верить, ни к кому подойти ближе — все неправда. Все проходит — это я понимаю, но верность к правде не может уйти. Люди переставляют жизнь, как шахматы, как удобнее, чтобы не было беспокойства. Вот Нина тоже так со мной.
Это умно. Все так делают. Я знала, что Нина не может так быть со мной, потому что (я так думала) я для нее вся правда. Сама Нина вся настоящая.
Нет. Я артистка для [ее] семьи. Нина другой круг. Этот налет покрыл Нину. Она ищет оправдания для них.
Какие все это пустяки для меня, почему, отчего [2,5 строки вымараны] — это неправда.
Как страшно — некому протянуть руку.
Как брошусь в работу.
Это правда.
Прощай, тетрадь моя. Два года моих детских чувств и ожиданий. Все только надо реализовать. Пусть Бог мне поможет начать новую часть.
Федор в России — глаза его не обласкают моего творчества. Надо выбросить из себя всю мощь мою. Я хочу создать этот театр.
Вторник.
То, что вижу по эскизам костюмов и декораций для Ballet Russe, — скучно206. Есть несколько очень хороших эскизов для костюмов, только несколько.
Пикассо для испанского балета просто плохо207.
Сергей Павлович говорит на эскиз декораций: «да это же такая, такая Испания…» Может быть, это «Испания» — это хорошо сделанная картина, безусловно — только это не театр. Костюмы совсем «бытовые» — ничего не сделано.
Гончарова208 — лучше Ларионова209. Но тоже обливается все время красной краской. «Мистерия»210 — два костюма (эскизы), которые я видела, — хорошо.
У Ларионова некоторые детали хорошо, [но] все в целом не сделано. Не то чтобы дилетантски — не до конца все начатое.
_______
Приехал Стравинский211. Сергей Павлович считает его гением. Это очень крупный музыкант. Надо мне его еще теперь послушать. Прошло много лет. То, что делает от Театра, тоже не хорошо. Ясно. После войны, после ураганного огня, груды трупов, после Марны212 этот «театр» не трогает. Это скучно — мухи ползают. Как бы хорошо косу ни заплетали в «Свадебке»213, никому это не нужно.
Поэтому театр впадает в пошлость или смех — тоже пошлый. Этим еще можно взять «бульвар».
Надо весь театр сделать действующим. Об этом я уже писала.
[Сергей Павлович — самая интересная личность — правда — как натура. И, как всякая большая сила, слишком легко впадает в ошибки — верит [часто — зачеркнуто] легко. Верить [этому — зачеркнуто] многому не надо. Это у меня сейчас не определяется. Это так не от фактов пока. Разум удивительный. Видит ли все хорошо? Я думаю, видит — зачеркнуто]
Бакст — прошлое, но это подлинное дарование. То, что делает для «Спящей красавицы» сейчас — это не совсем ОН214. Мне это меньше нравится, чем многое из прежних его работ. От мастерства зато — очень хорошо.
«Спящую красавицу» — музыку — Стравинский и Сергей Павлович «приводят в порядок», купируют, поднимают лучшее. Сначала думала, что так нельзя215. Зачем Стравинский трогает чужое — пусть даже плохое, — зачем добавлять собой (собой как вкусом). Позднее поняла, что это очень хорошо. Пятиактный балет не может быть сплошным Чайковским. От хорошего в усталости дает много просто мусору, и это очень «любезно» от старшего композитора, отмести ненужное, [чтобы] ярче поднять подлинного Чайковского. Нет, это так нужно.
2 октября [1921 г.]
Воскресенье.
Чем же все это развяжется. Я в Лондоне опять возвращаюсь в Театр, где я выросла216. Здесь Кочетовский, мой муж. Приехал Федор217.
Поступила в труппу, сразу почувствовала, что я подлинно большая танцовщица. Правда, позднее сомнения Сергея Павловича, не разучилась ли я танцевать, 372 овладели мной. Может, это мне кажется, что я хорошо танцую. Свою вариацию в Прологе218, знаю, сделала очень хорошо — танцую ли хорошо, не знаю — буду.
Для дружбы уже никого нет, не знаю, как здесь буду. Все это совсем другого состава люди — в мозгах у них «тихо». Главное, ничего им не нужно. Единственно — каждый носит картонную корону — боится ее уронить — дико.
Если я буду репетировать всю «Спящую», это, может быть, пойдет. Так, как идет сейчас, несомненно, провалится219. Все скучают, надо их зарядить.
Завтра будет Сергей Павлович. Это хорошо. При нем всегда, кажется, идет хорошо — без него сыпется220.
Трудно взяться мне за работу. Как-то лицо даже почернело, хоть и не думаю о том, что вокруг меня.
Завтра, очевидно, придется ставить — это неприятно, так сразу, не зная материала. Хорошо было бы с ними порепетировать вещи поставленные, в них узнали бы меня. С материалом, который верит в меня, только могу что-нибудь сделать.
Есть вера, что начинаю жить хорошо. Бог дал бы силы вынести одиночество.
4 октября [1921 г.]
Вторник.
Был Саша, выяснили развод — это хорошо. Покойно разговаривали, даже дружественно. Завтра приезжает Сергей Павлович.
9 октября [1921 г.]
Сегодня должен приехать Сергей Павлович. Сразу это успокаивает. Думала, что не смогу при нем работать — растеряюсь, вижу — наоборот, около него есть точка опоры. Без него здесь всё слизь. Начала «свою» работу — совсем она не моя. Не думала, что так тяжело будет. Совсем невероятно делать «Синюю Бороду»221, «Шехеразаду»222, менуэт в «Спящей красавице»223 — будто портрет «со сходством и красотой» по заказу224. Мучаюсь. Потому что это не мое. Не знаю, хорошо или плохо — от меня, конечно, плохо.
5-го была на концерте Федора225. Он получил мое киевское письмо. После, узнав это, не решилась пойти поздороваться с ним. Все так же колоссален как артист, хоть и не моего вкуса. Прекрасен, Бог. Правда, ему приходилось «угождать» публике, извиняться за большевистские «грехи»226. Волновался сильно. В таком огромном зале 10 000 человек взять в плен может только он. Все так же очаровывает. Хотя мне как человек ближе он, чем как артист. Хотя не знаю бóльшего Артиста, как Шаляпин.
Здесь потому, что иначе все воспринимаю, считают сумасшедшей. Признались мне, что боялись меня, думали, что я больна, как и Ваца. Потому что не умеют любить. Когда я говорю о движении, о танце — пугаются.
Может, я действительно больна и не замечаю. Я говорю нормальные вещи для себя — их пугает сила напряженности.
Никого, кто бы понимал. Все артисты «хорошие, красивые» — качества [2 слова вымараны] большого торгового магазина, вроде парижского «Лувра», Lafayette227.
Сейчас тем, что делаю «Спящую», боюсь, потеряю доверие Сергея Павловича и не буду делать того моего настоящего228. Все это причиняет горе. Конечно, художник рано или позднее проявит себя. Я не дождусь, когда буду делать свои эскизы.
373 10 октября [1921 г.]
Еще не приехал Сергей Павлович — ждем сегодня. Почему так случилось, что С. П. озабочен показать всех — просто даже красивую женщину — не озабочен показать Нижинскую-Артистку229. Какой-то чисто «коммерческий» промах. Позднее трудно будет ему меня заявлять. Мне как-то [1 слово вымарано] весело — настолько иная танцовщица, что не знают сами танцовщицы — хорошо это или плохо, но гипнотизирует их это.
Еще дичее, что я сама ставлю — выдумываю для этого показа танцы — только для себя ничего230.
Мне трудно работать с этим материалом. У них нет совсем нужной мне техники, артисты только «машут» хорошо ногами, не совсем хорошо руками.
Обо мне говорят, почему так трудно себе выдумываю уже поставленные вариации Петипа. А я ничего не выдумываю, просто танцую вся, а не только ногами231.
Сегодня делала «Шехеразаду» для «Спящей» (вставной номер в дивертисменте) — кругом даже не понимают ничего. Мне очень хочется, чтобы скорее видел Сергей Павлович, может быть, от него найду бодрость.
13 октября [1921 г.]
Сергей Павлович доволен, очевидно, тем, что делаю, — по привычке не расхваливает, чтобы артист не «зазнался», а я совсем другой породы, мне надо сказать, [тогда] я лучше работаю.
В первый же вечер приезда Сергей Павловича видела Федора. Сегодня он уехал в Америку. Просил меня быть у него, но это во мне невозможно было. Сергей Павлович очень [1 слово вымарано] помогает, все рассказывает232, т[ак] ч[то] только выполнять «заказ». Здесь все удивляются быстроте работы моей — но разве это работа? Когда начну свое, так же как и другие, буду еле подвигаться вперед. Вся «Спящая» прошлое, на это уже есть техника — от своего, только что пришедшего надо находить «как взять» и «что». Приходят новые законы в отсутствие для них техники.
«Спящая» идет 4 недели. Моя «Шехеразада» и «Синяя борода» называются «прекрасными миниатюрами». Меня как композитора «замалчивают»233. Сначала я танцевала плохо. У меня была какая-то болезнь — боязнь, что я не умею танцевать. Вот только теперь неделя, как я стала танцевать хорошо.
Три дня как я занимаюсь.
От «Театра» Дягилева ужасающее разрушение всего, что здесь ждала видеть234. Поистине стал публичный дом. «Показывают» красивых танцовщиц. Я не уверена, что есть кому-нибудь дело и интерес к выполнению творческому. Сейчас, правда, несчастье — нет сборов — нет денег. Все пускается в ход, чтобы их добыть.
Боже мой, как тяжело. Мои дорогие дети — ученики моей «Школы» — как вы прекрасны в сравнении со всем, что есть здесь235, и как люди и как артисты.
Какую страшную болезнь я нажила себе с приездом сюда! Безволие, покорность в абсолютно противоестественных художнику вещах, — все думала, позднее будет то, что надо, — чистое творчество — где оно? Кому оно нужно здесь? На это не дают денег! 374 Болезнь моей ненужности и вдруг страх за существование моих детей разрушают меня. Но я должна вынырнуть — делать то, что я люблю и могу.
Здесь полная реакция. Я никогда ничего не слышу о том, хороший и[ли] дурной артист — только «хорошо прыгает», «делает туры». Сначала я не верила, думала, шутят. Вот уже два месяца я здесь не только какого-нибудь шага вперед, нет, того, что было. Право, ничем не лучше, чем в любой «Опере Городского Театра»236.
Зачем все это делается? Я не верю, чтобы С. П. думал, что так только и надо. Труппа от состава лучшая, большая, со всеми премьерами, да что из этого? Все чуждо мне здесь. Очень хорошо понимаю, как трудно сейчас удержать такое «дело», как многим в силу обстоятельств надо поступаться. Хотелось помочь С. П. Ведь очень хорошо вижу, как и почему это делается. Зачем все это? Я думала, для возможности сделать то, что хорошо — нет, и этого сейчас нет. Никому искусство здесь не надо — только то, на что идет публика. Отсюда вынырнуть трудно — нет воли — все делается исполняющей машиной. Так жутко, что мои ребятки далеко и мама тоже237. Что из того, что посылаю им деньги. Не могу дать им ласки.
Какое сумасшествие во мне, я еще ищу творчества, хочу чего-то!!
Кто-то сказал, что в Европе осталась одна индустрия. Если так, тоже могло бы быть прекрасно, а то гниль, непролазная слякоть. Фу, как гадко. Стыдно перед учениками, оставленными в России. Надо решить больше ничего не ставить — вырабатываться как танцовщица — приложу себя куда надо. Так должно быть. Надо делать только то, что любишь. Нельзя творчеством торговать. Так есть. Дай Бог силы. Как хочу вернуться в Россию. Сейчас мне много лучше, но боязнь болезни не оставляет меня.
30-го ноября [1921 г.]
Хожу и плачу, не могу справиться с собой. Не знаю, зачем живу. Не знаю, как надо жить. Все разорвано. Дети далеко. Ваца пропал, и я тоже гнию. Мерзость всюду топит своей силой. Все нужное мне сметает жизнь. Я хожу потерянная. Надо чем-нибудь «заняться». «У вас прекрасные глаза, и руки, и все тело, надо ни о чем не думать».
Боже мой.
У меня «прекрасный мозг», и я знаю, что все это ничего не дает. Вот что.
Возмутительно все разбито. Моя невыносимая любовь и мое безумное творчество не находят помещения24*.
Федор снится мне между снами и разрушенными мыслями-мечтами.
Безумие настигает меня.
_______
Получила письмо от Миши и Пати238 и Школы. Опять все воскресает, сколько счастья давала мне работа с ними. Они ждут меня, мечтают о работе со мной, как мне быть? У меня есть обязательства в отношении их — не могу же я их так бросить.
Я вернусь к ним, как — не знаю.
Они равно дороги мне, как мои маленькие дети.
375 2 декабря [1921 г.]
Будто силы восстанавливаются. Ничего мне не надо. Все придет, чего я стою. Не надо волноваться «за признание». На что оно мне? Для детей я смогу заработать всегда то, что надо. Устроить надо свою жизнь так, чтобы делать то, что считаю нужным, хотя бы в маленькой дозе. Все будет хорошо. Может быть, все случилось только потому, что «политиканством» захотелось чего-то достичь, — всегда шла прямо, брала своим талантом, так и надо.
29 декабря [1921 г.]
Будто уже не люблю Федора. По крайней мере, не мучит меня. Изредка только неудержно влечет приложить щеку к холодному стеклу его портрета. Мысли даже стали допускать возможность другой любви. Все вокруг только кажутся мне такими нищими духом и телом. С потерей любви потеряла и возможность творить — нет ничего, пустота или, может, «Спящая» не во мне.
Ничего не осталось со мной. Все сломалось. Никакого искусства, даже осколочков нет. Федора нет, в надеждах во всяком случае. Только почему слезы застилают глаза и мышцы в груди больно сжимаются.
«Своего» Сашу теперь часто жду к себе. Изредка приходит по делу, очень редко. С ним другая женщина239. Она ближе ему. Я чувствую, что очень любит его. Хотелось обнять однажды голову его — что ж, разве возможно мне стать его любовницей, отнимать от женщины… Анекдот. С ним не могла бы быть. Это знак — все потеряно. Как бы привычка считать его родным вдруг и не воскресала во мне. Дай Бог ему счастья.
У меня его не будет. Мои дорогие дети! В чем вина ваша? Что потеряли отца. Мать сейчас тоже не с вами, и будто сироты вдали от меня. Все делает меня какой-то противной, будто в самый ужасающий разврат окуналась я, хоть никогда не была, может быть, столь чиста. То, что дети одни сейчас, делает меня мерзкой. Мое оправдание, что зарабатываю для них, была даже счастлива этому контракту, начинает возмущаться во мне. Не для одного хлеба ведь нужна Мать.
А я не с ними. Бедные мои малыши. Уже знаете боль разлуки. Боль недостающего самого дорогого.
Я же ничто сейчас — работник на никому не нужной фабрике. Будет ли время, когда снова все творчество мое переломает все, заявит себя.
2 января 1922 г.
Трясусь от боли. Все свое стало чужое. Ко всему вернулась, все снова пришло ко мне и от всего отворачиваюсь — чуждо мне.
Куда бежать?
Когда хочется скорее прибыть, лучше вернуться на станцию, сесть в поезд, чем бежать своими ногами.
Все будет так, как должно быть. Каждый зверь бежит к своей берлоге. Как может быть, чтобы осталась в чуждых болотах. [1 слово вымарано.]
Стало жутко только восхищаться звездами одной — стала зябнуть, трястись, но скоро друзья будут со мной.
_______
376 Почему из Школы нет писем? Только бы они получили мои письма — воскресли в этой радости.
_______
Первый спектакль в новом году240, но бóльшего отвращения еще не было у меня к нему, как сегодня.
25 [января 1922 г.]
Трудное время ушло. Саша был перед отъездом в Америку.
Опять будто старое воскресло — возможно мне было его поцеловать, взять голову. Теперь он в Америке.
Быть с ним мне невозможно, все дни, которые пробыл перед выездом в Лондоне, убедили в этом — не его — он все думает о возможности брака. А рядом с ним женщина ждет ребенка от него, а он у меня и целует ноги. Боже, какая мерзость. Надо дать развод и пусть живут и женятся. Но ему уже и это надоедает. Бедные мои крошки-дети, опять повторяется та же история, что была со мной в детстве241. Отец и у него другая семья и ребенок, с которым он каждый день, — а я тоскую, плачу, зову своего отца. За это одно могла бы, казалось мне, все сломать в себе, чтобы не причинять этого горя детям моим. Но знаю — ничего бы не было. Опять ушел [бы] к другой жизни, [а] ко мне пристало бы еще больше мерзости и отвращения ко всему.
Как тоскливо, как смертельно тоскливо!
Может ли кто понять! Всегда одна, некому пожаловаться.
Сердце стонет от одиночества и отвращения ко всем…
Диким кажется любовь ко мне… Мне кажется, смех слышу, безумный смех надо мной в любви ко мне.
Господи, одна твоя нежность — Отца моего Бога — со мной.
Да будет Воля Твоя.
27 января [1922 г.]
Какие странные ночи! Узкая комната — шкап и кровать, 2 кресла, письменный стол, стул, умывальник — туалетный стол и камин, Федор в рамке на нем, в узкой серой рамке, увядшие фиалки, с другой стороны — пышные, яркие тюльпаны. Страшно холодно и накурено. Невымытая чашка с черным пятном.
Безумная тоска по Танцу! В глубоком мягком кресле тело оживает, тихо шепотом поет… Потом забыта комната, на узком квадрате между шкапом и камином — я.
Толпа и танцовщица!
Глаза впиваются в зеркало и просят зрелища, пьют каждый перелив. Тело в восторге играет каждой жилкой, [резиной] завязывается в узел, увеличивает наслаждение все растущей медлительностью. Все нарастающее клокотание, всю жажду неистового темпа — выражение тела приводит в полный контраст. Все возрастающая медлительность, все возрастающая напряженность берет в плен жажду мышц.
Потом вдруг танец одного лица, глаз и рта.
377 Захлебывающий[ся] смех от того, что вижу, — вся заражена смехом. А рот и глаза отражаются в зеркале в такой комбинации спрятанных смеющихся движений, что как буря клокочет от смеха во мне — публике, — артист продолжает игру.
Медленный прелюд много раз подряд повторяется, все находя что-то добавить, еще и еще, пока не теряю зрение и понимание, пока все не выпьется, когда пустота во мне останавливается — это наслаждение.
Потом тихо начинается ноктюрн — ювелирное кружево переходит в бурный протест, закрывается уходящей мукой, еще и еще глаза требуют большого, восторгаются, затихают молитвенно. Все забыто — экстаз танцует на двухметровом пространстве, никому не подаренный.
30 января [1922 г.]
Федор приезжает в Лондон, а я выезжаю. Я не знаю, уеду ли, даже если кончим сезон. Никогда такая тяжесть не мучила меня. Федор, опять мука безысходная.
17 [февраля 1922 г.]
Дорогой Федор, ты здесь и тебя не вижу. Я уезжаю242 — а делать не должно. Черные похороны. Я больше не буду никогда… Все ранит. Порвется ли, уничтожится это во мне? Невозможность.
ШКОЛА И ТЕАТР
ДВИЖЕНИЙ243
1918 год
[1]
[Тезисы к трактату]
1) Каким должен быть театр244
а) Какими должны быть артисты по духу и по культуре.
б) Из кого должны составиться сотрудники этого театра.
в) Программа театра.
2) При театре должна быть студия.
а) Значение студии для этого театра.
4) Какие задачи должны быть положены в основу этой студии.
а) Сторона духовная.
б) Программа.
в) [Приложение — зачеркнуто] Система приведения к выполнению программы.
В основу школы — воспитать артистов, [делающих — вычеркнуто] творящих искусство, а не собственную карьеру.
Воспитать людей искусства, а [не танцовщиков-профессионалов]
[Трактат. Наброски]
[2]
[1) При театре должна быть студия245 — зачеркнуто.]
378 1) Каким должен быть театр.
Прежде всего, театр не должен быть развлечением246. В основе наслаждение25* духовное. Таинство очищения духовного, чем чаще душа чувствует, тем больше в этом «тренируется» и достигает наконец высшего духовного чувствования, что должно давать высшее наслаждение как ощущение в себе божественного.
Как достигнуть этого?
Артисты и все создатели этого театра должны быть идейные люди. [Кроме своего стремления эти — зачеркнуто] Любовь. Абсолютное понимание26* и вера в правду27* и достижение высших идей театра.
Артисты должны кроме технической работы постоянно развиваться культурно и духовно, чтобы быть всегда [выше — зачеркнуто] впереди [толпы — зачеркнуто] человечества28*, развивать ее [толпу], культивировать и через радость этого творчества творить в себе. Рождать в толпе то же понимание, ту же веру, ту же поэтому любовь и через это понимание, через радость этого рождения быть большим29*.
Театр соединяет в себе все искусства и через зрелище легче чувствовать, легче культивируется в детских душах, и только от него можно подойти к каждому искусству в отдельности. Поэтому артисты должны знать кроме своего искусства (в совершенстве) все остальные и никогда не останавливаться [в развитии — зачеркнуто] [Искусство идет вперед, как жизнь, вернее, как предчувствие будущей жизни, или, может быть, искусство кладет т[акой] сильный след на душу, что жизнь выливается в ту форму, которую нам подсказало30* искусство — намечено к сокращению?] [Как легко нами понимается искусство прошлого — намечено к сокращению?]. Не говорю этим, что искусство будущего понятно, но [2 слова нрзб.] делалось уже не прошлым и не «искусством»31*.
2) О студии
Для такого театра не могут всегда подбираться случайные артисты. Если первые артисты будут случайно идейными, то на них обязанности создать такую студию, где [будет — зачеркнуто] каждый приложит себя для создания такого сознательного идейного артиста. Оттуда не может быть артистов-ремесленников, артистов-кокоток от искусства, т. е. тех, которые ищут ту или иную выгоду от своего 379 мастерства. Там будут развивать дух32*. Это главная основа артиста. Технику может приобрести каждый. Это будущее поколение должно быть выше, полнее первых случайных. Это должны быть сильные, верующие [до фанатизма — зачеркнуто], любящие, не идущие ни на какие компромиссы в искусстве, считающие за величайший грех компромиссы и за [должное — зачеркнуто] радость всякие тяжести, переносимые от трудности достижения.
Сильный дух — глуб[же] чувствование33*. Через чувствование — экстаз и в нем творчество. [Из души надо создать дух — зачеркнуто] Только сильный, духовно развитый человек может творить (культура дополняет, качество творчества)34*.
Дух, качество, культура вместе с мозгом — часто обман.
Знание своего искусства и других искусств, из чего составляется новое целое. Обладание в совершенстве техникой (не акробатизмом, а полным повиновением своих мускулов для любого движения и формы) для возможности дать высшее выражение — высшее от слов.
[3]
[Кроме упражнений тела — зачеркнуто]
Школа Движений по системе Нижинской
1) Классические танцы [так же как — зачеркнуто]
2) Характерные танцы.
3) Стиль в движении.
4) Мимика тела и лица. Выражение в движении.
5) [Свободные движения — зачеркнуто]
6) Музыка и теория музыки.
7) [Эстетика — зачеркнуто]
8) [История искусства и театра — зачеркнуто] Беседы об искусстве.
9) Этика.
10) Собеседование. [2 слова вымараны].
11) Рисование и живопись.
12) Записывание танцев в нотной системе.
380 Дать возможность [ученикам — зачеркнуто] студистам бывать возможно чаще на концертах, выставках и в своем театре, конечно. Устраивать при студии камерные концерты (из артистов), примерные камерные танцы (артисты), приглашать не состоящих даже в нашем кругу для собеседований [об искусстве, о развитии — зачеркнуто], преследующих задачи нашего дела. (Всем артистам вменить в обязанность присутствовать при собеседованиях, концертах, лекциях, а также кроме репетиций продолжать развивать свободу тела.) Последних курсов студисты [бывают — зачеркнуто] привлекаются к участию [в] спектаклях театра и таким образом постепенно входят в целое.
1)
в) Программа театра35*
[4]
Как мало человечество сейчас культивирует [дух — зачеркнуто] себя. [Душа человека дилетантирует36*, превращаясь в дух — зачеркнуто]37*. Чисто случайные обстоятельства создают великих артистов38*. Поэтому [так] часто по природе великое гибнет. Есть школы, есть гимназии, университеты, академии. Все для мозга, тренируют мозг. Правда, через силу мозга понимается сущность духовного…
Но направление этого мозга интересует [всех — зачеркнуто] школы односторонне (с технической стороны — чему учит школа: инженер, живописец и т. д.) Нет пока места, где интеллигентный мозг направлялся [бы] на созидание духовное. Театр, музей дает предчувствие духовного, и только тонкая организация просыпается и получает движение, жизнь. Исключения только чувствуют искусство со всей его силой и красотой. Между тем должно стремиться, чтобы все чувствовали и понимали его до конца. От этого творчество возрождалось бы с неописуемой силой. Думаю, каждый человек имеет искру божественную. Один более восприимчивую, другой менее. Не должны обстоятельства давать нам великих людей, а мы должны их выращивать. [Часто — зачеркнуто] Великий дух, конечно, всегда 381 проявит себя, но не с той силой, красотой и не с таким концом39*. Культура духа должна принять более определенные формы. Не будет тогда такой повальной смертности духа, еще не сознанного часто, а иногда уже и великого, но не проявившего себя. Если в основу каждой школы положить воспитание духа, какие прекрасные цветы зацвели бы в человечестве.
Если направлять, следить любовно, как следят некоторые любители цветов. Есть души, которые подобны уже культивированному семени хризантемы, и нужна только почва для прекрасного цветения и уход; нужно оберегать [их], чтобы получить цветок прекрасным, иначе, имея в себе все для прекрасного, не зацветет со всей красотой. Но хризантемы — цветок, сотворенный человеком, и много было затрачено для культуры этого цветка. Души заурядные требуют культуры, и через несколько веков зацветут. Надо оберегать [и все любить в человеке, любить свой сад — зачеркнуто]40*. В каждом человеке есть прекрасное, надо это увидеть и вырастить247.
Только когда [культура духа — зачеркнуто] дух перейдет в культуру, будет счастье. [Возможно] это форма, в которой должен жить [человек, но без создания духа — зачеркнуто], но пока не культивируется дух в высшем смысле, общество будет принимать уродливые формы и не будет давать счастья человечеству. В соц[иализме] [не дописано]41*
При высоко развитом духе не нужны будут рамки социализма.
[5]
Будущее — торжество духа. В искусстве [оно — зачеркнуто] один дух должен светиться во всем. Если это живопись, то все должно быть озарено, вплоть до гвоздика в рамке. Никакие формы не должны затемнять выражение духа. Формы, до сих пор принятые, затемняют дух — то самое главное, что было [радостью — зачеркнуто] творчеством художника. Если художник пишет пейзаж и этой формой выражает свое духовное состояние, то для зрителя эта форма затемняет главное. Он видит пейзаж и ощущает теплоту солнца, ток42*, созданный солнцем. Художник тоже теряет себя, желая достигнуть формы. Надо забыть условную форму, к какой привык человек43*, т. е. от светлого солнечного пейзажа — радость, [от] дождя — уныние и т. д. Надо вырвать воображение зрителя из этой условности и этим освободить себя — художника. Вижу картину — как ряд пятен в тех линиях и формах, в которых художник чувствует.
Поэтому техника краски должна быть совершенной. Нюанс краски бесконечен. Рисунок, утонченный до высшей утонченности мысли. Такая картина должна сразу создавать то или другое настроение или даже целую симфонию настроения 382 [и ощущен[ия?] — зачеркнуто] или, вернее, состояния духа. Такая картина будет в искусстве тем же, что есть искусство ради искусства, то есть [это будет картина]44*, выражающая самое прекрасное (потому что божественное) — это дух.
[Надо отучить от условных форм кра[соты] — зачеркнуто]
[6]
О школе
Балет раньше выражал одну технику, и был балет ради техники. Пришла Дункан, сказала, что надо иначе. Фок[ин] понял ее как то, что главное — это красота формы, полное отрицание техники. Забывая, что самая высокая техника — это быть [простым — зачеркнуто] правдивым и свободным в движении. Был ряд каких-то необыкновенных, не похожих движений на жизнь, к сожалению ничем не одухотворенных [кроме — зачеркнуто]. [Стало — зачеркнуто] Фокин захотел больше «правды», обывательской точности стиля, более жизненных движений, или, вернее, тех движений, к которым мы так привыкли, [которые мы так привыкли] видеть в других произведениях искусства. Т. е. если Греция — то позы барельефов, скульптур, живописцев, изображающих Грецию, и т. д.45*
Старая техника отрицалась многими даже как школа. Говорят, надо пересоздать школу, видят это в технической стороне, т. е. что надо устранить «батманы» и т. д., что эти условные движения не дают возможности фантазии в движении и что этими экзерсисами не достигнуть возможности для выражения в других формах. Говорю, что все движения так называемой старой классической школы необходимы. Как основные точки движения. До сих пор это понималось как целый танец. «Классическая» школа — [это кончик того, к чему — зачеркнуто] большой фундамент, но далеко не завершенное еще здание Движения, того, что надо развить. [Это просто основные тона красок. Красных красок вижу множество — зачеркнуто] Эти основные движения нужно развить [и дать возможность телу — зачеркнуто] до бесконечности [нюансировать — зачеркнуто], «гаммировать» каждое основное движение. Нет никаких акробатических «pas», нет некрасивых движений, ничего в школе не надо отрицать, всякое движение нужно «копить», уметь им владеть, и оно всегда будет нужным для чего-то целого248. Акробатичное может быть только тогда, когда делается ради показания трудности и своей способности выполнить эту трудность.
Некрасиво — если бессмысленно или не гармонирует. Все что мы привыкли называть некрасивым, неэстетичным, поставленное на место, «одетое» в творчество и выраженное через него, — прекрасно46*. Надо отучить от условных форм красивости или некрасивости. Движением надо пользоваться как рисунком, краской [и как нет — зачеркнуто]. Все краски красивы, все линии красивы. То, что надо для [составления — зачеркнуто] [выражения — зачеркнуто] выявления чего-нибудь, что 383 может в наивысшей степени выразить, то и надо брать из накопленных движений или вновь увиденных [духовно — зачеркнуто]. [Если я буду кувыркаться подобно клоуну и если это будет выражать не кувырканье47*, а мое душевное состояние, то это то, что надо, т. е. кувырканье, например, как радость. Я понимаю не символически — если [недописано] — зачеркнуто].
С технической стороны хочу (как и во всем другом), чтобы не было того условного, что может и чего не может (неприлично!) делать танцовщица. Всякое движение, если оно новое, — приобретенье. Поэтому надо кувыркаться, вставать на головах, лазать по деревьям, прыгать, ломаться — все надо. Всякое движение — это звук в нашей будущей симфонии.
_______
[Условная форма в искусстве — это та форма, которую человек привык наблюдать в природе и жизни [эти формы — зачеркнуто], т. е. лес, дом, животные и т. д. В природе эти формы оставляют на нас известное впечатление, [которое в передаче картин мы все — зачеркнуто] И вот художники, беря какую-нибудь форму, закрываются от нас. Когда мы видим теплый летний пейзаж в передаче художника, нам невольно вспоминается природа и то впечатление, которое ост[авляет она] — весь абзац зачеркнут]
Думаю, что в наших теперешних исканиях в искусстве мы должны будем прийти к абсолютному отрицанию [условных — зачеркнуто] до сих пор принятых форм в передаче. Футуризм, как я его понимаю, отрицает условную, надоевшую форму. И это движение в искусстве и дает мне предчувствие в его завершении. Футуризм, отрицая условную форму, все же находится в плену у условной формы48*. [Искусство — зачеркнуто] Живопись должна отрешиться от сковавшего ее натурализма. Картины не должны [«что-нибудь» — зачеркнуто] изображать, то, к чему в жизни мы имеем определенное отношение. Это закрывает от нас творчество и переживание художника, мешает ему быть более для нас глубоким. [Художник должен передавать в картине свои — зачеркнуто] В полотне художника мы должны, прежде всего, чувствовать мощь его [духа — зачеркнуто] идеи, потом те настроения, которые [его волнуют, что — зачеркнуто] он передает. Я хочу сказать, что художник должен переменить способ передачи, до сих пор принятый49*. Картину я вижу передающей мою скорбь, мое стремление, мою веру в достижение и т. д.
Живопись — это должен быть праздник краски и только краской и в красках известным рисунком должен пользоваться художник. Нужно отрешиться от прилипшей веками привычки [передавать наше — зачеркнуто] пользоваться для творчества изображением окружающих нас жизн[еподобной] формы леса, цветов, тела человека и т. д. Эта форма ведь совсем не нужна, и настоящий ценитель ведь не 384 будет увлекаться хорошо нарисованным телом и деревом, настоящему ценителю важно почувствовать самого художника в его полотне50*. И если линии рисунка могут нас волновать, то те натуральные [изображения — зачеркнуто] заслоняют. Изображения тела чел[овека], леса, цветов нам совсем не нужны, все равно как написанные, очень ли [натурально — зачеркнуто] реально или изломанно. Все равно форма остается. И если нам дорого творчество и [дух — зачеркнуто] выражение художника, то я хочу это только видеть в картине. Я хочу подходить к картине и видеть только одну симфонию красок [и от нее получать волнующее [переживание] и чувствовать — зачеркнуто].
Такую картину не может написать не творец. Я должна сразу чувствовать, что говорит художник51*, и это не будет заслоняться каким-нибудь телом, в котором я сначала восхищусь техникой передачи и испорчу себе настоящий взгляд на художника похожестью равного впечатления в воспоминании повседневной жизни. Мы помним оставленное [так!] впечатление от какого-нибудь теплого дня и окружающего пейзажа. Когда подходим к картине, хорошо написанной, исходя из жизненного опыта, мы можем только оценить этот пейзаж. Говорю — это унизительно для творчества. Искусство должно быть вне жизни и всего напоминающего эту жизнь. Творчество — [это должно — зачеркнуто] это дух. Дух это то, что восхищает нас в человеке (в жизни). Тело мешает нам часто видеть дух творящего, т. е. чувства, волнующие художника и им переданные. Почему же искусство не освободится от этой ширмы. Какой это будет культ краски в живописи (что и должно только быть). Краска должна передавать настроение. Сколько же нюансов должна дать краска. Вся техника возродится в краске. Каждое пятно должно дышать, мы должны почти [физически] чувствовать его движение, дыхание, переливы. Какая техника и тонкое знание должно быть у художника в рисунке пятен! Картина как [клумба — зачеркнуто] гряда цветов, где не различается отдельная форма цветка, а только одни краски волнуют, восхищают и радуют. Пусть, подходя к картине, мы только могли бы созерцать дух художника, и ничто бы не заслоняло [этого главного — зачеркнуто] ощущения творчества.
Художник, старающийся вырисовать какой-нибудь предмет, не уподобляется ли ремесленнику? Разница только в технике и материале. Там стол деревянный — тут красочный. Там осязаемый — здесь изображаемый. [Техника рисунка и краски только как передача. — зачеркнуто] Разная духовная организация отличает нас друг от друга, а не черные и белые волосы. Отсюда идет оценка настоящего человека. Это и надо передавать. Не выражение лица, а выражение духа. Если говорят, дух выражается больше всего на лице, то это абсурд. Дух выражается только в искусстве, мыслях, а [не] в ничего не напоминающей его животной оболочке52*.
_______
385 Как важно иметь хореографические партитуры и как мало сами композиторы хореографии об этом заботятся249. Еще с [дата вымарана]250 века было стремление записать движения, и вот в конце XIX века почти достигнута возможность записывать любое человеческое движение. (Есть маленькая неполность, т. к. Степанов основывал запись на так называемых классических танцах и теперь, когда движение освобождается от условных форм, или, вернее, танец строится не только на основных точках, в этих знаках есть неполность251.) Мы видим, как все [художники — зачеркнуто] хореографы равнодушно и даже пренебрежительно относятся к этому столь важному приобретению. Не знаю, чем объяснить эту инертность? [Заботы о своих — зачеркнуто] [Если принять, что наши современные хореографы мало заботятся — зачеркнуто] Думаю, что столь кажущуюся культурность [недописано]. Если прежние поколения столь сильно стремились оставить потомству свое творчество, не может быть, чтобы этот инстинкт не пробуждался и в теперь живущих. Если не у каждого пробуждается сознание важности существования творимого для развития на нем будущего искусства, то уж, наверно, в каждом есть низменное чувство всегда восхищать собою. Какое же должно быть притупление и довольство существующим у всех, если даже это чувство не толкнуло до сих пор никого. [В] 1899 году впервые была выпущена «Таблица знаков [для] записывания движений человеческого тела [по системе] В. И. Степанова»252 и к ней еще одна книга с примерами253 А. А. Горского53*. [Совсем — зачеркнуто] Казалось бы, что это открытие должно было увлечь всех. Но будто кругом никто не понимает важности значения этого приобретения. С 1900 года, когда я поступила в Театральное Императорское Петроградское училище, я видела только двух лиц, [живо — зачеркнуто] интересовавшихся [системой Степанова] и положивших много труда на «прививку» [ее артистам балета] и на желание оставить [творчество наших [классиков] — зачеркнуто] записанными несколько балетов М. И. Петипа. Это были Н. Г. Сергеев и А. И. Чекрыгин (к сожалению, с Фокина балетами они не считались, не признавая их за искусство, а возможно, и не имея средств записать [его танцы], вдруг столь непохожие на прежние условные «pas», на запись которых у них выработалась привычка)254. Почему сам А. Горский, видимо так интересовавшийся этим открытием, до сих пор, будучи сам хореографическим композитором, ничего не сделал, кроме того, что способствовал изданию этой «Таблицы…» и приложением к ней [учебника — зачеркнуто] книги со своими примерами (очень неграмотно написанными в хореографическом значении), остается совсем непонятным255.
Или, вернее, слишком понятным. [Несмотря на кажущуюся культурность последних лет — зачеркнуто] Несмотря на [поражающ[ее] — зачеркнуто] кажущееся сильное движение в хореографии и несмотря на несколько шедевров, созданных в 386 последние годы в [нашем — зачеркнуто] хореографии, и на кажущееся пробуждение [низведенных танцовщиков и танцовщиц, увлекшихся одной техникой до акробатизма — зачеркнуто] [Этих акробатов от искусства — зачеркнуто], они [артисты балета] остаются далеки от [культуры — зачеркнуто] искусства. Ни и у кого нет желания чисто творить. Все хотят творить ради славы, и если первоначально рождается потребность творить чисто, то упоение своей славой и микроб знаменитости топит всякое творчество и под конец оставляет нам «благородного» ремесленника.
Случается это от низкого развития, которое никто и не старается пополнить. Развивают прыжок, развивают [выворотность — зачеркнуто] «грацию», теперь — пластичность, выворачивают ноги, но никто не вывернет своей души, не выбросит всего мусора и не чувствует и не видит своего духа — творца искусства.
Откуда же может родиться [желание — зачеркнуто] потребность [бытия — зачеркнуто] вечной жизни искусства и забота о нем?
[И надо признать — зачеркнуто] В хореографии до сих пор глубокий сон. И правы те, которые говорят, что у танцовщиков и танцовщиц весь мозг ушел в ноги. И ни Горский, ни Фокин, [ни Дягилев, этот гениальный руководитель — зачеркнуто] не сделали ничего54*. То, что покрывалось таким морем восторга на Западе, совсем не было переживанием, чувствованием публикой художника. [Это было просто — зачеркнуто] Что принималось за истинное искусство, было тем же акробатизмом55*. Наши хореографы только чуть-чуть шелохнулись, их больно [щелкнула — зачеркнуто] ущипнула Дункан. Они поняли, что что-то уже слишком, даже до неприличия делается не то, что надо, в хореографии. Ну как же могли остаться существовать Греция, и Египет, и все остальное — вместе с пейзанами в пачках? И вот [начали от интереса к своим батманам переходить к интересу — зачеркнуто] жизнь вынудила оторваться от батманов и что-то сделать, чтобы не быть так[ими] нелепыми. Трудиться, чтобы создать что-то новое, не было сил в ослабевших, вялых талантах. Заглянули немного в историю (до сих пор этого хореографы последн[его] вре[мени] не делали)256 — оказалось все очень понятным. Пачки — это действительно не то: если Греция, так надо хитон. Ногу вверх и круг на пальцах тоже не годится, на барельефах [уже готовые позы — зачеркнуто] совсем иначе, так это «иначе» надо приложить к хитону и получается [что-то ослепительное — зачеркнуто] все логично. Все так ослеплены, все так поражены этой «иначестостью», что [их — зачеркнуто] у одних восторг и любопытство перед [1 слово вымарано] новым принимается за настоящее, у многих же все же, несмотря на весь соблазн, нет никакой веры в эту поделку, но это, к сожалению, те, которые обречены на вечный столбняк. Новое движение не [возб[уждает] — зачеркнуто] вызывает у них критики, и через критику они не находят самих себя, а остаются [просто — зачеркнуто] религиозно верны своим 387 «батманам» [и т. д. — зачеркнуто]. [Сама я принадлежала к первым и была увлечена так сильно, что в этой форме даже творила. — намечено к сокращению] [Теперь — зачеркнуто] Первые же [выдают — зачеркнуто] абсолютно отрицают батманы и все другие условные «pas» так называемого классического танца; их выметают окончательно — все заменяется «настоящим». [Какая нелепость! — зачеркнуто] Ведь никто же [в жизни] на пальцах не ходит, никто ноги на «арабеск» не поднимает ни теперь, ни, очевидно, никогда. Нигде в других выражениях [памятниках] искусства56* это не отражено — значит, так не надо, а надо так, как видим [в скульптуре и живописи — зачеркнуто] на мраморе и полотне [нрзб.]. И вот делаются «настоящий» Египет, «настоящая» Греция, 1840-е годы, период романтизма, все это стараются с точностью повторить в новых «хореографических драмах», «хореографических картинах» и т. д. взамен прежних балетов. [Начинается период дилетантизма — зачеркнуто] Чем это лучшая подделка под [жизнь — зачеркнуто] старое искусство, которое уже всеми признано и въелось в кожу каждого, тем это больше восхищает, потому что это новое абсолютно не похоже на старый классический танец. Бедные хореографы, как вы были слабы, что так легко дали себя увлечь этой близорукой Дункан. [Важно ли, чтобы была настоящая Греция? Или важно, чтобы и — зачеркнуто] Ведь весь прежний [чист[ый] — зачеркнуто] классический танец не что иное, как основные [краски — зачеркнуто] движения человеческого тела. То же, что основные чистые краски в живописи. И вот эти основные движения были приняты за искусство [что равносильно тому — зачеркнуто]57* [как] если бы художник располагал на полотне ряд красок [основн[ых] — зачеркнуто] в той или иной комбинации, ничего ими не выражая, ничего не стараясь достичь, кроме наслаждения [их ясностью — зачеркнуто] от «смотрения» на них. И вот [к сожалению — зачеркнуто] вместо того, чтобы достигать (до Дункан) техники, в нюансе [красок — зачеркнуто] движения, расширять и, исходя из основных движений, находить новые — увлеклись акробатической техникой. Взяли [способ для — зачеркнуто] основные движения58*, предназначенные для выражения духовного творчества, и стали упиваться не красотой даже линий, а всякими способами [делали — зачеркнуто] [их усложняли и восхищались их акробатической трудностью — зачеркнуто], подобно акробатам, из этих линий создавали разные трюки, и чем [тру[днее] — зачеркнуто] сложнее, тем считалось восхитительнее257. Знаменитостью были те, кто лучше справлялся с трудностями. Под этим углом приучили всех смотреть на танец. Не было никаких шансов быть замеченному настоящему художнику. [Каким-то чудом: чудом высшего творчества Павлова увлекла всех — зачеркнуто]. И на этом фоне все же чудом творчества Павлова обратила на себя внимание и увлекла258.
388 * * *
[И если б проснулись, если творчество было их потребностью, первое, за что взялись как способ передать, поделиться со всеми — это за изучение знаков записывания танцев.
Чтобы что-нибудь сотворить, надо быть великим, надо быть во всем — зачеркнуто]
А для наших танцовщиков и танцовщиц достаточно было просто только показывать себя на сцене.
Ведь смотря на многие балеты, приходится удивляться их нелепости и глупости и делается страшно за тех артистов, которые так довольны всем этим, что даже не протестуют59*. [Все жалуются — зачеркнуто]
С созданием партитуры сразу бы [созд[алось] — зачеркнуто] хореограф[ическое] искусство встало твердо и на равную ногу со всеми искусствами259. Композитор-[хореограф] мог бы творить сам для себя и не был бы в зависимости от материала, которого часто ему не дают [если одни обстоятельства мешают поставить в одном месте — зачеркнуто] Не надо было бы так унизительно, при первых композициях, просить и уверять в том, [что] и я могу что-то создать. Как в музыкальной партитуре слышат — так в хореографической видели бы. Не было бы этого смешанного амплуа балетмейстера, который в себе соединяет в настоящий момент композитора и дирижера60* и что чаще всего несоединимо. Не извращались бы произведения, по памяти переходящие друг к другу даже при жизни композитора-[хореографа], [и спасли бы его от ужасного горя, страдания — зачеркнуто] часто забываемые даже им самим и опять [заново пустые забытые места — зачеркнуто] возобновляемые.
[Ведь сейчас композитор [танца] не имеет даже никаких прав на свое собственное произведение. И самое главное — хореография [1 слово вымарано] до сих пор [главенствующего значения [не имеет] — зачеркнуто] [не является] целым. [Танцы всегда ставятся на — зачеркнуто]260.
Почему до сих пор хореография в зависимости от музыки? Почему композитор-хореограф всегда [в лучш[ем случае] — зачеркнуто] в подчинении у композитора-музыканта и должен не творить, а только танцами иллюстрировать музыку? Потому что до сих пор [бралась — зачеркнуто] (в лучшем случае) рассказывалась композитору мысль балета или отдельного танца, а композитор-музыкант [часто — зачеркнуто] даже не имел понятия о творчестве композитора-хореографа, [и мало — зачеркнуто] а [в лучшем случае — зачеркнуто] если и знал манеру его, то, конечно, этого недостаточно, чтобы предвидеть будущее творчество балетмейстера261. Балетмейстер должен был перевоплощаться (если он был культурен и вообще интересовался музыкой) в творчестве композитора, поэтому еще ни одно произведение композитора-хореографа не было [цельным].
[Нельзя же было словами рассказать так, как чувствуешь! И бедный композитор-музыкант подлаживался и устраивал какую-то специально балетную музыку. Ведь до сих пор даже сохранился термин «эта музыка очень танцевальна». И в композиторах так глубоко это въелось, что сейчас, если делитесь мыслью, приблизительно 389 показываете отдельные движения, чтобы дать возможность как можно ближе подвести композитора к тому, что [в вас — зачеркнуто] в себе мелькает, [композитор — зачеркнуто] и просите не стесняться ни ритмом, ни стилем музыки, а только написать музыку на тему, композитор остается скованным этими специальными [музыкальными — зачеркнуто] танцевальными мотивами — весь абзац зачеркнут]61*
Если сейчас и пишутся музыкальные партитуры после многих бесед с балетмейстером и художником, все же ни балетмейстер, ни композитор не могут быть довольны друг другом. Другое дело, если бы хореографическая партитура могла быть понимаемой — музыка бы писалась на уже готовое творение, и тогда только впервые композитор-хореограф увидал самого себя. Не было бы насилия над собой в применении к уже написанной музыке. Можно подумать, что тогда музыка в хореографии свелась бы к какому-то рабочему положению? Это не так. При готовой хореографической партитуре можно было бы легче критиковать, композитор-музыкант мог бы указать на слабые, по его мнению, места в хореографической партитуре и совместно с композитором-музыкантом и художником пришли бы к наивысшему пониманию друг друга и потому к созданию цельных произведений.
[Не хочу писать истории балета, а только выяснить, почему мы так запутались сейчас — зачеркнуто]
Взгляд на прежнюю «классическую» форму в хореографии262
Наши хореографы до сих пор не хотят глубоко разобраться в прежних формах балета: [их значении и выражении — зачеркнуто], и это есть причина непонимания никем искренно нашего искусства. Даже самими композиторами-балетмейстерами причины того, что нет дальнейшей жизни, которую создали С. П. Дягилев, А. Н. Бенуа, Л. Бакст в нашем искусстве, [не разбираются]62*. [Там, где они были с нами, наше искусство жило [2 слова нрзб.] — зачеркнуто] Надо образовать, культивировать балетных, чтобы могло что-нибудь родиться.
То, что было создано как основные точки [танца — зачеркнуто] движения, все «экзерсисы», «adagio» и все «jeté», было понято темными наследниками как [самое главное — зачеркнуто] подлинное искусство. Отсюда родился акробатизм.
Кем-то или, вернее, временем был создан ряд основных движений, знание которых и умение их передавать давало приблизительную возможность к созданию любого [движения — зачеркнуто] танца. Если разобраться в так называемой теперь классической школе, [конечно, предварительно поражаешься гениальной логичности [нрзб.] подмеченных основных точек. Это был фундамент, [заложенный] в [нрзб.] века, [пока] искусство находилось в высших кругах, пока им увлекалась аристократия — вымарано].
390 Искусство [хореографии — зачеркнуто] танца давно не искусство. Это акробатизм в разных формах. Если раньше изощрялись в трудности движения, сейчас изощряются в точности передачи форм стиля старого искусства, что есть тоже своего рода акробатизм — было бы иначе, если бы воспроизводили не форму, а сущность прошлого в искусстве.
Но было оно искусством чистым. Почему же так случилось? Конечно, это могло быть неважным почему, если из этого не вытекало — как надо.
Пока не было школы в хореографии, [оно — зачеркнуто] искусство было, но как появился метод — школа — это погубило одно из самых понятных [и близких — зачеркнуто] чувству человека искусств. [Искусство хореографии — танца — такое простое, так легко понимаемое всеми, уже многими не считается [за таковое] — зачеркнуто]. [Не говорю, что сама школа погубила искусство, погубила несознательность тех, к кому перешло искусство — вписано и зачеркнуто] То, что искусство перешло вдруг из высших кругов к необразованным профессионалам, настоящий чистый танец был забыт, все строилось только на «школе» и упражнения подавались за танец, выражение в танце всякое исчезло, его заменила бессмысленная грация63*.
II. Движение человеческого тела имеет три [основных] положения64*: 1) нормальное, 2) вращение внутро263 и наружу и 3) сгибание и разгибание264.
Для школы было взято самое трудное положение ног — вращение [их] наружу или т[ак] н[азываемое] в балетной школе выворотное положение65*, [что сейчас — зачеркнуто]. Рассчитывалось, вероятно, что, достигнув свободного движения тела в [выворотном], этом самом трудном положении66*, [можно вполне овладеть искусством танца], что эти же основные движения в нормальном положении и в положении вращения внутро не нуждаются в той же школе, т. е. в тех же упражнениях67*. [От этой причины — зачеркнуто] Но благодаря ежедневным упражнениям тело стало привыкать к выворотному положению — это [положение] сделалось нормальным для профессиональных танцовщиц и танцовщиков «хорошей» школы. Усвоился закон танцевать только на сильно выворотных ногах — образовался т[ак] н[азываемый] классический танец.
Взяв за основу в школе только одно, самое трудное положение тела — выворотное [2 слова вымараны] [неизбежно сделали так, что] труд и напряжение легли в основу этой школы. Когда были преодолены трудность всех основных точек 391 движения в выворотном положении [когда танец казался естественным только в выворотном положении — зачеркнуто], когда трудность исчезла для танцовщика-[танцовщи]цы в силу ежедневных упражнений, [эта же] трудность, которая в продолжении достижений правильности школы владела сознанием ученика, — искала [нового] выхода. Ученик усваивал, что самое большое, что он может сделать для своего искусства, это овладеть самым трудным движением. Отсюда на основных точках [движения] стали изукрашаться невероятно трудными трюками, разными «пируэтами», fou[et]tées, скачками, ношениями танцовщиком в самом неестественном положении танцовщицы и так далее68*.
[Определенно вылилось в акробатизм. Весь танец танцевали, чтобы показать трудность «pas» — зачеркнуто] Все это делалось только для того, чтобы похвастаться и удивить публику трудностью. Это в танце подчеркивалось, это только и давали чувствовать зрителю в танце. Никто [поэтому — зачеркнуто] не мог [серьезно — зачеркнуто] искренно считать классический танец за искусство, если кто и отстаивал за этими акробатическими трюками право названия искусства, то делал это скорее по старинной традиции, по признанному праву танца как прекр[асного] искусст[ва] еще в Греции69*. За эту «технику», этот акробатизм только [и] аплодировали. Публика приняла и поняла так, как надо.
[Движение — зачеркнуто] Положение человеческого тела [можно — зачеркнуто] делится на три основных [нрзб.] в своих суставах ног или рук: 1) нормальное, 2) вращение наружу, вращение внутро70*, 3) сгибание, разгибание. В каждом отдельном положении тела есть одни и те же основные точки движения: вперед, в сторону, назад. Движение вперед, в сторону, назад, сгибание, разгибание, вращения делятся на градусы по кругу движения. Это, в сжатой форме, фундамент движения. То же, что [звуки — зачеркнуто] ноты в музыке265.
_______
Этот танец живет до сих пор на сцене, он носит название классического танца. Никто искренно серьезно не может считать этот танец за искусство и если кто и отстаивает право [названия — зачеркнуто] за этими акробатическими трюками названия «искусство»71*, то разве только [в силу еще до сих пор не решаясь отрешиться от того, что было признано. — зачеркнуто] в силу гипноза Древней Греции, который до сих пор владеет нами и где танец был не только признан прекрасным искусством, но и целым культом72*.
392 [7]
[Будущность танца]
[Эти движения — зачеркнуто]
[Теперь уже чаще говорят — зачеркнуто]
У нас нет любви к движению. Желания найти новые линии в движении73*. И в них вылить свое внутреннее состояние. Если классический танец сводился к акробатизму, к трудности, то сейчас эти кажущиеся «новые танцы» еще хуже — это труп всего старого искусства. Но уже то, что отказываются от традиционных движений классического танца и [ищут — зачеркнуто] берут по близорукости за новые «стильные» движения — хорошо74*. Значит, родится любовь к движению75*, и мы придем к высшему смыслу искусства, овладев движением, [дав — зачеркнуто] приведя тело к полной свободе. Мы только тогда сможем [выразить — зачеркнуто] выявлять76* в искусстве танца наше духовное состояние. Нас же до сих пор в клещах держит форма [произведения — зачеркнуто]. Мы все придумываем что-нибудь новое, [увлекательное — зачеркнуто] непохожее на прежнее. Мы делаемся продавцами, желающими угодить покупателю, хорошо сбыть товар. Наша [ошибка, заблуждение — зачеркнуто] мысль все время прикована к форме и мы все больше и больше тупеем для чистого искусства, толчемся на месте и не подходим ближе к [этому] чистому творчеству77*. Новшество формы обманывает, опьяняет, и за ней мы не видим, что [только может быть — зачеркнуто] в балете последнего периода мы только стали более логичны в выражении взятой и принятой нами формы, но внутренне так же бессодержательны [и даже менее — зачеркнуто], как были в период Петипа. Самоуверенность сменила прежнюю наивность. Когда главное будет открыть свою духовную сущность, заразить своими чувствами, о форме забудем, и она выльется, прекрасная, новая, искренняя.
[Пора — зачеркнуто]
[Надо, чтобы танец стал наконец выявлением — зачеркнуто]
Надо забыть о форме, смотреть в глубь себя и не через форму выявлять себя. Форма есть всегда тюлевая занавесь, и через нее трудно увидеть сущность творчества. Многие разглядывают только занавесь и поражаются ее вышивкой и отвлекаются от главного. Форма всегда что-нибудь припоминает, и это ощущение, вызванное воспоминанием или ассоциацией, принимается за [переживание — зачеркнуто] заражение искусством. Вот почему так легко спекулировать на форме.
393 Сбросьте одежды — формы — обнажите ваше духовное тело. [Дайте напиться чистым искусством — зачеркнуто] Выявляйте только эссенцию вашего внутреннего состояния, и из него сами собой вытекут прекрасные, искренние и совсем новые формы266.
[1 строка вымарана]
[Пора задуматься — зачеркнуто]
[8]
[Какими должны быть артисты?]
[В искусстве один божественный дух должен светиться во всем и ничто не должно [нрзб.] Никакие формы не должны затемнять выражений духа. Искусство должно перестать быть профессией. Пора артистам перестать быть [как прежде]. Пора искусством перестать заниматься как профессией. Чтобы звуки неслись только из царства духовного, чтобы это были звуки отдельной души, особенные, никем не слышанные, не [взятые — зачеркнуто] подслушанные у грязной толпы, — кем должен стать художник-творец? Не богом ли? — Весь абзац зачеркнут.]
Артисты, посмотрите в себя, зачем вам нужно искусство? Что вы ищете в нем и дорого ли оно вам как часть искусства? Вспомните, чем вы должны быть, чтобы позволить себе подойти к искусству. Заботитесь ли вы о себе, о своей внутренней жизни? Находитесь ли на самой высшей точке миросозерцания, имеете ли право вести за собой кого-нибудь, да и думаете ли вы об этом? Не дороже ли вам ваши личные выгоды, получаемые от того, что вы называете искусством и как нагло вы всех обманываете или лакействуете, идя навстречу вкусу публики.
[Но чтобы выявить свое внутреннее — зачеркнуто] Но чтобы забыть о форме, чтобы форма не занимала главного места, чтобы чистое творчество сияло, чтобы ничто не убивало, не загораживало бы и было бы только, светилось нам царство духовное, но для чистого творчества нужны совсем другие творцы78*. Те, кого мы теперь называем артистами, эти ремесленники или кокотки, должны исчезнуть. Совсем другие люди — единицы должны стать около искусства. Артист как профессионал, хорошо выучившийся мастерству какого-нибудь искусства, не будет нужен — не сможет обманывать там, где не будет условной формы, в которой [можно всегда — зачеркнуто] легко выдрессироваться. [Не будет этих убогих нравственно [людей — зачеркнуто] артистов, много ниже стоящих любого обывателя — зачеркнуто].
Не может быть около чистого искусства тех грязных пустых артистов, полных зависти, желания завоевать положение, сделать капитал на хорошо придуманных трюках, преподносимых за самое настоящее «новое искусство» и извращающих общество.
[Чисто — зачеркнуто]
Если искусство приняло сейчас такой мерзкий мишурный вид, это благодаря только [этим — зачеркнуто] артистам, в которых не только нет [потреб[ности] — 394 зачеркнуто] способности творчества (что встречается очень редко), но нет даже потребности к творчеству, и они вынужденно придумывают форму, за которой ничего нельзя разглядеть. Для чистого творчества должны вырасти совсем новые артисты, [люди глубокие — зачеркнуто] всегда занятые [своим внутренним — зачеркнуто] своей сущностью и желанием быть совершеннее, стоящие по своему миросозерцанию впереди всех [и это еще не — зачеркнуто] и чувствующие необходимость [передать через выражение и через искусство дать почувствовать другим — зачеркнуто] это выявить.
В этих новых артистах не может быть ни тщеславия, ни зависти, самых больших пороков современного артиста, сбивающих его с правильного пути и разлагающих искусство.
Новый артист [будет испытывать радость от достижения в целом, а не в своей части, он — зачеркнуто] будет знать, что в самой маленькой части по размерам можно творить большое и через это [созда[вать] — зачеркнуто] способствовать созданию великого целого.
Артисты, для которых чистое искусство будет потребностью и выявление его будет смыслом жизни, задачей жизни, питанием79*, не смогут пойти ни на какие компромиссы с толпой: не будут считать благополучие своей обывательской жизни самым главным. Они своим искусством сломают кору, покрывшую сейчас все человечество, обнажат сердца людей и от животного состояния приведут их к [Богу — зачеркнуто] божественности.
Искусство должно перестать служить развлечению — [быть только] спасением от скуки. Ведь искусство есть органическая потребность человечества. Почему же сейчас так заброшено оно? Чем слово есть для мысли, тем искусство является для нашей духовной жизни80*. [Сила искусства столь могуча, что — зачеркнуто] Ведь не может быть, чтобы наша духовная жизнь была столь ничтожна, сколько сделалось современное искусство! Все зло идет от неправильного понимания назначения искусства. Стараются быть занимательными, но не ищут, не чувствуют потребности увлечь [новым — зачеркнуто], заразить зрителя чувством, [меня — зачеркнуто] волнующим худож[ественно] вместе пережить его, [уйти от [нрзб.] — зачеркнуто] дать положить хотя бы маленькую часть чувства [кот[орое] волнует ху[дожника] — зачеркнуто] в организм каждого, кто соприкасается с искусством.
Такие артисты не будут развлекать искусством — спасать от скуки. Искусство станет органической потребностью человека, потому что оно будет будить и растить Бога в каждом. Такое искусство создаст новую эру в истории человека [— убьет зверя-хищника в — зачеркнуто]. [Сила искусства могущественнее всякого слова — родит нового человека, даст счастье, уведет — зачеркнуто]. Оно будет только выражением чувств [и эти все новые и новые чувства будут заражать одинаково всех, [кто?] не мог — зачеркнуто]
395 [Развить тезисы]
Взгляд на прежнюю форму —
Как создался классический танец,
Павлова и Дункан
Фокин и Нижинский
Будущность танца
О хореографической партитуре
Какими должны быть артисты
О студии (Воспитание духа)
О театре будущего267.
[9]
[О студии (воспитание духа)]
В своей школе хочу дать ученикам возможно шире образование хореографическое. Хочу возможно шире освещать все искусства, чтобы через них понять лучше, чем должно стать наше хореографическое искусство, которое до сих пор не стало на одну ступень с остальными искусствами, [до сих пор] принимается еще как развлечение или наслаждение. Хочу также [воспитать — зачеркнуто] дать не только образованных танцовщиц и тан[цовщи]ков, но совсем новых артистов, не спекулянтов на искусстве, а истинно любящих свое искусство и творчество в нем. Не тех танцовщиц-[танцовщи]ков, что поражают своей техникой, разными «вертунами» и «задираниями» ног кверху, а [тех, кто — зачеркнуто] обладающих высшей техникой — техникой нюанса и в своем танце выражающих глубокий смысл, а не какую-нибудь бессодержательную цыганку, цветочек, пернатое животное, голую одалиску или тому подобное. [Пора нашему искусству занять — зачеркнуто] Хочу, чтобы наше искусство заняло равное место с другими искусствами, то место, которое искусство танца занимало в Древней Греции. Если последние годы и перестали смотреть на балет как на хорошенькие ножки, все же не очень далеко ушли мы от этого. Любуются эффектом, трюком, стилем, списанным со старого искусства, а своего — нового — искусство танца еще не дало, оно ушло от акробатизма в движении, а впало в акробатизм стиля. Все, что было сделано ценного в прошлом, в нашем искусстве рассыпалось, перепуталось, и я ставлю себе (может быть, слишком смело) задачей собрать все это, очистить и с этим материалом пустить в жизнь своих учеников-творцов.
Я хочу освободить их от [той — зачеркнуто] школы [которая тело — зачеркнуто] только на выворотных ногах, [которая создалась как самое трудное положение тела — зачеркнуто] и дать ту новую школу движений, которая даст полную свободу тела как в простых, так и сложных и трудных для необр[азованного] хореографически человека, такую школу, которая бы была фундаментом для любого движения и давала бы ему [артисту] полную свободу фантазии в движении, а не тесно сковывала в «классическом» танце [или как теперь [у] без основы школы дилетантирующих [в танце] a la Дункан или стильном, как то восточном, египетском и т. д. — зачеркнуто] Пора взяться за создание такой школы, которая была бы фундаментом для любого человека, дала бы возможность одинаково свободно и хорошо владеть всеми движениями как в выворотном, так и в положениях нормальном и [положения] «внутро».
396 Классический танец вытек из школы, созданной на одних только основных точках движений в выворотном, самом трудном положении, этот танец только имеет школу, другие же [движения — зачеркнуто] танцы разучиваются в отдельных «pas», из которых впоследствии складывают танец, причем эти «pas» каждым усваиваются на свой лад.
[Когда я дам полную свободу — зачеркнуто] Когда ученик получит высшую полную свободу в движении, зная хорошо стили и тот же классический танец, он сможет творить в каком [ему — зачеркнуто] угодно направлении, но он будет еще владеть таким материалом из движений, которое ему даст возможность творить вне стиля, вне условного классического танца. Фантазия ученика не будет у меня атрофироваться трудностью в движении, т. к. овладеть трудностью при наличии правильной школы может каждый, а все внимание ученика будет обращено на [выражение в движении — зачеркнуто] нюанс, что [впоследствии даст ему возможность выражать — зачеркнуто] приведет его к выражению в движении. До сих же пор в балете считается, что тот хорошо танцует, кто хорошо вертит ногами и [заплетается в [нрзб.] — зачеркнуто] не спотыкается. [Это равносильно тому, если бы мы восхищались игрою на фортепиано того, кто гладко сыграет пьесу в нужном темпе и эту гладкость только подчеркивающем. — зачеркнуто]. Хочу, чтобы поняли, что хорошо танцует [тот], кто несет мысль в танце и выражает [ее] в нем. Ведь не тот хороший пианист, кто бегло играет [нрзб.].
[10]
[Какими должны быть артисты?]
Моя «школа движений» не есть фабрика танцовщиц, и я не ставила себе задачей заниматься только тем, чтобы выпускать год за годом готовых танцовщиц-[танцовщи]ков. [Я уви[дела] — зачеркнуто]. Окончив б[ывшее] Императорское театральное балетное училище, я три года была на Императорской сцене, которую оставила, не видя на ней настоящего искусства, и вступила в труппу Ballet Russe С. П. Дягилева, пропагандирующую русское искусство за границей, где провела все сезоны (4 года)268. [Война вернула меня в Россию — зачеркнуто]. Проводя всю свою жизнь в ядре балетного искусства, для меня выяснилось, что хорошо, что плохо, где [какая] — зачеркнуто] есть неправда [3 слова вымараны]. Постепенно для меня выявилось, чем должно быть наше искусство, чем должен быть артист. Я увидела [далее — зачеркнуто] совсем новые произведения, совсем новое движение в нашем балете.
[Но когда хотела приступить к работе, оказалось, что [нрзб.] артисты для этой цели не могут быть случайны, это не могут быть только «профессионалы балета». Я нашла необходимым создать школу, подготовить нужный для себя материал и с ним приступить к работе81*. Так как главная цель моя делать все, чтобы наше хореографическое искусство не умирало, а было наравне с другими искусствами82*. Но чтобы начать это новое, чтобы оно не пропало бесследно83*, нужно было раньше что-то сделать.
397 Но мало создать одно произведение, нужны люди, которые могли бы увидеть, еще дальше продолжить начатое. В нашей балетной среде мало таких лиц, у нас нет школы, нет своих танцоров, некому — зачеркнуто]
Я увидела, что у нас нет школ, которые бы давали исчерпывающее хореографическое образование и [правильное отношение к искусству — зачеркнуто] хотя бы относительное воспитание. Все наши школы учат только хорошо вертеть ногами. Нет заботы у школ сохранить и продолжить свое искусство, нет другой задачи, как только выпустить профессионала-артиста.
Исходя из своего взгляда на будущего артиста, я старалась выработать программу школы и создать ту атмосферу в школе, которая помогла бы мне создать подлинных артистов, а в будущем и желание отдавать все свои силы и познания находящимся около них молодым росткам и не позволить этому чУдному искусству глохнуть84*.
Программа школы:
1) Школа Движ[ений по системе Нижинской].
2) Школа «классического» танца.
3) Характерные танцы.
4) Стиль в движ[ении].
5) Выражение [в движении (мимика, тело)]
6) Теория и история музыки.
7) Теория танца.
8) Запись человеческих движений по системе В. И. Степанова.
9) Композиция танца.
10) Практический класс.
11) Беседы об искусстве и творчестве269.
[11]
[Выражение в движении]
[1)] [До сих пор школу имел только — зачеркнуто] Несмотря на то что наш балет уже более 10 лет имеет тенденцию уйти от классического балета, до сих пор другой школы, кроме школы классического танца, у нас не создалось. То движение в балете, которое сделала Дункан, а после нее Фокин, не создало [самими артистами б[ыло?] — зачеркнуто] школы танца85*. До сих пор в этом направлении [дилетантируют — вычеркнуто] дилетантствуют [2 слова вымараны]. Многие просто отрицают классическую школу (путая, что надо отрицать [неск. слов нрзб.]), некоторые признают только ее, третьи бродят в растерянности, понимая, что [выбросить — зачеркнуто] отказаться от классической школы немыслимо, т. к. у нас без 398 нее ничего не останется, а упражняясь только в ней [1 слово вымарано], застывают в акробатическом выворотном положении. Есть, правда, много попыток создать школу «свободных» движений «à la Дункан»270, но, конечно, серьезного названия школы они не могут носить. Такие школы уподобляются школе того же «классического» танца, т. к. они так же односторонни, как и школа классического танца86*. В танце же каждое движение нужно, как и на выворотных ногах, так и другие, каждое движение есть нужный для нас звук, нужная для нас краска, ничего в школе не надо выбрасывать, а все собирать и расширять. Школа движений по моей системе и имеет целью дать ту школу, исходя из которой можно приступать к любому движению, к любому танцу. До сих пор все танцы, исключая классический, не имели школы, и все, что сделал Фокин, и все «стильные» и т. д. танцы брались на глаз, [артисты] старались точно воспроизвести линии, что без школы редко кому давалось87*. Не понималось, что надо уметь владеть всякими движениями, а стиль в движении это есть выражение известной эпохи88*. [Артист, к[оторый] — зачеркнуто] Ученик, который усвоит школу по моей системе, с легкостью приступит к любому стилю в рисунке танца и только от его понимания, знания, затем техники в выражении и, конечно, его талантливости будет зависеть, как ярко он выразит данный стиль.
[12]
[Стиль в движении]
2) Стиль в движении считаю необходимым не только для артистов хореографического искусства, а необходимым для всех артистов. На наши оперные сцены невозможно смотреть, до такой степени артисты не стесняются одинаково во всех операх ходить, сидеть и носить костюм. 1) Артисты оперы и драмы (за маленьким исключением) все усвоили «пластические» движения и с этой специфической пластикой подходят ко всем ролям. У них нет другого материала. Для этих артистов хочу дать небольшую школу движений, которая даст им возможность свободно владеть и ориентироваться в своих движениях, а не ходить к преподавателю «пластики», который их выучивает, на какие слова в арии куда надо протянуть или прижать руки. 2) [нрзб.] Они совсем не считают, на какую мебель садятся и какие линии тела должен дополнять их костюм. Всегда заботятся только о красоте на современный взгляд, потому так часто русская деревенская девушка «боярского» времени бывает перетянута в корсет и прыгает по сцене на «французскую современную манеру». Причина та, что учатся только петь, не получая хореографического образования271. Между тем как для каждого оперного и драматического артиста необходимо это образование, т. к. каждое движение есть т[ак] же важно, как каждый звук, из которого складывается тема.
399 [13]
[Выражение в движении]
Сейчас же многие подходят к стилю только с желанием передать форму стиля и редко кто передает сущность его.
[Для этого — зачеркнуто]
Для многих кажется совершенно лишним преподавание выражения, и признают его постольку, поскольку ученик сам от себя приучается выражать. Т. е., вернее, ученика учат, какие приблизительно позы могут подходить к данному моменту для выражения, [1,5 строки вымараны] остальное дополняется талантливостью артиста. Считаю, что каждый нюанс в выражении — это есть только высшая техника, умение распоряжаться своей мускулатурой в нужной линии, умение до конца эту линию [выдержать] и умение в движении выдержать [известный — зачеркнуто] ритм, сохранив рисунок (направление) движения. [Распоряжаться — зачеркнуто] Управлять таким образом своей мускулатурой может научиться каждый, и учить этому надо, т. к. не у каждого при наличии творческих данных есть это природное умение и даже у многих даровитых артистов в этом направлении из-за отсутствия школы в движении89* иногда отсутствует полная правда. В театре сейчас многие этот нюанс считают творчеством, [вот почему может — зачеркнуто] в музыке же есть грань между умением в вещи сделать все нужные нюансы, т. е. piano, forte и т. д. и, как передать эти нюансы [что уже есть творчество — зачеркнуто]90*
[14]
[Композиция танца]
[О композиции танца272, характерном танце — зачеркнуто]91*
Хочу [ознакомить — зачеркнуто] своих учеников приготовить к композиции танца, потому что до сих пор эта сторона самая слабая в нашем искусстве. Все композиторы-хореографы, так называемые балетм[ейстеры], бывают чисто случайны. В наших школах не знакомят с композицией, да и мало кто является в нашем искусстве настоящим композит[ором].
Так называемые балетмейстеры [чаще воспроизводят — зачеркнуто] всегда [чужие — зачеркнуто] уже кем-то поставленные танцы, т. е. только репетируют или еще чаще [оставляя самою идею произведения — зачеркнуто] извращают идею произведения92*, ставя другие движения и [выдавая за свои — зачеркнуто] придавая ими непонятый смысл балета, редко сочиняют свои балеты или танцы [чаще берут из небогатой по количеству ба[летов] — зачеркнуто].
400 [В нашем искусстве [известно — зачеркнуто] есть очень [мало] балетов. Чаще каждый балетмейстер берет один из балетов — зачеркнуто]
[Очень мало кто не только — зачеркнуто]
[15]
[Развить тезисы:]
1) Задачи школы
2) Программа школы и ее смысл
3) Законы школы как дисциплина
4) Отношение учеников к школе и задачам артистов
5) Обязательство распространения идей школы и ответственность
[16]
[Запись человеческих движений по системе В. И. Степанова.]
Вставая на защиту нашего искусства от профанации и спасения созданных шедевров, хочу провести в жизнь записывание танца по системе В. И. Степанова — партитуру балета.
[17]
[Школа Движений]273
[Темп в движении93* важен, так [как] — зачеркнуто]
Кроме направления и нюанса очень важны размер движения, «ритм», так, напр[имер], [рис.] — [важно], на какую точку движения приходится большая нота и какой она величины.

Надо хорошо слышать то чувство, то [настроение — зачеркнуто] состояние, которое надо передать. Надо сейчас же переставить это [настроение — зачеркнуто] состояние на дыхание, и это будет та мелодия, которой управляется движение94* (если движения еще не даны, артисту, хорошо вслушавшись в мелодию своего внутреннего состояния, эти движения сами выявятся).
Пример:
Поднимаю радостно руки вверх и еще сильнее расширяю грудь дыханием. Руки там наверху должны раздвинуться, грудь расшириться дыханием, [она] как бы влезает в руки, раздвигает их.
401 При вздохе не может быть опускающихся движений, а должны быть поднимающиеся (руки, плечи, голова) и обратное при выдохе.
Поэтому так смешно [то] ([см.] пр[имер] № 1), что незаконно. Если все движение посылается, не может быть обратного движения95*. Другое дело, если опускание тех же рук помогает движению вверх.
Одно движение входит в другое, в каждом движении должна быть точка, куда отправляется движение.
Все тело должно соответствовать данной точке. [Так, например, не может быть протянута рука вперед — зачеркнуто] Я не говорю — если рука протянута вперед, то всегда надо, чтобы все тело тянулось к этой точке. Но должно, [если] голова отвернута от той точки, к которой протянута рука, — эта голова должна быть так отвернута, что если протянуть линию к той точке, которая в повороте головы указывается, от чего отвернута голова, эта точка должна совпадать с точкой направления руки.
Положение тела
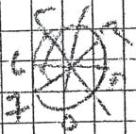
1) В каком плане стоит все тело96*. [Рис. — План точек зала]
2) Куда поднята рука, нога, [насколько — зачеркнуто] вперед, в сторону… Выдвинута вперед, назад…
3) На какой ноге точка опоры.
4) На сколько градусов поднята рука… отведена или приведена от основной точки вперед-назад.
5) Нормальное ли положение руки? Есть ли разгибание, сгибание, вращения? Также в корпусе (поясе, тазобедренном суставе, в грудных позвонках), в шейных позвонках.
Направление движения
1) Необходимо видеть ту дорогу, рисунок, по какому идет движение. Мысленно надо видеть дорогу, и все тело внутренне участвует в этом пути, не пропуская, не перепрыгивая. Впиваясь в дорогу, не позволяя себе отклониться — оборвать ниточку97*.
2) Видеть, от какой точки к какой делается движение, от какого положения к какому приходит98*. (От точки к точке — какие положения тела.)99* 402 Очень важно, откуда отправляется движение — от плеча, груди, кисти руки, всего тела. [Так же важно], к себе собирается движение или от себя посылает[ся].
3) Точка, [где] считать — где задерживается движение или, не задерживаясь, меняет положение тела (отдельной части тела), позиции.
Пример [рис.]
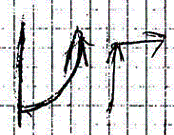
Размеры и ритмы движения100*.
Какого размера движение (
![]() ).
Есть ли остановки на точках, куда отправляется движение (какого размера?), или
это проходящие т[очки] без остановки?
).
Есть ли остановки на точках, куда отправляется движение (какого размера?), или
это проходящие т[очки] без остановки?
Постепенно ли меняется положение тела в движении или на точке, а потом несется в движении.
В каком ритме (нюансе) делается движение: совсем ровно идет от удара раз-два или, помещаясь в удар раз-два, начинается медленно, кончается быстрее или в середине замедляется или ускоряется — отрывисто или свободно: staccato — legato.
Ритмы
Зажато ли дыхание или свободное [какое напряжение — легко или до конца — зачеркнуто].
Главное — тот ритм, тон [?], в котором все ведется. Видеть дыхание не органическое (это тоже очень важно), а дыхание всей вещи. Их бывает 3 – 4 – 5.
Пример. Все ведется к усилению, потом спускается, опять поднимается и т. д.
Эти 3 – 4 – 5 дыхания ровные или с каждым усиливается или уменьшается.
Эти большие дыхания складываются как из маленьких. Эти маленькие дыхания дослышать в себе, они дадут нужный ритм с движениями. Эти дыхания [передаются — зачеркнуто] должны передаваться возможно ярче. (При этом совсем не нужно заставлять легкие напрягаться. Я говорю о [нрзб.], котор[ыми] возможн[о] достигнуть движения [?]).
Удары, движения, динамика
Какая сила напряжения: совсем почти свободное тело, или чуть напряженное, или очень напряженное.
Движение, которое чуть трогает, или движение, которое может ломать. Движение взято до конца или чуть-чуть у конца задержанное. Развернуто или опять [остается] возможность напряжению тела. Должно сопоставить контрнапряжение. Все движения не в пустоту, а ложатся на что-то. Таким образом, действует не только один артист — атмосфера участвует.
Напряжение ровной силы или набирается, и где оно опускается. Есть ли совсем выключение напряжения и опять сжимаются мышцы или спущены до минимума, но не опущены.
403 [3 строки вымараны.]
Сила напряжения в теле одна не дает впечатления. Необходимо чувствовать атмосферу — густота атмосферы должна отвечать.
_______
[Как должно — зачеркнуто] Говорю о примитиве ощущения. Гнев. Гнев есть разный — почему он возник: от раздражения [ли], оскорбления, ненависти. В ком он возник? в человеке благородном, негодяе, [1 слово вымарано], мерзком и т. п.
Артист должен хорошо видеть, отчего возникает и в ком возникает [ощущение], что вливается и во что вливается, для того чтобы потом передать.
Чем глубже будет видеть художник, тем ярче, правдивее будет искусство.
Не увидев до конца — невозможно творить.
_______
Для меня
Надо разработать, узнать, что [недописано]
Надо узнать кроме внешнего (движения, звука), что значат те лучи, которые как иголки вонзались в меня из другого человека (не во время творчества, а заурядной обиды) и которые, я чувствую, излучаются из меня во время моего творчества и т. д.
[3 слова вымараны.] Как этим повелевать, выработать в себе, освещать других. Чувствую, что это физиологические законы. Надо узнать, в чем дело? Артисту [кроме не — зачеркнуто] мало интуитивно делать, надо знать, как выработать, развить — я говорю о человеке, в котором есть способность к творчеству.
_______
Несу и в классическом танце то настоящее — правду, что считается почему-то новым. Я не отрицаю классических танцев, но не делаю бессмысленных приседаний. Для меня это дыхание, и беру его только там, где нужно, и столько, сколько нужно. Приседаю подряд много раз. Я дышу. Это хорошо. Раньше это вызывало бы смех — приседание на арабеск 5 – 6 раз подряд! Потому что не вкладывали смысла. В движении не было мелодии. «Pas» нагромождались, искался эффект неожиданности движений, эффект прыжков, эффект верчений. Не вкладывался смысл, не пели [?] вместе с музыкой.
Аттитюд (attitude) не был повышением.
[В танце не считались — зачеркнуто]
_______
1) Точка, куда посылается движение.
2) Точка, откуда стягивается это движение.
3) Эти точки, которые мы приближаем, удаляем, посылаем [совсем — зачеркнуто], топим в пространстве, дают нам возможность раздвигать стены, переносить зрителя за собой.
Эти точки должны быть определенными101*.
404 Это дает представление — зритель творит невидимое «существо» со всем его отношением к действующему.
_______
1) Глаза важны.
Иначе, т. е. все движения тела стекаются к этой точке (и обратно). Вся я плыву до тех пор, пока не достигаю этой точки. Для артиста эта точка реальна, этим он сотворяет театр вокруг себя.
[18]
Какое несчастье, что в искусстве руководствуются как главным — формой. Ее разрабатывают, утончают, изменяют до неузнаваемости. Только знать чувство, какое хочу передать, в нем разобраться, увидеть, почувствовать ритм, [дикий], напряжен[ный], увидеть движение и тогда звук, краски движения102* сами вылезут такие, как нужны.
[19]
[Дать маленькое руководство — зачеркнуто] не тем, кто хочет по книге научиться, а уже готовым артистам, имеющим основную технику, дать несколько ответов о вещах, не замечаемых ими сейчас, но бесконечно важных, [нужных — зачеркнуто] без которых [нет — зачеркнуто] не может быть правды в творчестве.
[Дать несколько советов коллегам — артистам сцены — зачеркнуто]274.
[20]
Грим линиями, понятие о движении внутреннем. [Линии] скрещивающиеся, расходящиеся, можно ли перечесть все виды?
Костюм дополняет форму нужных движений и красками (аккордом).
Сущность танца или всего человека.
Грим. Должен выражать главную сущность того, что передает артист [и что воспринимается — облик лица — зачеркнуто]. Личность светлую, яркую, темную, суровую линии должны подчеркивать.
У светлой не могут быть скрещивающиеся линии, краски ложатся такой гаммой, которая будет говорить. Все те главные нюансы должны быть переданы в тех немногих пятнах, которые возможны на лице.
Грим. Мутный общий тон, но глаза ярки, светлы103*.
[21]
Мысли и чувства.
Линии и движения.
Звуки.
Краски.
405 [22]
Каждое движение — танец.
Танец — это эссенция моего духовного состояния.
_______
До сих пор декорации, костюмы и часто музыка в театре были как украшение или эффект — надо чтобы были как максимум помощи для выражения заложенной идеи в произведении.
[23]
1919 г., декабрь.
Костюм
Костюм должен подчеркивать те особенности, которые вкладываются в танец.
Пример. Если это характерный костюм, должно подчеркнуть в его линиях все хар[актерные] особенности, если [танец] построен только на главном [то] и все детали в костюме должны уйти [и должно бы — зачеркнуто].
[24]
[Размышления и наброски]
В каждом человеке есть Бог. В одном он спит, в другом сияет. Надо видеть в человеке только хорошее [и от этой искорки зажигать костер, в котором хорошего — зачеркнуто], этому хорошему дать расти, а не видеть дурное и [не] стараться унизить. Когда подходим к человеку, невольно подходим со своей меркой, если нет в нем того, что считаем в себе хорошим, часто выносим приговор, что плох человек. Но возможно, что в нем прекрасно то, что во мне дурно, — его хорошее другого качества и потому часто так трудно это увидеть.
[25]
1918 февраль.
Идти навстречу жизни и с покорностью принимать все, что нам предназначено — безумная смелость. Многие думают, что в них мощная сила, если они «строят» свою «благополучную» жизнь [избавляют — зачеркнуто]. Это есть трусость, успокаивающая себя [тем], что [изменив] некоторые обстоятельства [этим они минули — зачеркнуто], силой своей побороли несчастья.
Нет, я не клоун. Я не хочу венков, не хочу рукоплесканий. Хочу, чтобы сияние столбом брызгало из меня, зажигало костер в каждой душе, и только этот пожар был бы мне наградой.
[26]
[Выписки из книг и статей]
[Из книги В. Я. Светлова «Современный балет»]275
По историческому недоразумению почему-то балет эпохи Петипа называется «классическим». Слово «классицизм» вызывает представление о греческом античном танце, где не было никаких трудностей, где все есть пластичность, примитив, начало танца. Классическим же танцем сейчас почему-то называют виртуозно акробатические танцы276.
_______
406 Симфонические жанры в области балета (исходя только от музыки)277.
_______
«Шопениана» — первый балет без сюжетного либретто278.
_______
[1 строка вымарана.] Танец тесно связан с культом веры эллинов. Танец был выражением только настроения. Позже [танцы] утратили эмоциональный характер и стали ритуальным процессом богослужений279.
_______
Камарго первая создала несколько классических «pas» — уйдя первая от менуэта и гавота. Она же первая укоротила свое платье в 1721 г.280
_______
Япония
Современная гейша имеет при себе девочек, так называемых «майка». Гейши сами не танцуют — танцует майка. Майку покупают и учат, [она] делается полной собственностью гейши. После 20 лет майка сама делается гейшей. Гейша когда-то была самая интеллигентная и высокопоставленная женщина в общественных кругах. Сейчас низведение к объекту забавы, к синониму бездомности и безнравственности.
«Название японской певицы и танцовщицы словом “гейша” можно найти в литературных произведениях только позднейшего происхождения…». В древние времена этот класс женщин назывался «сирабиоси».
«Сирабиоси как особый класс существовали в начале XII столетия, во времена наивысшего разврата в Японии. Тогдашняя столица Киото является [являлась] центром цивилизации и в то же время центром, откуда исходили роскошь и расточительность. [Вот] в эти-то времена упадка нравов и выделяется из общего целого отдельная корпорация женщин, занимающая высокое положение в обществе, и получает название “сирабиоси”. Название это дается им с целью отличить их от “якуйн” — женщин легкого поведения.
Сирабиоси резко выделялись в обществе своим умением танцевать, петь, а также читать и писать литературные произведения.
Танцевали они тогда под аккомпанемент флейты и тимпана. Носили цветное, обтягивающее во время танцев их тело кимоно со шлейфом и шпагой, которая [впрочем] скоро была выведена из моды.
Их чарующая игра на разных музыкальных инструментах, эластичность во время танцев, утонченная вежливость, привлекательная наружность, живость, ловкость, грациозные манеры и литературный талант — все это доставляло [доставило] им блестящее положение в [светском] обществе.
Сирабиоси являлись необходимыми гостями во время веселья закаленных в боях [честных] самураев.
407 [Словом] социальное положение в японском обществе сирабиоси можно считать равносильным тому известному из истории Греции104* влиятельному классу женщин, среди которых находили себе отдых светило времени Перикл и отец философии Сократ.
В отношении [высоты] добродетели сирабиоси, их чистоты и целомудрия можно заметить, что они являлись идеалом нравственности не только для современников, но и для последующих поэтов и писателей, которые обогащали свои произведения лишь тем материалом, который они черпали из жизни сирабиоси» («В гостях у японских гейш». Очерк Петра Чечина281).
Сирабиоси сопровождали священные церемонии. Сотни сирабиоси участвовали в торжественных церемониях. Сирабиоси выступали в торжестве праздника в качестве танцовщиц282.
_______
«Пора покончить и со смутными, бессвязными воспоминаниями об истинном искусстве, дошедшем [дошедшими] до нас от греков, и отбросить их, поскольку они не могут светить новым светом. Многое должно теперь погибнуть; это новое искусство пророчит близкую смерть не одному только искусству. Его влияние будет смущать и всю нашу современную цивилизацию, когда смолкнут насмешки, вызванные пародиями на него» (Ницше, «Рихард Вагнер в Байре[й]те»)283.
[27]
[Так как творчество бывает только тогда, когда углублен в свое чувство и менее всего о нем думаешь, потому что в это время его совсем нет — зачеркнуто]
Зависть и соперничество должны исчезнуть, ведь творчество есть выражение только моих чувств, так может ли с этим кто-нибудь соперничать.
Надо, чтобы перестали заботиться о форме105* — это приводит к акробатизму, к трюку, глубокие [переживания — зачеркнуто] чувства всегда выльются в прекрасные формы.
[28]
Что я хочу
Хочу, чтобы искусство танца вновь жило.
Хочу, чтобы бессмысленные акробаты вновь стали творцами.
Хочу, чтобы исчезли кокотки от искусства, чтобы искусство не было средством для достижения своих низменных целей.
Надо, чтобы поняли все наконец, что искусство — это есть творчество, что творить может не каждый, [а только даже и глубоко чувствующий — зачеркнуто] а очень редко кто.
408 Надо уничтожить профессионалов. Творец должен переживать только творимое (свои чувства), но [никак — зачеркнуто] не опьяняться восхищением толпы — потому что тогда нет творчества. Артист, переживающий хлопки, всегда будет акробатом, он будет всегда искать трюков в той или иной форме, чтобы [быть — зачеркнуто] взять на свою сторону толпу.
Надо перестать хвалиться своей способностью творчества106*, не ощущать на сцене восхищения перед своим творчеством.
Если творчество — моя потребность, в творчестве — мое счастье!
Если творчество есть выявление и заражение моими чувствами, как надо работать над собой!
Как надо воспитывать свои чувства, чтоб творчество было ценно.
Если самые тяжелые обстоятельства окружают меня, и я продолжаю, работаю над собою — это [то], что надо.
Если обстоятельства начинают мешать мне — надо уничтожить то чувство, которое обращается к этим обстоятельствам, а не бороться с обстоятельствами107*. Если сосредоточусь на внешней стороне жизни, потеряю внутреннюю — потеряю счастье, обесценю284.
[29]
[Список книг]285
«Театр» Макса Буркгардта, перев. Соловейчик286.
«Небесные сны» З. Гиппиус287.
«Театр» лекции Карла Боринского, пер. Б. В. Варнеке изд. 1902288.
«Игрушки» Сборник. Изд. т-ва Сытина289.
«Воспитательное значение игрушки» В. Малахиева-Мировича («Игрушка». Изд. Сытина)290
«Игрушки у малокультурных народов» [В. Харузиной]291.
«Необыкновенные страдания директора театра» Э. Т. А. Гофмана.
«Реклама как фактор внушения» М. Огирь292.
«Похвала глупости» Эразм (Роттердамский).
«Веселая наука» Ницше293.
«Замечательные чудаки и оригиналы» М. И. Пыляева294.
«50 лет артистической деятельности Эрнесто Росси» С. И. Лаврентьевой295.
«Театр» Германа Бара296.
«Людовик II Король Баварский» В. Александровой, ред. Волынского297.
«Ecce Homo» Ф. Ницше, книгоиздат. «Заря» 1911298.
409 «Несвоевременные размышления»: «О пользе и вреде истории для жизни» Ф. Ницше. [В той же книге:] «Шопенгауер как воспитатель». «Рихард Вагнер в Байрейте». Издание Д. П. Ефимова, Москва, Моховая, дом [гр.] Бе[н]кендорфа299.
Гартман. Философия300.
Плутарх.
«Искания» Уайльда. «Замыслы» Уайльда301.
«Каин», «Земля и небо» — мистерии Байрона302.
«Размышления о том, что важно для самого себя» Антонин Марка Аврелия303.
Аристотель. Этика304.
Ломброзо. Гениальность и помешательство.
Платон. Творение. Жизнь и произведения. Сократовская борьба305.
Платон. Пир. Беседа о любви306.
[Балет в опере]307
[30]
Раньше, чем писать о балете, хочу установить свою точку понимания о балете. [Балет есть движение. Каждое движение — танец. — зачеркнуто]
_______
Балет в старой опере был тем же, чем была сама опера. Кажущаяся нам теперь нелепость, поистине очаровательная наивность, не желающая видеть реальность, но не могущая вырваться из нее. Наивность эта отвела и балету в опере совсем не [перво]степенное положение, где он мог себя проявлять — показывать, как певец показывал только голос и не «страдал» по действию.
Эволюционируя, опера пришла к логической связи в действии — балет же остался все той же нелепостью; если прежде он был гармонично нелеп, сейчас он остался ненужно традиционно пришитым к опере. Всегда чувствуется натяжка в подходе, чтобы угостить публику танцем.
Балетный артист должен быть прежде всего «статистом», одним из «инструментов оркестра».
Оперный артист (хорист, певец) должен быть совершенен в движении. Ни один тон не может быть не оправданным музыкой и действием. Вся опера в действии (не в пении) должна быть «балетом». Надо заставить хор, балет, певцов быть оркестром на сцене по действию, где каждое движение есть нужный звук, а произвольное движение — разрушение.
Только такое место искусство хореографии должно занять в опере308.
[31]
Не может балет в опере оставаться в таком виде, как он [есть — зачеркнуто] был до сих пор.
[Пора все в — зачеркнуто] В корне надо изменить как действие балета в опере, так и отношение самих танцовщиц-[танцовщи]ков к своему участию.
Не может балет оставаться в опере антрактным по действию, нельзя, чтобы он скрывался [за кулисами], «отбарабанив» свои танцы. Надо, чтобы танцовщицы не 410 были только «балетом», а [стали] действующими лицами — [надо] слить их в одно с действием. Надо каждый выход и уход балета на сцену оправдывать, связывать с действием. Там, где нет этой связи по партитуре и либретто, режиссер должен найти выход и связь.
Немедленно надо сделать все, чтобы поднять культурный уровень «балета» [нрзб.] Заставить прослушать небольшой курс о стиле, музыке, литературе. В опере до сих пор многие танцовщицы и танцовщики имеют представление о стиле только такое — поскольку он нарушает старый «классический» выворотный балет, — [есть] даже название «стильные движения», если они не на выворотных ногах. О нужном гриме, прическе танцовщицы оперы не имеют [в большинстве — зачеркнуто] никакого понятия108*. Все сводится к хорошенькому личику, которое должно кому-то понравиться.
[32]
Сами движения-танцы идут в большинстве опер вразрез со стилем, а передаются традиционные танцы, в которых балетмейстеры изменяют несколько комбинаций «pas», рисунок танца (планы), но смысл остается все тот же [бессмысленный — вычеркнуто] [неск. слов нрзб. — вычеркнуто] Балетмейстер, т. е. композитор танца, идет в полной несогласованности с режиссером, ставит дивертисментные номера, [а не воплощает] тот подход, который укажет режиссер109*. Режиссер же даже не контролирует эти танцы, [иначе почему они существуют в опере…110* — зачеркнуто]
Сами танцовщицы не совершенствуются в танце111*, между тем как всюду, кроме России, наряду с обязательными репетициями обязуют к [тренировке — зачеркнуто] урокам, без которых танцовщица пропадает так же, как и пианист. Почти все танцовщицы оперы — это играющие по слуху. Надо заставить их «выучить ноты» танца — это сразу поднимет уровень танцовщицы как танцовщицы и [для нее] откроется возможность к более серьезному и осмысленному танцу. Балетмейстеры оперы до сих пор не сделались композиторами [танца]. [Они] должны перестать думать, что публика видит только трудность движения, и [больше] не навязывать публике отношения к балету как к акробатам. Каждое движение нужно только как слово для передачи. До сих пор балетмейстеры не могут отделаться от старой 411 акробатической школы [стремящейся] поражать трудностью. Думаю, здесь много должен помочь режиссер, потребующий [который потребовал бы] от композитора [танца] определенного смысла и возможно большей силы в передаче его художественных вымыслов. Для балетмейстера он должен стать [толмачем] [нрзб.].
[33]
Балетмейстер же должен создать тот нужный ему кадр танцовщиц и каждый раз не только репетициями подготовлять их к выполнению, но иметь такие часы, где будет вкладывать в них и другую манеру, и другие возможности.
Первое время, пока не войдет в танце в привычку танцовщицы, должен быть кто-то, кто [со строгостью изгонял — зачеркнуто] бы из танцовщиц «куколок», следил за их гримами, прическами, костюмами, которые так легко испортить, в стиле эпохи неуместно капнув на них светящиеся украшения, без которых танцовщица оперы не может обойтись.
[Главным образом — зачеркнуто] [целом — зачеркнуто]
[Сами танцовщицы совсем не совершенствуются в своем искусстве, относятся как к работе «приятной», [2 слова вымараны] веселой, лучше других ремесел. Между тем искусство танца требует постоянной тренировки, всюду упражнения в танце ставятся в необходимость наряду с репетициями. — зачеркнуто] Многие танцовщицы не имеют даже небольшой школы и [недописано]
[34]
[Обустройство и задачи студии]
Устроить раздевальные комнаты с водопроводом.
Пудра, вазелин, грим.
В нашем зале маленькую сцену. Вуалей, обручей, мячей, немного [нрзб.] и холста для занятий практических.
Выставка-концерт молодых композиторов.
Дать возможность брать уроки фортепианной игры.
Устроить мастерскую живописи, для понимания живоп[исцами] наших театр[альных] задач и обра[тно?] — учениками задач живописи. (Найти пути).
По воскресеньям концерт для знакомства с музыкой в широк[ой аудитории?] и для нас отдельно. Выставка живописи детей, рабочих, примитивов как материал для наших исканий.
Ношение костюма (показательно). Костюм как стиль и костюм как живописная задача. Ковры [Вешалки для [нрзб.] — зачеркнуто] Трапеции. Туфли. Веревочные лестницы. Танцевальные платья. Зеркала. Станки по стенам. [Расписанные — зачеркнуто] Ящики разных размеров и формы. Веревки.
412 Комментарии
Вступительная статья
1 Nijinska B. Sergei Pavlovich Diagilev. Неопубликованный очерк в переводе Н. Воллард. — Библиотека Конгресса (Library of Congress — LOC). Bronislava Nijinska Collection. Box 34. Fold. 3.
О своей работе в Киеве она также писала в «Reflections about the Production of Les Biches and Hamlet in Markova-Dolin’s Ballets» (The Dancing Times. 1937. February. P. 617 – 620). На одну из своих киевских работ Нижинская ссылалась в разговоре о сценическом жесте с критиком Фернаном Дивуаром после премьеры балета «Свадебка». (Divoire F. Decouvertes sur la Danse. P., 1924. P. 66).
2 Semenoff M. «Un entretien avec Bronislawa Nijinska». Вырезка из неидентифицированного периодического издания от 6 июня 1932 г., не нумеровано. — LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 116. Это одно из редких интервью, где Нижинская говорит о своих балетмейстерских амбициях. Более типичные для нее утверждения переданы в статье Дороти Бок Пьер (Dorothy Bock Pierre) «Бронислава Нижинская»: «… интереса к созданию хореографии у нее не было; она смотрела, как брат ставил свои балеты, и удивлялась тому, какая это трудная работа» (The American Dancer. 1940. Apr. P. 13). Как пишет в книге о женской автобиографической прозе Каролин Г. Хейльбрун, «… женщинам даже в XX веке невозможно было признаться в своих амбициях, свои успехи они приписывали счастливому случаю или чьей-то поддержке» (Heilbrun C. G. Writing a Woman’s Life. N. Y., 1988. P. 24.
3 Нижинская Б. Очерк автобиографии за период 1914 – 1934 гг. Недатированная машинопись. — LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 34. Fold. 18. P. 18.
4 Контракт между Михаилом Федоровичем Багровым, директором киевского Городского театра, и Александром Кочетовским. 2 июля 1915 г. — LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 46. Fold. 4.
5 Там же.
6 Городской театр // Последние новости. Киев, 1915. 28 сент. С. 4. Цит. по: Куринная М. Киевские годы Брониславы Нижинской // Балет. 2011. № 2/167. Март – апр. С. 42.
7 Там же.
8 Нижинская Б. Разрозненные записи, касающиеся Школы Движений и ее жизни в Киеве. — LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 66. Fold. 5.
9 Там же.
10 Там же.
11 Там же.
12 Бенефис Брониславы Нижинской // Последние новости. Киев, 1917. 31 янв. С. 4. Цит. по: Куринная М. Указ. соч. С. 42.
13 В Киеве Нижинская часто выступала в балетных дивертисментах и одноактных балетах, которые давали после опер, где пела Монская. Неожиданно в ноябре Монская заявила, что не будет выступать в один вечер с балетом. Вероятно, ее демарш был связан с тем, что в это время Киев был полон военных из Петербурга, а Нижинская, которая сама была из Петербурга, пользовалась громадным успехом и стала настоящим кумиром публики. Так Нижинская получила формально законный повод порвать контракт с киевским оперным театром в разгар сезона в ноябре месяце, для того чтобы уехать в Москву хлопотать о визах, необходимых для поездки в Испанию к Вацлаву (См.: LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 66. Fold. 5).
413 Ирина Нижинская в комментарии к неопубликованной главе «Ранних воспоминаний» «Первая мировая война и революция в России» (Ibid. Fold. 6) сообщает, что в проспекте школы Кочетовского в Техасе, опубликованном в 1950-х гг., сказано, что он был балетмейстером в Вене в 1917 г. О преподавании Нижинской свободного танца учащимся драматических и оперных курсов см.: Куринная М. Указ. соч. С. 42.
14 Нижинская Б. Очерк автобиографии… Л. 19.
15 Там же. Узнав о разрыве с Кочетовским, Вацлав Нижинский пишет в письме сестре 11 августа 1917 г.: «Мне невероятно тебя жалко. Я знаю, сколько ты страдаешь, оттого что не видишь Сашу. И тебе приходится все одной работать, для того чтобы пропитать себя, Мать и Ирочку» (LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 47. Fold. 10).
16 Свидетельство выдано третьим участком Мещанской части города Москвы Александру Владимировичу Кочетовскому, постоянно проживающему по адресу 1-я Мещанская улица, дом 66/68 с женой Брониславой Фоминичной Кочетовской для предъявления… 8/13 мая 1918 г. (LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 46. Fold. 4).
17 Нижинская Б. Очерк автобиографии… Л. 19 – 20.
18 См.: Нижинская Б. Школа и Театр Движений. 1918. — LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 55. Fold. 5. P. 97. См.: настоящую публикацию.
19 Nijinska B. World War I and Revolution in Russia: 1914 – 1921. — LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 70. Fold. 4. P. 66 – 12/13. Нижинская предполагала, что глава «Первая мировая война и Революция» будет последней в ее «Ранних воспоминаниях», но редакторы исключили эту главу из книги.
20 Nijinska B. On Movement and the School of Movement // Schrifttanz, 3. 1930. N 1. Apr. Английский перевод: A View of German Dance in the Weimar Republic / Ed. V. Preston-Dunlop and S. Lahusen. L., 1990. P. 55 – 60; On Movement and the School of Movement / Trans. A. Lem and Th. Proctor; ed. J. R. Acocella and L. Garafola // Baer Van Norman N. Bronislava Nijinska: A Dancer’s Legacy, exhibition catalogue. Fine Arts Museums. San Francisco, 1986. P. 85 – 88. Три русские версии см.: LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 55. Fold. 3, 7, 8.
21 См. наст. публ.
22 Nijinska B. World War I and Revolution in Russia: 1914 – 1921. P. 66 – 16.
23 Sarabianov D. Kazimir Malevich and His Art. 1900 – 1930 // Kazimir Malevich 1878 – 1935: Catalog / Ed. by Jeanne D’Andrea. Los Angeles, 1990. P. 166.
24 По вопросу эзотерического мышления, в том числе теософии и четвертого измерения, см. Washton Lonol R.-C. Kandinsky. The Development of an Abstract Style. Oxford Claredon Press, 1980. Chap. 2 (Visions of a New Spiritual Realm); Dalrymple H. L. The Image and Imagination of the Forth Dimension in Twentieth-Century Art and Culture // Configurations, 17. 2009. N 1. Winter. P. 131 – 160; Milne J. Kazimir Malevich and the Art of Geometry. New Haven, 1996.
25 Surits E. Studios of Plastic dance // Experiment/Эксперимент: A journal of Russian Culture. Performing art and the avant-garde. 1996. N 2. P. 158. В отношении Метнера отметим, что Нижинская в краткой справке, касающейся ее пребывания в Киеве, называет его «Траурный марш» одной из своих работ, указывает, что работала над этой постановкой в конце 1920-го и начале 1921-го г. и что работа была прервана из-за отъезда. Она пишет также, что Николай Самойлович Шерман был пианистом во время репетиций 414 и «возможно после моего отъезда перенес это в Москву» (LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 66. Fold. 5). Есть предположение, что он подал мысль о постановке этого марша Касьяну Голейзовскому, который поставил его в 1921 г. О постановке Голейзовского см. Суриц Е. Я. Хореографическое искусство двадцатых годов: Тенденции развития. М., 1979. С. 168. В личной беседе 11 июля 2011 г. Суриц подтвердила, что такое не исключено. Работа Голейзовского была показана 11 декабря 1921 г. в Колонном зале Дома Союзов.
26 См.: Ратанова М. Ю. Бронислава Нижинская в тени легенды о брате // Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания: В 2 ч. / Пер. с англ. И. В. Груздевой. Вступ. статья М. Ю. Ратановой, коммент. Е. Я. Суриц. М., 1999. Ч. 1. С. 12.
27 Таиров А. Я. Записки режиссера // Таиров А. Я. О театре / Сост. Ю. Головашенко и др. М., 1969. С. 93.
28 Там же. С. 91.
29 Там же. С. 132.
30 Nijinska B. On Movement and the School of Movement // Baer Van Norman N. Bronislava Nijinska. A Dancer’s Legacy… P. 85.
31 О работе М. М. Мордкина в Камерном театре см. Суриц Е. Я. Артист балета Михаил Михайлович Мордкин. М., 2003. С. 95 – 99.
32 Запись Б. Нижинской от 6 мая 1924 г. — LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 59. Fold. 3.
33 Nijinska B. World War I and Revolution in Russia: 1914 – 1921. P. 66 – 13.
Согласно Кочетовскому, который не является особо достоверным источником, он был ранен и попал в госпиталь в 1917 г., после чего послан в Киев, чтобы снова занять пост балетмейстера Городской оперы, затем он вместе с семьей уехал в Москву, где «жить стало невозможно», потому что «Броне не нравилась Москва и ей не нравились Сашины родственники» (См. Kotchy’s Escape from Revolutionary Russia. [Биографическая рукопись неизвестного автора]. — LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 46. Fold. 4. P. 1). Сама Нижинская пользуется словом «примирение» в «Очерке автобиографии…» (P. 20). О возвращении в Киев Нижинской и ее мужа сообщалось в киевской газете «Последние новости» от 15 октября 1918 г. Сообщено Г. Ф. Коваленко.
34 О театре «Летучая мышь» см.: Театр и музыка. Спектакли «Летучей мыши» // Киевская мысль. 1918. 31/18 окт. С. 3; О Евреинове и студии Мордкина см. в том же издании анонсы 6 нояб. / 24 окт., 1918. С. 1; 11 окт. / 28 сент. С. 1, а также в рубрике «Городской театр» (1918. 9 окт. / 26 сент. С. 2).
35 Цит. по: Коваленко Г. Киев. 1918: Александра Экстер и ее студия // Ukrainian modernism / Украïнський модернiзм: 1910 – 1930. Киïв, 2006. С. 116.
36 Тем не менее в 1939 г. Нижинская въехала в США по Нансеновскому паспорту — документу, который выдавался Лигой Наций для беженцев без гражданства. Этот документ стал основой для Affidavit of Identity (письменное показание, данное под присягой и удостоверяющее личность), которое давало ей возможность выезжать и въезжать в США вплоть до 1949 г., когда она получила американское гражданство. Вот выдержка из этого документа: «Я пользуюсь данным свидетельством потому, что являюсь эмигранткой, покинувшей Россию во время революции. Я жила по Нансеновскому паспорту, выданному во Франции и действительному на момент моего прибытия в США. Когда после оккупации Франции я обратилась к французскому консулу в Нью-Йорке, 415 он ответил, что не может выдать аналогичный документ (или продлить действие данного документа) и что ему необходимо обратиться за инструкциями в Виши. Полная оккупация Франции произошла раньше, чем данные инструкции были получены, и я осталась без какого-либо документа, удостоверяющего личность. В данный момент выдача Нансеновских паспортов остановлена. Таким образом, я являюсь русской, не имеющей гражданства». (Свидетельство, удостоверяющее личность, выдано в штате и графстве Нью-Йорк 8 июля 1947 г. (LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 46. Fold. 1). Там же: «Свидетельство о крещении Льва Кочетовского», выданное Римско-католическим храмом Св. Александра в Киеве 14 июля 1919 г.; на русском и латинском языках с переводом на французский; «Свидетельство о разводе» № 623, 22 апреля 1924 г. с переводом на французский (LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 46. Fold. 4); Регистрационная карточка № 30 45, на польском языке, выданная в Тарнополе 10 мая 1921 г. (LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 46. Fold. 1); различные паспорта, в том числе польский паспорт Нижинской, выданный в Варшаве 19 мая 1921 г. и Нансеновский паспорт, выданный в Париже 11 августа 1939 г. (LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 46. Fold. 11).
37 В интервью Эмилю Дефлену, помещенном на первой странице газеты «L’Intransigeant» от 13 июня 1912 г., Нижинский решительно утверждал: «Вы, вероятно, знаете, что я не русский. Я поляк, родился в Варшаве в 1890 г.». Интервью полностью воспроизведено: Fraser J. The Diaghilev Ballet in Europe: Footnotes to Nijinsky, Part Two // Dance Chronicle, 5, 1982. N 2. P. 163 – 165.
Письма матери Нижинская писала по-польски, лишь изредка переходя на русский (LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 79. Fold. 1).
38 Нижинская Б. Мой брат, Вацлав Нижинский. Машинопись неизданного перевода, сделанного, вероятно, Н. Воллард, с примечаниями И. Нижинской. — LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 47. Fold. 2. P. 72.
39 В архиве Нижинской хранятся четыре неозаглавленных списка имен (LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 66. Fold. 5). Сведения о том, что Шифрин оформлял номер «Петрушки», содержатся в дневниковой записи от 29 декабря 1919 г. (по старому стилю). См. наст. публ.
В книгах по искусству нет сведений о сотрудничестве Шифрина с Нижинской. См. Казовский Г. Художники Культур-Лиги / Kazovsky H. The Artists of the Kultur-Lige. Москва/Jerusalem, 2003 (5736) и другие статьи в: Ukrainian modernism / Украïнський модернiзм: 1910 – 1930. Киïв, 2006; Modernism in Kyiv: Jubilant Experimentation / Ed. I. R. Makaryk and Virlana Tkacz. Toronto, 2010; Tradition and Revolution: The Jewish Renaissance in Russian Avant-Garde Art 1912 – 1928 / Ed. R. Apter-Gabriel. Jerusalem, 1987. Тем не менее, в короткой биографии Шифрина в «The Jewish Renaissance…» отмечено, что в 1920 г. он сделал эскизы декораций к пьесам Мольера и Сервантеса для Русского драматического театра и к балету Стравинского «Петрушка» (p. 244). Вполне возможно, что это именно та постановка, которую Нижинская упоминает в своем дневнике.
40 Куринная М. Указ. соч. С. 44.
41 См.: Коваленко Г. Александра Экстер: В 2 т. М., 2010. Т. 2. С. 14 – 15.
42 Черновик письма Б. Ф. Нижинской А. Б. Накову [1971]. — LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 65. Fold. 2.
43 Письмо А. А. Экстер Б. Ф. Нижинской. Без даты. Автограф. — LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 72. Fold. 32. Опубл.: Коваленко Г. Александра Экстер. Т. 2. С. 308 – 309.
44 416 См.: Письмо А. А. Экстер Б. Ф. Нижинской от 28 марта 1924 г. Автограф. — LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 72. Fold. 32. Опубл.: Коваленко Г. Александра Экстер. Т. 2. С. 308 – 309.
45 См.: Там же. С. 47.
46 Nijinska B. On Movement and the School of Movement. P. 85.
47 См. Horbachev D. In the Epicentre of Abstraction // Modernism in Kyiv… P. 175.
48 Сведения об адресах студии Нижинской содержатся в разнородных бумагах (LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 66. Fold. 5). Черновой набросок объявления студии на Фундуклеевской воспроизведен Марией Ратановой в статье «The Choreographic Avant-garde in Kyiv, 1916 – 1921: Bronislava Nijinska and Her Ecole de Mouvement» (Modernism in Kyiv. P. 316). В «World War I and Revolution in Russia: 1914 – 1921» Нижинская пишет о том, что снимала помещение студии в частном доме князя Трубецкого и Вишневских на Фундуклеевской улице (P. 66 – 14). Об адресе студии Экстер см. Horbachov D., Bowlt J. E., Chauvelin J., Filatoff N. Alexandra Exter. P., 2003. P. 10.
49 Mudrak M. M. The New Generation and Artistic Modernism in the Ukraine. Ann Arbor, 1986. P. 144.
50 Schüller G. Nijinska’s «Studio» and the Beginning of Choreographic Activity. — LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 55. Fold. 1. Нижинская упоминает классы движения в автобиографическом фрагменте (LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 66. Fold. 5).
51 Куринная М. Указ. соч. С. 43.
52 В переработанном экземпляре некоторых ранних дневниковых записей Нижинская уточняет, что костюм, упомянутый в записи от 27 декабря, был не новым, а являлся переработкой бакстовского эскиза черно-зеленого костюма, сделанного ее брату для балета «Бабочка» (LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 65. Fold. 4). О фотографии Нижинской в переработанном костюме для «Бабочки» см.: Baer Van Norman N. Bronislava Nijinska. A Dancer’s Legacy… P. 21.
53 Вечер Брониславы Нижинской // Киевский день. 1920. 8 июня. С. 2.
54 Куринная М. Указ. соч. С. 43.
55 Внучка Меллера Нина Ветрова говорила, что эти работы являются скорее «записью танцевальных движений», чем эскизами костюмов (Modernism in Kyiv. P. 320). Это картины большого размера, и на них нет указаний для изготовления костюмов, поэтому маловероятно, что они являются традиционными эскизами, хотя краски и геометрические формы могли подсказать выбор ткани и кроя танцовщикам, которые сами шили свои костюмы. Записью танцев эти изображения, конечно, тоже не являются, потому что реконструировать движения по содержащейся в них информации невозможно. Их скорее можно охарактеризовать как впечатления от Нижинской, увиденной глазами художника-модерниста.
56 См. воспоминания А. В. Смирновой-Искандер, цитируемые в статье М. Ю. Ратановой «Бронислава Нижинская: в тени легенды о брате» (Нижинская Б. Ранние воспоминания. Ч. 1. С. 12).
57 Там же. Ч. 2. С. 99 – 109.
58 Там же. С. 199.
59 Письмо Б. Ф. Нижинской С. П. Дягилеву. 1921 г. Черновик. — LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 72. Fold. 4. В «Очерке автобиографии…» (л. 22) она высказалась лаконичнее: «Я не хочу быть звездой — я просто Нижинская!»
60 417 Отдельная запись. Без даты. — LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 65. Fold. 1. Записная книжка 1.
61 Нижинская Б. Школа и Театр Движений. См. наст. публ.
62 Schüller G. Nijinska’s «Studio» and the Beginning of Choreographic Activity. Шюллер, написавшая диссертацию о Нижинской, брала интервью у бывших ее учеников, Анны Воробьевой и братьев Сталинских.
63 Divoire F. Découvertes sur la Danse. P. 66. «Мерзостью» она называет свою работу в дневниковой записи от 24 января 1920 г.
64 Цит. по: Schüller G. Nijinska’s «Studio» and the Beginning of Choreographic Activity.
65 Divoire F. Découvertes sur la Danse. P. 66.
66 Терещенко М. Кризь лет часу. Киев, 1974. С. 12 – 13. Цит. по: Куринная М. Указ. соч. С. 43.
67 LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 66. Fold. 1. Этот фрагмент есть в блокноте, датированном 1925 г. Многие его идеи напоминают трактат Нижинской.
68 Нижинская Б. Ф. Автобиографические записки. — LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 66. Fold. 5.
69 Nijinska B. World War I and Revolution in Russia: 1914 – 1921. P. 66 – 10.
70 В письме, написанном после отъезда (10 сентября 1922 г.) Нижинской, ее подруга Нина Моисеевна пишет: «Я помню, как ты болела от переутомления в России, и беспокоюсь, что ты опять слишком много работаешь» (LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 76. Fold. 51).
71 Письмо доктора Д. Я. Эпштейна. 10 апреля 1921 г. — LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 72. Fold. 27.
72 Faderman L. Surpassing the Love of Men: Romantic Friendship and Love between Women from the Renaissance to the Present. N. Y., 1981. P. 135.
73 Судя по объявлению в «Киевской мысли» (1 окт. / 28 сент. С. 1), Мордкин открыл студию в Городском театре осенью 1918 г. В ней были детские и взрослые классы балета, гимнастики, бальных танцев, а также выразительного («пластического») движения для оперных и драматических артистов.
74 Tkacz V. Les Kurbas’s Work at the Young Theatre in Kyiv // Modernism in Kyiv. P. 298.
75 Чистякова В. Главы из воспоминаний // Театр. 1992. № 4. С. 79. Премьера «Царя Эдипа» состоялась 16 ноября 1918 г., то есть через несколько недель после возвращения Нижинской в Киев. Речь, по-видимому, идет о репетиции одного из следующих спектаклей.
76 Курбас Л. Сегодня украинского театра и «Березиль». Харьков, 1927. С. 28.
77 Nijinska B. On Movement and the School of Movement // Schrifttanz. P. 56.
78 Rollot J. Les merveilleux ballets russes de Mme Nijinska // Paris-Soir. 1932. 5 June, n. p. — LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 116.
79 Куринная М. Указ. соч. С. 45. Я благодарна С. А. Конаеву за помощь в идентификации коллег Нижинской.
80 Лифарь С. Страдные годы: Моя юность в России. П., 1935. С. 211.
81 Там же. С. 213.
82 LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 66. Fold. 5.
83 Nijinska B. World War I and Revolution in Russia: 1914 – 1921. P. 66 – 18/20. Согласно ее рассказу, влиятельный польский офицер согласился незаконно переправить ее семью через границу, если она перенесет в туфлях незаконные бриллианты. Она отвергла это 418 предложение, опасаясь встречи с наступающими красными, которые автоматически расстреливали контрабандистов. Нижинская упоминает также летчика по фамилии Эске, который привез письмо от Ромолы, датированное 31 марта 1920 г., но полученное Нижинской только 25 июля. Он сказал, что возвращается в Вену, и обещал Ромоле вывезти Нижинскую с детьми, но что в маленьком самолете нет места для ее матери. Нижинская, отказавшись оставить мать, согласилась встретиться с Эске в предместье Киева. Он на встречу не пришел и, похоже, был провокатором. Единственным отражением этих событий в дневниках Нижинской является упоминание о несостоявшемся путешествии по железной дороге 31 июля.
84 Нижинская Б. Очерк автобиографии… Л. 21.
85 LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 66. Fold. 5.
Дневник
86 Автограф: LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 59. Fold. 1.
Дневник Б. Ф. Нижинской представляет собой общую тетрадь в линейку, купленную в киевском писчебумажном магазине (Товарищество Парфиненко и Самоненко; Крещатик, 20), в которой сделаны записи с декабря 1919 г. до августа 1921 г. Последующие записи, с 20 сентября 1921 до конца января 1922 г., сделаны в аналогичной тетради в линейку, обложка которой не сохранилась, вложенной в первую тетрадь. Одну часть дневника от другой отделяет белая страница с надписью «вложено» (insert), которая была вставлена архивистом.
87 Еврейская студия — Балетная еврейская студия, в которой работала Б. Ф. Нижинская, была организована в 1920 г. при «Культур-лиге» («Культурной лиге»). «Культур-лига» — объединение еврейских художников, писателей, режиссеров и издателей, учрежденное в январе 1918 г. в Киеве с целью развития культуры на языке идиш, и просуществовавшее до конца 1920 г. Имело ряд секций, в том числе театральную под руководством Э. Б. Лойтера. Открыло в Киеве Народный университет, гимназию, учительскую семинарию, издательство, художественные студии, музей и др. Материально «Культур-лиге» помогала американская организация АРА (American Relief Administration), созданная для оказания помощи европейским странам, пострадавшим в Первой мировой войне.
88 Новый Молодой театр — 15 марта 1919 г. Молодой театр, работавший с 1918 г. в Киеве, был национализирован и получил название Первый молодой театр. Через месяц был объединен с Первым театром УССР им. Т. Г. Шевченко. В новом коллективе «курбасовцы» чувствовали себя неуютно, что привело к их уходу и созданию Киевского драматического театра (Кийдрамте) во главе с Лесем Курбасом. Когда Нижинская пишет «новый Молодой театр», она, видимо, имеет в виду некое возрождение Молодого театра, тех принципов, которыми руководствовались его создатели.
89 Приглашают Санина и Попова… — Возможно, имеются в виду театральные деятели мхатовской ориентации: Санин (наст. фам. Шенберг) Александр Акимович (1869 – 1956), актер, режиссер, начинавший в Обществе литературы и искусства вместе с К. С. Станиславским, а затем вступивший в МХТ при его создании (1898 – 1902), и Попов Николай Александрович (1871 – 1949), режиссер, драматург, театральный деятель, ученик Станиславского. В 1910 г. работал в Киеве в театре Соловцова.
90 В моей школе такие трогательные ученики. — Б. Ф. Нижинская в дневниках много пишет о своей школе, которую открыла в Киеве в феврале 1919 г. См. о ней во вступ. статье. О том, 419 какие цели она преследовала, создавая школу, написано также в «Трактате» Нижинской (см. наст. публ., а также каталог выставки в Сан-Франциско, посвященной Б. Ф. Нижинской: Baer Van Norman N. Bronislava Nijinska: A Dancer’s Legacy… P. 18 – 21, 85 – 87.
91 Все празднуют день моего рождения. — Нижинская родилась 27 декабря (ст. стилю) 1891 г. в Минске.
92 Нету Нины с нами сегодня, она все [нрзб.] с нами. — Речь идет о Нине Федоровне Липской (1901 или 1903 – 1967), одной из учениц школы Нижинской, уехавшей из Киева в 1919 г. В начале 1920-х гг. она вышла замуж за инженера Николая Сиротинина, чей отец Василий Николаевич Сиротинин, профессор, лейб-медик, лечил, в частности, Константина Константиновича, великого князя и поэта. Во время Гражданской войны В. Н. Сиротинин был председателем медицинского Совета при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России генерале Деникине, затем эмигрировал в Сербию, а с 1924 г. обосновался в Париже. Липская тоже оказалась в Сербии. У нее тоже было медицинское образование, полученное в Санкт-Петербурге и Киеве. Нижинская была крестной матерью Ирины Сиротининой, дочери Николая Сиротинина и Нины Липской. (Ирина родилась в Париже в 1925 г.) В их семейном архиве сохранились письма Б. Ф. Нижинской (Сообщено Л. Гарафолой).
93 … непривычка к другому по твердости костюму. — Возможно, имеется в виду переделанный костюм Л. С. Бакста для В. Ф. Нижинского, когда тот исполнял в 1909 г. номер «Бабочка» Н. Г. Легата (на музыку из балета Б. В. Асафьева «Белая лилия»). Б. Ф. Нижинская использовала его для номера «Ужас» (без музыки). В этом костюме Нижинская танцевала также в Вене (сохранилась фотография, опубликованная в каталоге: Baer Van Norman N. Bronislava Nijinska: A Dancer’s Legacy… P. 21).
94 Делала «Петрушки» — Так, почему-то во множественном числе, Б. Ф. Нижинская называет балет «Петрушка» М. М. Фокина на музыку И. Ф. Стравинского. В этом балете, который был поставлен Фокиным в труппе «Русские балеты Сергея Дягилева» в 1911 г., Нижинская танцевала начиная со дня премьеры (сначала исполняла роль Уличной танцовщицы, затем Балерины). В Киеве в 1916 г. «Петрушку» ставил А. В. Кочетовский (по Фокину), и Нижинская танцевала Балерину. Она ставила сцену в комнате Арапа из этого балета для выступлений своей школы на детских новогодних утренниках. Исполнителями были сама Нижинская, Ян Хоер и Сергей Унгер. Декорации делал Н. А. Шифрин, который пишет об этой работе в книге «Художники о своем творчестве». М., 1973. С. 333.
95 Шифрин Ниссон Абрамович (1892 – 1961) — театральный художник. Начинал работать с 1919 г. в театрах Киева и Харькова, затем в Москве, где был с 1935 г. главным художником Центрального театра Советской Армии.
96 … хотя бы издали тебя видеть, слышать твой голос, чтобы ты улыбнулся мне. — Б. Ф. Нижинская вспоминает Ф. И. Шаляпина (называя его Федором), которым еще в Петербурге она восхищалась, затем познакомилась с ним в 1911 г. в Монте-Карло, после чего, в течение многих лет он оставался для нее идеалом художника и самым любимым человеком (см.: Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания: В 2 ч. / Пер. с англ. И. В. Груздевой; вступит. статья М. Ю. Ратановой; коммент. Е. Я. Суриц. М., 1999. Ч. 2. Впервые на с. 99 и дальше на многих страницах).
97 … мои ученики Сережа, Янек… — Сергей Унгер (Unger), ученик киевской Школы Движений Б. Ф. Нижинской, который в 1923 г. по ее протекции был приглашен в труппу 420 С. П. Дягилева и выступал там до 1925 г. Также работал в труппе «Хореографический театр Брониславы Нижинской» в 1925 г., в труппе Иды Рубинштейн в 1928 г. и в труппе полковника де Базиля в 1936 – 1937 гг. (в части труппы, гастролировавшей по Австралии), в 1937 – 1938 гг. (в части труппы, оставшейся в Европе), а также в 1939 – 1941 гг.
Ян Хоер (Hoyer; 1899 – 1955) — ученик киевской Школы Движений Б. Ф. Нижинской, который с 1923 г. по ее протекции был приглашен в труппу С. П. Дягилева и работал там до 1929 г. Также в 1925 г. работал в труппе «Хореографический театр Брониславы Нижинской», затем в труппе полковника де Базиля в 1932 – 1936 гг., 1938 – 1939 гг. и в 1947 г.
98 … великолепно делают Арапа… — персонаж балета «Петрушка», грубый, тупой и самовлюбленный, но ставший счастливым соперником Петрушки, которого отвергает глупенькая Балерина.
99 … хочу поставить «Половецкие пляски». — Танцевальная сцена из оперы А. П. Бородина «Князь Игорь». М. М. Фокин поставил эти танцы для «Русских сезонов» С. П. Дягилева в 1909 г. После этого они стали знамениты и исполнялись как в антрепризе Дягилева, так и во многих других труппах. А. В. Кочетовский поставил их в Киеве, когда работал в 1915 – 1916 гг. в оперной труппе, и Б. Ф. Нижинская исполняла главную женскую партию. Затем она ставила их с учениками своей школы, и «Половецкие пляски» были показаны 4 июня 1920 г. в Первом государственном драматическом театре им. Шевченко. По-видимому, она придерживалась редакции своего брата (созданной, когда она была ведущей артисткой его собственной труппы, в марте 1914 г.), где главной исполнительницей была женщина, вокруг которой плясали мужчины. Отдельные танцы из «Половецких плясок» она исполняла также в Вене с Владиславом Карнецким на концертах (в архиве Нижинской есть программа благотворительного концерта 10 сентября 1921 г. в пользу голодающих России с их участием). См. также вступ. статью.
100 Она одна (как и у Вацы)… — Имеется в виду Вацлав Фомич Нижинский, брат Брониславы Фоминичны. Он ставил «Половецкие пляски» в своей труппе в марте 1914 г.
101 … надо сделать мое, то, давнее, что хочу — Японца-Саму[рая]. — Из этого высказывания можно заключить, что уже в 1920 г. в Киеве Б. Ф. Нижинская задумывала какую-то работу на японскую тему, и что это были, возможно, ранние наброски будущей «японской пантомимы на сюжет пьесы Кабуки», которая будет поставлена ею в 1925 г. в труппе «Хореографический театр Брониславы Нижинской» во время гастролей в Англии под названием «На дороге» (On the Road) с музыкой Лейтона Лукаса и с костюмами А. А. Экстер. Эскиз костюма Экстер и фото постановки опубликованы: Baer Van Norman N. Bronislava Nijinska: A Dancer’s Legacy… P. 53, 55). Японец изображен также на эскизе В. Г. Меллера якобы к постановке В. Ф. Нижинской «Ужас», опубликованном в том же каталоге на с. 25.
102 … как я ощущаю по их гравюрам… — Б. Ф. Нижинская в 1914 г. купила в Лондоне японские гравюры XVII в. (в виде книги, где было 100 листов). Уезжая, она оставила их в Киеве у Нины Моисеевны Стефанович, которая вернула ей их через много лет.
103 … чтобы ступня была почти совсем кубической. — Возможно, то, что она стремилась сделать в номере, отчасти проявилось на эскизах близких ей художников. См. эскиз В. Г. Меллера якобы к постановке Б. Ф. Нижинской «Ужас» (1919), опубликованный: Baer Van Norman N. Bronislava Nijinska: A Dancer’s Legacy… P. 25), где изображенный персонаж похож на японца. См. также эскиз А. А. Экстер, упомянутый в коммент. 101.
104 421 Сегодня участвовала после долгого перерыва первый раз в театре. — Вероятно, имеется в виду личное участие Б. Ф. Нижинской в концерте, а не один из новогодних концертов 1920 г., в которых участвовали ученики школы Б. Ф. Нижинской, в записи от 4 февраля сказано о первом школьном концерте.
105 Завтра надо делать «Петрушки». — См. коммент. 94.
106 Ото всех этих концертов отвратительный осадок. — См. коммент. 104.
107 Под вкус толпы матросский танец! <…> Моя ученица! — Выяснить точно, о ком именно пишет Б. Ф. Нижинская, не удалось (хотя в архиве сохранился полный список учеников ее школы). Но, исходя из писем, которые Нижинская получала из Киева после отъезда (и которые сохранились в ее архиве), можно предполагать, что это могла быть Лена Кривинская. Благодарю Л. Гарафолу за эти сведения.
Матросский танец (матлот), который стала танцевать ученица Б. Ф. Нижинской, был в начале XX века весьма популярен, его исполняли даже известные балерины (например, О. И. Преображенская), и особенно часто эстрадные танцовщицы. Но, конечно, посмотреть, как кокетливая молодая девушка является в облике матроса, зритель шел не с целью приобщиться к высокому искусству, и сама эта затея должна была всячески раздражать Нижинскую, предъявлявшую всем, с кем она имела дело, самые серьезные требования. Возмутило ее, вероятно, и то, что эта ее ученица стала выступать в матлоте ради денег, и к тому же не посоветовавшись с ней.
108 … репетировали «Эскизы»… — Эскизами Б. Ф. Нижинская называла отдельные номера, которые исполняла сама и с учениками, а также выступления учеников. Иногда в ее записях это слово дано без кавычек, означая просто «набросок», но в программах оно обычно становится названием номера и пишется, как здесь, в кавычках. Точно определить, что каждый раз Нижинская называет эскизом, не представляется возможным, особенно если не указывается имя композитора. В ее записях встречается просто «Эскиз» — например, когда исполняются номера на музыку Шопена («Ноктюрн» или «Прелюдия»), встречаются также «Эскизы лебедей» или «Незаконченный эскиз» (так она именует массовый номер на музыку 12-й рапсодии Листа, который часто назывался просто «Рапсодия»).
109 Вижу этот фейерверк. — Имеется в виду задуманная Б. Ф. Нижинской постановка (о которой она подробно рассказывает в дневниковой записи от 10 февраля 1920 г.), где наибольшую роль должны были играть световые эффекты. По замыслу это близко постановке в труппе С. П. Дягилева «Фейерверк» с музыкой И. Ф. Стравинского, поставленной художником Джакомо Балла в 1917 г.
110 Встретила двух молодых… — Возможно, Б. Ф. Нижинская имеет в виду В. Г. Меллера и Н. А. Шифрина, с которыми в дальнейшем постоянно работала в Киеве.
111 Мои «Демоны» так хороши, такая «мерзость» получилась. — Вероятно, в обоих случаях речь идет о постановке Нижинской под названием «Демоны» предположительно на музыку Н. Н. Черепнина. Подробнее см. вступ. статью.
112 Сегодня взята Одесса… — 7 февраля (н. ст.) в Одессу вошла Красная армия. До этого в августе 1919 г. она была занята войсками Деникина.
113 Все ученицы [уделяют] столько внимания во время болезни, особенно Рая, Лина. — Раиса Туткевич, ученица школы Нижинской. Каролина Хаскелис (? – 1929), ученица школы Нижинской, уехала из Киева в 1921 г. вместе с Е. Лапицким, С. Унгером и С. Лифарем, которые собирались поступить в труппу С. П. Дягилева (к ним присоединились вскоре и братья 422 Я. и С. Хоеры. Но женщин Дягилев принимать в труппу не хотел. По просьбе Б. Ф. Нижинской он сделал, тем не менее, Хаскелис необходимую ей визу (см. письмо Нижинской от 28 декабря 1922 г., адресованное В. Ф. Нувелю, в публикации писем Б. Ф. Нижинской С. П. Дягилеву и дягилевцам в наст. изд.), и она уехала в Женеву, к брату, который был профессором химии. Там же, в Швейцарии, она и умерла 28 января 1929 г. в санатории в Давосе.
114 … приятно было говорить с Пати… — Имеется в виду Клеопатра Григорьевна Жаховская-Чухманенко, ученица школы Нижинской. Когда в 1921 г. Б. Ф. Нижинская уехала из Киева, то в ее шестикомнатной квартире (Большая Подвальная, д. 17) поселились ее ученицы. Две комнаты занимала Пати с мужем и братом, одну комнату — ученица Надя Шуварская. В какой-то момент занять эту квартиру стремились Нина Моисеевна Стефанович, приятельница Нижинской, а также Нина Генриховна Меллер, жена художника В. Г. Меллера. Но Нижинская считала, что ее ученицы, находящиеся в более стесненном положении, имеют больше прав на квартиру. Сведения любезно предоставила Л. Гарафола, давшая ознакомиться со своей неопубликованной статьей «Письма из дома» (Letters from home), в основу которой легла переписка Нижинской, хранящаяся в ее архиве в библиотеке Конгресса в Вашингтоне.
115 Сегодня первый наш школьный спектакль. — Рецензии на этот вечер найти не удалось. Наиболее ранние упоминания в прессе о выступлениях школы Б. Ф. Нижинской относятся ко второй половине февраля 1920 г. (с 15-го по 22-е) во время киевской Недели фронта и транспорта. Перечня номеров, показанных в рабочих клубах Киева, корреспонденции не содержат, имеются только упоминания о хореографических вечерах.
116 «Этюд» Шопеновский… — Видимо, этот номер входил в «Эскизы». У Б. Ф. Нижинской упоминаются поставленные на музыку Ф. Шопена «Ноктюрн» и «Прелюдия».
117 Еще мой спектакль в Купеческом… — Имеется в виду киевское Купеческое собрание, здание которого было построено в архитектором В. Н. Николаевым в 1882 г. Здесь проходили, в том числе и после революции, концерты и литературные вечера с участием крупнейших музыкантов, актеров, поэтов.
118 Рассказывала ей свой «Фейерверк»… — См. коммент. 109.
119 Поэма экстаза (не Скрябина). — В этой дневниковой записи В. Ф. Нижинская сравнивает задуманный ею «Фейерверк» со знаменитой «Поэмой экстаза» А. Н. Скрябина.
120 «Египетские ночи» хорошо выявились… — «Египетские ночи», балет А. С. Аренского, который М. М. Фокин ставил в Мариинском театре в 1908 г. Затем в 1909 г., после добавления другой музыки, он был поставлен под названием «Клеопатра» во время «Русских сезонов». Б. Ф. Нижинская участвовала в спектакле дягилевской труппы. В частности, исполняла и роль Таор. В ту пору, когда А. В. Кочетовский вместе с Б. Ф. Нижинской работали в киевском Городском театре (1915 – 1916), среди поставленных ими спектаклей были «Египетские ночи», и Нижинская танцевала в этом балете. Позднее, работая в своей школе, она также намеревалась поставить этот балет (или сцену из балета). Она работала над ним с художником Н. А. Шифриным, после того как они вместе сделали сцену из «Петрушки». Шифрин вспоминает об этом в книге «Художники о своем творчестве» (М., 1973. С. 333).
121 «Клеопатра» — Б. Ф. Нижинская имеет в виду тот же спектакль, который она раньше называла «Египетские ночи». См. коммент. 120.
122 «Ночь на Лысой горе» — неосуществленная в Киеве постановка, хотя, как видно из этой записи, она задумывалась. К этой теме и музыке из оперы М. П. Мусоргского «Сорочинская 423 ярмарка» Б. Ф. Нижинская в последующие годы обращалась несколько раз. Она ставила «Ночь на Лысой горе» в труппе С. П. Дягилева в 1924 г., а затем в 1925 г. в своей труппе «Хореографический театр Брониславы Нижинской», гастролировавшей в Англии. В постановке 1925 г. костюмы оформляла А. А. Экстер.
123 «Поэма экстаза» была написана А. Н. Скрябиным в 1905 – 1907 гг. По-видимому, Б. Ф. Нижинская собиралась поставить ее в Киеве, но не сделала этого, не ставила она ее и в последующие годы. Создается впечатление, что все постановки, задуманные для показа 2 мая 1920 г. (о которых она пишет 16 марта), — «Клеопатра», «Ночь на Лысой горе» и «Поэма экстаза» — тогда ею осуществлены не были, тем более что в ряде записей от марта и апреля 1920 г. говорится о ее тяжелой болезни. А 4 июня 1920 г. спектакль состоялся, но с другой программой: «Демоны», «Половецкие пляски», «Ноктюрн» Шопена, «Петрушка», номер «Кукла».
124 Ромушка — жена В. Ф. Нижинского Ромола де Пульски (de Pulszki) (1891 – 1978), которая была настроена в отношении С. П. Дягилева очень враждебно, особенно после того, как тот уволил В. Ф. Нижинского в 1913 г., не желая иметь с ним дела после его женитьбы. Подлинное примирение не состоялось, даже когда Дягилев предпринял столько усилий, чтобы освободить интернированного в Венгрии артиста. Ромола все время предъявляла Дягилеву материальные претензии, ссылаясь на то, что Нижинскому не платили жалованья в те годы, когда Дягилев его содержал фактически как члена семьи. Ей постоянно казалось, что Дягилев замышляет что-то дурное против Нижинского, и она настраивала мужа против него. Нижинский между тем находился под большим влиянием жены, доверял ей. Это приводило ко многим осложнениям, которые постепенно только нарастали, по мере того как психическое состояние Нижинского ухудшалось.
125 Ваца тяжело болен душевной болезнью… Уже начиная с 1916 г., когда В. Ф. Нижинский возглавлял ту часть труппы Дягилева, что гастролировала в США, стали проявляться первые признаки его душевной болезни. Тогда всем казалось, что это просто усталость, переживания в связи с трудностями при постановке балета «Тиль Уленшпигель». Но в 1917 г., особенно в конце лета, во время гастролей в Латинской Америке, странное поведение Нижинского становилось все более очевидным. Это была уже чистая мания преследования, убежденность, что окружающие желают ему смерти и готовы для этого подстроить несчастный случай. Расставшись с труппой в конце сентября 1917 г., Нижинский жил затем с женой Ромолой и дочерью на курорте в Швейцарии. Здесь было несколько припадков агрессии, затем он устроил очень странный спектакль для местных жителей, как бы представляя им ужасы войны. Подобные припадки участились, и в 1919 г. Ромоле пришлось поместить Нижинского в клинику. В момент, когда Бронислава приехала в Вену, он находился в венской лечебнице Штейнхоф.
126 «Рапсодия» Листа. — Имеется в виду «12-я рапсодия» Ф. Листа, которую Б. Ф. Нижинская поставила в Киеве и показала 30 мая 1920 г. на концерте в Государственном оперном театре. По-видимому, иногда шла под названием «Незаконченный эскиз». См. коммент. 108 и 135.
127 Ира — Нижинская (Нижинская-Кочетовская) Ирина Александровна (1914 – 1991) — дочь Б. Ф. Нижинской и А. В. Кочетовского. После смерти матери в 1972 г., возобновляла во многих странах ее балеты, подготовила к печати (совместно с Джин Роулинсон) ее мемуары (Early Memoirs. N. Y., 1981).
128 424 Лева — Кочетовский Лев Александрович (1919 – 1935), сын Б. Ф. Нижинской и А. В. Кочетовского, родившийся в Киеве 20 января 1919 г. Погиб в автокатастрофе во Франции 4 сентября 1935 г.
129 Форш Ольга Дмитриевна (1873 – 1961) — писательница. Получила широкую известность в 1930 – 1950-х гг. благодаря своим историческим романам. Была в молодости связана с Киевом, где училась рисованию, дебютировала в 1907 г. как журналистка. В начала 1920-х гг. О. Д. Форш встретилась там с Б. Ф. Нижинской и, будучи увлечена теософией, а также это учение активно пропагандируя, она оказала на Нижинскую немалое влияние.
130 Я не уехала… — Б. Ф. Нижинская уже во второй половине 1920-го года намеревалась уехать в Вену к брату, о котором постоянно поступали противоречивые, но в целом неутешительные известия. Возникали предложения тайно перевезти ее через границу, но она колебалась, тем более что надо было оставить мать в Киеве. В дневниках она и здесь, и дальше несколько раз пишет, что собиралась, но так и не решилась уехать. Подробно см. вступ. статью.
131 Умерла Надя Черняева… — Ученица студии Б. Ф. Нижинской Надя Черняева утонула 7 июля 1920 г.
132 С. Д. — возможно, С. П. Дягилев.
133 Мефисто — персонаж постановки на музыку «Мефисто-вальса» Ф. Листа, которую Б. Ф. Нижинская ставила в Киеве дважды: в 1919 г. как свой сольный танец, а в 1920 г. как номер для учеников своей школы. Записи, сделанные в сентябре 1920 г., видимо, отражают ее размышления в связи с переделкой постановки. См. также записи в дневнике от 1 сентября и 26 сентября 1920 г., а также коммент. 170.
134 Встретила Александра. — Имеется в виду первый муж Б. Ф. Нижинской — Александр Владимирович Кочетовский (1889 – 1952). Согласно Ежегоднику Императорских театров, он окончил Московскую театральную школу в 1907 г. и был в труппе Большого театра с 1907 по 1910 г., где исполнял небольшие сольные партии полупантомимного характера (хозяин театра марионеток в «Дон Кихоте», старый раб в «Саламбо» и др.), затем, с 1910 до 1914 г., работал в труппе С. П. Дягилева. Женился на Нижинской в 1912 г. В 1914 г. с женой (Нижинской) и дочерью Ириной вернулся в Россию, где работал, в частности, в Киеве балетмейстером Городской оперы в 1915 – 1916 гг. В 1916 г. работал в Москве (в том числе в «Яре»), а летом 1920 г. покинул Россию. Некоторое время жил во Франции и выступал в труппе «Летучей мыши», был также в Лондоне в 1921 г. и встречался там с Нижинской (о чем она пишет в дневнике). С труппой «Летучей мыши» в 1922 г. уехал в США. Там ставил танцы в фильмах и преподавал: имел школу в Нью-Йорке, а с 1930 г. в Хьюстоне (Техас), где и умер 2 марта 1952 г. В своем дневнике, в записи от 9 октября 1920 г., Нижинская рассказывает о своих взаимоотношениях с Кочетовским, а в записях от 29 декабря 1921 и 25 января 1922 г. о том, что дала согласие на развод с ним и он уехал в Америку.
135 Скандал после «Рапсодии» все продолжается. — Можно предположить, что публика не поняла показанное, и ей не понравилось то, что представлена была именно абстрактная композиция. Абстрактность связали с новейшими течениями в искусстве и, следовательно, с теми, что расцветали в это время в Советской России. Отсюда, по-видимому, обвинение в «большевизме от искусства». К сожалению, мы не располагаем более подробными описаниями постановки Нижинской.
136 425 Б. Ф. Нижинская вырвала из дневника какие-то страницы, как она пишет, «перед большевиками». Но к ноябрю 1920 г. большевики уже полгода как находились в Киеве (заняли его в июне 1920 г.), и, следовательно, имеется в виду не приход большевиков, а какое-то другое событие, с ними связанное, что-то, чего Нижинская могла опасаться. Известно, что у нее были обыски, что она ходила в ЧК с Ниной Васильевной Поповой (Новосельской), которая была ученицей Нижинской и одновременно секретарем ее школы, а также членом общества «Сокол». Они пошли туда, чтобы попробовать освободить арестованную ученицу школы, Анну Воробьеву. Известно также, что в 1920 и 1921 г. Нижинская несколько раз порывалась тайно уехать и наконец весной 1921 г. вместе с матерью и детьми перешла границу с Польшей. Возможно, листы из дневника были вырваны перед одним из таких событий. Более точными сведениями мы не располагаем.
137 МАРК — См. вступ. статью. С. 319.
138 Некоторое время пишу свою книгу о движении. — Б. Ф. Нижинская начала работать над трактатом о движении (ранний вариант включен в наст. публ.) в 1918 г., продолжала писать и в Киеве. Там предполагалось его издание в серии «Театральный порадник» («Театральный советчик») в издательстве «Днiпросоюз» («Днепросоюз»), где уже были в 1920 г. изданы две небольшие (1 – 1,5 п. л.) книжечки: «Завдания режиссера» («Задачи режиссера») Г. Гаевского и «Вступ до мiмодрами» («Введение в мимодраму») В. Сладкопевцева. Но работа Нижинской опубликована не была. (Сведения любезно предоставлены Г. Ф. Коваленко.)
Существуют и более поздние варианты Трактата Б. Ф. Нижинской. Один из них напечатан в каталоге выставки: Baer Van Norman N. Bronislava Nijinska: A Dancer’s Legacy… P. 85 – 88. См. вступ. статью.
139 В Монте-Карло много лет тому назад… — Б. Ф. Нижинская вспоминает свой первый сезон в труппе Дягилева, который начался в апреле 1911 г. в Монте-Карло, где она и встретилась с Ф. И. Шаляпиным.
140 Мою мать увезти от тяжелой жизни… — Мать Вацлава и Брониславы Нижинских, Элеонора Николаевна Береда (Bereda) (1856 – 1932), польская танцовщица, работавшая в варшавском театре «Вельки», затем многие годы в труппе своего мужа Томаша (Фомы) Нижинского. Затем обосновалась в Петербурге, где ее дети с конца 1890-х гг. начали учиться в Театральном училище. Когда в 1919 – 1921 гг. Бронислава Нижинская жила в Киеве, мать была там с ней, затем с ней же в 1921 г. Элеонора Береда уехала в Европу и жила в Вене, затем Париже.
141 … и вдруг теперь меня не пускают. — Вероятно, это возмущение вызвано тем, что Б. Ф. Нижинской не дали пропуск для поездки в Минск, о чем она писала в дневнике раньше.
142 … письмо от сестры Ромы. — Имеется в виду сестра Ромолы Нижинской (урожденной де Пульски), Тэсса (Тэсса Паула Гизелла Беатриса) де Пульски (в замуж. Шмедес — Schmedes) (1883 – 1963).
143 «Marche Funèbre» Метнера — «Траурный марш» Н. К. Метнера, который Б. Ф. Нижинская, как явствует из дневника, ставила в конце 1920-го – начале 1921 г. Л. Гарафола во вступ. статье пишет, что это была одна из лучших работ Б. Ф. Нижинской, но, возможно, на публике она показана и не была. Нижинская в заметках, сохранившихся в ее архиве, упоминает «Траурный марш» среди работ, осуществленных ею в Киеве. Любопытно, что «Траурный марш» ставили в те годы и другие русские хореографы. Так, в 1921 г. на 426 ту же музыку в Москве поставил номер К. Я. Голейзовский, а Г. М. Баланчивадзе (Дж. Баланчин) — в 1923 г. в Петрограде на музыку Ф. Шопена.
144 Сделала один «Этюд» Шопена… — См. коммент. 108, 116.
145 … и я опять не поехала. — См. вступ. статью и коммент. 130.
146 Кто-то сказал, что ты погибла. — По-видимому, речь идет о Нине Липской.
147 Ваца <…> Имеет свой театр, идут балеты «Жизель», «Коппелия», «Лебединое озеро». — В прессе в эти годы появлялось немало сообщений о судьбе В. Ф. Нижинского, подчас противоречащих одно другому и часто совершенно не достоверных. Нижинская, естественно, все это читала и переживала, так как известий непосредственно от брата и его жены не имела. Данное сообщение никак не соответствует действительности. В это время Нижинский был уже болен.
148 Кякшт Лидия Георгиевна (1885 – 1959) — балерина Мариинского театра (1902 – 1908). Затем работала за рубежом. В начале 1921 г. (когда Нижинская пишет о возможном ее участии в труппе брата), Л. Г. Кякшт уже закачивала свою карьеру балерины и открыла школу в Лондоне. Ее брат Георгий Георгиевич Кякшт (1873 – 1936) тоже был артистом Мариинского театра (1891 – 1910). Затем работал за рубежом.
149 Ваганова Агриппина Яковлевна (1879 – 1951) — артистка Мариинского театра в 1897 – 1916 гг., затем известнейший ленинградский педагог. В 1921 г. по-прежнему работала в Петрограде и не могла находиться в Париже.
150 Павлова Анна Павловна (Матвеевна) (1881 – 1931) — самая знаменитая из петербургских балерин начала XX века. С 1899 г. в Мариинском театре, одновременно гастролировала с 1908 г. на Западе. С 1913 г. имела свою труппу в Англии и, разъезжая с ней, прославилась во всем мире. В конце 1929 и начале 1921 гг. труппа Анны Павловой разъезжала по городам США, откуда уехала в Европе в конце марта 1921 г. и, следовательно, Павлова не могла танцевать с Нижинским в Париже.
151 Берже — неясно, кого Б. Ф. Нижинская могла иметь в виду. Нам известны, по крайней мере, два балетмейстера, носившие фамилию Берже. Во Франции был Марсель Берже (1891 – ?), но известны его постановки только 1940 – 1950-х гг. Был еще достаточно известный чешский балетмейстер Августин Бергер (Berger) (1861 – 1945), чью фамилию французы произносили как Берже, который с 1912 по 1922 г. работал в Праге, позднее, с 1922 по 1932 г., работал в Метрополитен опера в Нью-Йорке).
Скорее можно предположить, что Нижинская просто спутала фамилии и имела в виду, например, Жака Руше (1862 – 1957), который с 1913 по 1945 г. был директором Парижской оперы, где по его инициативе выступали балетная труппа С. П. Дягилева, Анны Павловой, Иды Рубинштейн и др.
152 Карсавина Тамара Платоновна (1885 – 1978) — петербургская балерина, также выступавшая в труппе С. П. Дягилева. С 1918 г. жила и работала в Англии. В 1920-х гг. она, живя постоянно в Лондоне, иногда выступала с труппой С. П. Дягилева, преимущественно в балетах, которые танцевала раньше (только в 1926 г. новом спектакле — «Ромео и Джульетта», который ставила В. Ф. Нижинская). Но, конечно, ни о каких выступлениях с В. Ф. Нижинским в 1921 г. не могло быть и речи.
Нижинская перечисляет в этой записи от 2 марта 1921 г. наиболее известные спектакли Мариинского театра (часто исполняемые и другими труппами), а также наиболее известных артистов этого театра, предполагая, что с ними ее брат, возможно, работает за рубежом и выступает в этих балетах.
153 427 … прославляют пальцы? — Имеется в виду танец «на пальцах» (на пуантах), один из главных приемов женской балетной техники. Б. Ф. Нижинская возмущается тем, что именно эта, «пальцевая», виртуозная техника привлекает многих. Ей хотелось бы, чтобы в танце ценили другое: не голую технику, а выразительность, смысл.
154 «Священная весна»… — Имеется в виду балет И. Ф. Стравинского «Весна священная», который был поставлен В. Ф. Нижинским в 1913 г. в труппе С. П. Дягилева, но после его ухода из труппы в этой редакции не шел (в 1921 г. его там же поставил Л. Ф. Мясин).
155 Кочетовский в Париже открыл школу… — В действительности школы в Париже у А. В. Кочетовского не было.
156 Ф. И. Шаляпин был в это время в России.
157 Искусство делают государственным. — 8 марта 1921 г. комиссия, состоящая из заведующих отделами Наркомпроса во главе с тов. Гринько, проверяла театральный и хореографический отделы Центро-студии, в том числе и постановки М. С. Терещенко и Б. Ф. Нижинской. 10 марта было принято постановление о переименовании Центро-студии во Всеукраинскую государственную студию, о чем есть сообщение в газете (Вiсти. Киiв, 1921. № 88 (343). 11 марта). Была произведена реорганизация всей Центро-студии. По-видимому, эта реорганизация была серьезной, потому что в мае 1921 г. Центро-студия перестала существовать, осталось только драматические отделение, и оно стало называться Государственным театром им. И. Михайличенко. Скорее всего, все записи Нижинской, касающиеся превращения искусства в государственное, а также последующие записи о развале школы, о судьбах учеников в ее дневнике, вызваны этим событием. (Сведения любезно предоставлены Г. Ф. Коваленко.)
158 Имена сестер, Эстезии и Евы (Евочки), упоминаются в записях Б. Ф. Нижинской, относящихся к Школе Движений (См. LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 66. Fold. 5). Других подробностей установить не удалось. Ср. также запись от 19 апреля 1921 г.
159 … этого театрального отжитка. — Вероятно, придуманное самой Б. Ф. Нижинской слово, которое означает что-то устаревшее, отжившее.
160 Театр не личности, а театр действия. — О том, что театр должен стать «театром действия», Б. Ф. Нижинская много пишет, в частности, в своем трактате.
161 «Если бы не слабость воли, человек не уступил бы ангелам, ни самой смерти». — Нижинская приводит слова Джозефа Гленвилла, взятые Эдгаром По эпиграфом к рассказу «Лигейя».
162 … мои мысли ходят вокруг нашей балетной партитуры. — О «балетной партитуре», т. е. о тексте балета, записанном балетмейстером, как композитор записывает текст музыки балета, Б. Ф. Нижинская много пишет и в своем трактате, настаивая на его необходимости.
163 Ваца умер. <…> Прочитала в журнале «Культура театра». — В московском журнале «Культура театра» в рубрике «За границей» была помещена заметка: «Из Будапешта сообщают о смерти известного танцовщика Нижинского. Два последних года Нижинский страдал психическим расстройством» (1921. № 2. 15 февр. С. 64). Уже в следующем номере от 10 марта появилось опровержение: «Из Будапешта получено опровержение газетных сообщений о смерти Нижинского. Талантливый танцовщик находится в психиатрической лечебнице. К сожалению, состояние его безнадежное» (С. 64).
164 Кирочка — Нижинская Кира Вацлавовна (1913 – 1998) — дочь Ромолы и Вацлава Нижинских. Обучалось танцу (в том числе у Н. Г. Легата и Л. Н. Егоровой) и выступала как 428 танцовщица и актриса в театрах и кино, в частности в 1930-х гг. в ревю Чарлза Кокрана, в 1932 г. в берлинской постановке Макса Рейнгардта «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха, где танцы ставила Б. Ф. Нижинская. В 1934 – 1935 гг. работала в английской труппе «Балле Рамбер». В 1936 г. вышла замуж за композитора И. Б. Маркевича (развелась в начале 1950-х гг.) и имела сына Вацлава Нижинского-Маркевича. В 1940-х – начале 1950-х гг. жила в Италии, с 1954 г. в США, где занималась живописью и писала стихи.
165 Стась — Нижинский Станислав Фомич (1886 – 1918) — старший брат Вацлава и Брониславы Нижинских, который с ранней юности страдал психическим заболеванием.
166 Тема движения одна из основных в записях Б. Ф. Нижинской, не только в данных дневниках, но и в трактате, опубликованном в наст. изд., недаром и школу свою она называла Школой Движений, а не Школой танца. См. вступ. статью и коммент. 48 и 90.
167 Школу рассыпала. — См. коммент. 156.
168 Михайловский Златоверхий монастырь — один из древнейших в Киеве. Его собор построен в XII в. В середине 1930-х гг. он был разрушен, восстановлен в конце 1990-х гг.
169 Андреевская церковь — собор в стиле барокко, возведенный в Киеве в честь Андрея Первозванного в 1754 г., архитектор Б. Растрелли. Б. Ф. Нижинская восхищалась ею и мечтала танцевать в ней.
170 Никакой обиды не чувствую и никого, кроме себя, не виню. — Заявление вызвано, по-видимому, событиями, происходивими вокруг ее школы, хотя в чем она себя винит, осталось неясным. О событиях весны 1921 г. см. коммент. 156.
171 Неясно, о каких двух смертях здесь идет речь. Одна из них это, естественно, смерть Вацлава: хотя он вовсе не умер, но о его смерти Нижинская в это время не раз читала в газетах и упоминает об этом в дневнике. Относительно второй мы можем только гадать. То ли речь идет о Нине Липской, о которой 23 февраля 1921 г. Нижинская написала в дневнике: «Дорогой мой друг, где ты? <…> Надежный, преданный <…> Кто-то сказал, что ты умерла». То ли это возможная гибель ее школы, о которой она не раз пишет весной 1921 г. Или же ей вспоминается ранее умерший брат Стась. О нем она писала 18 марта 1921 г.: «Хорошо, что Стась и Ваца уже вместе, оба в одних годах скончались».
172 Дальше эту стену я заставила жить («Мефисто»), заставила танцевать плоскости. — Известно, что Б. Ф. Нижинская иногда одевала учеников в большие плащи, которые развевались по воздуху. Может быть, она о них пишет, когда говорит, что «заставила танцевать плоскости».
173 … уничтожить театр, который разглядывают, как ковер, по которому ходят пестрые букашки (это в лучшем случае). — Б. Ф. Нижинская как в дневнике, так и в трактате, часто рассуждает о театре, о том, каким он должен быть и в чем недостатки театра прошлого, о бездуховности, дилетантизме, каботинстве и т. п. А также об отношении к театру, каким оно было в прошлом и каким должно стать.
174 Иду на комиссию. <…> Мука потери школы. Уже готовятся на спекуляцию. — Вероятно, переживания Б. Ф. Нижинской тоже связаны с событиями, разыгравшимися весной 1921 г. См. коммент. 156.
175 Сегодня 10 лет Ф[едору]. — Имеется в виду, что 10 лет назад она встретилась с Ф. И. Шаляпиным.
176 Сегодня я не уехала… — Запись от 19 апреля 1921 г. свидетельствует о том, что в это время были, видимо, предложения о тайном отъезде.
177 429 Я знаю, что не может быть никакого письма ко мне… — Имеется в виду ответное письмо Ф. И. Шаляпина, которому Нижинская написала 14 марта 1921 г., о чем было сказано в дневнике.
178 Как сказка! Не понимаю, не верю… — Запись от 13 мая 1921 г. — первая после того, как Нижинская с матерью и детьми тайно перешла польскую границу.
179 От Вацы и Ромы телеграмма. — Оказавшись в Варшаве, Нижинская сообщила в Вену о себе и получила оттуда приглашение приехать, посланное Ромолой и подписанное также Вацлавом Нижинским.
180 «Песни Билитис» — сборник стихов французского писателя Пьера Луиса, подражавшего греческим поэтам александрийской эпохи, в данном случае стихам поэтессы VII – VI вв. до н. э. Сапфо, воспевавшей лесбийскую любовь.
181 … аромат «Острова»… — Вероятно, имеется в виду остров Лесбос в Эгейском море, где жила греческая поэтесса Сапфо. Выше Б. Ф. Нижинская упоминает произведение французского писателя 1910-х гг. Пьера Луиса «Песни Билитис», подражавшего Сапфо.
182 … мои «Эскизы». — См. коммент. коммент. 108.
183 Хочу видеть Дягилева <…> Может стать повивальной бабкой моего творчества. — Запись от 21 мая 1921 г. Нижинская сделала в Варшаве, собираясь выехать в Вену, где жили Вацлав с Ромолой. В это время она, конечно, уже думает о будущем, о том, как жить и, главное, как творить, оказавшись на Западе. Мысли ее все время возвращаются к С. П. Дягилеву. Она только что — 17 мая — написала ему письмо (см. публикацию писем Б. Ф. Нижинской С. П. Дягилеву и дягилевцам в наст. изд.), где вспоминала прошлое, свою работу в его труппе и выражала ему благодарность. Теперь в дневнике мечтает о будущем. Ей кажется, что Дягилев поддержит ее, поможет осуществить то, что она начинала в Киеве.
184 Ваца очень болен. — В. Ф. Нижинский находился в это время в венской лечебнице Штейнхоф. В своих мемуарах Нижинская рассказывает о том, как она вместе с матерью посетила его там, и он их не узнал.
185 Мне показывали тетрадь Вацы… — Речь идет о дневниках В. Ф. Нижинского, которые он писал, уже находясь на курорте, затем в психиатрической клинике, в 1918 – 1919 гг. Впоследствии его жена, Ромола де Пульски, издала их, сильно отредактировав, в 1936 г. в переводе на английский язык, затем в 1953 г. — на французский. В этой редакции дневники были переведены с французского издания на русский язык и изданы в 1995 г. издательством «Артист. Режиссер. Театр». Однако в 1994 г. дневники были также изданы во Франции во французском переводе (переводчики Кристиан Доме-Львовский и Галина Погожева) уже без «исправлений», внесенных Ромолой.
186 Запись от 6 июня 1921 г. — явная реакция на предложение Ромолы, о котором более подробно в следующей записи; предложение, которое Нижинскую и огорчило, и оскорбило. См. коммент. 183, 187.
187 Еще остался «один капитал» — «это имя Вацлава Нижинского». — По-видимому, у жены В. Ф. Нижинского Ромолы был план открыть школу, которая называлась бы школой Нижинского (хотя он сам, конечно, будучи безнадежно болен, уже никакого отношения к ней иметь не мог), и Бронислава преподавала бы там. Ромола надеялась, что его имя привлечет учеников и это принесет деньги, очень ей необходимые для лечения самого Нижинского и содержания его детей. Б. Ф. Нижинская воспринимает это как непристойную торговлю как именем брата, так и искусством, о чем и пишет в дневнике. 430 И в то же время она считала, что обязана эту жертву принести (см. запись в дневнике от 7 июня 1921 г.).
188 В какую ужасную муку превратил жизнь Ромы! — Отношения между женой В. Ф. Нижинского Ромолой и Б. Ф. Нижинской складывались непросто. Об этом можно судить как по данной записи (от 7 июня 1921 г.), где Нижинская жалеет Ромолу, одновременно еще больше жалея брата, а также и нескольким последующим записям. И особенно по тем событиям, которые разыгрались в момент, когда Б. Ф. Нижинская решила возвращаться к С. П. Дягилеву, и которые упоминаются ею в дневниковой записи от 28 июня 1921 г. См. коммент. 187, 191.
189 … сделать свою книгу с системой… — Речь идет о теоретической работе (трактате), который Б. Ф. Нижинская начала писать еще в России, затем много раз к этой работе возвращалась. Первый вариант трактата — см. наст. публ. Более поздние варианты этой работы Нижинской публиковались на Западе. См. вступ. статью.
190 Искусства нет кругом, и ни по каким причинам оно им не нужно. — В записях от второй половины июня 1921 г., когда Нижинская оказалась в Вене, поражает сразу возникшее у нее разочарование тем, что она там увидела.
191 Вчера все разорвалось окончательно с Ромой. — В книге младшей дочери В. Ф. Нижинского, Тамары Вацлавовны Нижинской (Nijinsky T. Nijinsky and Romola. Two Lives from Birth to Death indissolubly linked. L., 1991. P. 211 – 213) подробно рассказано об этой ссоре. Там упомянуто письмо Ромолы от 26 июня 1921 г., где та пишет «Броня танцевала для нас. Она великолепна». Но на следующий же день, 27 июня 1921 г., произошла ссора, как видно из данной дневниковой записи. Тамара так описывает ее: «Броня пришла к Ромоле, чтобы сообщить о хороших новостях, которые она получила. Она взволнованно протянула Ромоле полученную телеграмму. Ромола пришла в страшный гнев. Тут проявился ее неудержимый темперамент, чистая “паприка”. Она выхватила телеграмму и порвала ее. И с этого момента она отказала Броне во всякой финансовой помощи». Причиной этого поступка является то, что Ромола остро возненавидела Дягилева после того, как тот уволил Нижинского после женитьбы на ней. Она и впоследствии всячески противилась всем попыткам примирения (чем, вероятно, немало навредила мужу). Поэтому она так возмутилась тем, что сестра Вацлава радуется телеграмме от Дягилева, а главное, идет снова работать к нему.
192 Moulin Rouge — кабаре в Вене, названное так же, как знаменитое парижское кабаре. В рекламах оно именовалось Дворец танца (Palais de la Danse). Б. Ф. Нижинская, лишившись финансовой помощи Ромолы, пошла туда танцевать, заключив 2 июля 1921 г. контракт, как явствует из этой записи, на срок до 17 сентября 1921 г., когда должна была начать работать в труппе С. П. Дягилева. Ей заплатили 18 000 крон. Она выступала вместе с другими артистами — первые две недели это была венгерская Национальная балетная труппа, затем большое число артистов разной национальности. Ее постоянным партнером был Владислав Карнецкий, которого она знала по Киеву. Танцевала она свои старые номера — отрывок из «Половецких плясок», приспособленный для двух актеров, и сольный номер «Кукла» на музыку А. К. Лядова. С Карнецким она выступила также в организованном Комитетом помощи голодающим в России благотворительном концерте с теми же номерами. Ничего нового, находясь в Вене, Нижинская не поставила. Что касается Карнецкого, то он, по-видимому, одновременно с Нижинской уехал в Лондон к Дягилеву. В «Спящей принцессе» он исполнял несколько небольших 431 ролей: одна из крыс в свите феи Карабос, крестьянин в Крестьянском вальсе, один из маркизов на охоте, а главное — он танцевал вместе с Л. Вуйциковским и Т. Славинским в поставленном Нижинской танце «Три Ивана», который имел большой успех.
193 Маму вчера взяла из санатории домой. — При лечебнице Штейнхоф, где содержался В. Ф. Нижинский, были комфортабельные номера для родственников больных. Именно там проживала Э. Береда в первые недели пребывания в Вене. Подписав контракт с «Мулен-Руж» и получив деньги, Б. Ф. Нижинская смогла забрать мать.
194 Страшно жить. Никого нет кругом. Еще страшнее, чем в России… — Нижинская, оказавшись в Вене, куда она так стремилась, надеясь, что за границей ей откроются новые перспективы, возможность свободного творчества, в действительности, как видно из этой и ряда других записей, испытывает большое разочарование. Она оказалась вне той среды, которая ей близка, где живут интересами искусства, в то время как в Киеве, несмотря на все материальные, бытовые трудности, на давление руководящих организаций, она находила отклик у какой-то части окружающих, у нее были друзья, сподвижники и особенно ученики, которым было понятно, к чему она стремится. Проведя несколько лет в Советской России, она прониклась идеями нового авангардного искусства, ощущала свою связь с ним, а на Западе почувствовала себя как бы в пустоте, среди людей, ей чужих, живущих иными интересами.
195 Когда я научусь знать, что я Бог… — Строки эти были написаны после того, как Б. Ф. Нижинской дали посмотреть дневники ее брата (об этом сказано в ее записи от 2 июня 1921 г.). Но создается впечатление, что между ее дневником и дневником брата и раньше было немало общего. Многие страницы дневника Брониславы, как и у ее брата, поток сознания, исповедь, лишь время от времени прерываемая сообщениями о внешних событиях. Здесь налицо та же потребность поведать дневнику свои переживания, сказать о своих, вероятно, тщательно скрываемых в обычной жизни отношениях к окружающему и окружающим. Более того: отдельные фразы дневника Б. Ф. Нижинской напоминают дневниковые записи ее брата 1918 – 1919 гг. Например, у него постоянно встречается в дневнике обращение к Богу: «Человек — это Бог», «Человек — часть Бога», «Я — Бог, если я ощущаю Его присутствие», «Я есть дар Божий» и т. п. Почти то же мы читаем в ее записи от 25 июля 1921 г. Только у нее это встречается намного реже, потому что ее болезненное состояние (о нем говорится во вступ. статье, как и о том, что она лечилась у психотерапевта) не зашло так далеко, как у ее брата, и со временем она победил начинавшуюся болезнь. Он же (как, кстати, и его младший брат Станислав) в течение всей дальнейшей жизни так и оставался у болезни в плену.
196 Нина моя единственная близкая родня… — Нина Липская родственницей Нижинской не являлась. Слово «родня» употребляется в переносном смысле.
197 … но он действительно стал бабушкой… — У Б. Ф. Нижинской стало складываться впечатление, что С. П. Дягилев уже больше не стремится создавать новаторские произведения (хотя, кажется, ей еще не было в это время известно о его проекте ставить «Спящую красавицу»), но ее напугали слухи о том, что он приглашает к себе Б. Г. Романова и Е. А. Смирнову. Что, кстати, не подтвердилось.
198 Романов Борис Георгиевич (1891 – 1957) — танцовщик, хореограф. По окончании Петербургского театрального училища в 1909 г., в труппе Мариинского. С 1911 г. осуществил ряд постановок в петербургских частных театрах, с 1914 г. также в Мариинском театре. У С. П. Дягилева работал в 1913 – 1914 гг., поставил «Трагедию Саломеи» в 1913 г. 432 После 1920 г. ставил балеты за границей, но не у Дягилева. Имел собственную труппу «Русский романтический театр» (с 1921 г.), затем работал во многих странах Европы, в США, в Латинской Америке.
199 Смирнова Елена Александровна (1888 – 1934) — балерина. По окончании Петербургского театрального училища в 1906 г., в труппе Мариинского театра, где исполняла ведущие роли во многих классических балетах. Участвовала в дягилевских «Русских сезонах» (1909). Жена Б. Г. Романова. В 1920 г. покинула Россию, работала в труппе мужа (1921 – 1926), затем педагогом в Буэнос-Айресе.
200 Фокин Михаил Михайлович (1880 – 1942) — танцовщик, хореограф. Виднейший представитель так называемого нового балета, поставивший на протяжении 1907 – 1914 гг. большое число спектаклей как в Мариинском театре, так и у Дягилева. Его искусство оказало огромное влияние не только на русский, но и на мировой балет, так как самые знаменитые его спектакли («Шопениана», «Шехеразада», «Петрушка», «Жар-птица» и мн. др.) шли во всем мире. Однако к 1920-м гг., как видно из данных записей Б. Ф. Нижинской и многих других суждений, искусство Фокина стало восприниматься уже как устаревшее.
201 … найти помещение здесь, в Вене, открыть Мастерскую. — У Б. Ф. Нижинской был проект открыть в Вене такую же школу, как в Киеве. Как видно из ее переписки (легшей в основу неопубликованной статьи Л. Гарафолы «Письма из дома»), об этом было известно даже ее киевским друзьям и ученикам, ряд которых даже готовились ехать к ней.
202 Тэсса — сестра Ромолы, жены Нижинского. См. коммент. 142.
203 Я так люблю свои «Половецкие пляски». — Упоминание Б. Ф. Нижинской здесь «Половецких плясок» свидетельствует о том, что она что-то из них танцевала в венском кабаре «Мулен-Руж» в июле – августе 1921 г. Кроме того, достоверно известно (в архиве Б. Ф. Нижинской сохранилась программа), что дуэт из «Половецких плясок» она исполняла в Вене на благотворительном концерте с В. Карнецким).
204 От Дягилева телеграмма: придет администратор для переговоров… — Б. Ф. Нижинская и С. П. Дягилев не раз обменивались телеграммами. Одна из посланных Дягилевым летом 1921 г. телеграмм, где он высказывает надежду, что будет возможность работать с ней, процитирована Нэнси Ван Норман Бэр в каталоге выставки, посвященной Б. Ф. Нижинской (Baer Van Norman N. Bronislava Nijinska: A Dancer’s Legacy… P. 22): «Очень рад встрече. Надеюсь, будем продолжать вместе. С дружескими чувствами. Дягилев. Отель “Савой”» (très enchanté vous rencontrer espère continuerons ensemble amitiés diaghilen (sic!) savoy hotel). Возможно, это та самая, посланная в конце июня 1921 г. и ставшая причиной разрыва с Ромолой, которую упоминает Б. Ф. Нижинская в дневнике 28 июня 1921 г. Не исключено, что она была нужна Нижинской для переговоров с венским администратором «Мулен-Руж», где у Нижинской был контракт до 17 сентября 1921 г., чтобы поднять ставки и, может быть, дать основание расторгнуть контракт с венским мюзик-холлом. Хотя известно, что она выступала в «Мулен-Руж» до конца контракта, и к Дягилеву приехала с опозданием, когда репетиции «Спящей принцессы» в Лондоне были в самом разгаре.
205 С 10 августа по 20 сентября записей в дневнике не было.
206 То, что вижу по эскизам костюмов и декораций для Ballet Russe, — скучно. — Запись сделана, когда Б. Ф. Нижинская уже начала работать у С. П. Дягилева. Он, по-видимому, 433 показывал ей эскизы своих спектаклей, которые она не могла видеть, находясь в России. Реакция Нижинской любопытна. Она не принимает всего того, в чем ей чудится хоть какая-то привязанность к быту, ей мало того, чтобы художник нес на сцену свою живописную фантазию, она требует от него некой абстракции, обобщающей данное явление. Поэтому ее, воспитанную русским авангардом 1920-х гг., в дягилевских спектаклях первых послевоенных лет многое не устроило. Впоследствии, как известно, большие споры возникнут у Нижинской с Дягилевым и по поводу «Свадебки», когда она откажется от первоначальных красочных эскизов Гончаровой. Они ей показались поверхностными, демонстрирующими style russe, каким привыкла любоваться западная публика, но никак не отражающими глубокий драматизм произведения Стравинского.
207 Пикассо для испанского балета просто плохо. — Имеются в виду эскизы костюмов Пикассо для балета «Треуголка» с музыкой М. де Фальи, поставленного Л. Ф. Мясиным в 1919 г.
208 Гончарова Наталия Сергеевна (1881 – 1962) — художница. Оформила в труппе С. П. Дягилева балеты М. М. Фокина «Золотой петушок» (1914) и «Жар-птица» (1926), работала с Л. Ф. Мясиным над неосуществленным балетом «Литургия» (1914 – 1915), а позднее оформила постановки самой Б. Ф. Нижинской — «Лиса» («Байка про лису, петуха, кота да барана») и «Свадебка» (1922, 1923).
209 Ларионов Михаил Федорович (1882 – 1964) — художник. Оформил в труппе С. П. Дягилева балеты Л. Ф. Мясина «Полуночное солнце» (1915), «Кикимора» (1916), «Русские сказки» (1917) и поставил (совместно с Т. Славинским) балет «Шут» (1921).
210 «Мистерия» — по-видимому, имеется в виду балет «Литургия», над которым Л. Ф. Мясин работал с Н. С. Гончаровой в 1914 – 1915 гг.
211 Стравинский Игорь Федорович (1882 – 1971) — композитор. Б. Ф. Нижинской, когда она работала в труппе С. П. Дягилева в 1910-е гг., довелось танцевать в балетах на его музыку, в частности в «Петрушке», где она исполняла сначала роль Уличной танцовщицы, а затем и Балерины. Во время постановки «Весны священной» ее брат многое ставил на нее, хотя в премьере она не смогла участвовать. Позднее, в 1920-х гг., Нижинская поставила в труппе С. П. Дягилева балеты Стравинского «Байка про лису, петуха, кота да барана» (за границей «Лиса») и «Свадебка».
212 После войны, после ураганного огня, груды трупов, после Марны… — Речь идет о сражениях, проходивших во время Первой мировой войны между французскими и германскими войсками на реке Марна («марнские сражения»). Наиболее известны два — в начале сентября 1914 г. и в июле – августе 1918 г.
213 Как бы хорошо косу ни заплетали в «Свадебке»… — Б. Ф. Нижинская поставила в 1923 г. в труппе С. П. Дягилева «Свадебку», где есть сцена расплетания косы у Невесты. Этот обряд символизирует ее переход из девичества в замужнее состояние, так как по русскому деревенскому обычаю только юные девушки могли ходить с косой. Хотя Нижинская пишет об эпизоде с косой, что «никому это не нужно», в ее постановке 1923 г. в труппе С. П. Дягилева эта сцена была одной из самых впечатляющих.
214 Бакст <…> То, что делает для «Спящей Красавицы» сейчас — это не совсем ОН. — Спектакль «Спящая принцесса» («Спящая красавица»), поставленном в труппе С. П. Дягилева в Лондоне в 1921 г., оформлял Л. С. Бакст, и он отдал здесь дань своим 434 давним стилизаторским увлечениям, для которых в спектакле открывались широкие возможности. В декорациях использовались архитектурные мотивы великих дворцовых сооружений, чьи проекты оформления, выполненные архитекторами знаменитого семейства Бибиена, Бакст изучал в Национальной библиотеке Парижа. Костюмы в большой степени относились к эпохе Короля-солнца и отличались исключительной роскошью.
215 … Стравинский и Сергей Павлович «приводят в порядок», купируют, поднимают лучшее. Сначала думала, что так нельзя. — В лондонском спектакле «Спящая принцесса» («Спящая красавица») 1921 г. С. П. Дягилев произвел ряд изменений, стремясь сделать балет более компактным, более танцевальным, для чего он убирал пантомимные эпизоды, урезал некоторые массовые танцы (например, «крестьянский вальс» в 1 акте). Были также замены (например, в Прологе фея Сирени танцевала вариацию феи Драже из балета «Щелкунчик», а на музыку ее вариации танцевала фея Рябины, в последнем акте принц Дезире исполнил вариацию принца Зигфрида из «Лебединого озера»). Но одновременно были восстановлены купюры, сделанные во 2 акте балета в его петербургской постановке — некоторые танцы в сцене охоты, вариация Авроры в сцене видения и антракт между 2 и 3 картинами со скрипичным соло. Эти номера были заново оркестрованы Стравинским, и он дописывал связки между купированными эпизодами. Нижинская, как видно из ее записи в дневнике, поначалу была против сокращений, вносимых в музыку «Спящей красавицы». Однако потом она, как признается, изменила свое мнение. А кроме того, приняла самое непосредственное участие в постановке новых сцен и танцев. Тут как раз основную работу провела именно Нижинская. Ей принадлежали несколько совершенно новых номеров в дивертисменте последнего акта: сцены «Синяя борода» на музыку «Pas berrichon», квартет Пьеретты, Коломбины, Пьеро и Арлекина на музыку вариаций фей Серебра и Бриллиантов, номер «Иван-дурак и его братья» («Три Ивана») на музыку коды из па-де-де последнего акта. Нижинская также заново поставила танцы в сцене охоты и вариацию феи Сирени в сцене «Видения». (Сообщено С. А. Конаевым.) Кроме того, Дягилев и Стравинский ввели в «Спящую принцессу» дополнительно музыку из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» для новых сцен в том же дивертисменте: «Шехеразада» шла на музыку Арабского танца (Кофе), «Фарфоровые принцессы» на музыку Китайского танца (Чай).
216 Я в Лондоне опять возвращаюсь, в Театр, где я выросла. — Нижинская вспоминает свое пребывание в Лондоне с труппой С. П. Дягилева. Начиная с 1911 г. труппа ежегодно выступала в лондонских театрах (Ковент-Гарден, Друри-Лейн), иногда даже дважды в течение сезона, и всегда имела там исключительный успех. Кроме того, именно в Лондоне выступала и созданная в 1914 г., но недолго просуществовавшая труппа В. Ф. Нижинского, в которой Бронислава тоже танцевала. Когда она говорит о театре, «где выросла», то, вероятно, имеет в виду «Русские балеты Сергея Дягилева».
217 Приехал Федор. — Ф. И. Шаляпин, который в 1918 г. начал работать в Мариинском театре (где ему было поручено художественное руководство) и в 1919 г. был избран в его директорию, в эти годы также несколько раз выезжал за границу, всякий раз возвращаясь в России. Б. Ф. Нижинская видела его во время его гастролей в Лондоне осенью 1921 г. Только в 1922 г. он, снова уехав на гастроли на Запад, обратно не вернулся.
218 Свою вариацию в Прологе… — Участвуя как танцовщица в «Спящей принцессе», Нижинская танцевала там на премьере в Прологе вариацию феи Виолант (в этой постановке 435 названной феей Колибри), хореографию которой она несколько изменила, соответственно своему пониманию этого образа. Сохранилась ее фотография в этой роли, на которой, в частности, видно, какой необычный грим она придумала. Главная цель была, как кажется, сделать лицо «странным». Она удлинила глаза, подвела их кверху, а губы, наоборот, сделала маленькими и очень пухлыми; над четкой дугой бровей торчали укрепленные на головном уборе длинные усики, как у насекомого. И, хоть она и сохранила все па, придуманные некогда Петипа, исполняла она их с той свободой, которую допускал новый современный танец, а не старая классическая школа, придала им, как она позднее писала в одной из своих статей, «движение по спирали». В финальном дивертисменте Нижинская танцевала также Пьеретту (в номере с участием Пьеретты, Коломбины, Пьеро и Арлекина на музыку, написанную для фей Бриллиантов и Серебра). Все время пока спектакль шел в Лондоне, в нем выступали разные составы исполнителей. Так, Нижинская, кроме указанных ролей, танцевала также фею Сирени в очередь с Лидией Лопуховой, которая выступила на премьере, а также один раз исполнила роль Авроры. См. Beaumont C. W. The Diaghilev Ballet in London. L., 1951. P. 207 – 208. В книге опубликована фотография Нижинской в роли феи Колибри, где хорошо виден грим. Но также сама поза, в которой она снялась, — повернувшись боком и изогнувшись, нарочито жеманно приложив руку к лицу — свидетельствует о желании не просто станцевать классическую вариацию, а создать некий образ.
219 Так, как идет сейчас, несомненно, провалится. — Возобновлял «Спящую красавицу» Николай Григорьевич Сергеев (1876 – 1951), танцовщик Мариинского театра с 1894 г., с 1897 по 1917 г. педагог, с 1903 по 1918 г. режиссер балетной труппы. С 1918 г. жил за границей. Подробнее см. вступ. статью С. А. Конаева к публикации писем Н. Г. Сергеева князю А. К. Шервашидзе (1921 – 1933) в наст. изд.
Н. Г. Сергеев прекрасно знал хореографию «Спящей красавицы», и, кроме того, у него были записи многих спектаклей Мариинского театра, которые он вывез за границу. Но он мог только точно воспроизвести известное ему. Он не был способен создать живой спектакль, который мог бы привлечь современного зрителя, тем более западного. И сама мысль что-то менять в постановке М. И. Петипа глубоко его возмущала, он сопротивлялся любым, даже необходимым нововведениям. И, конечно, С. П. Дягилев и И. Ф. Стравинский сделали главное, проведя большие сокращения. Но Б. Ф. Нижинская, в свою очередь, придала спектаклю динамику, связала отдельные детали его структуры в одно целое.
220 При нем всегда, кажется, идет хорошо — без него сыпется. — Нижинская, наблюдая за происходящим во время репетиций «Спящей принцессы», отмечает то исключительное влияние, которое имел на всех С. П. Дягилев, умевший всех заставить действовать, всем сообщить новую энергию.
221 «Синяя Борода» — номер в дивертисменте последнего акта балета «Спящая принцесса», поставленный Б. Ф. Нижинской. В нем участвовали Синяя Борода, его жена Ариана и ее сестра Анна. Синяя Борода требует у жены ключи от комнаты, в которую он ей запрещал входить, обнаруживает на них следы крови (что свидетельствует о том, что она входила в эту комнату, где он прячет тела убитых им жен) и начинает ее душить. Сестра Анна зовет на помощь, к ним спешит рыцарь, и Синяя Борода вынужден бежать. Для этой сцены была использована музыка «Pas berrichon» (№ 26), задуманная М. И. Петипа и написанная П. И. Чайковским как сцена с Людоедом, Мальчиком-с-пальчик 436 и его братьями. Благодарю за сообщенные мне сведения профессора Джона Уайли, почерпнувшего их из хранящейся в Гарвардском университете диссертации Морин Анна Гупта, и подтвердившего этот факт С. А. Конаева, который обратился к режиссерскому клавиру балета, находящемуся в архиве Фонда Пауля Захера (Paul Sacher Stiftung) в Базеле.
222 «Шехеразада» — номер в дивертисменте «Спящей принцессы», поставленный Б. Ф. Нижинской на музыку Арабского танца из «Щелкунчика». В нем участвуют Шах, его брат и Шехеразада, которую выносят на сцену в закрытом паланкине два негра.
223 … менуэт в «Спящей красавице»… — Менуэт исполнялся в сцене на охоте.
224 … будто портрет «со сходством и красотой» по заказу. — Б. Ф. Нижинская употребляет это выражение, чтобы сказать о чем-то недостойном истинного художника: нельзя стремиться только к внешнему сходству и изображать на полотне обязательно что-то красивое, вместо того чтобы показать истинный характер того, с кого пишешь портрет.
225 5-го была на концерте Федора. — Ф. И. Шаляпин осенью 1921 г. приехал из России на гастроли в Европу, чтобы дать концерты в пользу голодающих. Он выступил 2 и 5 октября с концертами в Алберт-холле в Лондоне, где Б. Ф. Нижинская его слушала.
226 … ему приходилось «угождать» публике, извиняться за большевистские «грехи». — Ф. И. Шаляпин в своих мемуарах, изданных в эмиграции (Маска и душа. Париж, 1932) рассказывает, что его во многих странах порицали за то, что он соглашается представлять советскую власть и отдает немалую часть своего гонорара в советские посольства; называли большевиком. А в Эстонии, например, его даже по этой причине, освистали.
227 … все артисты «хорошие, красивые» — качества большого торгового магазина, вроде парижского «Лувра», Lafayette. — Имеются в виду парижские универмаги «Лувр» и «Галери Лафайет».
228 … не буду делать того моего настоящего. — Нижинская, оказавшись на Западе и вступив в труппу С. П. Дягилева, естественно, надеялась на то, что она сможет продолжить эксперименты, начатые ею в Советской России, прежде всего в Киеве в 1919 – 1920 гг. Многие записи этого периода свидетельствуют о ее разочаровании.
229 … не озабочен показать Нижинскую — Артистку. — Фраза с первого взгляда не совсем понятна. Потому что «Нижинская-артистка», если понимать это как Нижинская-балерина, была Дягилевым показана в «Спящей красавице» в самых разных ролях, и притом очень значительных. Но означает она, по всей вероятности, то, что Б. Ф. Нижинскую огорчает малый интерес С. П. Дягилева к ее собственным постановкам. Ей казалось, что и сочиненное ею для «Спящей красавицы» недостаточно оценено, а главное, Нижинская мечтала, что Дягилев заинтересуется тем, что она делала все эти годы в России, и, может быть, предложит осуществить ее замыслы в своей труппе.
230 … выдумываю для этого показа танцы, только для себя ничего. — Б. Ф. Нижинская, работая у С. П. Дягилева в Лондоне осенью 1921 г., мечтала продолжить свои эксперименты, начатые в Киеве, или хотя бы что-то свое ему показать, но Дягилев не шел навстречу. Он ждал от Нижинской только работы над «Спящей красавицей», которая ему непосредственно в тот момент была нужна, и пока еще не очень верил в нее как в хореографа.
231 А я ничего не выдумываю, просто танцую вся, а не только ногами. — Нижинская танцевала в «Спящей принцессе» так, как считала нужным, — всем телом, а не только ногами, 437 как часто балерины исполняют классические танцы. Это проявилось особенно определенно в ее исполнении вариации феи Виолант (феи Колибри в спектакле «Спящая принцесса»). См. коммент. 218.
232 Сергей Павлович очень помогает, все рассказывает… — С. П. Дягилев, как всегда, принимал самое непосредственное участие в создании спектакля, в частности любил сам устанавливать освещение. Но, главное, он умел, как поясняет и Нижинская, растолковать участникам постановки смысл того, что должно происходить на сцене. О постановке «Спящей принцессы» в Лондоне и об участии в ней Дягилева подробно рассказывает постоянно бывавший на репетициях С. У. Бомонт (Beaumont C. W. The Complete Book of Ballets. N. Y., 1938. P. 477 – 480).
233 Меня как композитора «замалчивают». — Нижинская употребила слово «композитор» вместо «постановщик» или «хореограф» (имея в виду, что она «композитор танцев»). Судя по всему, ее обижает, что газеты мало пишут о сделанном ею в балете «Спящая принцесса».
234 От «театра» Дягилева ужасающее разрушение всего, что здесь ждала видеть. — Б. Ф. Нижинская была глубоко разочарована тем, что нашла в труппе С. П. Дягилева. Она отрицательно относилась к проекту Дягилева поставить «Спящую красавицу» и позднее, в 1937 г., об этом писала. (См. Reflections about the Production of Les Biches and Hamlet in Markova-Dolin’s Ballets // The Dancing Times. 1937. Febr. P. 617 – 620). Ей казалось, что, ставя традиционный для балета театра XIX в. многоактный академический спектакль, Дягилев, всегда поддерживавший все современное, открывающее новые пути в искусстве, изменяет всем своим принципам. В то же время пишет она об этом «ужасающем разрушении» труппы Дягилева, фактически не видя того, что в ней было поставлено с 1914 по 1921 г., за весь период, что она сама там не работала и жила в России. Т. е. она не видела всех сделанных в эти годы балетов Л. Ф. Мясина (12 балетов, в том числе такие, как «Парад», «Треуголка», «Пульчинелла»). Нижинская присоединилась к труппе Дягилева только в сентябре 1921 г., когда та уже не выступала, а только репетировала «Спящую принцессу». И судит она о труппе лишь по этим репетициям. Дягилев, по-видимому, это понимал и, может быть, именно поэтому показал ей эскизы декораций и костюмов некоторых спектаклей (например, «Треуголки»). Но она и о них в дневнике высказалась скорее отрицательно. См. запись от 20 сентября 1921 г. и коммент. 206.
235 Мои дорогие дети — ученики моей «Школы» — как вы прекрасны в сравнении со всем, что есть здесь… — Б. Ф. Нижинская постоянно вспоминает своих учеников в киевской школе, и ей кажется, что то понимание искусства, которое она сумела им привить, совсем иное, чем у артистов дягилевской труппы. Своим ученикам она стремилась внушить, что служить надо только высшим идеалам, здесь же артисты думают, как она пишет, лишь о технике, о том, чтобы исполнением технического трюка поразить зрителей. Едва ли Нижинская здесь справедлива к своим коллегам. Ведь среди них были, бесспорно, выдающиеся исполнители. В то же время нельзя не вспомнить, что никто из учившихся у самой Нижинской, как нам известно, большим артистом не стал.
236 … ничем не лучше, чем в любой «Опере Городского Театра». — Вероятно, Нижинская вспоминает Городской театр в Киеве, где она работала с А. В. Кочетовским в 1915 – 1916 гг. и где в 1920 – 1921 гг. иногда шли концерты ее школы. Судя по всему, она невысокого мнения о балетной труппе этого театра.
237 438 Так жутко, что мои ребятки далеко и мама тоже. — Пока шла работа в Лондоне, а затем спектакли «Спящей принцессы», дети и мать жили без нее в Вене, и только когда Б. Ф. Нижинская в апреле 1922 г. начала работать с труппой Дягилева во Франции, она перевезла их в Монте-Карло, где находилась сама.
238 Миша — Михаил Павлович Стефанович (1898 – 1970) — украинский оперный режиссер и певец, муж приятельницы Б. Ф. Нижинской Нины Моисеевны Горкиной-Стефанович, который писал Нижинской из Киева. Его письма хранятся в архиве Нижинской. Пати — см. коммент. 114.
239 С ним другая женщина. — Новой женой А. В. Кочетовского (о которой Б. Ф. Нижинская упоминает в дневниках) стала Доротея (Дороти и Дора) Кочетовская (урожд. Раковская), русская, предположительно родившаяся в Болгарии около 1901 г. и с 1922 г. жившая в США, куда уехала с труппой «Летучая мышь». По-видимому, официально она вышла замуж за Кочетовского, после того как в 1924 г. был оформлен его развод с Нижинской. Она была матерью сына Кочетовского — Владимира. (Сведения любезно предоставлены Л. Гарафолой.)
240 Первый спектакль в новом году… — «Спящая принцесса» была впервые показана 2 ноября 1921 г., спектакли шли ежедневно (иногда даже по два раза в день). Шли они также на Рождество и под Новый год. В течение января 1922 г. сборы стали падать и вскоре спектакль пришлось снять. Последнее представление состоялось 4 февраля 1922 г. Дягилеву предлагали отменить ежедневные показы этого балета, чтобы несколько раз в неделю шли другие одноактные балеты его труппы или мюзик-холльные программы. Но тот отказывался, так как боялся, что декорации его балетов ему не вернут, а продадут, чтобы оплатить его долги. (Подробно о финансовой ситуации труппы Дягилева во время показа «Спящей принцессы» в Лондоне см. в книге MacDonald N. Diaghilev Observed by Critics of England and the United States: 1911 – 1929. N. Y.; L., 1975. P. 282 – 284).
241 … опять повторяется та же история, что была со мной в детстве. — Отец Брониславы и Вацлава Нижинских Томаш (Фома) Нижинский ушел из семьи к другой женщине, когда дети были еще маленькие, и Элеонора Береда воспитывала их одна. Сейчас Б. Ф. Нижинская имеет в виду, что история повторяется: ее дети тоже остались без отца, когда А. В. Кочетовский ушел от нее.
242 Я уезжаю… — Спектакли «Спящей принцессы» прекратились 4 февраля 1922 г. С. П. Дягилев уехал во Францию на неделю раньше, поручив труппу В. Ф. Нувелю и из-за колоссальных долгов не расплатившись с артистами. Многие тогда вынуждены были искать другую работу. Б. Ф. Нижинская уехала в Вену, где находились ее мать и дети, и жила там до того, когда Дягилев снова затребовал ее к себе и прислал ей приглашение. В Библиотеке парижской Оперы сохранилась ее ответная телеграмма от 5 апреля 1922 г.: «Выеду немедленно по получении денег от директора Монте-Карло» (См. публикацию писем Б. Ф. Нижинской С. П. Дягилеву и дягилевцам в наст. изд.).
Школа и Театр Движений
243 Автограф: LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 55. Fold. 5. Печатается по ксерокопии, на листах которой проставлена сквозная пагинация. Несколько листов (фрагмент [1] и начало фрагмента [2] — до слов «культивировать») попали в другую ед. хр.: LOC. Bronislava Nijinska Collection. Box 55. Fold. 14.
439 Работу над трактатом, или, вернее, циклом черновиков к нему Б. Ф. Нижинская вела в общей тетради, на титульном листе которой написано: «Школа и Театр Движений. 1918 г.».
Сочинительство давалось ей с большим трудом — в тетради найдется мало законченных, стройно и ясно изложенных кусков, что составляет разительный контраст как дневнику, так и более поздним ее работам. Тем бóльшие сложности это создает для публикатора. Текст Нижинской разбит нами на записи, начало и конец которых, как правило, отвечают перерывами в работе — когда автор спустя какое-то время брался за карандаш, — не продолжая мысль, а заново ее проживая, мучительно подыскивая адекватную словесную форму, меняя ассоциации, вписывая, вычеркивая и отменяя то и другое. Иногда новый текст без перехода повторяет с небольшими изменениями изложенное несколькими абзацами ранее — иногда фокус рывком меняется, и мысль выходит на простор, чтобы через какое-то время вновь вернутся во все тот же замкнутый круг.
В общую тетрадь также вложены разноформатные листы (некоторые исписаны с двух сторон), с размышлениями Б. Ф. Нижинской о проблемах работы балета при опере (л. 99 – 112). В отличие от большинства представленных в общей тетради текстов, это литературно более или менее отделанные наброски, которые, по-видимому, относятся к службе Нижинской в киевском Городском театре. Они преследуют практическую задачу поднятия статуса и повышения культурного уровня балетной труппы, существующей при опере, в 1918 – 1920 гг. для Нижинской уже неактуальную. Можно предположить, что они также являются одним из зерен того масштабного замысла, который Нижинская пробует здесь выразить. Замысла, совершенно вытеснившего исходный, следы которого в общей тетради отразились в одной черновой записи, о желании дать «маленькое руководство» «уже готовым артистам», помочь «коллегам — артистам сцены» (см. фрагмент [19]).
244 Порядок тезисов Нижинская несколько раз меняла. Первоначальный порядок: 2), 1), 4).
245 Вычеркнутая фраза соответствует исходному порядку тезисов к трактату, выписанных Нижинской. См. фрагмент [1].
246 В страстном отрицании театра как развлечения и забавы зрителей, постоянно возникающем на страницах общей тетради, угадывается увлечение идеями Л. Н. Толстого, которое Нижинская, по собственному признанию, переживала в это время. (Ср. напр. «О Шекспире и о драме», впервые опубликованное в 1906 г. и изданное отдельной книгой в 1907 г.).
247 Взгляды Нижинской на культуру и школу как средство высвобождения и реализации творческого духа человека своеобразно перекликаются с идеями В. Г. Малахиевой-Мирович, чья статья «Воспитательное значение игрушки» есть в списке книг, отмеченных балетмейстером (см. фрагмент [29]): «Отчего столь немногие сберегают неугашенным очаг творческой жизни своего духа? Не оттого ли, что в огромном большинстве своем люди не понимают центрального и священного значения этого очага человеческой жизни» (Малахиева-Мирович В. Г. Воспитательное значение игрушки // Игрушка. Ее история и значение: Сб. статей. [Под ред. Н. Д. Бартрама.] М., 1912. С. 141). «От природы сильный, умный и чуткий ребенок вынесет целыми характер, волю и душевную чуткость (изменив лишь направление их) из какой угодно педагогической муштровки, равно как и из самой темной среды. Но та нежная почка творческого отношения к миру, что расцветает на самой вершине дерева, для которой, может быть, и самое-то дерево начало жить, гибнет очень рано при 440 отсутствии необходимых для нее условий. Как и для всего нежного и сложного, для нее необходимо большое количество и большая определенность наличных условий для развития. Еловое семечко вырастает на камне. А для того, чтобы расцвела роза особой утонченно-изящной формы, с особенным индивидуальным ароматом и оттенком окраски, нужна такая сумма условий естественных и искусственных, расстроив которую совсем не получить никакого цветка». (Там же. С. 143).
248 В. Я. Светлов в книге «Современный балет», очевидно оказавшей сильное влияние на представления Нижинской об эволюции танца и его задачах (см. коммент. 262), ссылаясь на мнение «одного из наших балетных критиков», писал: «В новом балете найдется место и тюникам, и пируэтам, как хитонам и “покрывалам”. Разница в том, что тюники и пируэты появятся только тогда, когда творческий инстинкт художника потребует именно этих образов (форм?) для воплощения его хореографической фантазии. А без этого условия новые танцы покрывал и хитонов будут загублены так же, как уже почти загублен балет тюников и пируэтов». (Светлов В. Я. Современный балет. СПб., 1911. С. 45).
249 Представление о важности и ценности нотации (записи хореографии), по-видимому, было воспринято Нижинской от брата, — Вацлав Нижинский не только серьезно занимался системой В. И. Степанова даже после окончания балетной школы, где ее преподавали, но первым из артистов императорского балета создал на ее основу свою систему записи и зафиксировал в ней «новую» хореографию — свой «Послеполуденный отдых фавна» (1912 г.; записан в 1915 г.) (см.: Hutchinson Guest A., Jeschke С. Nijinsky’s Faune restored: a study of Vaslav Nijinsky’s 1915 dance score: L’après-midi d’un faune and his dance notation system: revealed, translated into labanotation and annotated. Philadelphia, 1991). М. Рамбер рассказывала своему биографу М. Кларк, как в 1913 г., во время репетиций «Весны священной», когда выяснилось, что Бронислава из-за беременности не сможет воплотить задуманную для нее братом партию Избранницы, единственное, что могло унять гнев и досаду Нижинского было предложение Рамбер посмотреть «Хореографию» Р.-О. Фейе (1700) — первый труд по записи танца условными знаками. (См.: Clarke M. Dancers of Mercury; the story of Ballet Rambert. London, [1962]. P. 23).
250 Учитывая, что свои сведения по истории хореографической нотации Нижинская черпала прежде всего из краткого обзора А. А. Горского в «Таблице знаков для записывания движений человеческого тела по системе В. И. Степанова» (СПб., 1899), скорее всего, имелся в виду XVI век, так как первый упоминаемый Горским источник — «Орхесография» Туано Арбо (1588).
251 На самом деле В. И. Степанов ставил перед собой задачу создать алфавит для фиксации любых движений, от гимнастики до классического танца, в невыворотном и выворотном положении (см.: Stepanov V. Alphabet des mouvements du corps humain: essai d’enregistrement des mouvements du corps humain au moyen des signes musicaux. P., 1892. P. VI). Знаками его системы можно отобразить практически любое статическое положение тела. Упоминаемые Нижинской «основные точки», т. е. положения ног и рук под фиксированными углами преимущественно в 45°, 90° и 135°, действительно даны в системе с наибольшей наглядностью, что соответствует практике классического танца. Запись движений вне «основных точек» также осуществима, но более громоздка, с чем столкнулся Вацлав Нижинской при попытках записать свой «Послеполуденный 441 отдых фавна» в 1915 г. Нижинская не пишет здесь о другой «неполноте», которую она прекрасно сознавала и которая была гораздо большей проблемой для ее собственного творчества: система Степанова имеет мало средств для фиксации нюансов развертывания движения, его динамики, связей с музыкой и дыханием. Заметки Нижинской о закономерностях, взаимосвязи и качестве движений (см. фрагменты [16] – [17]) можно интерпретировать и как детально обдуманный план по усовершенствованию системы записи, хотя имя Степанова там почти не упоминается.
252 Автором «Таблицы…» был А. А. Горский, который, очевидно, по соображениям этического порядка не стал ставить свою фамилию на обложку, подписав лишь «Введение» и «Приложения к таблицам». О вкладе Горского в развитие системы В. И. Степанова см. публ. работ Г. А. Римского-Корсакова в наст. издании и коммент. 382 к ней.
253 Имеется в виду издание: [Горский А. А.] Хореография. Примеры для чтения. Вып. 1. СПб., [1899]. Оно содержит 150 примеров нотации, сделанных А. А. Горским. Первый раздел («Движения простые») включает 73 примера записи движений в невыворотном положении. Во втором разделе («Движения сложные, ритмизованные») представлен экзерсис, т. е. все основные движения классического танца (№ 74 – 145). В третий раздел (№ 146 – 150) вошли нотации отдельных номеров: отрывки из «Клоринды» Горского, сочиненная им мужская вариация из «Лебединого озера», а также вариации Авроры из 1 акта «Спящей красавицы», поставленная М. И. Петипа.
254 Сергеев Николай Григорьевич (1876 – 1951) — артист петербургского балета, режиссер Мариинского театра в 1903 – 1917 гг. Преподавал систему В. И. Степанова в Театральном училище, благодаря его усилиям и при его участии как нотатора и организатора по этой системе начиная с 1903 г. был записан балетный репертуар Мариинского театра (ныне в Harvard Theatre Collection), также см. публ. писем Н. С. Сергеева к А. К. Шервашидзе в наст. изд.
Чекрыгин Александр Иванович (1884 – 1942) — артист петербургского балета, балетмейстер, педагог. Чекрыгин был назначен помощником Сергеева по записи балетов в сентябре 1903 г. (РГИА. Ф. 497. Оп. 13. Ед. хр. 1163. Л. 39). В 1903 – 1905 гг. Чекрыгин выполнил записи балетов «Роман бутона розы», «На перепутьи», «Голубая Георгина», «Лебединое озеро», «Дочь фараона», «Капризы бабочки», танцев из опер «Руслан и Людмила», «Садко», «Фераморс», а также отдельных номеров. (Там же. Л. 15) В 1911 г. им был записан балет «Синяя борода», в 1912 г. — танцы из «Хованщины» (Там же. Л. 28 – 28 об., 31). Чекрыгин продолжал дело записи по системе Степанова и после отставки Н. Г. Сергеева, последний документ об оплате выполненных записей из его дела в его личном деле датирован 1918 г.
Нижинская точно ухватила суть затруднений, которые возникли у Н. Г. Сергеева с записью фокинской хореографии и о которых сам М. М. Фокин писал с юмором С. Бомонту: «Любопытно, что при постановке оперы [“Орфей”] была попытка записать мою работу по той самой системе, по которой записывались старые балеты. Но режиссер Сергеев, попробовав, отказался и сказал: “Какие же это танцы, если их и записать нельзя?..” Действительно, эти танцы не похожи были на старый балет и по старой системе записать их было невозможно». (Фокин М. М. Против течения. Л., 1981. С. 389 – 390).
255 Опыты А. А. Горского по созданию хореографических партитур в системе В. И. Степанова и разучиванию балетов по хореографическим партиям фактически прервались в 1901 г., после переноса в Москву балета «Клоринда» на музыку Э. Келлера. Подробнее 442 об участии А. А. Горского в развитии и распространении системы В. И. Степанова и об эволюции взглядов на нее см. вступит. статью к публикации писем Н. Г. Сергеева к А. К. Шервашидзе (с. 555 – 584).
… очень неграмотно написанными в хореографическом значении… — Эта мысль, важная для понимания позиций Нижинской и ее требований к хореографической нотации, не раскрыта автором. Это может быть критика как способов фиксации хореографии, так и претензии к построению (хореографическому содержанию) самих комбинаций экзерсиса, предложенных Горским. Остается надеяться, что в обширном архиве Нижинской найдется более подробный разбор «Примеров для чтения» Горского.
256 Заглянули немного в историю (до сих пор этого хореографы последн[его] вре[мени] не делали)… — Нижинская не могла знать, что подготовительная работа М. И. Петипа была порой не менее интенсивной, чем у хореографов-модернистов. Об этом свидетельствуют гравюры, выписки из книг и статей, сохранившиеся в архиве Петипа в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. Но иными были способ художественной обработки, применения этих материалов в представлении и мера условности балетного зрелища. В мемуарах Петипа характерно следующее признание мастера, задетого экспериментами А. А. Горского: «В бытность мою в Берлине я ходил там в Египетский музей и видел гробницы фараонов и настенную живопись, где все фигуры изображены в профиль, потому что тогдашние художники не умели еще изображать людей иначе. Вот почему в “Дочери фараона” я и не подумал заставлять своих египтян танцевать, повернувшись в профиль к публике: ведь во времена фараонов, да и раньше, люди ходили совершенно так же, как ходим мы, и только невежды и глупцы способны заблуждаться на этот счет» (Мариус Петипа: Материалы. Воспоминания. Статьи / Сост. и авт. примеч. А. Нехендзи. Л., 1971. С. 51).
257 Более подробно Нижинская пишет об этом в подглавке «Взгляд на прежнюю “классическую” форму в хореографии». См. коммент. 262.
258 Намеченная в двух строках тема о том, как А. П. Павлова преобразила балетное искусство, здесь не раскрыта. Один из поздних вариантов трактата, опубликованный Н. Ван Норман Бэр в каталоге выставки, посвященной Б. Ф. Нижинской, содержит слова: «Вспомните, как Павлова вставала в арабеск. Вот так нужно учиться движению. <…> Вспомните, как Павлова приближалась к исполнению своих па. Вот это приближение, эти подходы и есть настоящее движение. Все очарование Павловой заключалось в том, как она вставала в аттитюд, в арабеск или другую позу». (См.: Baer Van Norman N. Bronislava Nijinska: A Dancer’s Legacy… P. 86. Цит. по Нижинская Б. Ф. Ранние вспоминания. Ч. 1. М., 1999. С. 15).
259 Ср. также запись в дневнике Нижинской от 16 марта 1921 г.
260 Нижинская использует аргументы в пользу записи, высказанные ранее А. А. Горским во введении к системе В. И. Степанова: «Искусства: живопись, скульптура, архитектура и музыка как имеющие способы графического изображения могут оставлять после себя памятники как глубокий след своего существования и развития в виде картин, статуй, зданий и музыкальных партитур.
Искусство же, состоящее из разнообразных и весьма сложных телодвижений, искусство хореографическое, до сих пор, за неимением способа записывания движений человеческого тела, не могло оставлять потомству памятники как результаты своего бытия.
443 Многое, что было создано в области этого искусства, умерло вместе с созидавшими.
Развиваться, совершенствоваться, идти вперед наравне с другими искусствами, оно не могло, так как, передаваясь от поколения к поколению посредством наглядного предания, многое искажалось вследствие плохой передачи, а иногда и прямо-таки за неимением лиц, способных передать созданное каким-либо мастером этого искусства так, как оно было создано…» ([Горский А. А.] Таблица знаков для записывания движений человеческого тела по системе Артиста Императорских С.-Петербургских Театров В. И. Степанова. СПб., [1899]. С. 1).
Мечтая, как и Горский, о создании и разучивании балетов тем же способом, каким композитор творит, а оркестр разучивает музыкальные произведения, сознавая также практические удобства такого метода, частично воплощенного на занятиях по системе записи Степанова в балетной школе, Нижинская идет гораздо дальше. Она предлагает, чтобы композитор интерпретировал готовую хореографическую партитуру, а не наоборот. Что, по сути, означало бы возрождение практик XX в., когда штатный композитор Императорских театров находился в полном подчинении у хореографа. Ожидания Нижинской в отношении композиторов, которым желательно овладеть хореографической партитурой, зеркальны требованиям таких хореографов-новаторов, как Ф. В. Лопухов, который категорически настаивал на том, чтобы хореографы умели читать партитуру (см. напр. Лопухов Ф. В. Пути балетмейстера. Берлин, 1925).
261 Высказывание Нижинской является полемическим преувеличением и не отражает практики создания балетов в Императорских театров, где балетмейстер М. И. Петипа даже таким крупным композиторам, как П. И. Чайковский и А. К. Глазунов, давал строго определенные сценарные, формальные и ритмические задания, соответствовавшие характеру задуманного им танца. Как вспоминал М. М. Фокин: «До меня балетмейстеры просили: “16 тактов, еще 16 и еще 16”. Получалось мужская вариация. Просили 32 такта вальса, и получалось entrée для балерины. Мне был противен такой подход к музыке. Я ждал от композитора картины, образы, характеры. А сколько и каких тактов для этого понадобится, я не говорил и не хотел об этом думать. Из такой идеи “раскрепощения композитора” создался новый балет, в частности новая балетная музыка. Став свободной, музыка стала богаче, и обогатился самый танец». (Фокин М. М. Против течения. Л., 1981. С. 153). См. также публ. «Записки петербургского зрителя» Г. А. Римского-Корсакова в наст. изд. (с. 37).
262 Взгляды Нижинской на историю развития классического балета сформировались под очевидным влиянием В. Я. Светлова, соединяясь с собственным опытом балерины и идеальным образом театра будущего. В «Современном балете» Светлов прослеживает путь балета от танцев аристократок-непрофессионалок двора Людовика XIV к итальянкам-виртуозам, современницам автора, подведшим балет к той грани, за которой кончается искусство и начинается акробатизм: «Вступив на путь виртуозности, театральный танец все более и более развивал хореографическую технику. В современной Хореографии количество виртуозных pas громадно». (Светлов В. Я. Современный балет. СПб., 1911. С. 24. См. там же с. 18 – 19, 23 – 27). Как видим, «непрофессионализм» аристократок XVII в., не искавших, таким образом, симпатий публики и материальных выгод от танца, позволяет Нижинской назвать их искусство «чистым», а дальнейшая профессионализация танца, потребовавшая школы, усложнение техники — своего рода падением. Очевидно, что этот тезис вступает в противоречие с другой идеей 444 Нижинской — о равноправии всех форм танца, уничтожении иерархии движений, любое из которых может быть использовано для выражения духа, творческого начала.
263 Здесь и далее Нижинская употребляет термин «внутро», которым в «Таблице…» А. А. Горского передается французское выражение «en dedans».
264 Нижинская развивает тезисы, конспективно намеченные ею на последней странице тетради: «Движение: есть три положения тела, а до сих пор одно классическое культивировалось как самое трудное.
Искусство хореографии [нрзб.] [стало на] ложный путь из-за средоточия на одном положении движения (классичес[ком]). Трудность делает акробатизм. Акробатизм уничтожает творчество. Притупление сознания. Перемена одной формы на другую в движении. Логика в правдивости формы, а не в правдивости творчества [как духовного — вычеркнуто] самого себя [самого по себе] духовного.
Чем должно стать искусство.
Артист. Духовная нищета. Чем должен быть артист.
1) Ученики, любящие движение; 2) увлекшиеся виденным балетом; 3) желающие где бы то ни было блистать — сцена как средство» (л. 98).
В обоих записях Нижинской смешаны положения танца («внутро» — en dedans, «внаружу» — en dehors), положения человеческого тела (например, исходное — «нормальное») и движения в суставах по классификации В. И. Степанова (соответствующей анатомической), согласно которой сгибание и разгибание, приведение и отведение, а также вращение «внутро» (en dedans) и «внаружу» (en dehors) относятся к так называемым простым движениям. Из дальнейшего изложения видно, что, говоря о «трех» положениях тела, Нижинская имеет в виду: нормальное, en dehors и en dedans.
265 Этот абзац, текст которого во многом повторяет вариант, изложенный двумя страницами ранее (л. 43), более отделан литературно и подробнее воспроизводит классификацию движений, изложенную А. А. Горским в «Таблице…». Между тем Нижинская не оставила никаких указаний о том, что этот вариант должен заменить первоначальный. То же относится и к следующему абзацу («Этот танец живет до сих пор…».) См. также коммент. 263.
266 На примере этой записи можно видеть, как заветные идеи Нижинской находят опору и образное обрамление в штудируемой ею литературе. Так, отрицание сосредоточенности на форме в ущерб духу, призванному эту форму выявить, которое она развивала ранее через аналогии с живописью и в полемике с исканиями А. Дункан и М. М. Фокина, здесь, по-видимому, дано в преломлении идей Ф. Ницше, чьи работы входят в ее библиографию (см. фрагмент [29]). В статье «Шопенгауэр как воспитатель» Ницше писал, в частности: «… культуре способствуют все те, кто сознают бессодержательность и уродливость своего существования и хотят обмануть себя посредством так называемой “прекрасной формы”. Все внешнее — слово, жестикуляция, все, что бьет на эффект, все изысканное и утонченное должно привести к ложному выводу относительно внутреннего содержания, ибо мы обыкновенно по внешности судим о содержании» (Ницше Ф. Несвоевременные размышления / Пер. А. и Е. Герцык. М., Д. П. Ефимов, 1905 [1906?] С. 310 – 311). И далее: «Отсутствие собственного достоинства и уверенности в себе слишком бросается в глаза и требует обманчивой внешности, изящной формы, чтоб скрыть и замаскировать болезненную и унизительную поспешность. Ибо действительно такова связь между модным стремлением 445 к внешней форме и внутренним безобразием современных людей, — первая должна скрывать, второе — быть скрытым» (Там же. С. 314). Ср. также запись в дневнике от 27 декабря 1919 г. и коммент. 245, 246, 261.
267 Для Нижинской характерно такое перечисление тезисов в конце очередного законченного фрагмента, которые выглядит одновременно и как содержание ранее изложенного, и как план того, что надо переработать и написать.
268 Нижинская поступила в балетную труппу Мариинского театра в 1908 г., покинула ее в 1911 г. См. вступ. статью к наст. публ.
269 Изложенная здесь программа с небольшими вариациями повторена на последних страницах общей тетради (Л. 92):
«Программа:
1) Школа движений по системе Нижинской.
2) Школа “классического” танца.
3) Выражение в движении (мимика, тело).
4) Стиль в движении.
5) Характерные танцы.
6) Теория музыки.
7) Теория танца и записывания движений нотною системой.
8) Композиция танца.
9) Беседы об искусстве и творчестве.
10) Практический класс».
Приведенный вариант дословно повторен в рукописном проекте объявления об открытии Школы Движений в Киеве в 1919 г. (см.: Garafola L. An amazon of the avant-garde: Bronislava Nijinska in Revolutionary Russia // Dance Research. 2011. Vol. 29. N 2. P. 131).
Ср. также другой набросок в общей тетради, начало которого совпадает с комментируемым:
«Моя школа не есть фабрика танцовщиц и танцовщиков. Я [себе — зачеркнуто] не ставила задачей год за годом выпускать хорошо дрессированных танцовщиков-профессионалов. [Моя — зачеркнуто] В своей школе хочу дать возможно шире хореографическое образование своим ученикам. Вывести наши театр-балетные школы из состояния цирковой дрессировки, где учат только хорошо вертеть ногами, [нрзб.] и т. д.» (Л. 67 – 68).
270 Свою первую школу А. Дункан открыла в 1909 г. во Франции. Хлопоты о том, чтобы открыть ее в России, в Москве или Петербурге, начались еще раньше, в 1907 г., в них принимал живое участие К. С. Станиславский, но осуществить идею удалось только в 1921 г.
271 Во время обучения Нижинской в Петербургском театральном училище, существовали балетное отделение и драматические курсы, обучение оперных артистов не велось с 1884 г.
272 Здесь «композиция» употребляется в значении «сочинение», а не «структура». Выражение «композитор» применительно к танцу Нижинская также употребляет в значении «сочинитель».
273 Воссоздание авторского порядка изложения представляет собой нетривиальную задачу. Основные тезисы о закономерностях, взаимосвязи и качестве движений (которые можно прочесть и как задачи, стоящие перед хореографической нотацией) выписаны 446 Нижинской в тетради (л. 68 – 69, 74 – 83), по большей части на разграфленных на две колонки страницах (л. 68 – 69, 74 – 77, 81 – 83). В тетрадь также вложены два исписанных листа, относящиеся к этому этапу рассуждений: один разграфленный (л. 72 – 73), другой нет (л. 70 – 71). Место вкладных листов внутри тетради было установлено по перекрестным стрелкам, которыми Нижинская отобразила перемонтаж текста между этими страницами. Неразграфленные листы читаются как введение или продолжение текста, в общей тетради отсутствующего.
274 Ср. фрагменты [30] — [34].
275 Нижинская, не называя источник, цитирует главы «Памяти старого художника (М. И. Петипа)» и «Мысли о современном балете» из книги: Светлов В. Я. Современный балет. СПб., 1911. Обращение Нижинской к работе Светлова закономерно, так как он был одним из самых крупных театральных критиков, кто поддерживал искания Русского балета и, более того, участвовал в делах труппы как доверенное лицо С. П. Дягилева в Санкт-Петербурге.
276 Ср. у Светлова в главе «Памяти старого художника М. И. Петипа»: «Балет Петипа был по преимуществу “классическим”. Вот слово, которым определяется по старинному историческому недоразумению понятие, совершенно ему несоответствующее. Со словом “классицизм” в представлении нашем связано понятие о греческом, античном искусстве. В античном хореографическом искусстве было много пластики и мало технической виртуозности танца. Но именно классическими танцами называются у нас танцы французско-итальянской школы, вся суть которых — развитие виртуозной техники. Античный балет с его немногочисленными и несложными техническими приемами есть классический примитив Хореографии, откуда путем длиннейшей эволюции развилась та виртуозно техническая Хореография, которую, в отличие от античной, окрестили неподходящим термином классической» (Светлов В. Я. Указ. соч. С. 3 – 4). Светлов приходит к выводу, что «дальше в развитии виртуозного классического танца идти некуда и с этого пункта хореографическое искусство, приведенное к механическому тупику, неизбежно должно остановиться или перейти на цирковую или акробатическую арену, где оно и утрачивает характер изящного». (Там же. С. 5).
277 Нижинская выписала приводимую Светловым цитату из статьи композитора и музыкального критика М. М. Иванова, который считал свой балет «Весталка» (1888) первым «серьезным опытом появления у нас симфонического жанра в области балета» (Там же. С. 10). Не оспаривая это суждение (хотя первым таким опытом был балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро», поставленный в Большом театре в 1877 г.), Светлов далее прослеживает проникновение в балет «настоящей» симфонической музыки — от балетов П. И. Чайковского и А. К. Глазунова, поставленных по заказу дирекции Императорских театров, до использования хореографами-новаторами специально написанной музыки (Аренский, Стравинский, Черепнин), а также музыки, для балетов не предназначенной (Глюк, Шопен, Шуман, Римский-Корсаков).
278 Выделив у Г. Фукса мысль о литературе, которая «губит театр», Светлов пишет: «По отношению к драматическому театру довольно трудно понять, как бы он мог обойтись без литературы; но любопытно, что балет первый сделал эту попытку обойтись без литературной программы, совершенно отринуть сюжетное либретто и удовольствоваться чистым настроением, навеянным музыкой. Я говорю о “Шопениане” Фокина 447 и Бенуа — этом драгоценном перле нового балета. В “Шопениане” нет ни сюжета, ни действующих лиц. Есть только музыка и танцы…» (Светлов В. Я. Указ. соч. С. 13).
279 Ср. у Светлова в главе «Мысли о современном балете»: «Светлое, воздушное искусство танцев в представлении древних Эллинов носило на себе следы божественного происхождения и было тесно связано с культом веры. В Хореографии того момента почти не было невыносимых для истинного искусства элементов утилитарности, каковые органически присутствовали, например, в искусствах зодчества и ваяния.
Танцы в те времена были божественной песнью, одой радости или печали, гимном светлого или элегией грустного настроения. Но непременно настроения, выраженного живой движущейся пластикой.
Танцы были эмоцией духовного начала, по самому существу своему аморфного, но выливавшегося в конкретные утонченные формы пластической аттитюды и ритмического движения.
Значительно позже танцы стали ритуальным процессом богослужения и, конечно, в значительной степени утратили первоначальный эмоциональный характер, характер беззаботной пластической песни.» (Светлов В. Я. Указ. соч. С. 15 – 16).
280 Ср. у Светлова: «Аристократки [в балетах времен Людовика XIV] были одеты в тяжелые придворные костюмы, стеснявшие их движения и делавшие их похожими на неподвижные манекены. Профессиональные танцовщицы появились в балете, по словам Новерра, гораздо позднее, но подражали им в отношении костюма. Так продолжалось до 1721 г., когда явилась знаменитая Камарго. Она произвела революцию в балетном костюме, укоротив тяжелую юбку на… несколько дюймов. Все были возмущены такой дерзостью, таким “скандалом”. Но зато это дало танцовщице возможность выйти из заколдованного круга менуэтов и паван и изобрести несколько новых классических движений» (Светлов В. Я. Указ. соч. С. 18 – 19). Считается, что Мари-Анн Камарго (1710 – 1770) дебютировала в 1720 г. в Театре де ля Моннэ (Брюссель) в возрасте 10 лет. Дебют на парижской сцене состоялся в 1726 г.
281 Ср. Чечин П. В гостях у японских гейш // Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к журналу «Нива». СПб, 1913. Т. 2 [Май – август]. № 5 [Май]. С. 106 – 109.
Как следует из дневниковой записи от 2 января 1920 г. Нижинская давно задумывала танец на японскую тему (см. с. 325 и коммент. 101). Также в журнале Нижинскую могла заинтересовать заметка Б. Никонова о выходе первой части «Истории танцев» С. Н. Худекова, где, в частности, сказано: «“Танцующее человечество” представлено автором с различных точек зрения и немало места отведено, между прочим, и философскому обоснованию танца. Читатель невольно приходит к заключению о важности и значительности этого акта в жизни человечества и убеждается, что если в настоящее время танцы свелись к безотносительному простому искусству, то в старинные времена, на заре человеческого сознания, они были необходимейшим явлением в повседневной жизни, не только украшая ее, но и помогая людям выражать свои чувства и настроения наиболее ярко и живо. Не менее полно и обстоятельно С. Н. Худеков рассматривает и символическое значение танцев, и в этом отношении особенный интерес представляет глава об Элевзинских мистериях и о “Дионисиях”» (Там же. С. 141 – 142).
282 Нижинская выписала некоторые подробности из приведенного П. Чечиным рассказа о знаменитой сирабиоси Судзуке (Чечин П. Указ. соч. С. 111 – 112).
283 448 Цитата из начала статьи Ф. Ницше о Вагнере. См.: Ницше Ф. Несвоевременные размышления / Пер. А. и Е. Герцык. М., 1905 [1906?]. С. 130. Согласование при цитировании изменено таким образом, что возникает отсутствующий у Ницше мотив «истинного искусства, дошедшего до нас от древних греков», «со смутными, бессвязными воспоминаниями», о котором и надлежит покончить. Тем самым цитата вводится в контекст рассуждений Нижинской о классическом танце, который современники по недоразумению отождествляют с «классическим» искусством Древней Греции (мысль, воспринятая ею из работы В. Я. Светлова «Современный театр»). Ср. также коммент. 262.
284 Ср., очевидно, более ранний набросок на ту же тему из общей тетради:
«Хочу, чтобы искусство танца вновь жило.
Хочу, чтобы бессмысленные акробаты вновь стали творцами.
Хочу, чтобы не называлось танцем бессмысленное кручение ног.
Хочу, чтобы танец был эссенцией [настроения — зачеркнуто] внутреннего состояния творца.
[Не техника — зачеркнуто]
Танец должен вновь стать эссенцией настроений и сущности творца.
Не хочу видеть “танца” в теле профессионала [зарабатывающего на нем хлеб — зачеркнуто], торгующего им для своих выгод. Хочу, чтобы только непреодолимая потребность [выявить себя — зачеркнуто] творчества толкала на сцену» (л. 67).
285 Очевидно, в списке представлены книги, которые Нижинская намеревалась прочитать. Большинство из них — философские трактаты либо книги, где поднимается вопрос о миссии творца, искусства, воздействии на публику, общество и обязанности перед ним. Почти все изданы не ранее 1914 г. (некоторые вопросы возникают только насчет «Небесных слов» З. Н. Гиппиус, о чем см. ниже коммент. 287).
286 Буркгардт М. Театр / Пер. с нем. Б. Соловейчик. СПб., Пушкинская скоропечатня, 1909.
287 «Небесные сны» З. Гиппиус. — Очевидно, имеются в виду «Небесные слова» — рассказ З. Н. Гиппиус, объединенный темой небес, впервые опубликованный в альманахе «Северные цветы на 1902 год», собранные издательством «Скорпион» (М., 1902). Существует также отдельное парижское издание рассказов Гиппиус под таким названием, вышедшее в 1921 г. (Гиппиус З. Н. Небесные слова и другие рассказы. Париж, 1921). В таком случае весь список изданий появился не ранее 1921 г.
288 Боринский К. Театр. Лекции / Пер. с нем.; с тремя доп. статьями и примеч. прив.-доц. С.-Петерб. ун-та Б. В. Варнеке. СПб., Петерб. учеб. маг., 1902.
289 Имеется в виду книга: Игрушка. Ее история и значение: Сб. статей / Под ред. Н. Д. Бартрама. М., 1912.
290 Имеется в виду статья В. Г. Малахиевой-Мирович в том же сборнике (См.: Малахиева-Мирович В. Г. Воспитательное значение игрушки // Игрушка… С. 140 – 197).
291 Имеется в виду статья В. Н. Харузиной «Игрушки у малокультурных народов» в том же сборнике (С. 85 – 139).
292 Имеется в виду издание: Огирь М. Г. Реклама как фактор внушения в общественной жизни. Рига, 1913.
293 Имеется в виду издание: Ницше Ф. Веселая наука / Пер. с нем. А. Н. Ачкасова. М., [1901].
294 Имеется в виду издание: Пыляев М. И. Замечательные чудаки и оригиналы. СПб., 1898.
295 Имеется в виду издание: 50 лет артистической деятельности Эрнесто Росси / Сост. по мемуарам Э. Росси С. И. Лаврентьевой; с предисл. Э. Росси. СПб., 1896.
296 449 Имеется в виду роман немецкого писателя Германа Бара (1863 – 1933) «Театр», написанный в 1914 г. и изданный в России в нескольких переводах. Судя по году издания остальных книг и статей, упоминаемых в списке, Нижинская могла воспользоваться самым ранним из них: Бар Г. Театр: Роман / Пер. с нем. П. Бронштейна. М., [1914].
297 Имеется в виду издание: Александрова В. Людовик II, король Баварский: К Истории жизни и творчества Рихарда Вагнера / Под ред. А. Волынского. [СПб.], 1911.
298 Имеется в виду издание: Ницше Ф. Ecce homo / Пер. Я. Данилина. М., 1911.
299 Имеется в виду издание: Ницше Ф. Несвоевременные размышления / Пер. А. и Е. Герцык. М., 1905 [1906?]. Издание включало статьи: «О пользе и вреде истории для жизни» (1873), «Шопенгауэр как воспитатель» (1874), а также «Рихард Вагнер в Байрейте» (1875 – 1876), которую Нижинская цитирует выше.
300 Эдуард фон Гартман (1842 – 1906) — немецкий философ. Один из основных его трудов — «Философия бессознательного» (1869) в России впервые был опубликован в 1873 – 1875 (См.: Гартман Э. Сущность мирового процесса, или Философия бессознательного / По 2 нем. изд. полн. излож. с присоединением предисл., введ. и крит. оценки системы А. А. Козлова: В 3-х вып. М., 1873 – 1875). Также Нижинская могла иметь в виду издание: Линецкий П. И. Философия Эдуарда Гартмана. Харьков, 1898.
301 Имеется в виду сборник полемических статей О. Уайльда об искусстве «Intentions» (1891), издававшийся в России под названиями «Замыслы» и «Искания». В него вошли «Упадок лжи», «Перо, кисть и яд», «Критик как художник» и «Истина в масках». Как «Замыслы» публиковалось отдельной книгой в переводе А. Минцловой (М., 1906). Как «Искания» — в пятом томе восьмитомника, издававшегося в Москве В. М. Саблиным (выдержал три переиздания с 1905 по 1911 гг., перевод М. Языковой), а также в третьем томе (6-й книге) четырехтомного полного собрания сочинений издательства А. Ф. Маркс (Приложение к журналу «Нива»). («Упадок лжи», пер. С. Займовского; «Кисть, перо и отрава», пер. М. П. Благовещенской; «Критик как художник», пер. А. Тырковой и «Истина масок», пер. А. Дейча. СПб., 1912).
302 Имеется в виду издание: Байрон Дж. Г. Каин. Земля и небо. Мистерии Байрона / Пер. Е. Зарина. СПб., [1901].
303 Имеются в виду «Размышления» римского императора Марка Аврелия (121 – 180) в переводе Л. Урусова, впервые изданные в 1882 г. в Туле и затем выдержавшие несколько переизданий в Москве (последнее — в 1911 г.).
304 «Этика» древнегреческого философа Аристотеля (384 – 322 до н. э.) отдельным изданием выходила до революции дважды (в переводе Э. Радлова) — в 1884 и 1908 гг. Пытаясь сформулировать свою концепцию мирового движения, основанную на моральных и физических законах (см. дневниковую запись от 20 марта 1921 г. на с. 1589 – 1591), Нижинская, очевидно, вдохновлялась идеями Аристотеля о первопричине движения вещей и взаимосвязей между ними, которые он развивал как в «Этике», так и других сочинениях.
305 Имеется в виду двухтомник сочинений древнегреческого философа Платона (427 – 347 до н. э.) в переводе В. С. Соловьева. (см.: [Платон]: Творения Платона: В 2 т. Пер. с греч. [и предисл.] В. Соловьева. М., 1899 – 1903). Первый том (1899) включал «Сократические диалоги» Платона и очерк В. С. Соловьева «Жизнь и произведения Платона». «Сократовская борьба» вошла во 2-й том (1903).
306 Имеется в виду издание: Платон. Пир. Беседа о любви / Пер. с греч. И. Д. Городецкого. М., 1908.
307 450 См. коммент. 243.
308 Стремления Нижинской отвечают тенденциям реформирования хор и балета в опере, заданным «Орфеем» К.-В. Глюка в постановке Вс. Э. Мейерхольда и М. М. Фокина (1911), где в Элизиуме хор был удален за кулисы, что, по мнению Мейерхольда, «дало возможность устранить обычную в операх дисгармонию в движениях двух, пока еще не сливающихся частей оперной сцены: хора и балета», добиться «пластики одной манеры» (Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы: В 2 ч. / Сост., ред., коммент. А. В. Февральского; общ. ред., вступ. статья Б. И. Ростоцкого. М., 1968. Ч. 1. С. 256), а также «Золотым петушком» Фокина в Русском балете С. П. Дягилева, где действие решалось как балет, а солисты и хор неподвижно сидели на сцене, создавая «особую декоративность» (Фокин М. М. Против течения. Л., 1981. С. 174). Ср. также запись об опере будущего в Дневнике Нижинской от 20 февраля 1921 г.
451 «… ВСЕГДА БЫЛА
ПРЕДАННЫМ ДРУГОМ ВАШИМ И ВАШЕГО ДЕЛА»
Письма Б. Ф. Нижинской С. П. Дягилеву и дягилевцам
(1921 – 1925).
Приложение: Письмо В. Ф. Нувеля С. П. Дягилеву (1921)
Публикация, вступительная статья
и комментарии Е. Я. Суриц, текстология С. Б. Потемкиной
Публикуемые письма и документы Брониславы Фоминичны Нижинской (1891 – 1972) относятся к 1921 – 1926 гг., когда она, уехав из России, вернулась в труппу Сергея Павловича Дягилева. До этого она танцевала у него в 1909 – 1914 гг. и ушла после того, как в 1913-м он уволил ее брата В. Ф. Нижинского. Первое из публикуемых писем написано в мае 1921 г., сразу по приезде Нижинской в Европу из России, где она жила на протяжении 1916 – 1921 гг.: в Петербурге, Москве, а в последние годы в Киеве. Оно адресовано С. П. Дягилеву и выражает ее желание снова у него работать. Последние публикуемые документы датированы 1926-м годом и относятся к балету «Ромео и Джульетта» (с музыкой Константа Ламберта1), поставленному Нижинской в 1926 г. у Дягилева. После этой постановки она больше к нему не возвращалась.
Публикация содержит как письма С. П. Дягилеву, так и документы, имеющие отношение к работе Б. Ф. Нижинской в его труппе. Одно из писем адресовано Вальтеру Федоровичу Нувелю2, другу Дягилева, который исполнял в его антрепризе административные функции, одно — Павлу Георгиевичу (Егоровичу) Корибут-Кубитовичу3, двоюродному брату Дягилева.
Момент, когда Нижинская оказалась в Европе и написала Дягилеву о своем желании вернуться в его труппу, для дягилевской антрепризы был достаточно тяжелым. В конце января 1921 г. Дягилев уволил задумавшего жениться Леонида Мясина4, и труппа осталась без балетмейстера. Теперь, как раз тогда, когда С. С. Прокофьевым был наконец закончен долгожданный балет «Шут» («Сказка про шута, семерых шутов перешутившего»5), оказывалось, что ставить его некому. Попытка поручить хореографию танцовщику Тадеушу Славиньскому6 оказалась неудачной. Спас положение художник М. Ф. Ларионов, фактически поставивший спектакль, который и был показан во время летнего сезона 1921 г. в Париже и Лондоне. За отсутствием своего хореографа выступить с «Русскими балетами Сергея Дягилева» пригласили группу испанских танцовщиков, показавших фольклорный спектакль «Cuadro flamenco»7. Таким образом, удалось как-то провести гастроли в мае — июле 1921 года. Но было ясно, что так продолжаться не может, необходимо искать Мясину замену.
И тут появилась Бронислава Нижинская. Для Дягилева это оказалось крупной удачей, хотя он, возможно, этого сразу и не осознал, так как в прошлом Нижинская была ему известна только как танцовщица. Едва ли он много слышал о ее карьере в России после 1914 г., когда она как раз и начала постановочную и педагогическую работу.
452 То пятилетие, к которому относятся публикуемые документы, — самый богатый достижениями период в жизни Нижинской. На протяжении 1921 – 1926 гг. только в труппе «Русские балеты Сергея Дягилева» она осуществила десять постановок, и в их числе оказались очень значительные.
В 1921 г. она участвовала в возобновлении «Спящей красавицы» («Спящей принцессы»)8 в Лондоне, затем в 1922 году — в постановке (для парижского сезона) последнего акта того же балета, под названием «Свадьба Авроры»9. В труппе Дягилева Нижинская создала в 1922 – 1924 годах еще семь балетов, во многих из которых исполняла ведущие роли10. И, наконец, после перерыва, во время которого она работала с собственной труппой, ею был поставлен у Дягилева балет «Ромео и Джульетта» (премьера — 4 мая 1926 года). Одновременно, тоже в труппе Дягилева, она сочиняла танцы в операх. А в ее собственном коллективе — «Хореографический театр Нижинской» — в 1925 году было показано еще шесть ее работ. Кроме того, она была приглашена и в парижскую Оперу, где поставила балет «Встречи» (Les Rencontres)11.
К сожалению, публикуемые документы не содержат сведений об этих спектаклях, за исключением одного — балета «Ромео и Джульетта». Прочие даже не упоминаются. Имеющиеся письма представляют интерес тем, что позволяют узнать дополнительные подробности о жизни Брониславы Фоминичны в эти годы, о некоторых из ее учеников, о ее взаимоотношениях с С. П. Дягилевым, а также об убеждениях, взглядах на искусство балета. Это важно, но все же узнаем мы не всегда главное. Поэтому есть необходимость сказать здесь и о лучших постановках Нижинской в этот период, тем более что, как уже было замечено, именно эти годы ее жизни особенно богаты творческими достижениями.
Первая работа, которую Дягилев предложил Нижинской, — возобновление, вместе с бывшим режиссером Мариинского театра Н. Г. Сергеевым12 «Спящей красавицы». Нижинская создала для этого балета ряд танцев. В Прологе это была вариация феи Сирени на музыку феи Драже, перенесенную Дягилевым из балета «Щелкунчик». В сцене охоты помимо одного из танцев охотниц, также новая вариация Авроры. Но большинство поставленных Нижинской номеров вошли в дивертисмент последнего акта. Это сцена с Синей бородой, Арианой и сестрой Анной, а также танцы, снова на музыку из «Щелкунчика»: номер «Шехеразада» на музыку Арабского танца и номер «Фарфоровые принцессы» на музыку Китайского танца. Однако самая известная ее постановка в этом акте — комический танец «Иван-дурак и его братья» (на музыку коды из grand pas de deux), который, под названием «Три Ивана», до сих пор сохраняется во многих западных постановках.
Сергеев категорически возражал против подобных нововведений, Дягилева же поставленное Нижинской убедило в том, что перед ним способный хореограф, и к тому же хореограф, мыслящий современно, не склонный слепо следовать традиции. Поэтому он вскоре поручил ей поставить новый балет И. Ф. Стравинского.
Так, первой большой самостоятельной постановкой Нижинской у Дягилева стал в 1922 году балет «Лиса»13. Строго придерживаясь замысла композитора, она создала бурлескный спектакль, одобренный самим Стравинским14. И тогда Дягилев доверил ей в 1923 году еще один балет, произведение того же Стравинского, которое он особенно ценил, — «Свадебка»15. «Свадебка» стала наиболее значительной постановкой Нижинской в этот период, а может быть, и за всю ее творческую жизнь.
453 Над «Свадебкой» — «кантатой с танцами» — Стравинский работал чрезвычайно долго. Первые сведения о том, что он задумал этот балет, относятся в 1912 году, начал писать его в 1914-м, продолжал работать над балетом в течение многих лет. Первоначально Дягилев предназначал «Свадебку» Нижинскому и писал об этом Стравинскому16. Затем, в 1916 году, Л. Ф. Мясин, как нам известно из его писем, надеялся, что балет достанется ему17. Однако постановка постоянно откладывалась, так как Стравинский все никак не заканчивал музыку. Тем временем, еще до того как Дягилев нашел балетмейстера, Н. С. Гончарова18 начала создавать эскизы костюмов в типичном для нее красочном примитивистском стиле, в духе русского лубка (как она в 1914 году оформила в труппе Дягилева оперу-балет «Золотой петушок» Н. А. Римского-Корсакова), и ею было сделано несколько вариантов. Однако когда в 1922 году Дягилев решился наконец доверить музыку Стравинского балетмейстеру и этим балетмейстером стала Бронислава Нижинская, все изменилось. Эскизы Нижинская категорически отвергла. Дягилев, вспылив, решил было в ответ отказаться от ее услуг19, но уже в 1923 году изменил свое решение.
Дело было в том, что Нижинская увидела в произведении Стравинского значительно больше, чем только стилизацию на основе русского фольклора. Именно исходя из своего понимания этой музыки, она и забраковала уже существующее декоративное решение. Спектакль Нижинской и созданное Гончаровой новое оформление стали совсем иными.
Нижинская раскрыла в этом балете глубокий драматизм совершающегося обряда и его глубинное противоречие. Эта свадьба — тяжкое испытание, драма, повторяющаяся из века в век. Над людьми, и прежде всего над Невестой и Женихом, тяготеет фанатичная вековая власть родового закона. Подчиниться ему толкает, с одной стороны, некая неумолимая необходимость, основанная на главном смысле бытия, заключающемся в соединении мужчины и женщины. С другой стороны, тут налицо и религиозная жертвенность, самоотречение.
Наталия Гончарова, создав новое оформление, выразила это предельно лаконично: пустая сцена с условно намеченным на заднике окном, деревянные скамьи и только в последней части, вдали, в просвете — постель с горой подушек. Она предложила и единую для всех предельно аскетичную форму одежды — темно-коричневые сарафаны, белые холщовые рубахи (это сочетание присутствует и в мужском костюме).
О том же повествует хореография Нижинской. Балетмейстер выпускает на сцену однородный, безличный кордебалет, сбивающийся в тесные группы, застывающий в угловатых приземленных позах, образующий пирамиды из тел. Но при этом ставит девушек на пальцы, так что их вытянутые, устремленные ввысь фигуры напоминают иконописные изображения. Налицо картина того архаичного жизненного уклада, о котором повествуют и музыка, и вокал. Только об этой архаике хореограф, знакомый с искусством новой России, рассказывает новым языком. Пирамиды и массовые построения Нижинской тяготеют к конструктивизму, а костюмы Гончаровой напоминают прозодежду мейерхольдовских спектаклей. Так причудливо сочетается подражание архаике и современные тенденции. Нижинская как бы устанавливает духовную связь между прошлым и настоящим.
454 Дягилеву, проявлявшему немалый интерес к искусству Советской России, решение Нижинской стало понятно, возможно, после знакомства со спектаклями Камерного театра во время его парижских гастролей в марте 1923 года, а также с выставками, где демонстрировались работы советских авангардистов.
Балет в дни премьеры имел успех, но истинное его значение открылось позднее, когда выявились пути дальнейшего развития балетного искусства на Западе. «Свадебка» завершила фокинский и ранний мясинский этап формирования литературных и живописных концепций, открыла эпоху неоклассики. Она предвосхитила скорое появление балетов-симфоний, явилась предтечей многих современных балетов.
Между тем в самой Франции царил совсем иной дух, отнюдь не отвечающий трагической настроенности «Свадебки». Это эпоха эйфории, вызванной недавней военной победой. Воспрянув от войны, празднуя свободу от страхов, от груза ответственности, а заодно и от всего, что стесняло и ограничивало, — люди хотели веселиться. «Безумные двадцатые», как их называли, — время мюзик-холлов, кабаре, эстрадных див, негритянского джаза, дансингов. Время Мистенгет20, Мориса Шевалье21, Жозефины Бейкер22 и ее «Негритянского ревю» (Revue nègre). Поэтому Дягилеву, который начинал сотрудничать с представителями молодого французского искусства, после преисполненной патетики танцевальной драмы Стравинского и Нижинской нужны были совсем другие спектакли. И Нижинская сумела выполнить его новый заказ.
Так родились в 1924 году ее два комедийных балета, посвященные современности, — сначала «Лани»23, потом «Голубой экспресс»24, оба созданные по либретто Жана Кокто25, а «Голубой экспресс» и при его участии. Оба с музыкой французских молодых композиторов из объединения «Шестерка», первый — Франсиса Пуленка, второй — Дариюса Мийо. И оба в оформлении французских художников.
Балет «Лани» фактически не имеет сюжета: всего лишь светская вечеринка с танцами, устроенная хозяйкой шикарной квартиры или виллы. Галантная вечеринка, где главные гостьи — женщины. Единственные мужчины — трое самовлюбленных красавцев-атлетов, играющих мускулами, а вот женщины разные. Одни лишь шаловливо резвящиеся, другие эмансипированные, поднаторевшие в искусстве обольщения. Но главное — атмосфера, которую рождают следующие один за другим танцы. Все проникнуто особым духом утонченной недосказанности и иронии, где соседствуют наивность и двусмысленность, сентиментальная грация и экстравагантная бравада. И, конечно, чисто французское изящество, французский шик. Неприступна, холодна, даже загадочна, и тем более завлекательна, Девушка в синем. Слились в поцелуе две Девушки в сером, которым мужчины не нужны вовсе. А в центре — сама Нижинская в роли Хозяйки, которая «летала вокруг сцены, невиданным образом изгибая тело и ударяя ногой об ногу, скользя вперед и назад. С жеманной гримасой на лице она поддразнивала мужчин, затем падала на диван в изысканно непринужденной позе»26.
Если «Лани» — это светская парижская жизнь, то «Голубой экспресс» — жизнь модного курорта. Тут тоже флирт, тоже шик, тоже эмансипированные женщины и двусмысленные взаимоотношения. Но еще и модный спорт. Зрелище эксцентричное, иногда даже фарсовое, с участием современных персонажей. Нижинская 455 изображала теннисистку. Для обладающего редкими акробатическими способностями Антона Долина27 была сочинена эффектная партия Красавчика (Beau gosse), изобиловавшая всевозможными трюками: он ходил на руках, совершал немыслимые прыжки.
Работа над этим балетом шла нервно, так как Нижинская очень противилась вмешательству Жана Кокто, а он упорно настаивал на том, чтобы она использовала придуманное им. Да и вообще во второй половине 1924-го года многое, что происходило в труппе Дягилева, было не по душе Нижинской. Началось все с появления в 1923 году Сергея Лифаря28, который стал протеже Дягилева и довольно быстро занял положение ведущего танцовщика. Нижинская знала его по Киеву и была невысокого мнения о его способностях. А тут еще в 1924 году Дягилев пригласил в труппу нескольких петроградцев, оказавшихся в Европе, в числе которых был Георгий Баланчивадзе29, выказавший себя способным балетмейстером, так что Дягилев незамедлительно начал поручать ему постановки. Все это побудило Нижинскую в первых числах января 1925 года от Дягилева уйти. Вернулась она к нему еще раз в 1926 году всего на одну постановку — балета «Ромео и Джульетта».
Как уже говорилось, единственный балет, упоминаемый в публикуемых документах, — именно «Ромео и Джульетта». Публикуется контракт, заключенный между Дягилевым и Нижинской, затем расписка, в которой она подтверждает, что получила причитающиеся ей деньги. Но особый интерес, как нам кажется, представляет небольшое письмо, датированное 5 апреля, где Нижинская сообщает Дягилеву, что не будет больше у него работать. На письме нет года, но, думается, написано оно именно в 1926 г., по окончании работы над балетом «Ромео и Джульетта». Ведь хотя Нижинская уходила от Дягилева и раньше (через полгода после постановки «Голубого экспресса»), тот первый ее уход состоялся зимой, 9 января 1925 года, и, следовательно, дата 5 апреля к этому более раннему эпизоду относиться не может. А вот во время работы над балетом «Ромео и Джульетта» у Нижинской были все основания для недовольства и стремления немедленно покинуть Дягилева.
Итак, уход 5 апреля 1926 года, при том что премьера балета «Ромео и Джульетта» состоялась 4 мая 1926 года (то есть спустя месяц), о многом говорит. Прежде всего о нежелании балетмейстера продолжать работать над спектаклем.
Вот краткая история его создания.
В июне 1926 года у Дягилева намечался сезон в Лондоне, и для него он хотел приготовить несколько спектаклей, могущих заинтересовать именно англичан. Познакомившись с начинающим английским композитором Константом Ламбертом, Дягилев решил поставить его балет, который у самого композитора носил название «Адам и Ева». При этом Дягилев немедленно, даже не спросив согласия автора, переименовал его в «Ромео и Джульетту» и, поначалу пригласив было для оформления друга Ламберта, художника Кристофера Вуда30, затем изменил свое решение. Он задумал создать на основе музыки Ламберта сюрреалистическое зрелище и обратился к художникам Максу Эрнсту и Хуану Миро. Они написали задник с абстрактными изображениями для первой части и четыре занавеса для второй (один из них был назван «Ночь», второй — «День»). Помимо занавесов, в балете использовались балетный станок в первой части и разные передвижные ширмы, которые актеры сами двигали.
456 Балет был обозначен в программе как «репетиция без декораций в двух частях». Действие первой проходило в репетиционном зале, и среди артистов были двое влюбленных, которым надлежало сыграть Ромео и Джульетту. Дягилеву удалось привлечь к участию в премьере в Монте-Карло Т. П. Карсавину31, Ромео изображал Серж Лифарь. В первой части балета артисты представали в репетиционных балетных костюмах, а те, что Миро создал для второй части, содержали намеки на одежду эпохи Возрождения. В финале Ромео появлялся в костюме авиатора и вместе с Джульеттой улетал на аэроплане.
Ставила спектакль Нижинская, но, видимо, ставила не совсем то, что виделось Дягилеву, потому что он постоянно вмешивался в ее работу. Об этом мы узнаем из письма Ламберта, который прибыл в Монте-Карло за 2-3 дня до премьеры и уже не застал там Нижинскую. Он был возмущен тем, что Дягилев снял некоторые поставленные ею танцы32. Известно также, что Дягилев поручил Жоржу Баланчину сочинить антракт без музыки между двумя актами. Там, при полуопущенном занавесе, по сцене проходили, подтанцовывая, артисты, у которых были видны только ноги. Молодой композитор, потрясенный всем этим самоуправством, пытался даже вступить в борьбу с всесильным хозяином труппы. После бурной сцены с Дягилевым и после консультации с юристом он задумал было выкрасть ноты, чтобы не дать представлению состояться. Но Дягилев сумел его опередить, так что ноты были надежно опечатаны, заперты в сейф и выдавались только под охраной, а за Ламбертом велась, как он рассказывает, постоянная слежка.
Из публикуемого письма Нижинской видно, что, покинув Монте-Карло 5 апреля, она соблюла при этом условия контракта, согласно которому должна была находиться там до 2 апреля. Но ушла она от Дягилева за месяц до премьеры «Ромео и Джульетты» в Монте-Карло, не присутствовала и на парижской премьере 18 мая 1926 года. В Париже, кстати, разыгрался скандал — сюрреалисты во главе с Луи Арагоном и Андре Бретоном устроили демонстрацию против своих коллег, «продавшихся» Дягилеву, которого в листовках, разбросанных по залу, они причисляли к «работорговцам».
В публикуемых письмах возникает еще одна тема: она связана с киевскими учениками Нижинской и другими артистами, стремившимися к Дягилеву, которым Нижинская пыталась помочь. Уехав из Киева, она не забыла учеников своей школы. Как известно, Нижинская рассказывала Дягилеву об успехах некоторых киевлян и советовала пригласить их в труппу, которая нуждалась в мужчинах. Дягилев согласился принять пять человек. Почему-то один из тех, кого Нижинская рекомендовала, не сумел или не захотел ехать, и вместо него поехал С. М. Лифарь. В Польше возникли сложности с визами, необходимыми для въезда во Францию. О них мы читаем в упомянутом в комментариях письме, направленном Нижинской из Варшавы, а она, в свою очередь, обратилась к Дягилеву с просьбой посодействовать артистам. Все они в конце концов до Франции добрались, и Дягилев взял их в труппу, хотя они его сильно разочаровали. Все они, кроме Лифаря, так и танцевали преимущественно в кордебалете и не поднялись выше маленьких сольных партий. В одном из писем Нижинская просит также помочь с визой еще одной своей ученице — Каролине Хаскелис. Дягилев с визой помог, но в его труппу она так и не попала. И, наконец, в письмах упоминаются также другие артисты, заинтересованные в работе у Дягилева. Так, Нижинская пишет ему об обратившемся 457 к ней Борисе Князеве и дает ему в письме краткую характеристику. В дальнейшем артистом дягилевского коллектива Князев не стал, но карьеру в Европе сделал: и как балетмейстер, и еще в большей степени как педагог танца. Рекомендует она Дягилеву и Владислава Карнецкого, с которым танцевала в Вене в кабаре.
Несомненный интерес представляют рассуждения теоретического характера, которыми Нижинская делится с Дягилевым в письме, написанном в конце июня 1921 года, где она объясняет, почему хочет работать именно у него. Нижинская пишет о Его Театре (оба слова с заглавной буквы) и о том, что они с Дягилевым единомышленники. Это, конечно, не совсем так, что явствует уже из самого письма. Нижинская имеет к моменту возвращения к Дягилеву весьма точные представления о том, какой хореографический театр она хотела бы создать. В основе рассуждений лежит отчасти опыт ее прошлой работы у Дягилева, но еще больше то, что она извлекла из своего общения с братом в период его постановок у Дягилева, а также из собственной постановочной работы на протяжении 1916 – 1921 годов. Ведь в это время она не только танцевала, но создала несколько спектаклей и занималась теорией. Нам во всяком случае известно об одной ее теоретической работе, изданной в Киеве. И очень многое в ней совсем не совпадает с тем, как мыслил себе хореографический театр Дягилев. Даже доказывая, что они единомышленники, Нижинская в своем письме невольно спорит с Дягилевым. С его представлением о балетном спектакле как о синтезе музыки, хореографии и обязательно также сценического оформления, которое доминировало в дягилевских спектаклях еще со времен «мирискусников». Только сначала это были Л. С. Бакст и А. Н. Бенуа, потом Н. С. Гончарова с М. Ф. Ларионовым и, наконец, Пабло Пикассо и молодые французы. Нижинская же пишет о «театре движения». Ведь и ее киевская школа называлась «Школой Движений». Да и в письме она утверждает: «Движение тела это материал-средство для этого Театра», театра, который ей мерещится. Именно движение, а не только танец, потому что Нижинская стояла за расширение, обогащение, развитие существующей школы танца, сформировавшейся на протяжении XIX в. В спектаклях, которые она ставила в Киеве, главным было танцевальное движение в разных его формах (отнюдь не только классический танец), в то время как декоративное оформление там практически отсутствовало. И отсутствовало оно не только потому, что жить и работать приходилось в крайней бедности, не было денег на декорации и костюмы. Она смотрела вперед, и в ее работах уже намечался путь к абстрактному балету, лишенному повествовательности и внешней живописности. А этого Дягилев как раз и не признавал. Когда Нижинская пишет, что ей надоел театр «как фон для танцующих или танцующих на выставке декорированной коробки» (письмо № 2), она фактически спорит с Дягилевым. Она хочет «принести накопленное за свое отсутствие» в труппу Дягилева и утверждает, что ищет «не только “новых” движений», но и «“новых” форм декораций и костюмов». Она надеялась, что сможет осуществить задуманное у Дягилева и что дальнейшее развитие его труппы пойдет именно по ею подсказанному пути. В этом она, конечно, заблуждалась, так как Дягилев ясно представлял себе, чего хочет он сам. Кстати, в этом ей пришлось очень скоро убедиться, когда ближайшей работой труппы Дягилева оказалась «Спящая красавица» («Спящая принцесса») и ей самой пришлось в ней участвовать. Для Нижинской это стало своего рода шоком, и она расскажет об 458 этом много лет спустя, в 1937 г., в статье, посвященной своей работе над балетом «Свадебка»: «Идея Дягилева поставить “Спящую принцессу” была для меня неожиданной, так как воспринималась как отказ от той основополагающей “религии” балета, которую он сам провозгласил, и всех его исканий в области “нового балета” <…> “Спящая принцесса” казалась мне абсурдом, возвратом к прошлому и полным убожеством»33. Но с другой стороны, уже в 1923 году Нижинская взяла, так сказать, реванш, когда добилась возможности поставить «Свадебку» такой, какой она ей виделась, а не такой, как ее первоначально видел Дягилев.
Теоретические рассуждения помогают лучше понять отношения между Нижинской и Дягилевым, отнюдь не однозначные, несмотря на то, что она пишет в самых первых из публикуемых писем. Далеко не во всем они были согласны, далеко не всегда Дягилев был до конца лоялен в отношении Нижинской. Впрочем, последнее типично для Дягилева. Он всегда действовал так, как ему представлялось лучшим для его дела, и многих, таким образом, обидел, не считаясь с чувствами даже тех, с кем его связывала многолетняя дружба (например, с Бакстом или Бенуа). Кстати, это подтверждает и изложенная выше история с балетом «Ромео и Джульетта», которая тоже нашла косвенное отражение в данной публикации.
Письма публикуются по автографам, хранящимся в фонде Бориса Кохно (Paris. Bibliothèque-musée de l’Opéra).
459 1
17 мая [1921 г.]
Варшава
Дорогой Сергей Павлович, только что приехала из России34 — спешу исполнить свое давнее желание выразить Вам глубокую благодарность за все, что получила около Вас и что сегодня меня сделало художником.
Очень хочу Вас видеть, чтобы поделиться с Вами моими творческими радостями и достижениями35.
Вскоре еду в Вену к Вацлаву (Hotel Bristol)36. Буду делать все, чтобы встретиться с Вами — получить Ваше «благословение» на свою дальнейшую работу.
Бесконечно благодарная и любящая Вас,
Бронислава Нижинская
2
[Конец июня 1921 г.]37
Дорогой Сергей Павлович, случилось так, что мои отношения с женой Вацлава разорваны38.
Приехали мы из России, как и все, без ничего. Мои дети, мать и я находимся в очень неприятном положении. Мне нужно быстро что-нибудь решить и начать работать39.
Первой мыслью, конечно, были Вы — послала Вам телеграмму — ответа не получила.
Не хочу и не могу что-нибудь предпринимать, не получив Вашего ответа.
Из всех, кто был около Вас, может быть, одной мне было дорого то, что Вы делали ради самого Дела, поэтому неустанно работала на этом пути40 — поэтому мне так необходимо вернуться «домой» — принести все накопленное за свое отсутствие41.
Сейчас знаю, что могу рядом с Вами сделать очень многое. Мною сделано несколько композиций — не было только технических средств к выполнению. Я ищу не только «новых» движений, «новых» форм декораций и костюмов — мне приелась эта надоевшая коробка театра.
Надо создавать сам Театр — не балет. Движение тел — это материал-средство для этого Театра.
Надо уничтожить «театр» как фон для танцующих, или танцующих на выставке декорированной коробки42.
Всё в Театре должно быть действующим.
Мне трудно писать сейчас. Одно знаю — то, что я хочу, буду выполнять около Вас я или кто другой начнет вторую часть Вашего дела.
Работать с Вами было бы для меня величайшей радостью — видеть Вас необходимо, даже если бы не работала с Вами, так как я есть «дитя» Ваше.
Бронислава Нижинская
Послала Вам из Вены письмо43 и тоже не получила ответа. Считаю невозможным, чтобы Вы как-нибудь дурно истолковали мою всегдашнюю манеру говорить и писать только то, что я думаю, и не почувствовали моей искреннейшей преданности Вам.
460 3
3 июля 1921 г.
Вашу телеграмму, Сергей Павлович, получила44. Очень рада, что буду работать в Вашем Театре. Необходимо с Вами встретиться — не знаю, как это устроить. Сейчас у меня нет свободных денег сделать это путешествие. Может быть, можно устроить мой концерт в Венеции — это ряд эскизов и этюды на музыку Шопена, Скрябина, Прокофьева45. Это дало бы возможность мне поехать. Эскизы эти камерные — не надо для них театра.
Если выяснится невозможность моего приезда в Венецию, напишите мне, пожалуйста, возможно подробно, что думаете поручить мне в Вашем Театре для работы и какой контракт буду иметь. Мне необходимо знать это возможно скорее, чтобы обдумать и устроить свою семью, быть свободный во время работы46. Мне очень хочется знать, что делается и задумывается у Вас в Театре, кто работает. В Россию доходили сведения, но очень запоздалые и очень сжатые. Здесь не знаю языка и людей, кто бы мог рассказать нужное мне. Пришлите Ваш адрес в Париже и Венеции. Надо сделать все возможное, чтобы еще в июле Вас видеть. Паспорт у меня польский — надо получить только визу.
Шлю привет.
Бронислава Нижинская
4
25 сентября [1921 г.] 11 часов
Вена
[Телеграмма]
Diaghilew London Savoy hotel
Voudrai travailler avec vous prière arranger mon départ de Vienne immédiatement télégraphiez Kaerntnerstr 35, Pension Central = Bronislava Nijinska.
[Дягилеву. Лондон. Отель «Савой».
Хотела бы работать с Вами. Прошу организовать мой отъезд из Вены. Немедленно телеграфируйте: Кэртнерштрассе, 35, Центральный пансион. Бронислава Нижинская.]
5
7 марта [1922 г.]
Дорогой Сергей Павлович, вчера приехал из Италии сюда танцовщик, хотел видеться с Вами и, не найдя Вас, обратился ко мне.
Фамилия его Князев47, до сих пор танцевал с Юрьевой48 — был ее партнером, очень хочет работать у Вас. Я посмотрела, что он умеет, — был бы хорошим кордебалетным танцовщиком — хорошо схватывает pas, недурно поддерживает, приличной внешности. Адрес его Италия — Бордигера. Пансион «Констанция». Борис Князев.
461 На днях он хотел быть в Монте-Карло, если он Вам нужен, телеграфируйте ему или мне, и я ему передам, чтобы он дождался Вашего приезда.
Целую Вас.
Броня
6
[5 апреля 1922 г.]49
Вена
[Телеграмма]
Diagilew, Paris-Hotel Continental
Partirai immédiatement après réception argent directeur Monte-Carlo = Bronia
[Дягилеву. Париж. Отель «Континенталь».
Выеду немедленно по получении денег от директора Монте-Карло. Броня.]
7
23 ноября 1922 г.
Дорогой Сергей Павлович50, Ян и Чеслав Хоер51 приехали в Варшаву — получила от них письмо. Стремятся приехать возможно скорее сюда — но, я думаю, было бы лучше, чтобы они подождали тех троих. Хоеры поляки и во многом могли бы помочь Лапицкому52, Унгеру53 и Лифарю, которые едут, вероятно, с русскими паспортами.
Отправила письмо Хоерам — просила их сделать свои зарубежные паспорта и визы, а также облегчить и все приготовить к приезду остальных54. Написала им, что деньги на дорогу и визы своевременно Вы им вышлете. После расстрела их отца им самим пришлось много перенести, и, может быть, лучше, чтобы они чуть передохнули около своих родных, пока не приедут другие.
Очень извиняюсь, что до сих пор не отправила деловой записки, — вкладываю в это письмо55.
Здесь все спокойно — репетируем тихо — в воскресенье спектакль.
Приезжайте поскорее нас посмотреть56. Повидайтесь, пожалуйста, с Ринальдо Ганьи57. Если возможно, пришлите ноты.
Целую Вас.
Броня
Warszawa Zlota 59a
Najmark dla Jana Hoyer
8
28 декабря [1922 г.]
Дорогой Валечка58, получила из Парижа сегодня письмо, посылаю Вам его — может быть, оно объяснит недоумение, созданное телеграммой Друбецкого59. Мне 462 читал Григорьев60 письмо Сергея Павловича и то, что Сергей Павлович выехал в Варшаву.
Обращаюсь к Вам с большой просьбой (я просила об этом Сергея Павловича). Сделать визу для Хаскелис (Каролины)61. Помните, Вы обещали в этом помочь ее брату в Женеве на вокзале. Эта девушка во многом помогала мальчикам62 во время их путешествия, и ее родственники даже одолжили им деньги на дорогу от Ровно до Варшавы. Мне очень неловко затруднять Вас, но надеюсь на Вашу доброту.
Сергей Павлович несколько раз просил меня узнать адрес и написать Карнецкому63. Получила ответ Карнецкого. Он имеет ряд маленьких ангажементов и переезжает из города в город. По тону письма мне кажется, он бы вернулся к Сергею Павловичу. Телеграфируйте, пожалуйста, Сергею Павловичу, чтобы узнать, нужен или нет Карнецкий, так как он мне писал о предположении своем подписать более продолжительный контракт куда-то в оперу.
Наши все проявления в Монте-Карло такие печальные, что лучше уж не писать!64
Я каждый день работаю утром с труппой. Они охотно посещают класс и хорошо работают.
Тощища здесь отчаянная.
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом.
Шлю Вам наилучшие пожелания и мой привет.
Броня
9
6 января [1923 г.]
[На бланке:]
Crystal Palace Hotel
Дорогой Сергей Павлович, бесконечно благодарю Вас за визу для Хаскелис.
Тотчас по получении Вашей телеграммы65 послала письмо Карнецкому. Просила его мне немедленно телеграфировать по получении моего письма.
Пианистка уже играет на многих уроках. Большое спасибо за разрешение ее взять — это очень помогает в работе.
Из Варшавы больше известий у меня нет. Когда же, наконец, они приедут?
Прошу Вас, Сергей Павлович, если возможно, выслать мне деньги за конец декабря. Их можно послать почтой, чтобы не возиться с банком.
Скоро ли Вы приедете сюда и скоро ли начнутся наши репетиции?66
Шлю искренний привет.
Броня
10
[1922 – 1924]
Дорогой Сергей Павлович.
Кажется, я больна. Боюсь, что завтра не смогу участвовать в спектакле. Надо на случай приготовить за меня кого-нибудь.
Преданная Вам,
Броня
463 11
18 февраля [1924 г.]
Глубокоуважаемый Сергей Павлович.
Несказанно огорчена, что Вас не увижу, — мне сказали, что Вы уезжаете сегодня. Мое здоровье в таком состоянии, что доктор безусловно запретил мне выходить. После первой прогулки температура опять поднялась — вчера вечером было 38 и сейчас 37,4. Сегодня хотела быть у Вас и очень печалюсь, что Вас не увижу, — надеюсь, Вы вернетесь скоро обратно. На этой неделе, безусловно, буду здоровой и опять начну работать.
Очень прошу Вас передать деньги и Вацлава завещание67 Яну Хоеру, который принесет это письмо.
Шлю Вам искренний привет и желаю Вам всего наилучшего.
Бронисл. Нижинская
12
6 октября 1925 г.
Многоуважаемый Павел Егорович68, опаздываю с ответом, так как только что получила Ваше письмо. Свою работу в Англии окончила 28 сентября69. Как Вы видите, Ваше письмо ко мне с известными упреками написано без основания.
Артисты, которые работали со мной, находятся в Париже70. Вернутся ли Лапицкий и Унгер71, я не знаю, хотя неоднократно советовала им это.
Сейчас я в Париже и буду очень рада Вас видеть у нас.
Шлю Вам привет.
Уважающая Вас Нижинская
13
[Контракт. Черновик]
5 марта 1926 г.
[над зачеркнутым 7 вписано: 5]
Между нижеподписавшимися
1. Директором Русского Балета Сергеем Павловичем Дягилевым.
Hôtel de Paris, Monte Carlo.
2. Балетмейстером Брониславой Фоминичной Нижинской-Сынгаевской72.
Neuilly-sur-Seine. 15, av. Philippe le Boucher.
Состоялось нижеследующее соглашение:
1. Б. Ф. Нижинская обязуется прибыть в Монте-Карло не позднее 8 марта 1926 г. и пробыть там до 2 апреля 1926 с тем, чтобы за это время сочинить и разучить с труппой С. П. Дягилева хореографию для одноактного балета на музыку композитора Ламберта73, а также репетировать с названной труппой поставленный ею балет «Свадебка» на музыку И. Стравинского74.
2. За означенную работу С. П. Дягилев обязывается заплатить Б. Ф. Нижинской сумму в двадцать тысяч французских франков, причем расходы по своему приезду из Парижа в Монте-Карло и обратно Б. Ф. Нижинская принимает на свой счет.
464 3. Упомянутая сумма будет уплачена Б. Ф. Нижинской в следующие сроки: пять тысяч перед отъездом из Парижа, пять тысяч — 15 марта, пять тысяч — 22 марта, а пять тысяч перед отъездом из Монте-Карло.
Подписи
14
22 марта 1926 г.
Расписка
Я, нижеподписавшаяся Бронислава Нижинская, настоящим подтверждаю получение мною от Сергея Павловича Дягилева нижеследующих сумм в счет уплаты за постановку балета «Ромео и Джульетта», муз. Constant Lambert, условленных согласно контракту 20.000 фран[цузских] франков: 5 000 fr. — 7 марта в Париже и 5 000 fr. — 15 марта в Monte-Carlo, на каковые суммы мною уже выдана выписка на обороте подлинника контракта и чека на 5 000 fr. Banque Comptoir d’Essonne à Paris.
Б. Нижинская
15
5 апреля [1926 г.]
Глубокоуважаемый Сергей Павлович, Вы не ошибаетесь, что я всегда была преданным другом Вашим и Вашего дела. По мере сил доказывала это своей неустанной работой. Сейчас я настолько всем утомлена и плохо себя чувствую, что продолжать мою работу у Вас не могу75.
Всегда преданная Вам,
Б. Нижинская
465 Приложение
В. Ф. Нувель —
С. П. Дягилеву
26 августа 1921 г.
Вена. Hôtel
Astoria
Дорогой Сережа, без конца целый день беседовал с Броней, после чего послал тебе соответствующую телеграмму, которую ты, надеюсь, получил.
Ее не удивило, что ты ставишь «Спящую»76, но поразило, что она пойдет целую зиму, т. к. она не понимает, какое у нее будет там амплуа. Как танцовщица она считает себя сильнее и техничнее, чем когда-либо, и не отказывается танцевать ответственные роли в старых балетах. Но что ее всего больше интересует, это хореографическое творчество, или «композиторство»77, как она выражается, и это есть главная цель, ради которой она стремится к тебе. То, что она говорила мне про свою деятельность в этом отношении в Киеве, свидетельствует о серьезности и передовитости ее начинаний и исканий. У нее была там школа из 60 человек — 40 девочек и 20 мальчиков, с которыми она ставила хореографические сцены в новом направлении78 [1 слово вымарано], главным образом массового характера. То, что она говорит о своей хореографии, несколько неясно на словах, но кажется мне безусловно интересным. Она считает свое творчество продолжением и развитием хореографии Вацы79, но с некоторыми [целями — зачеркнуто] особенностями, напоминающими мясинскую идеологию80, например отсутствие сюжета, культ тела и движения. В письме всего не объяснишь, но мне показалось, что то, что она делает, несомненно интересно и наверно талантливо. При этом она страшно серьезно и с огромной энергией работает в своем деле; видно, что она всецело предана ему и считает его своим назначением. Для пояснения степени ее художественного развития скажу, что в ее комнате висят два эскиза киевских кубистов81, но она считает кубизм устарелым и склоняется теперь к «круглому». В Киеве она ставила вещь на «Токкату» Прокофьева82. Очень интересовалась и расспрашивала меня про новейшие течения французской живописи.
Все это заставляет меня думать, не есть ли она тот балетмейстер rêvé, который тебе нужен? Одно имя «La Nijinska» значит уже много. Талантливость несомненна, а энергия, судя по тому, что она делала в Киеве83 при ужасающих условиях, — изумительна. Вкус и художественное развитие тоже как будто на высоте. Кроме того, в ее школе, по ее словам, есть замечательные силы84. Все они стремятся к ней и, по ее словам, уедут оттуда по первому ее зову. Это все молодежь. В особенности она хвалит двух мальчиков 18 лет85, которых она называет прямо исключительными и которые рвутся сюда.
Теперь условия: цифра 3000 фр. ее ужасно поразила. До войны [1 слово вымарано] она получала 1000 руб. в месяц, что составляло 2650 фр. Теперь ты даешь ей почти то же самое, между тем как жизнь стала втрое дороже. Имея на своих руках мать и двоих детей, она считает, что 6000 фр. это минимум, который ей нужен в месяц, чтобы не иметь забот и быть в состоянии спокойно и всецело предаться работе. Она рвется к тебе, но семейные обязательства могут заставить ее принять более выгодные, хотя и далеко не заманчивые предложения в Австрию, Германию или Америку86. Но там это будет, как она говорит, профессиональная работа, а она хочет заниматься «композицией». Интересовалась, сколько получает Лопухова87 (я ответил незнанием), сказала, что Чернышева88, по ее сведениям, получит 5000. Я все говорил, что мы связаны 466 бюджетом, на что она возразила, что всегда можно избавиться от ненужного элемента и увеличить содержание тем, кто действительно нужен. Очень отрицательное отношение ее к Смирновой89, Романову90 и Обухову91. Смирнова будто бы танцевала ужасно в Одессе. (Владимиров мне говорил то же самое про Смирнову, а также что Шоллар92 постарела и испортилась.) Про Обухова говорит, что ноги ничего, но физиономия ужасно глупая и некрасивая. Отношение к хореографии Романова самое пренебрежительное. Удивляется, что ты хочешь только новое и обращаешься к нему.
Второе условие — это то, что ей будет обеспечена «композиторская» работа, то есть она [2 слова вымараны] хочет ставить. Быть просто первой танцовщицей ее не удовлетворяет. Стремится она к тебе для совместного творчества, считая, что, работая с тобой, она может развернуть весь свой талант.
Наконец на выезд она просит 6000 фр. аванса и билеты I класса для себя, так как выедет она временно одна, но ей нужны средства, чтобы устроить здесь мать и детей. Последнее займет время, так что она едва ли сможет приехать в Лондон раньше 15 сентября.
Вот положение. По моему мнению, именно она нам необходима и следовало бы нам идти на уступки. Между прочим, лицом она очень уродлива, особенно рот и зубы, но телом худощава. Во всяком случае, она будет для нас ценнейшим приобретением. Решение вопроса мы отложим до моего обратного пути из Бухареста.
Еду в Бухарест, но совершенно не знаю, как быть с тамошними артистами93. Владимиров94 говорит, что если Смирнова больна той болезнью, которой она хворала уже раз, то это может быть очень длительно. Тогда она продолжалась чуть ли не полтора года.
Затем: нужен ли Романов, если будет Броня? Тем более что без Смирновой он едва ли уедет. Остается Обухов.
Телеграфируй мне в Бухарест. Athenee Palace Hotel.
Ваца, кажется, неизлечим. Одни доктора считают его положение безнадежным, другие — что он, пожалуй, когда-нибудь поправится. Но когда — неизвестно. Броня смотрит на его положение скептически, хотя все-таки не теряет надежды. Танцевать, по ее мнению, он когда-нибудь и будет, может быть, в состоянии, — хотя с начала болезни он совсем не упражняется, считая, что он не может танцевать, и в настоящее время он очень пополнел и [1 слово вымарано] отяжелел, но заниматься творчеством он едва ли когда-нибудь будет способен.
Он находится около Вены в доме умалишенных95. О нем заботится Ромола96, которая в настоящее время в St. Moritz97. Она строго запретила пускать к нему кого-нибудь из чужих, кроме родных. Сегодня Броня попытается получить для меня разрешение его повидать, но не уверена, удастся ли это. Состояние его теперь спокойное и даже веселое, когда приходит Броня, но мать, например, он как будто не узнает. Словом, рассчитывать на него не приходится.
Перед отъездом я просил Владимирова постараться узнать адрес Трефиловой98 и сообщить его Barocchi99. Савицкий100 подписал на 1300. Жена101 не подписала.
Ну, кажется, все.
Целую,
В. Нувель
Две недели назад Броня послала тебе письмо в Венецию, Grand Hotel. Ничего нового там нет, но возьми его на всякий случай102.
467 Комментарии
Вступительная статья
1 Ламберт (Lambert) Констант (1905 – 1951) — английский композитор и дирижер. С 1931 по 1947 г. музыкальный руководитель балетной труппы «Сэдлерс Уэллс Балле» (с 1957 г. — Королевский балет), для которой написал балет «Гороскоп» (1938) и аранжировал музыку других композиторов для многих балетов. Особенно известны «Наше будущее» (The Prospect Before Us) на муз. У. Бойса, «Данте-соната» на муз. Ф. Листа, «Конькобежцы» на муз. Дж. Мейербера, «Комус» на муз. Г. Пёрселла.
2 Нувель Вальтер (Валентин) Федорович (1871 – 1949) — чиновник по особым поручениям Канцелярии Императорского двора. Друг С. П. Дягилева со студенческих лет на протяжении всей его жизни.
Принимал активное участие в издании журнала «Мир искусства» и в театральной антрепризе Дягилева, исполняя в ней административные функции. Знаток музыки и пианист, занимался литературным трудом. Автор неизданных «Воспоминаний о Дягилеве» на фр. языке (Notes de Walter Nouvel. Diaghileff), копия которых хранится в РГАЛИ, в фонде князя Н. Д. Лобанова-Ростовского (Ф. 2712. Оп. 1. Ед. хр. 104).
3 Корибут-Кубитович Павел Георгиевич (Егорович) (1865 – 1940) — двоюродный брат С. П. Дягилева. Как писал С. Л. Григорьев в воспоминаниях, посвященных заграничной антрепризе Дягилева, он в 1920-х гг. входил в его «свиту», включавшую самых близких Дягилеву людей.
4 Мясин Леонид Федорович (1895 – 1979) — танцовщик и балетмейстер. Работал в Большом театре в 1912 – 1914 гг., в труппе С. П. Дягилева в 1914 – 1921 и 1924 – 1928 гг., а также во многих других западных труппах. Поставил в труппе Дягилева 18 балетов.
5 «Шут» («Сказка про шута, семерых шутов перешутившего», Le Chout) — балет в 6 картинах. Композитор и либреттист С. С. Прокофьев, хореографы Т. Славиньский и М. Ф. Ларионов, художник М. Ф. Ларионов. «Русские балеты Сергея Дягилева» в театре Гэте-лирик (Париж). Премьера — 17 мая 1921 г.
6 Славиньский (Slawiński) Тадеуш (1901 – 1945) — польский танцовщик. Работал в труппе С. П. Дягилева с 1921 по 1925 г., исполнял гротесковые и характерные роли. Позже выступал в «Театре танца Нижинской» (1932 – 1933), в труппе Иды Рубинштейн (1934), в «Парижском балете Искольдова и Дашевского» (декабрь 1934 – май 1935), в «Русских балетах Тадеуша Славиньского» (ноябрь 1935), в «Балетах Леона Вуйциховского» (1934 – 1935), в «Русском балете полковника де Базиля» (1936 – 1937). С 1940 г. обосновался в Австралии и работал в Мельбурне в школе Эдуарда Борованского.
7 «Cuadro flamenco» — сюита андалузских танцев. Музыка и хореография народные, оформление П. Пикассо. «Русские балеты Сергея Дягилева» в театре Гэте-лирик (Париж). Премьера — 17 мая 1921 г.
8 «Спящая принцесса» (The Sleeping Princess) — так называлась «Спящая красавица» П. И. Чайковского, показанный С. П. Дягилевым в 1921 г. в Лондоне. Музыка была частично переоркестрована И. Ф. Стравинским. Хореографию М. И. Петипа восстанавливал Н. Г. Сергеев, новые номера (на музыку из «Спящей красавицы» и «Щелкунчика») поставила Б. Ф. Нижинская. Оформление принадлежало Л. С. Баксту. Премьера в исполнении «Русских балетов Сергея Дягилева» в театре «Альгамбра» прошла 2 ноября 1921 г. Балет шел до 4 февраля 1922 г. Состоялось 115 представлений.
9 468 «Свадьба Авроры» (Le Mariage de la Belle au bois dormant, Aurora’s Wedding) — последний акт балета «Спящая красавица» П. И. Чайковского с хореографией М. И. Петипа и дополнительными номерами из «Щелкунчика» того же автора в постановке Б. Ф. Нижинской. Оформление А. Н. Бенуа (из балета «Павильон Армиды»). Премьера в исполнении «Русских балетов Сергея Дягилева» состоялась в парижской Опере 18 мая 1922 г.
10 Балеты, которые Б. Ф. Нижинская поставила в труппе С. П. Дягилева в 1922 – 1924 гг.: «Байка про лису, петуха, кота да барана» И. Ф. Стравинского (премьера — 18 мая 1922 г.), «Свадебка» Стравинского (премьера — 13 июня 1923 г.), «Искушение пастушки, или Любовь-победительница» на музыку М. де Монтеклера (премьера — 5 января 1924 г.), «Лани» Ф. Пуленка (премьера — 6 января 1924 г.), «Докучные» Ж. Орика по пьесе Ж.-Б. Мольера (премьера — 19 января 1924 г.), «Ночь на Лысой Горе» на музыку М. П. Мусоргского (премьера — 13 апреля 1924 г.), «Голубой экспресс» Д. Мийо (премьера — 20 июня 1924 г.).
11 «Встречи» (Les Rencontres) — балет на музыку Ж. Ибера (Сюита для фортепиано). Хореограф Б. Ф. Нижинская, художник М. Детома (костюмы). Парижская Опера. Премьера — 23 ноября 1925 г.
12 Сергеев Николай Григорьевич (1876 – 1951) — артист балета Мариинского театра, режиссер (с 1894 г.), режиссер той же труппы с 1903 г. (главный режиссер с 1914 г.). Педагог записи танца в Петербургском театральном училище в 1898 – 1903 гг. Сделал записи многих балетов из репертуара Мариинского театра. С 1918 г. работал за рубежом, где осуществлял постановки классических балетов по своим записям. В их числе и «Спящая принцесса» в труппе С. П. Дягилева в 1921 г.
13 «Лиса» («Байка про лису, петуха, кота да барана», Le Renard) — «веселое представление с пением и музыкой» в 1 действии. Композитор и либреттист И. Ф. Стравинский, автор французского текста Ш.-Ф. Рамю (Рамюз), хореограф Б. Ф. Нижинская, художник М. Ф. Ларионов. «Русские балеты Сергея Дягилева». Парижская Опера. Премьера — 18 мая 1922 г.
14 И. Ф. Стравинский написал: «… я до сих пор только сожалею, что этот спектакль, который с точки зрения музыкальной <…> и сценической <…> дал мне большое удовлетворение, никогда больше в этом виде не возобновлялся». Цит. по: Стравинский И. Ф. Хроника моей жизни. М., 2005. С. 235.
15 «Свадебка» (Les Noces) — «русские хореографические сцены с пением и музыкой» в 4 картинах. Композитор и либреттист И. Ф. Стравинский, хореограф Б. Ф. Нижинская, художник Н. С. Гончарова. «Русские балеты Сергея Дягилева» в театре Гэте-лирик (Париж). Премьера — 13 июня 1923 г.
16 Stravinsky I. (with R. Craft). Memories and Commentaries. L., 1962. P. 50.
17 См. письмо Л. Ф. Мясина А. П. Большакову. Февраль 1916 (ГЦТМ РО. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 2) в наст. изд. с. 223.
18 Гончарова Наталия Сергеевна (1881 – 1962) — художница. В 1906 – 1914 гг. участница выставок «Мир искусства», «Бубновный валет», «Ослиный хвост» и др. Сотрудничала с труппой С. П. Дягилева, где оформила поставленную М. М. Фокиным оперу-балет «Золотой петушок» (1914), поставленные Б. Ф. Нижинской балеты «Лиса» («Байка про лису…») и «Свадебка» И. Ф. Стравинского (1922 и 1923), создала в 1926 г. новое оформление балета Стравинского — Фокина «Жар-птица».
19 См. Nijinska B. Creation of «Les Noces» // Dance magazine. 1974. December. P. 59.
20 Мистенгет (Mistinguett) (наст. Буржуа Жанна) (1875 – 1956) — одна из известнейших французских эстрадных артисток, знаменитая уже в 1910-х гг., но также после Первой 469 мировой войны. Ее амплуа было достаточно широким. Ею восхищались, когда она просто демонстрировала свою красоту и, в костюме из золотой парчи, увенчанная гигантскими перьями, эффектно шествовала вниз по широкой лестнице парижского мюзик-холла, но в то же время она умела создавать и разнообразные образы, то комедийные, то трогательные, моментами даже драматические.
21 Шевалье (Chevalier) Морис (1888 – 1972) — французский шансонье, выступавший в парижских мюзик-холлах. Создал особый тип «певца парижских бульваров», появляясь на сцене в повседневном костюме и в соломенной шляпе канотье. Его песенки пользовались огромной популярностью. Также снимался в кино, выступал в оперетте.
22 Бейкер (Baker) Жозефина (1906 – 1975) — американская темнокожая эстрадная артистка, певица и танцовщица. Слава пришла к ней, когда в 1926 г. она впервые появилась в Париже как солистка негритянского ревю. В дальнейшем продолжала выступать во Франции.
23 «Лани» (Les Biches) — балет в 1 действии, 8 частях. Композитор Ф. Пуленк, хореограф Б. Ф. Нижинская, художник М. Лорансен. «Русские балеты Сергея Дягилева» в Казино Монте-Карло. Премьера 6 января 1924. В названии балета имеются в виду не подлинные лани — животное из породы оленей, а слово это использовано иносказательно. Французский толковый словарь Ларусс поясняет, что его употребляют как ласковое обращение к женщине (примерно: «Ты моя козочка»). Но кроме того там же с пометой «устаревшее» указано, что в прошлом этим слово обозначали «содержанок» и что в эпоху Второй империи (т. е. в 1850 – 1860-х гг.) термин сменил ранее существовавший термин «лоретки». Поэтому у многих, кто писал об этом балете, возникала потребность по-русски называть его иначе. Встречаются переводы: «Козочки», «Милочки» и «Лоретки».
24 «Голубой экспресс» (Le Train bleu) — «танцевальная оперетта» в 1 действии. Композитор Д. Мийо, либреттист Ж. Кокто, хореограф Б. Ф. Нижинская, художники А. Дерен (декорации), П. Пикассо (занавес), Г. Шанель (костюмы). «Русские балеты Сергея Дягилева» в Театре Елисейских Полей (Париж). Премьера — 20 июня 1924 г.
25 Кокто (Cocteau) Жан (1889 – 1963) — французский писатель, поэт, художник, деятель театра и кино, балетный либреттист. Сыграл большую роль в развитии труппы «Русские балеты Сергея Дягилева» в конце 1910-х и в 1920-х гг., особенно при создании «Парада» Л. Ф. Мясина (1917), отчасти «Голубого экспресса» Б. Ф. Нижинской (1924). В 1940 – 1950-х гг. был сценаристом балетов Р. Пёти («Юноша и смерть») и С. М. Лифаря («Федра»).
26 Sokolova L. Dancing for Diaghilev / Ed. by R. Buckle. L., 1960. P. 216.
27 Долин (Dolin) Антон (наст. Сидни Фрэнсис Патрик Чиппендейл Хили-Кейл) (1904 – 1983) — английский танцовщик, хореограф и педагог. Работал в труппе «Русские балеты Сергея Дягилева» в 1924 – 1925 и в 1929 гг. Затем выступал со многими английскими и зарубежными русскими балетными труппами. Некоторое время возглавлял собственный коллектив. Автор ряда постановок и книг.
28 Лифарь Сергей Михайлович (1905 – 1986) — артист балета, балетмейстер, театральный деятель, один из виднейших хореографов Франции в 1930 – 1970-е гг. Обучаться танцу начал в Киеве, прибыл во Францию в 1923 г. вместе с учениками Б. Ф. Нижинской и в труппе Дягилева быстро занял ведущее положение. В 1930 – 1944, 1947 – 1959, 1962 – 1963 и 1977 гг. — балетмейстер, ведущий солист и педагог Парижской оперы. Руководя труппой, одновременно создал большое число спектаклей. Основал в Париже Институт хореографии (1947). Был коллекционером и автором ряда исторических и теоретических трудов: в том числе книг о русском балете, о С. П. Дягилеве.
29 470 Баланчин (Balanchine, наст. фам. Баланчивадзе) Джордж (1904 – 1983) — хореограф. Работал в труппе «Русские балеты Сергея Дягилева» (1923 – 1929). С середины 1930-х гг. в США, где создал собственное направление, во многом определившее дальнейшее развитие американского балета и оказавшее огромное влияние на мировой хореографический театр.
30 Вуд (Wood) Кристофер — английский художник, некоторое время работавший, в частности, для ревю Чарлза Кокрана.
31 Карсавина Тамара Платоновна (1885 – 1976) — балерина. По окончании Петербургского театрального училища, в 1902 – 1918 гг. в Мариинском театре. С 1909 по 1914 и с 1918 по 1929 г. — ведущая балерина сначала «Русских сезонов», затем труппы «Русские балеты Сергей Дягилева». С 1918 г. жила в Англии, где выступала, преподавала, принимала активное участие в жизни английского балета; в частности была (с 1955 г.) президентом Королевской академии танца.
32 См. письмо К. Ламберта, цитируемое в кн.: Shead R. Constant Lambert. L., 1973. P. 56.
33 Nijinska B. Reflections about the Production of «Les Biches» and «Hamlet» in Markova — Dolin Ballet // The Dancing Times. 1937. Febr. Цит. по: Baer Van Norman N. Bronislava Nijinska: A Dancer’s Legacy, exhibition catalogue. Fine Arts Museums. San Francisco, 1986. P. 27.
1
34 … только что приехала из России… — С 1915 г. Б. Ф. Нижинская работала в Киеве вместе со своим мужем А. В. Кочетовским. В 1917 г. она уезжала в Москву, но в 1918-м вернулась в Киев. В феврале 1919 г. открыла там Школу Движений. Тогда же у нее родился сын Лев. Как рассказывает Б. Ф. Нижинская в мемуарах (Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания: В 2 ч. / Пер. с англ. И. В. Груздевой; вступ. статья М. Ю. Ратановой; коммент. Е. Я. Суриц. М., 1999. Ч. 2. С. 307 – 308), оказавшись в России в период революции 1917 г. и живя в Киеве, она почти не имела известий от горячо любимого брата Вацлава, находившегося на Западе. Вести приходили противоречивые: то о его болезни и даже смерти, то о том, что он благополучно танцует во Франции. Письмо от жены Вацлава Ромолы де Пульски в 1919 г. подтвердило слух о болезни брата. Но, хотя Ромола писала, что приезд сестры и матери мог бы помочь его выздоровлению, тогда Бронислава выехать не рискнула, так как ждала ребенка, да и не совсем поверила письму. Но в апреле 1921 г. она прочитала в газете подробное сообщение о состоянии Нижинского и о том, что он находится в венской психиатрической клинике, и тогда решила попробовать выехать. Вместе с матерью и двумя детьми (Ириной семи лет и Львом двух лет) она тайно перешла границу с Польшей. Из Польши — ее первое публикуемое нами письмо С. П. Дягилеву.
35 … поделиться с Вами моими творческими радостями и достижениями. — Расставшись с труппой С. П. Дягилева в 1914 г., Б. Ф. Нижинская с 1915 по 1921 г. работала в России. Она выступала как танцовщица в театре Народного дома в Петрограде и поставила там ряд номеров. В Петрограде начала преподавать. В Москве в феврале 1918 г. танцевала в «Яре». Но больше всего работала в Киеве. Сначала в 1916 – 1917 гг. в Оперном театре, где ее муж А. В. Кочетовский был балетмейстером, а она ведущей танцовщицей, ставила вместе с ним танцы и отрывки из балетов. Был поставлен и «Конек-горбунок» (1916). Затем в 1919 г. в Школе Движений, где преподавала по своей системе и ставила танцы, которые исполняла сама со своими учениками. Наиболее известны ее постановки: «Этюды» на муз. Ф. Листа (1919), «Мефисто-вальс» Листа (1919), «Ноктюрн» 471 Ф. Шопена (1919), «Прелюд» Шопена, «Ужас» (1919), «12-я рапсодия» Листа (1920), «Мефисто» Листа (1920), «Демоны» Н. Н. Черепнина (1921), «Траурный марш» Н. К. Метнера (1921). В Киеве Нижинскую тогда же приглашали также на постановки в Оперный театр. Например, в 1919 г. она поставила полнометражное «Лебединое озеро». К периоду 1918 – 1921 гг. относятся и ее первые теоретические работы.
36 … еду в Вену к Вацлаву (Hotel Bristol). — В 1921 г. Вацлав Нижинский находился в санатории Штейнхоф в Вене, Б. Ф. Нижинская с матерью Элеонорой посетили его там, но, как рассказывает Бронислава в мемуарах, он никого из них не узнал. Названный отель — видимо, тот, где предполагала остановиться Бронислава.
2
37 Мы датируем письмо самым концом июня, так как из дневника Б. Ф. Нижинской, публикуемого в наст. изд., известно, что ссора с Ромолой произошла 27 июня после получения телеграммы от С. П. Дягилева с приглашением в его труппу. Об этом подробно рассказано в книге Тамары Нижинской (Nijinsky T. Nijinsky and Romola. Two Lives from Birth to Death indissolubly linked. L., 1991. P. 210 – 211).
Телеграмма Дягилева опубликована в этих воспоминаниях (с. 211) и в каталоге выставки, посвященной Нижинской, в музее Сан-Франциско (с. 22), но в обоих случаях без даты. Однако благодаря записи в дневнике Нижинской мы можем теперь датировать и телеграмму: 27 июня 1921 г.
38 … мои отношения с женой Вацлава разорваны. — О разрыве Б. Ф. Нижинской с женой Вацлава Ромолой, как указывается в коммент. 37, рассказано подробно в книге Тамары Нижинской (конечно, с чужих слов, самой Тамаре был тогда год): как пришла телеграмма от Дягилева о приеме Брониславы в труппу, о реакции Ромолы на этот факт и отказе в деньгах для Брониславы, вынудившем ее выступать в кабаре (видимо, пока не получила какие-то деньги от Дягилева). См.: Nijinsky T. Nijinsky and Romola. Two Lives from Birth to Death indissolubly linked. P. 210 – 211.
39 … начать работать. — Находясь в Вене после побега из России, Б. Ф. Нижинская некоторое время танцевала в кабаре «Мулен Руж», чтобы содержать приехавших с нею мать и детей.
40 … мне было дорого то, что Вы делали ради самого Дела, поэтому неустанно работала на этом пути… — Б. Ф. Нижинская и ее брат В. Ф. Нижинский оба участвовали в «Русских сезонах», которые С. П. Дягилев проводил в 1909 – 1910 гг., а затем с 1911 г. в его труппе «Русские балеты Сергея Дягилева»: Вацлав — до начала декабря 1913 г. (когда Дягилев его уволил), Бронислава — до января 1914 г. Бронислава исполнила в труппе Дягилева такие значительные партии, как Бабочка в «Карнавале», Вакханка в «Нарциссе», Уличная танцовщица, а позднее и Балерина в «Петрушке», Таор и танец «Вакханалия» в «Клеопатре», Нимфа в «Послеполуденном отдыхе фавна», танцевала мазурку в «Сильфидах» и др. Кроме того, как сестра Нижинского, она входила в круг наиболее близких Дягилеву людей.
41 … принести все накопленное за свое отсутствие. — О том, что делала Нижинская после ухода от Дягилева в 1914 г., см. вступит. статью и коммент. 36.
42 Нижинская разделяла бунт авангардных деятелей русского театра, и прежде всего Вс. Э. Мейерхольда, против ренессансной «сцены-коробки».
43 Послала Вам из Вены письмо… — Письмо обнаружить не удалось.
472 3
44 Вашу телеграмму, Сергей Павлович, получила. — Посланная Дягилевым Брониславе Нижинской телеграмма, где он высказывает надежду, что будет возможность работать с ней, процитирована Нэнси Ван Бэр в каталоге выставки, посвященной Б. Ф. Нижинской (Baer Van Norman N. Bronislava Nijinska: A Dancer’s Legacy… Р. 22): «Очень рад встрече. Надеюсь, будем продолжать вместе. С дружескими чувствами. Дягилев. Савой Отель (très enchanté vous rencontrer espère continuerons ensemble amitiés diaghilen (sic!) savoy hotel)».
45 … эскизы на музыку <…> Скрябина, Прокофьева. — Среди работ Нижинской, показанных в Петрограде и Киеве, не было постановок на музыку перечисленных композиторов, но, возможно, что-то ею задумывалось. А. Н. Скрябин и С. С. Прокофьев в эту пору были очень популярны у русских хореографов, работающих на эстраде, таких как, например, К. Я. Голейзовский, создавший на их музыку (особенно на музыку Скрябина) большое количество миниатюр как раз в начале 1920-х гг.
46 … устроить свою семью, быть свободной во время работы. — Уезжая из Вены, Нижинская временно устроила там свою семью, а в 1923 г. поселила ее в Париже.
5
47 Князев Борис (1900 – 1975) — танцовщик, хореограф, педагог. Обучался танцу в ряде московских студий. С 1917 г. работал в Воронеже и Харькове, в 1919 – 1920 гг. в Оперном театре Софии. Затем выступал и ставил танцы во многих других труппах, включая собственные «Стилизованные балеты» (Les Ballets Stylisés) в 1926 – 1927 гг., «Русские балеты Бориса Князева» в 1930 г. В 1928 г. был балетмейстером в парижском «Балете Елисейских Полей», в 1932 – 1934 гг. — в Опера-Комик. Выступал с О. А. Спесивцевой. С 1937 г. имел в Париже школу, где обучались многие известные артисты. Прославился главным образом как педагог и создатель своей системы тренажа, когда упражнения выполняются лежа на полу.
48 Юрьева Мария (? – 1987) — московская танцовщица, выпускница одной из частных школ. Была в составе группы «Московские балетные артисты», выступавшей в Болгарии (в Софии, Варне, Руссе) и открыла там балетную студию. Там же работала с Б. Князевым. Уехала в США с Вяч. Свободой, который стал ее мужем, работала в Оперном театре (Чикаго), с которым они оба гастролировали по США. С 1937 г. они имели школу в Нью-Йорке, с 1942 г. она преподавала также в женском колледже одного из городов штата Нью-Джерси (Highland Manor Junior College).
6
49 После лондонских гастролей, где была показана «Спящая принцесса», последнее представление которой состоялось 4 февраля 1922 г., Б. Ф. Нижинская решила перевезти детей и мать из Вены в Монте-Карло и ждала денег из Монте-Карло на переезд. Об этом она и сообщает С. П. Дягилеву. Дата отправления взята из книги: Buckle R. Diaghilev. N. Y., 1976. P. 400, 574.
7
50 Письмо является частью переписки между Б. Ф. Нижинской и Дягилевым и его сотрудниками по поводу приезда во Францию группы ее киевских учеников: братьев Я. и Ч. Хоеров, С. Унгера, Е. Лапицкого и С. М. Лифаря. Братья Хоеры приехали в Варшаву, где, как явствует из письма Нижинской, у них были родственники, затем к ним присоединились тоже покинувшие Киев С. Унгер, Е. Лапицкий и С. Лифарь. Все вместе 473 они, согласно воспоминаниям Лифаря, приехали в Париж 13 января 1923 г. (Лифарь С. Дягилев и с Дягилевым / Послесл. и коммент. В. М. Гаевского. М., 1994. С. 312). Адрес в конце письма, варшавский адрес Хоеров.
51 Хоер (Hoyer) Ян (Жан) (1899 – 1955) и Хоер Чеслав (1901? – ?) — ученики киевской Школы Движений Б. Ф. Нижинской, которые в 1923 – 1929 гг. работали в «Русских балетах Сергей Дягилева». Ян Хоер работал также в труппе Б. Ф. Нижинской в 1925 г., в труппе полковника де Базиля с 1932 по 1936, в 1938 – 1939 и 1947 гг.
52 Лапицкий (Lapitsky) Евгений (? – 1931) — ученик киевской «Школы Движений» Б. Ф. Нижинской, которого она в 1923 г. устроила в труппу С. П. Дягилева, где он работал до августа 1925 г. Затем был артистом труппы Б. Ф. Нижинской, выступавшей в 1925 г. в Англии. Вместе с Нижинской работал в театре «Колон» в Буэнос-Айресе в 1928 г. и в труппе И. Л. Рубинштейн в 1929 г. В 1930 г. танцевал в группе, возглавляемой О. А. Спесивцевой в Лондоне, с декабря 1930 по январь-февраль 1931 г. — в «Русской опере» в Париже, затем в труппе Рубинштейн во время ее гастролей в Парижской опере (1931). Утонул в Ницце 23 августа 1931 г. Его лучшие роли были в «Этюде» Нижинской на музыку И. Баха и Петрушка в одноименном балете М. М. Фокина. Нижинская считала его своим лучшим и самым преданным учеником. Сведения взяты из архива Б. Ф. Нижинской.
53 Унгер Сергей Л. (1901 – 1969) — ученик киевской Школы Движений Б. Ф. Нижинской, которого она в 1923 г. устроила в труппу С. П. Дягилева, где он работал до 1925 г., затем в труппе И. Л. Рубинштейн в 1928 г. и в труппе полковника де Базиля в 1936 – 1937 гг. (в части труппы, гастролировавшей по Австралии), в 1937 – 1938 (в части труппы, работавшей в Европе) и в 1939 – 1941 гг.
54 Варшавские хлопоты братья Хоеры описали в письме Б. Ф. Нижинской от 22 декабря 1922 г.: «Вот уже как две недели сидим в Варшаве и никак не можем получить нужных нам бумаг. Сергей Павлович прислал нам депешу, в которой написал, чтобы мы обратились к г-ну Друбецкому, который нам во многом поможет и ускорит наш отъезд. Придя к нему, мы от него узнали, что он также получил депешу от С. П. с такой же просьбой. Принял он нас довольно странно: во-первых, он нам как будто не доверял, что мы действительно едем к Дягилеву. Это, вероятно, из-за нашего внешнего вида. Мы думали, что, наоборот, он поймет, в каком мы положении, но, как видно, на него более действуют “котиковые манто”. Просили его помощи с квартирой, а он нам посоветовал поехать на недельки две в деревню, так как он сейчас очень занят и освободится лишь через две недели. Второй же раз принял нас только в передней и рассказывал, как быстро все он делал для Семенова, Романова и пр. пр.». Письмо с жалобой на прохладный прием Друбецкого Нижинская, судя по всему, переслала Дягилеву. Так оно оказалось в конечном итоге вместе с другими ее письмами Дягилеву в фонде Б. Е. Кохно.
В письме упоминаются:
Семенов Николай Прокофьевич (1881 – 1931) — артист и режиссер балета, педагог. С конца 1890-х гг., по окончании Московского театрального училища, артист балета Большого театра. В 1909 – 1914 гг. участник «Русских сезонов» и труппы «Русские балеты Сергея Дягилева». С начала 1920-х гг. жил в США, имел свою студию. Покончил с собой, бросившись в Ниагарский водопад.
Романов Борис Георгиевич (1891 – 1957) — артист балета, балетмейстер, педагог. По окончании Петербургского театрального училища с 1909 по 1920 г. артист Мариинского театра. Одновременно до 1914 г. выступал и с труппой С. П. Дягилева, где в 1914 г. поставил балет «Трагедия Саломеи». В Петербурге начал ставить балеты в Литейном 474 театре с 1911 г. В 1921 – 1925 гг. возглавлял за границей «Русский романтический театр», затем работал во многих странах: Аргентине, Франции, Италии, где осуществил ряд постановок как собственных балетов, так и своих версий классических спектаклей.
55 … до сих пор не отправила деловой записки, — вкладываю в это письмо. — «Деловую записку» обнаружить не удалось.
56 … репетируем тихо — в воскресенье спектакль. Приезжайте поскорее нас посмотреть. — Письмо написано из Монте-Карло, где находилась труппа Дягилева. Дело в том, что летом 1922 г., после того как в Монако взошел на престол новый владетельный принц из семейства Гримальди, С. П. Дягилев заключил с этим семейством, издавна сочувствовавшим его начинанию, очень выгодное для труппы соглашение. Отныне Монте-Карло становится постоянным местом ее пребывания в свободное от гастролей время, она будет репетировать, а также давать зимой очередной «сезон», показывая свои новые спектакли в театре при Казино. Уже с осени 1922 г. соглашение вступило в силу, и после гастролей по Франции, Швейцарии, Испании и Бельгии, проходивших в июле — октябре 1922 г., труппа приехала в Монте-Карло, чтобы начать выступать с 26 ноября. Однако поскольку у дирекции театра Монте-Карло уже был заключен контакт с итальянской труппой, артистам пришлось работать вместе с итальянцами, участвуя в их операх и балетах, но иногда показывая и собственные постановки. О них упоминает Нижинская, когда пишет о репетициях и будущем спектакле. Как раз через три дня после ее письма (датированного 23 ноября) проходил первый спектакль при участии артистов труппы Дягилева. В него входили следующие постановки: «Деревенский балет» (Ballet Villageois), «Балет Людовика XV» (Ballet Louis XV). «Вальпургиева ночь» из оперы «Фауст» Ш. Гуно.
57 Ринальдо Ганьи — Вероятно, речь идет о французском композиторе Рейнальдо Гане (Ане) (Hahn Reynaldo, 1875 – 1947). Его балет «Синий бог» («Голубой бог») был поставлен в труппе С. П. Дягилева в 1912 г.
8
58 Дорогой Валечка… — Письмо адресовано В. Ф. Нувелю. См. коммент. 2.
59 Друбецкий Станислав — поляк, секретарь С. П. Дягилева. Выполнял многие его поручения, находясь в Польше, в частности когда Дягилев искал пополнение для своей труппы в годы Первой мировой войны. Также был в администрации труппы, когда в 1916 г. она отправилась во вторые американские гастроли без Дягилева, под руководством В. Ф. Нижинского. Нижинская встретилась с ним в 1921 г. в Варшаве.
60 Григорьев Сергей Леонидович (1883 – 1968) — артист балета, режиссер. По окончании Петербургского театрального училища артист Мариинского театра в 1900 – 1912 гг., затем работал режиссером у С. П. Дягилева во время «Русских сезонов» и в труппе «Русские балеты Сергея Дягилева» в 1909 – 1929 гг. После смерти Дягилева работал в труппах «Русские балеты Монте-Карло» и «Оригинальный балет полковника де Базиля». Восстанавливал балеты М. М. Фокина во многих западных труппах. Написал книгу «Балет Дягилева» (пер. с англ. Н. А. Чистяковой; предисл. и коммент. В. В. Чистяковой. М., 1993).
61 Хаскелис (Chaskelis, Khaskelis) Каролина (Лина) (? – 1929) — ученица Б. Ф. Нижинской по киевской Школе Движений. Дягилев с визой ей помог, но в труппу не принял. Она уехала в Женеву к брату, который был профессором химии, и умерла в Швейцарии, в санатории в Давосе, 28 января 1929 г.
62 … во многом помогала мальчикам… — Имеются в виду приехавшие из Киева ученики 475 Б. Ф. Нижинской: братья Ян и Чеслав Хоеры, С. Унгер, Е. Лапицкий, а также С. М. Лифарь.
63 Карнецкий (Karnetski) Владислав — польский танцовщик. Работал с Нижинской в мюзик-холле «Мулен Руж» в Вене. Принятый в труппу С. П. Дягилева в 1921 г., выступал до 1926 г., в частности в созданном Б. Ф. Нижинской номере «Иван-дурак и его братья» («Три Ивана»), в «Спящей принцессе» (1921) и в «Свадьбе Авроры» (1922).
64 Наши все проявления в Монте-Карло такие печальные, что лучше уж не писать! — с 28 ноября 1922 г. труппа Дягилева, находясь в Монте-Карло, согласно договоренности, участвовала в спектаклях ранее приглашенной туда итальянской труппы. Нижинская, находясь там, высказывает свое неодобрение тем, что труппе приходится делать. См. также коммент. 54.
9
65 Тотчас по получении Вашей телеграммы… — Телеграмму С. П. Дягилева обнаружить не удалось.
66 … скоро ли начнутся наши репетиции? — Возможно, речь идет о начале репетиций «Свадебки».
11
67 … Вацлава завещание… — Ромола Нижинская в своей книге о Нижинском рассказывает, что перед поездкой из США в Европу в 1916 г., когда предстояло пересечь на пароходе океан, кишевший немецкими подводными лодками, они оба составили завещания. Об этом ли завещании идет речь в письме — неизвестно, но сведений о каких-либо других завещаниях Нижинского найти не удалось.
12
68 Многоуважаемый Павел Егорович… — Письмо адресовано Павлу Георгиевичу (Егоровичу) Корибут-Кубитовичу. См. коммент. 3.
69 Письмо написано после того, как закончились гастроли труппы «Хореографический театр Нижинской» в Англии. По контракту они должны были проходить с 4 августа по 24 октября 1925 г., но окончились раньше, как видно из письма Б. Ф. Нижинской и списка, опубликованного в каталоге музея Сан-Франциско (Baer Van Norman N. Bronislava Nijinska: A Dancer’s Legacy… P. 101), где последним местом выступлений указан город Нью-Кей (10 сентября 1925 г.). Судя, по всему, гастроли, по провинциальным, преимущественно курортным городам Англии, прервались по требованию властей в связи с тем, что несколько человек из мужского состава труппы просрочили данное им разрешение на работу в Великобритании. Подобные действия местных властей были весьма необычны, и поэтому некоторые исследователи творчества Б. Ф. Нижинской высказывают предположение, что произошло это не без участия С. П. Дягилева и благодаря его личным связям.
Б. Ф. Нижинская отвечает П. Г. Корибуту-Кубитовичу, который, видимо, спрашивает о танцовщиках, которые от Дягилева ушли к ней. Труппа Нижинской была небольшой: всего десять человек. Мужчины, перешедшие от Дягилева, ранее были связаны с Нижинской: Н. Н. Сынгаевский, Ян и Чеслав Хоеры, С. Унгер, Е. Лапицкий, а также К. Полдовский. Из женщин, кроме самой Нижинской, Е. Вуйциховская (Антонова), Л. Сумарокова, Дж. Берри и Д. Зонн. Были показаны балеты «Священные этюды» (Holy Etudes) на музыку Баха, «В турне. Балетное ревю спорта и турне» (Touring. The Sports and Touring Ballet Revue) на музыку Ф. Пуленка, «Джаз» на музыку «Рэгтайма» 476 И. Ф. Стравинского, «На дороге» (On the road) с музыкой Л. Люкаса, «Гиньоль» на музыку Ж. Ланнера, «Ночь на Лысой горе» на музыку М. П. Мусоргского (сокращенная редакция) и ряд дивертисментов. Костюмы А. А. Экстер.
70 Артисты, которые работали со мной, находятся в Париже. — По возвращении в Париж Б. Ф. Нижинская и ее артисты продолжали работать. Известно о нескольких их выступлениях: 30 октября в Grand Palais (Большом дворце) в рамках Международной выставки современных декоративных и промышленных искусств (Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes) и 3 декабря в Парижской опере в гала-программе «Ночное празднество в Опере».
71 Вернутся ли Лапицкий и Унгер… Имеется в виду вернутся ли они в труппу С. П. Дягилева, из которой ушли, чтобы принять участие в спектаклях Б. Ф. Нижинской в Англии.
13
72 Нижинская-Сынгаевская — по второму мужу, Сынгаевскому Николаю Николаевичу (1895 – 1968). С первым, А. В. Кочетовским, Нижинская рассталась в 1919 г. Сынгаевский был учеником ее киевской школы, в 1920 г. уехал из Киева. Работал в труппе С. П. Дягилева в 1921 – 1924 гг. Они поженились в 1924 г. В 1925 г. он был в труппе Нижинской, в 1928 – 1929 гг. в труппе И. Л. Рубинштейн менеджером и режиссером (когда там работала Б. Ф. Нижинская), затем менеджером и режиссером в Театре танца Брониславы Нижинской (1932 – 1934), в дальнейшем тоже антрепренером Нижинской.
Любопытно, что некоторые булгаковеды считают Сынгаевского прототипом Мышлаевского из «Белой гвардии» М. А. Булгакова. Достоверно известно, что он был другом дома Булгаковых, и первая жена Булгакова в своих воспоминаниях дает его описание.
73 … для одноактного балета на музыку композитора Ламберта… — Речь идет о балете «Ромео и Джульетта» (Roméo et Juliette), «репетиция без декораций» в 2 частях. Либреттист Б. Е. Кохно, композитор К. Ламберт. Хореографы Б. Ф. Нижинская и Ж. Баланчин (антракт без музыки), художники Х. Миро (занавес, задник, бутафория для 1-го действия), М. Эрнст (задник 2-го действия), Ж. Виале (костюмы). «Русские балеты Сергея Дягилева». Театр Монте-Карло. Премьера — 4 мая 1926 г. Подробно об истории его постановки см. вступит. статью.
74 «Свадебка» — см. вступит. статью и коммент. 15.
15
75 … продолжать мою работу у Вас не могу. — Б. Ф. Нижинская ушла от Дягилева в 1926 г. еще до премьеры балета «Ромео и Джульетта», которая прошла 4 мая 1926 г. Есть все основания предполагать, что письмо от 5 апреля и есть ее прощальное письмо. О ее неудовольствии Дягилевым свидетельствует, в частности, тот факт, что она обращается к нему официально: «Глубокоуважаемый Сергей Павлович», в то время как почти во всех других письмах обращение было «Дорогой Сергей Павлович». Подробности конфликта Нижинской с Дягилевым см. во вступит. статье.
Приложение
76 Б. Ф. Нижинская не высказала В. Ф. Нувелю свое мнение, касающееся проекта С. П. Дягилева ставить «Спящую красавицу», хотя позднее, в статье 1937 г., она писала о своем отрицательном к нему отношении: «… замысел Дягилева ставить “Спящую красавицу” 477 поразил меня, потому что казался мне изменой той основной “религии” балета, которой он придерживался…» (Nijinska B. Reflections about the Production of Les Biches and Hamlet in Markova-Dolin Ballets // The Dancing Times. 1937. N 5. Febr. P. 617). Скорее всего, дело в том, что, будучи очень заинтересованной в работе у Дягилева, она предпочла в разговоре с Нувелем не критиковать его.
77 … хореографическое творчество, или «композиторство»… — Б. Ф. Нижинская, только оказавшись в России в 1914 г., впервые стала пробовать себя в постановке танцев. Известны ее самые ранние постановки в Петрограде в 1915 г.: «Кукла» (La Tabatière) на музыку А. К. Лядова и «Осенняя песня» на музыку П. И. Чайковского. Но основные постановки были осуществлены ею в Киеве в 1919 – 1921 гг., когда она создала там Школу Движений. Зато к 1919 г. именно постановка танцев и небольших балетов стала одним из главных ее устремлений.
78 … хореографические сцены в новом направлении… — Создавая постановки в Киеве в 1919 – 1921 гг., Б. Ф. Нижинская руководствовалась теми новыми идеями, которые она восприняла, работая в России после 1914 г. Она успела многое увидеть в эти годы: спектакли В. Э. Мейерхольда и А. Я. Таирова, и постановки молодых хореографов, особенно интенсивно работавших в Москве, где она тоже некоторое время жила, и работы художников, с рядом которых была очень близка (особенно с А. А. Экстер, оказавшей на нее большое влияние). Их мнения о том, каким должно быть новое искусство, она, несомненно, знала и сама в эти годы начала описывать, каким ей видится новый балет. (Ее трактат, относящийся примерно к 1918 г., публикуется в наст. изд.) Вероятно, обо все этом она рассказывала и В. Ф. Нувелю, который в письме С. П. Дягилеву называет это «новым направлением».
79 … хореографии Вацы… — Работая у С. П. Дягилева, В. Ф. Нижинский в 1912 – 1913 гг. успел поставить три балета, которые сильно отличались от привычных для дягилевской антрепризы фокинских постановок. Это «Послеполуденный отдых фавна», «Игры» и «Весна священная». Бронислава не только участвовала в этих постановках, но была постоянной помощницей брата, иногда его моделью: он ставил на нее то, что потом танцевали другие. Ей были знакомы все его замыслы, и она прониклась его идеями. Собственно, и школу в Киеве она создавала, мечтая, что воспитает таких танцовщиков, какие будут нужны Нижинскому.
80 … мясинскую идеологию… — Л. Ф. Мясин, работая у Дягилева, на протяжении 1915 – 1921 гг. поставил десять спектаклей, которые, несомненно, были известны В. Ф. Нувелю, тем более что занимали большое место в репертуаре и после ухода Мясина из труппы. По-видимому, из рассказа Брониславы Нувель заключил, что предлагаемое ею близко этим постановкам. В действительности это не совсем так. То, что некоторые мясинские балеты не имели развернутого сюжета, и то, что хореограф стремился все изобразить средствами танцевального движения («культ тела и движения»), еще не делает их похожими на работы Нижинской. Но Нувель ни одной работы самой Нижинской еще не видел. Сомнительно также, чтобы он хорошо помнил спектакли самого Вацлава Нижинского, которые выпали из репертуара сразу после его увольнения в 1913 г., а «Весна священная» к тому же уже шла у Дягилева с 1920 г. в редакции Мясина.
81 … киевских кубистов… — В архиве Б. Ф. Нижинской есть работы В. Г. Меллера (которые были представлены на выставке в Сан-Франциско (1986) и воспроизведены в каталоге: Baer Van Norman N. Bronislava Nijinska: A Dancer’s Legacy… P. 24, 25), вероятно, было и что-то Экстер, с которой она сблизилась в Киеве. Возможно, об этих работах и говорит В. Ф. Нувель.
82 … ставила вещь на «Токкату» Прокофьева. — Нам неизвестна постановка Б. Ф. Нижинской 478 на эту музыку, но в опубликованном нами ее письме С. П. Дягилеву от 3 июля 1921 г., предлагая провести концерт, она пишет, что в его программу могли бы войти «этюды на музыку Шопена, Скрябина и Прокофьева». Так что можно предполагать, что какие-то заготовки на музыку С. С. Прокофьева у нее уже были, и, возможно, она работала в Киеве как раз с музыкой «Токкаты». См. коммент. 45.
83 … что она делала в Киеве… — См. коммент. 35.
84 … есть замечательные силы. — Б. Ф. Нижинская очень высоко оценивала таланты своих учеников, в особенности юношей. Об этом сообщает не только Нувель с ее слов, но также пишет и она сама в дневнике, когда критикует артистов дягилевской труппы (см. запись в дневнике от 29 ноября 1921 г.). Четверых своих учеников ей действительно удалось устроить в труппу С. П. Дягилева — это Евгений Лапицкий, Сергей Унгер и братья Ян и Чеслав Хоеры. Известно, однако, что Дягилев был очень разочарован. Никто из них не стал в его труппе даже первым солистом. Единственный, кто действительно занял там высокое положение, это приехавший вместе с ними Сергей Лифарь, который учащимся школы Нижинской не был.
85 … двух мальчиков 18 лет… — Имеются в виду, скорее всего, Евгений Лапицкий, которого Б. Ф. Нижинская считала своим лучшим учеником, и, может быть, Сергей Унгер или старший из братьев Хоеров — Ян. Все они позднее приехали к С. П. Дягилеву. См. коммент. 51, 53.
86 … предложения в Австрию, Германию или Америку. — Когда Б. Ф. Нижинская говорит В. Ф. Нувелю (судя по тому, что он пишет здесь), о том, что у нее есть другие выгодные предложения из Австрии, Германии и даже Америки, она явно лукавит. Мы знаем, хотя бы из ее дневника (который публикуется в настоящем издании), что у нее летом 1921 г. еще никаких предложений не было и она очень надеялась получить приглашение именно от С. П. Дягилева. Судя по письму В. Ф. Нувеля, по этой же причине она не высказала ему свое отношение к проекту Дягилева ставить «Спящую красавицу». См. коммент. 76.
87 Лопухова Лидия Васильевна (1891 – 1981) — артистка балета, балетный критик. По окончании Петербургского театрального училища в 1909 г. служила в труппе Мариинского театра и в 1910 г. участвовала в «Русском сезоне» в Париже, после чего в Мариинский театр не вернулась. В 1910 – 1916 гг. работала в основном в США в качестве танцовщицы и драматической актрисы. В 1916 – 1924 гг. (с небольшими перерывами) служила в труппе С. П. Дягилева, где выступила во многих, преимущественно комедийных, ролях (в балетах «Парад», «Женщины в хорошем настроении», «Волшебная лавка» и др.). Участвовала Лопухова и в «Спящей принцессе» («Спящей красавице») 1921 г., над которой Нижинская работала у Дягилева: была одной из исполнительниц партии Авроры, а также феи Сирени и Флорины (Зачарованной принцессы). В 1925 г. вышла замуж за известного английского экономиста Джона Майнарда Кейнса. Живя в Англии, писала о балете, иногда выступала с местными балетными труппами.
88 Чернышева Любовь Павловна (1890 – 1976) — артистка балета, педагог. По окончании Петербургского театрального училища в 1908 г. в труппе Мариинского театра (до 1912 г.), с 1912 по 1929 г. в труппе С. П. Дягилева, где исполняла роли в балетах М. М. Фокина, Л. Ф. Мясина, Дж. Баланчина, а также Б. Ф. Нижинской (в «Докучных» и «Ланях»). В «Спящей принцессе» в 1921 г. исполняла роли Графини в сцене охоты и Арианы в эпизоде, сочиненном Нижинской на тему Синей Бороды. Работала в труппе полковника де Базиля до 1950-х гг. Впоследствии вместе с мужем С. Л. Григорьевым 479 возобновляла многие из этих спектаклей в различных странах, в частности в Англии.
89 Смирнова Елена Александровна (1888 – 1934) — артистка балета, педагог. По окончании Петербургского театрального училища в 1906 г. в труппе Мариинского театра (до 1920 г.), где исполняла партии Раймонды, Одетты-Одиллии, Китри, Авроры и др., а также в спектаклях Б. Г. Романова. Участвовала в первом «Русском сезоне» в Париже (1909), много гастролировала по России и за рубежом. В 1922 – 1925 гг. работала с мужем Б. Г. Романовым в его «Русском романтическом театре» в Берлине. С 1928 г. вела педагогическую работу в Буэнос-Айресе.
90 Романов Борис Георгиевич — см. коммент. 54.
91 Обухов Анатолий Николаевич (1896 – 1962) — артист балета, педагог. По окончании в 1913 г. Петербургского театрального училища в труппе Мариинского театра (до 1920 г.), где исполнял многие ведущие балетные партии. В 1920 – 1922 гг. с женой В. Н. Немчиновой работал в оперном театре в Бухаресте, в 1922 – 1925 гг. в «Русском романтическом театре» (труппа, созданная в 1922 г. Берлине Б. Г. Романовым). В 1927 – 1928 гг. работал в труппе «Немчинова — Долин Балле», в 1931 – 1935 гг. в Литовской опере в Каунасе и в 1935 – 1940 гг. в различных других русских балетных труппах в Европе. В 1941 – 1962 гг. педагог Школы американского балета в Нью-Йорке.
92 Шоллар Людмила Францевна (Федоровна) (1888 – 1978) — артистка балета, педагог. По окончании в 1906 г. Петербургского театрального училища до 1921 г. в труппе Мариинского театра. Выступала также в 1909 – 1914 и 1921 – 1925 гг. в труппе С. П. Дягилева, в том числе и в постановках Б. Ф. Нижинской («Докучные», 1924). В «Спящей принцессе» 1921 г. исполняла роль Белой кошечки. В США преподавала в школах Нью-Йорка и Сан-Франциско.
93 … с тамошними артистами. — В Бухаресте в это время премьером был А. Н. Обухов и временно находились Б. Г. Романов с Е. А. Смирновой. По-видимому, их и имеет в виду В. Ф. Нувель. Местный Оперный театр лишь в 1921 г. получил государственную поддержку, и балетная труппа только начала развиваться, так что едва ли там могли быть румынские танцовщики, которые представляли бы интерес для С. П. Дягилева.
94 Владимиров Петр Николаевич (1893 – 1970) — артист балета, педагог. По окончании в 1911 г. Петербургского театрального училища в Мариинском театре (до 1919 г.), исполнял многие ведущие балетные партии (Альберт, Солор, Дезире, Базиль и др.). В 1912 – 1925 гг. выступал периодически в труппе С. П. Дягилева. В частности, в «Спящей принцессе» 1921 г. исполнил роль принца Дезире, названного там принцем Очаровательным (Charming). В 1928 – 1931 гг. в труппе Анны Павловой. С 1934 г. до конца жизни преподавал в Нью-Йорке в Школе американского балета.
95 … в доме умалишенных. — В 1921 г. В. Ф. Нижинский находился в санатории Штейнхоф в Вене.
96 Ромола — Ромола де Пульски (1892 – 1979) — жена В. Ф. Нижинского, дочь известной венгерской актрисы Эмилии Маркуш, в 1912 г. примкнувшая к труппе С. П. Дягилева, чтобы быть ближе к Нижинскому, и вышедшая за него замуж в Буэнос-Айресе в 1913 г., во время гастролей труппы. После того как Дягилев Нижинского уволил, занималась административными делами мужа, пока тот еще мог работать, а затем до конца его жизни (1950) содержала его. Написала о нем книгу.
97 St. Moritz (Сен-Мориц) — селение в Швейцарии, где В. Ф. Нижинский с семьей поселился в 1917 г., когда его болезнь стала проявляться все определеннее. Здесь в 1919 г. он в последний раз танцевал перед приглашенными гостями, стремясь показать им в танце 480 ужасы войны, и вскоре отсюда его отвезли в Цюрих к психиатру, диагностировавшему шизофрению.
98 Трефилова (Иванова) Вера Александровна (1875 – 1943) — артистка балета, педагог. Окончила в 1894 г. Петербургское театральное училище и работала в Мариинском театре до 1917 г., исполняя партии Одетты-Одиллии, Авроры, Китри, Сванильды и др. В 1917 г. основала школу в Париже. В 1921 – 1926 гг. периодически танцевала в труппе С. П. Дягилева. В частности, в «Спящей принцессе» 1921 г. была одной из исполнительниц роли Авроры.
99 Барокки (Barocchi) Рандольфо (около 1880 – после 1950) — администратор в труппе С. П. Дягилева, итальянец. Был членом состоятельной семьи, занимавшейся добычей и торговлей мрамора для производства скульптур. Увлекался театром и поступил в оперный театр «Сан-Карло» в Неаполе в качестве переводчика и администратора в период гастролей театра по США в годы Первой мировой войны, а в 1915 г. его пригласил Дягилев, тоже готовивший американские гастроли. В 1916 г. женился на танцовщице Л. В. Лопуховой. Брак вскоре распался, хотя развод состоялся лишь в 1925 г., когда Лопухова готовилась выйти замуж за известного английского экономиста Джона Майнарда Кейнса. Барокки работал у Дягилева до начала 1921 г. Он был администратором труппы во время гастролей по США в 1916 г., потом во время гастролей по Южной Америке в 1917 г. и ушел в начале 1921 г. О дальнейшей его судьбе сведений найти не удалось, сохранилось лишь его письмо Лопуховой от декабря 1950 г.
100 Савицкий Михаил Иванович (1887 – ?) — артист балета, сын помощника декоратора Большого театра И. Ф. Савицкого. В 1906 г. окончил Московское театральное училище и служил артистом балета в Большом театре в 1906 – 1909 и 1911 – 1913 гг. (в 1912 г. находился в годичном отпуске и работал за границей, в том числе в Буэнос-Айресе). Работал в Большом театре (точно в 1917 – 1920 гг., но, может быть, и в 1914 – 1916 гг.). В труппе С. П. Дягилева служил в 1913, 1914, 1921 – 1924 гг. В 1930 г. был балетмейстером парижского варьете «Мулен Руж», затем обосновался в Ницце, открыл там студию, ставил танцы для концертов и сотрудничал с газетой «Вестник Ниццы», где публиковал рецензии. Одновременно в те же годы в Европе работал другой артист балета — поляк Мечеслав Савицкий. Иногда трудно установить, о ком из них идет речь, например, когда пишут, что «М. Савицкий работал в Бухаресте».
101 В труппе С. П. Дягилева состояла Варвара (Барбара) Савицкая в начале 1920-х, как и М. И. Савицкий. Возможно, она была женой М. И. Савицкого. Благодарю Э. Фостера за сообщенные сведения.
102 Возможно, имеется в виду письмо, датированное концом июня 1921 г., помещенное в наст. публ. (№ 2), но, может быть, и предыдущее, упоминаемое Нижинской в письме № 2, которое не сохранилось.
481 «… СМЕЯСЬ
НАЗЫВАЛ СЕБЯ БАЛЕТМЕЙСТЕРОМ»
Письма В. Ф. Нижинского Б. В. Асафьеву (1907 –
1908)
Публикация, вступительная статья
и комментарии С. Б. Потемкиной
Принято считать, что балетмейстером Вацлав Нижинский (1889 – 1950) стал в 1912 г., поставив свой первый спектакль «Послеполуденный отдых фавна», а также что инициатором его нового рода деятельности был С. П. Дягилев, включивший постановку в афишу «Русских сезонов» на сцене театра Шатле.
Однако четыре письма восемнадцатилетнего Вацлава Нижинского, написанные в его первый сезон службы на императорской сцене и до знакомства с импресарио1, позволяют утверждать, что начало его балетмейстерской карьере было положено пятью годами раньше.
Принципиального открытия в том, что Нижинский начал ставить танцы, будучи учеником театрального училища, нет. Об этом известно из статьи Б. В. Асафьева о детском театре, опубликованной под псевдонимом Игорь Глебов в журнале «Жизнь искусства» в 1918 году, и его же воспоминаний, изданных в 1974 году2. Именно там упоминаются две написанные Асафьевым в студенчестве детские оперы: «Золушка» (1906) и «Снежная королева» (1907), танцы для которых ставил Вацлав Нижинский. Этот факт биографии танцовщика исследователи часто оставляли без внимания, скорее всего из-за отсутствия подробностей.
Начинающий артист и студент Санкт-Петербургской консерватории Борис Асафьев (1884 – 1949) познакомились в 1906 году на Шпалерной, 23, в доме Окружного суда, куда Вацлав приходил заниматься с семилетней сестрой Елены Сеченовой-Ивановой — студентки драматических курсов и его партнерши по бальным танцам в училище3. В здании суда находились казенные квартиры, где жили служащие: одну из них занимал генерал Иванов с семейством, в другой располагались Асафьевы. Под Рождество 1907 года студент второго курса консерватории Борис Асафьев написал оперу «Золушка», которая предназначалась к показу с детьми служащих суда, коллег отца, и их друзьями. Либретто оперы принадлежало Лидии Левандовской4. Именно она — внучатая племянница известного физиолога И. М. Сеченова — сыграла решающую роль в их творческом союзе с будущим балетмейстером, чей круг общения в эти годы заметно расширился. «Узнав, как решен сложный для ребят балетный акт — бал, она авторитетно заявила: “знаю, кого привести”, и через некоторое время привела на репетицию стройного, прекрасно сложенного юношу в форме ученика балетной школы, с тонкими чертами лица и умно и тепло глядящими глазами. Весь его облик я определил бы эпитетом: шопеновский. Это был Вацлав Нижинский», — так вспоминал впоследствии 482 Асафьев о первой встрече с Нижинским, к тому времени воспитанником предвыпускного класса театрального училища. И продолжал: «… через несколько лет имя его как знаменитого танцовщика стало всеевропейски славным, не менее имени Шаляпина. Чуткий чудесный юноша поставил танцы в “Золушке”. Поставил умно и вкусно, удивляясь ребятам, особенно нашей прима-балерине Ксеничке5, и весело смеясь с ними»6.
Рассказ Асафьева являлся его единственным развернутым свидетельством совместной работы. В своих воспоминаниях Бронислава Нижинская добавляет, что «представление оперы состоялось в здании суда и прошло с большим успехом. К сожалению, я была в школе и не могла посмотреть, но Вацлав увлеченно рассказывал мне обо всех репетициях и смеясь называл себя балетмейстером. Его лучшая ученица, младшая сестра Елены Сеченовой-Ивановой, очень удачно выступила в “Золушке”»7.
Единственный комментарий к этому рассказу принадлежал В. М. Красовской. Цитируя Асафьева в книге «Русский балетный театр начала XX века», она вскользь отметила: «Рассказ Асафьева важен еще тем, что рисует интерес Нижинского к самостоятельному творчеству уже в ранней юности»8. В своей художественной монографии о танцовщике она снова опирается на воспоминание Асафьева, но здесь оно становится важным ей с другого ракурса: «Тогда, в последних классах школы, восемнадцатилетним, он был счастлив одним прямым совпадением»9. Совпадение, по мнению автора, заключалось не столько в самостоятельной возможности ставить танцы, сколько в работе и общении с детьми, к которым его тянуло подобно герою Достоевского князю Мышкину.
О «поразительном» умении Нижинского репетировать с детьми Асафьев пишет неоднократно, вспоминая детский театр: «Как никто из нас он умел пробуждать энтузиазм и внимание к своим планам и добиваться осознанного усвоения. Как никто он возбуждал детское воображение, мастеря сложные, казалось бы, игры-танцы, и дивиться надо было, как мог он дисциплинировать внимание, не повышая голоса и не кокетничая своей опытностью взрослого. Хористы и танцующие у нас были от 8 до 13 лет. Исключением был маленький шестилетний Петька — приятель Нижинского»10. «Он делал это с удовольствием, ему нравилось работать с детьми»11, — подтверждала и Бронислава Нижинская.
О том, что Нижинскому нравилось чувствовать себя взрослым, старшим и ему свойственно было оказывать покровительство, свидетельствуют и взаимоотношения с младшей сестрой, описанные ею в своих «Ранних воспоминаниях», и письмо Асафьеву, в котором звучит та же отеческая интонация: «Вы теперь обязательно должны оставить Ваши занятия и отдохнуть». Дату этого последнего письма Нижинского установить не удалось. Предположительно оно написано в первой половине 1908 года, когда и могли завершиться выпускные испытания Б. В. Асафьева на историко-филологическом отделении Санкт-Петербургского университета, где он учился параллельно с Консерваторией.
Поскольку воспоминание Асафьева является единственным свидетельством, стоит привести его полностью: «Танцы выглядели эффектно, особенно “Вьюжный вальс” и “Метелица” в V акте. Нижинский проявил себя очень свежо: он так ловко использовал хореографический “непрофессионализм” ребят, построив свою композицию 483 на привычных для них элементах детских игр, на игровой ребячьей пластике и динамике. Получилась иллюзия вполне освоенной техники и естественная живость танцев»12.
В этом описании, несмотря на его краткость, много примечательного. «Естественная живость», «ребячья пластика» перекликаются с интересом к свободным танцам, новой пластике, которую под влиянием Айседоры Дункан искали в те же годы М. М. Фокин и А. А. Горский. А «непрофессионализм» исполнителей заставляет вспомнить антибалетный язык известных постановок самого Нижинского на парижских сценах.
О том, что брат «в это время самостоятельно нащупывал свой творческий путь: рядом с ним еще не было никого, кто мог бы им руководить, — ни Дягилева, ни Бенуа»13, писала и Бронислава Нижинская. Письма самого танцовщика Асафьеву — один из немногих ранних документов, позволяющих составить представление о Нижинском до влияния «Русских сезонов», до известности и славы, до болезни.
С 25 мая 1907 г. Нижинский состоит в труппе Мариинского театра. А уже с самого открытия сезона в сентябре максимально востребован в репертуаре. С ним охотно танцуют балерины Матильда Кшесинская и Анна Павлова. Помимо партии Принца в балете «Принц-садовник», поставленном К. М. Куличевской для выпускников 1906/1907 гг., он станцевал разнообразные па де де в последнем акте «Тщетной предосторожности» П. Гертеля и в балете «Ручей» А. Коппини, вставные па де де в «Жизели» А. Адана и «Пахите» Э. М. Дельдевеза, выступал в Москве. 27 октября 1907 г. был партнером Кшесинской на ее прощальном спектакле «Тщетная предосторожность», 11 ноября — на прощальном бенефисе Марии Петипа в «Раймонде» А. К. Глазунова, где танцевал «Венгерское классическое па» наряду с ведущими танцовщиками петербургской сцены — Николаем Легатом, Михаилом Обуховым, Михаилом Фокиным. 25 ноября 1907 г. на премьере «Павильона Армиды» Н. Н. Черепнина был первым исполнителем партии Раба, через три дня, 28 ноября, станцевал Голубую птицу в «Спящей красавице» П. И. Чайковского. Трактовка Нижинским этой партии наиболее ярко демонстрирует его новаторский, отнюдь не формальный подход к танцу даже в том случае, когда, казалось бы, традиций не сломить, да этого и не требуется. К удивлению Брониславы Нижинской, брату удалось добиться у администрации театра разрешения сшить ему новый костюм, отказавшись от негнущихся крыльев на проволочном каркасе, добавив свой грим и усовершенствовав виртуозную вариацию14.
«Весь декабрь Вацлав был занят и заскакивал домой буквально на считанные минуты, — вспоминала его сестра, — он вел уроки бальных танцев, репетировал с Асафьевым детскую оперу для рождественского представления и готовил с Анной Павловой па-де-де из “Лебединого озера”»15. Вместе с тем, как полагала Нижинская, «Вацлав продолжал чувствовать недоброжелательство главного балетмейстера труппы Николая Легата и считал, что тот недостаточно высоко ценит его»16. Каковы бы ни были формальные причины конфликта, расхождения между ними являлись прежде всего художественными. И подтверждение тому — упомянутый в одном из писем «опозорившийся» «Аленький цветочек» Легата, о котором Нижинский упоминает Асафьеву в письме от 18 декабря 1907 года, то есть через день после премьеры, 484 когда «Биржевые ведомости» уже окрестили балет «свидетельством нищеты»17, а «Петербургская газета» сочла, что «это не балет, а хореографический альманах, составленный из отрывков, отхваченных у старых знакомых: “Раймонды”, “Баядерки” и других»18.
Однако именно Нижинский знакомит Асафьева с Легатом. И именно с хореографией Легата будет связано все раннее композиторское творчество Бориса Асафьева — и концертные номера, и балет «Белая лилия»19.
В судьбе Б. В. Асафьева и его стремлении приобщиться к любимому им балетному театру Нижинский сыграл важнейшую роль. Впоследствии их имена попадут в разные разделы истории. Но мелким шрифтом в примечаниях к «Моей жизни» Асафьева, до сих пор опубликованной частично, будут набраны строки, заслуживающие пристального внимания биографов Нижинского: «Балет в “Золушке” был его первым крупноплановым балетмейстерским выступлением. С Нижинским мы дружили до его окончательного водворения в Париже, где он быстро сгорел. Но сейчас Нижинский еще был весь весенний, на пороге улыбавшейся жизни»20.
В дальнейшем Нижинский будет весьма далек от сказочной темы, как и гораздо более склонный к реалистичным сюжетам Асафьев. Символично, что их объединила «Золушка», показанная в доме Окружного суда и ставшая первым произведением Асафьева-композитора и балетмейстерским дебютом Нижинского.
Письма В. Ф. Нижинского публикуются по автографам, хранящимся в РГАЛИ в фонде Б. В. Асафьева (Ф. 2658. Оп. 1. Ед. хр. 645. Л. 8 – 10).
485 1
5 октября 1907 г.
Многоуважаемый Борис Владимирович, спешу Вас поздравить с отлично выдержанным экзаменом. Желаю продолжения в том же духе.
Относительно нашего дела я не мог Вам раньше ничего сообщить, потому что опять не позволило время.
Если будет возможно, соберите детей, танцующих «Фантастические растения», и «Цветы», и «Боженята»21, в субботу к 7 вечера.
Прошу кланяться всем моим знакомым.
Остаюсь уважающий Вас,
В. Нижинский
2
18 декабря 1907 г.
Дорогой Борис Владимирович! Здравствуйте!
Не присылал Вам никакого о себе известия, потому что всю прошлую неделю был сильно болен22. Теперь мне много лучше, поэтому спешу Вас успокоить, что, как совсем поправлюсь, приеду к Вам со своими записками. В бенефисе кордебалета я не участвовал по болезни. Как опозорился «Аленький цветочек»23. Жму крепко-крепко руку.
Вацлав Нижинский
3
29 декабря 1907 г.
Дорогой Борис Владимирович, поздравляю Вас с Новым годом: желаю Вам здоровья и того, чего так долго с любовью добиваетесь.
Благодарю Вас, Борис Владимирович, за Ваше внимание ко мне. Мне теперь лучше, но еще не совсем поправился настолько, чтобы можно было участвовать в балетах. Сижу дома до воскресенья, а в воскресенье уже танцую в балетах «Павильон Армиды» и «Пахита».
На той неделе я буду свободен больше, чем когда-либо, и поэтому, если буду здоров, приду к Вам. День, который я могу посвятить для нашего дела, Вам сообщу. Вальс готов, но если я Вам пришлю мои записи, Вы, наверное, как я подумал, мало поймете. Если бы Вы знали нашу теорию, я [бы] Вам написал.
Остаюсь глубоко уважающий Вас и всегда готовый помочь Вам,
Вацлав Нижинский
P. S. Извините, что не сейчас отвечаю на Ваше послание.
486 4
[1908]24
Его Высокородию Борису Владимировичу Асафьеву
Моховая, д. 10, кв. 8.
Дорогой Борис Владимирович [!]
Благодарю Вас за Ваше любезное внимание. Если Вам будет позволять время, приходите ко мне, пожалуйста, запросто во вторник вечером.
От души поздравляю Вас с окончанием университета. Вы теперь обязательно должны оставить все Ваши занятия и отдохнуть. Еще раз повторяю, Борис Владимирович, если Вы мне хотите доставить большое удовольствие, то будете у меня вечером от 7 часов во вторник или в один из вечеров, когда Вам будет удобно.
В «Раймонде» танцую в последнем акте. Жму крепко Вам руку. Поклон всем моим знакомым. Остаюсь искренно любящий Вас,
Ваш В. Нижинский
487 Комментарии
Вступительная статья
1 По воспоминаниям Б. Ф. Нижинской, первое знакомство ее брата с С. П. Дягилевым состоялось накануне премьеры «Павильона Армиды» Н. Н. Черепнина, т. е. в ноябре 1907 г. (Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания: В 2 ч. / Пер. с англ. И. В. Груздевой; вступ. статья М. Ю. Ратановой; коммент. Е. Я. Суриц. М., 1999. Ч. 2. С. 5.)
2 Игорь Глебов. О детском театре: (Из воспоминаний) // Жизнь искусства. 1918. № 11. 12 нояб. С. 4.
3 Вот как описывает Е. Сеченову-Иванову сестра Нижинского: «Старше Вацлава на два года, она была высокой и стройной, с пепельными волосами, тонкими чертами лица и большими серо-голубыми глазами, при этом очень женственной, изящной и аристократичной. Елена стала первой почитательницей таланта молодого Нижинского» (Нижинская Б. Ф. Указ. соч. Ч. 1. С. 245).
4 Левандовская Лидия Александровна — автор либретто оперы «Золушка», друг семьи Асафьева.
5 Ксения Иванова, Ксеничка — младшая сестра Елены Сеченовой-Ивановой, по воспоминаниям Б. Нижинской, которой Вацлав давал уроки. В 1916 г. окончила Императорское Петроградское театральное училище (См.: Нижинская Б. Ф. Указ. соч. Ч. 1. С. 294).
6 Асафьев Б. В. Моя жизнь // Асафьев Б. В. О балете: Статьи, рецензии, воспоминания. Л., 1974. С. 281.
7 Нижинская Б. Ф. Указ. соч. Ч. 1. С. 250.
8 Красовская В. М. Русский балетный театр начала XX века. Часть 1: Хореографы. Л., 1971. С. 389.
9 Красовская В. М. Нижинский. СПб.; М., 2009. С. 136.
10 Игорь Глебов. Указ. соч. С. 4.
11 Нижинская Б. Ф. Указ. соч. Ч. 1. С. 294.
12 Асафьев Б. В. Указ. соч. С. 282.
13 Нижинская Б. Ф. Указ. соч. Ч. 1. С. 284.
14 См.: Там же. С. 286.
15 Там же.
16 Там же. С. 296.
17 Светлов В. Бенефис кордебалета: «Аленький цветочек» // Биржевые ведомости. 1907. № 9720. 17 дек. С. 3.
18 Не балетоман. Балет // Петербургская газета. 1907. № 346. 17 дек. С. 4.
19 Вместе с Н. Г. Легатом Асафьев сделал хореографический номер «Бабочка», с успехом исполненный А. М. Павловой и В. Ф. Нижинским в бенефис кордебалета. Из этого номера возник первый балет Б. В. Асафьева «Белая лилия» («Грезы поэта», поставлен в 1915 г. в театре Народного дома). Кроме того, на музыку Б. В. Асафьева Н. Г. Легат поставил па де де для В. А. Трефиловой и испанский и русский танцы для М. Н. Кузнецовой (партнером обеих выступал сам балетмейстер).
20 Асафьев Б. В. Указ. соч. С. 281.
1
21 … детей, танцующих «Фантастические растения», и «Цветы», и «Боженята»… — Перечисленные роли не позволяют определить название постановки. Но, судя по датировке 488 писем, речь идет об опере «Снежная королева», премьера которой состоялась 20 января 1908 г. на сцене домашнего театра.
2
22 … всю прошлую неделю был сильно болен. — По воспоминаниям сестры, Нижинский заболел, вернувшись из Москвы, после гастролей с Кшесинской. Из-за высокой температуры в день концерта он не станцевал с А. М. Павловой па-де-де из «Лебединого озера», и именно благодаря этой внезапной замене (за несколько часов до начала концерта) Павлова впервые исполнила «Лебедя» на сцене Мариинского театра.
23 «Аленький цветочек» — фантастический балет в 5 актах. Композитор Ф. Гартман. Балетмейстер Н. Г. Легат. Премьера — 16 декабря 1907 г. Мариинский театр. Также см. вступ. статью.
4
24 Предполагаемая дата письма — первая половина 1908 г., когда Б. В. Асафьев окончил историко-филологический факультет Петербургского университета, о котором упоминает В. Ф. Нижинский.
489 «… ФИЗИЧЕСКИ
НЕ МОЖЕТ
БОЛЬШЕ ВИДЕТЬ ТАНЦЕВ СТАРОЙ ШКОЛЫ»
Письмо С. В. Пуаре о репетициях «Весны священной»
В. Ф. Нижинского (1913)
Публикация, вступительная
статья, и комментарии С. А. Конаева
Внушительный объем свидетельств и интерпретаций, посвященных «Русскому балету С. П. Дягилева» (1909 – 1929), за последние пять лет умножился благодаря двум 100-летним юбилеям. В 2009 г. с размахом отмечали начало антрепризы, изменившей лицо мирового балета, в 2013-м — постановку «Весны священной» (либретто И. Ф. Стравинского и Н. К. Рериха, музыка И. Ф. Стравинского, хореография В. Ф. Нижинского), скандально отвергнутой на премьере в 1913 г. и радикально изменившей представления о пределах и возможностях балета как искусства. В научный оборот интенсивно вводятся изобразительные материалы, публикуются ноты1. Но в хронологии дягилевской труппы по-прежнему присутствуют белые пятна и ошибки, не позволяющие должным образом интерпретировать мемуары ее участников и дезориентирующие исследователя2.
В случае с «Весной священной» отсутствие выверенной хронологии является одним из главных препятствий к пониманию того, какие проблемы стояли перед «Русским балетом» и его импресарио при работе над партитурой И. Ф. Стравинского и каким образом они пытались их преодолеть. Принципиальная попытка пластической интерпретации новаторской, крайне сложной ритмически музыки И. Ф. Стравинского строго по методу швейцарского теоретика и педагога Жак-Далькроза предопределял долгие репетиционные поиски и конфликт с артистами, воспитанными в системе классического танца и свойственных ему музыкальных традициях. Это неизбежно усложняло и усугубляло другое противоречие — между способом работы Нижинского, всегда требовавшего беспрецедентного количества репетиций, и ритмом постоянно гастролирующей труппы, переезжающей из города в город. До сих пор не установлены ни точные даты этих переездов, ни даты двух узловых моментов создания «Весны священной», когда вся постановка оказывалась под угрозой срыва, — начала репетиций Нижинского с труппой и «эпической ссоры» Нижинского со Стравинским из-за темпов, которые композитор посчитал слишком медленными. Лишь в общих чертах в мемуарах М. Рамбер и С. Л. Григорьева обрисован ход и драматургия репетиций в феврале в Лондоне и в марте-апреле в Монте-Карло.
Письмо танцовщицы «Русского балета» Сусанны Витальевны Пуаре (1887 – 1962) к бывшей приме и авторитетному педагогу Императорских театров Евгении Павловне Соколовой (1850 – 1925), позволяет приблизиться к разрешению этих проблем. Оно отправлено 11 февраля 1913 г. из Лондона, где «Русский балет» находился на гастролях с конца января, в разгар репетиций, 490 к которым С. В. Пуаре, как и бóльшая часть труппы, относится крайне скептически. Это едва ли не первое «репортажное» свидетельство от рядового участника создания «Весны», рисующее ситуацию изнутри. Но, пожалуй, главная ценность в том, что здесь — пусть через отрицание — переданы задания Нижинского, выполнения которых он добивался от артистов, и его взгляд на балет как искусство, сформулированный с предельной категоричностью. До сих пор единственным документом, где Нижинский публично высказывается о «Весне», было его интервью «Пэлл-Мэлл газет» от 15 февраля 1913 г., которое вышло на английском языке и позволяет неоднозначные толкования: «Я думаю, он [балет “Весна священная”] окажется удивительно интересным. Это на самом деле душа природы, выраженная через движение под музыку. Жизнь камней и деревьев. В нем нет человеческих существ. Это исключительно воплощение Природы — но не человеческой природы. Его будет танцевать один кордебалет, ибо это дело сплоченных масс, не индивидуальных проявлений»3. Письмо Пуаре полно протеста по отношению к задачам, которые ставил хореограф: «… в новом балете 1/2 акта все сидят не двигаясь, спиной к зрителям и уткнувшись носом в пол, а вторую половину топчутся на месте, прижавшись тесно друг к другу и держась обеими руками за живот. Нас учили ходить носками врозь, теперь мы будем их ставить внутрь, мы вытягивали носок, теперь будем поднимать его кверху, мы держали колени врозь, теперь мы их держим склеенными, мы старались иметь приятные и выразительные лица, теперь у нас будет застывшее глуповатое и животное выражение и т. д., и т. д.»
Столкновение Нижинского и Пуаре в высшей степени примечательно — это не только привычный конфликт балетмейстера и артиста, исканий и традиций, но прежде всего столкновение двух пассионарных неофитов. Гениальный классический танцовщик, эталон артиста Императорских театров Вацлав Нижинский теперь «страшно злится, когда на репетиции начнешь делать exercice, т. к. он “физически не может больше видеть танцев старой школы”», а дилетантка, не окончившая театрального училища и берущая частные уроки, яростно вступается за колеблемые святотатцем основы классического танца — выворотность, грацию и приятное, то есть не отражающее физических усилий, выражение лица.
С. В. Пуаре родилась 24 июля 1887 г. в Ейске, в семье военного4. Она приходилась внучкой «преподавателю гимнастики и фехтования в Большом театре и в разных учебных заведениях Москвы» Якову Викторовичу Пуаре, французу, оставшемуся в Москве после 1812 г.5. Ее отец был старшим братом знаменитого карикатуриста Эммануила Яковлевича Пуаре (Caran d’Ach) и не менее знаменитой актрисы и певицы, подруги М. Ф. Кшесинской, Марии Яковлевны Пуаре. Виталий Пуаре умер в чине подполковника в 1902 г., трое детей — Юлий, Сусанна и Инна — остались на попечении вдовы, Марии Ивановны. Юлий служил на флоте, сестры жили вместе с матерью.
Как сообщает, справочник «Весь Петербург на 1913 год» Сусанна проживала на Адмиралтейском канале, дом 9, квартира 29. Она была учительницей французского языка в Женской гимназии Императрицы Марии Александровны, а также преподавала в гимназии и реальном училище Г. К. Штемберга, занималась «физическим и эстетическим развитием учеников». Можно предполагать, что знакомство Пуаре 491 с Е. П. Соколовой — педагогом М. Ф. Кшесинской, А. П. Павловой, Т. П. Карсавиной, Л. Н. Егоровой, В. А. Трефиловой — состоялось через М. Я. Пуаре. Впрочем, весьма вероятно, что танцами Пуаре начала заниматься еще в Москве. Как видно, у нее были дружеские отношения с Надеждой Петровной Галат, танцовщицей и педагогом московского Большого театра, первой женой С. А. Кусевицкого. В открытке, посланной из Петербурга 24 августа 1912 г., Пуаре пишет: «Дорогая и милая Надежда Петровна! Очень часто Вас вспоминаю. Как устроились Ваши дела, когда думаете перебраться в Петербург? Вот уже 1 1/2 недели, как я вернулась из Гунгербурга (ныне — курорт Нарва-Йыэсуу в Эстонии. — С. К.) Еще не начинала заниматься танцами, т. к. моя учительница больна, и я не знаю, как все это устроится»6.
Попадание С. В. Пуаре в «Русский балет» в качестве танцовщицы не стоит считать чем-то экстраординарным. Оно было не большей случайностью, чем, например, приглашение Екатерины Эрнестовны Линевской, бывшей сотрудницы газеты «Вечернее время»7, или самой Мари Рамбер — протеже Далькроза и помощницу Нижинского часть труппы, воспитанной в Императорском театральном училище (в том числе Бронислава Нижинская), считала беспомощной дилетанткой. Дягилев нередко принимал в свою труппу людей, которых находил полезными (в том числе в плане связей), невзирая на уровень подготовки, и не боялся недоучек. Он уповал на всемогущество педагогического таланта Э. Чекетти, способного, как он считал, любого дилетанта вывести на приемлемый профессиональный уровень.
С 1912 по 1914 г. помимо «Весны священной» Пуаре танцевала в фокинских «Сильфидах» (ноктюрн), «Шехеразаде», «Петрушке», — в общем, во всех основных балетах репертуара8. В 1932 г. журналист Рут Эйерс со слов самой Пуаре так описывала жизнь «Русского балета»: артисты «проводили восемь-девять часов на репетициях. Они были совершенными художниками в любой области танца: на пуантах, в соло, классике, акробатике. Свободные минуты распределялись между примеркой костюмов, изучением языков — таким образом, все танцовщики могли легко объясняться в любой части Европы, где бы они ни оказались»9. На одном из званых приемов, устроенных труппе, Пуаре познакомилась с гражданским инженером-электриком Александром Карповым. За беседой она процитировала «знаменитые строчки немецкого поэта» на языке оригинала, навсегда рассеяв представления преданного поклонника и будущего мужа о танцовщицах как прелестных, но пустых созданиях10.
По-видимому, после начала Первой мировой войны С. В. Пуаре вернулась в Россию, где судьба вновь свела ее с Брониславой Нижинской, покинувшей «Русский балет» в 1913 г. По сообщению Линн Гарафолы, «после возвращения Нижинской в Петербург в 1914 г. Пуаре занималась у нее. По приглашению Нижинской она уехала в Киев и танцевала в Городском театре. В “Коньке-Горбунке”, поставленном там Кочетовским в 1916 г., она была занята во “Фресках”»11. Журналистке «Питсбург пресс» Пуаре рассказала, что оставила сцену, выйдя замуж, т. е. в 1918-м. В 1918 г. киевская газета «Театральная жизнь» сообщала, что С. В. Пуаре избрана секретарем исполнительного комитета союза сценических деятелей12. А в 1920-м им пришлось спасаться из Киева почти так же, как самой Нижинской: «Ради него — больше чем для себя — мадам Карпова упаковала несколько личных вещей 492 в небольшой чемодан и в течение часа проследовала с ним к границе. Скомканное прощание с Россией, которую она знала и любила, было отравлено ужасом. Пара путешествовала в вагонах для перевозки скота, питалась коркой черного хлеба, пряталась в кочегарной судна, готового отплыть в западном направлении. Они провели первый год в Америке в Нью-Йорке и переехали в Питсбург в 1921 году, где с тех пор и живут»13.
Питсбургская жизнь четы Карповых была успешной и безмятежной. Муж работал на Aluminum Company, зарегистрировал несколько патентов по своей специальности, жена вела жизнь домохозяйки и давала танцевальные классы. О том, каким уважением они пользовались в городе, свидетельствуют документы Госдепартамента США, касающиеся попыток Сусанны в 1938 г. вызволить из СССР свою престарелую мать и сестру Инну, натерпевшихся от советской власти за происхождение и находившихся в бедственном положении14. В своем полном горечи письме в прокуратуру Инна Карпова среди прочего писала: «В том ли, наконец [моя вина], что я переписываюсь с моей единственной сестрой, проживающей в г[ороде] Питсбурге в С[еверо-]Ам[ериканских] Соед[иненных] Штатах, живущей за границей с 1912 г., сохраняю умышленно все ее письма специально для того, чтобы всегда можно было проверить, что ничего предосудительного с точки зрения СССР они не содержат, и получаю от нее регулярно помощь (20 долларов ежемесячно на Торгсин) на содержание матери?»15 Попытка эта, по-видимому, не увенчалась успехом.
Сусанна Витальевна Пуаре-Карпова скончалась 16 мая 1962 г. и похоронена на православном кладбище в Ново-Дивеево, штат Нью-Йорк16.
493 С. В. ПУАРЕ —
Е. П. СОКОЛОВОЙ17
11 февраля 1913 г. Лондон
[На бланке]
The Premier Hotel
Southampton Row
Russel Square
London
Telegrame: Permotel, London
Telephones: 5860 – 5861 Gerrard
Дорогая Евгения Павловна, не писала Вам так давно отчасти потому, что все ждала обещанного длинного письма от Вас; увы, так и не дождалась его; главным же образом оттого, что буквально нет минуты свободной — все свободное время уходит на репетиции нового балета Нижинского. Ах, этот балет! Крест и трагедия моей жизни! Да и не моей только! Я знаю многих в труппе, 4/5 наверное, которым этот балет отравил существование. Некоторые разучились смеяться за это время. Другим каждое утро испорчено мыслью, что днем будет 2 репетиции «Священной весны», и каждый вечер сознанием, что завтра будет то же. Если б Вы могли только увидеть что это такое! Вы, которая не признает уже фокинских балетов. Есть, кажется, у Джерома рассказ про одного молодого писателя, которого замучило желание быть оригинальным; оригинальность же он понимает в том, что в его повестях днем было темно, а ночью светло, зимой жарко, а летом холодно, снег был черный, деревья красные и т. д.18 Приблизительно так же поступает Нижинский. До сих пор прелесть танца заключалась в движении и разнообразии жестов — в новом балете 1/2 акта все сидят не двигаясь, спиной к зрителям и уткнувшись носом в пол, а вторую половину топчутся на месте, прижавшись тесно друг к другу и держась обеими руками за живот. Нас учили ходить носками врозь, теперь мы будем их ставить внутрь, мы вытягивали носок, теперь будем поднимать его кверху, мы держали колени врозь, теперь мы их держим склеенными, мы старались иметь приятные и выразительные лица, теперь у нас будет застывшее глуповатое и животное выражение и т. д., и т. д. Всего не перескажешь. На меня первое время это произвело такое впечатление, что я вылила свое изумление в следующей басне:
«Священная весна»
Басня
Serge
Дягилев, с ним Рерих19 и Стравинский20
И сам Вацлав Фомич Нижинский21
Задумали балет поставить новый22,
И даже Жак Далькроз23, на все для них готовый,
Им барышню свою в помощницы прислал24,
Лишь одного не рассчитал,
Что «коль в товарищах согласья нет,
494 На лад их дело не
пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука»
И наш рассказ тому порука
На репетицию Григорьев всех зовет25,
И о балете речь Нижинский нам ведет.
Serge слушает, да
головой качает,
Не вытерпит и поправляет.
Садимся на пол мы, усердия полны,
Чтобы в земле священной рыться.
«Нет, — говорит Нижинский, — не годится,
Ведь счет сперва прослушать вы должны».
Раз, два, три, раз, Нижинский говорит,
Раз и, два и, так Дягилев велит.
«Нет, все не то, — далькрозка заявляет, —
Жак иначе все это объясняет».
Пришлось Стравинскому на спор их прилететь26:
«Носками внутрь велите им сидеть,
И как по маслу все у них пойдет».
Послушались совета мы, а вот
Хоть три часа носками внутрь сидели,
Вставали, топали, как лошади, потели
(Ритмичка27, так и та, затопала, вдруг с нами),
Стучали оземь лбом, вертели головами,
Держались за живот и в профиль становились
А все же толку не добились.
Аккомпаниатора прошиб холодный пот,
Не выдержав, он закричал: «Mein
Gott!»28
— Нет, вижу я, как вы ни становитесь,
А все в танцоры не годитесь.
Промолвил Дягилев. Услыша суд такой
Вскочили мы и понеслись домой.
Мораль сей басни такова
(Наперекор пословице известной):
Ум хорошо, гораздо хуже два,
Так коли хочешь быть в балете господин,
То ставь его один29.
Нет, шутки в сторону, балет Нижинского меня искренно огорчает — он несомненно будет иметь успех, успех скандала.
Это — всегда опасный путь, и жаль, что Дягилев с его умом портит дело, начатое так блестяще. Если публика возмущалась «Фавном», находя его неприличным30, то что же будет с этим балетом, который в 10 раз неприличнее. Для меня лично этот балет ужасен тем, что он очень вреден для ног и для танцев. Вот уже 495 больше месяца, как я не учусь. Все утро и весь вечер занятые репетициями, едва успеваем днем пообедать, и для уроков с Чекетти не дали ни места, ни времени. Чекетти злится и собирается уходить31. Третьего дня я захотела поучиться во время репетиции, пока Нижинский занимается с другими, и испортила себе настроение на весь день, т. к. не в силах была сделать ни одного большого батмана. Нижинский же страшно злится, когда на репетиции начнешь делать exercice, т. к. он «физически не может больше видеть танцев старой школы». Театр же такой холодный, что видно пар, когда дышишь; ноги просто коченеют, и т. к. репетиции ведутся бестолково, то бывают дни, когда с 10-и утра до 1 ч. ночи и до 2-х сидишь на месте не двигаясь, потому что он занимается с другими32.
Таковы-то наши дела, милая Евгения Павловна. Вылила душу, и стало легче. Если бы не эта злосчастная «Весна», то я бы чувствовала себя счастливейшим человеком, — потому что всем остальным я очень довольна и ни на что не могу жаловаться. Здесь я живу в одном отеле с Людмилой33; она, бедная, часто хворает в этом сезоне. Англичане относятся к нам очень дружелюбно, балет посещают охотно, и у меня такое чувство в Лондоне, как будто бы я дома. Пробудем здесь до 7-го марта н. ст., говорят, что по дороге в Монте-Карло заедем в Лион34. Погода отвратительная. Вот и все наши новости. Боюсь, что Вы будете считать меня несчастной по этому письму. Право же нет, на свете невозможно прожить без огорчений, так пусть это будет лучше «Весна», чем что-нибудь более значительное.
Пишите мне, дорогая Евгения Павловна, подробно о себе, о Ваших занятиях, ученицах. Передайте Алисе Петровне35, что я очень обижена тем, что она меня так окончательно забыла, не ответила на мои два письма из Будапешта. Сердечный привет Евгении Николаевне36 и Эдуарду Андреевичу37. Крепко целую Вас.
Любящая,
С. Пуаре
London
Covent Garden Theatre
496 Комментарии
Вступительная статья
1 Из наиболее значительных изданий: Видение танца: Сергей Дягилев и Русские балетные сезоны / Под ред. Джона Э. Боулта, З. Трегуловой, Н. Р. Джордано. Милан и др., 2009; The Ballets russes and the art of design / Ed. by A. W. Purvis, P. Rand, A. Winestein. N. Y., 2009; Stravinsky I. Le Sacre du printemps. Manuscript of the Version for Piano Four Hands: Facsimile / Ed. by Felix Meyer. L., 2013; Stravinsky I. Le Sacre du printemps. Facsimile of the Autograph Full Score / Ed. by Ulrich Mosch. L., 2013; Avatar of Modernity. The Rite of Spring Reconsidered / Ed. by Hermann Danuser and Heidy Zimmermann. L., 2013; Век «Весны священной» — век модернизма / Сост. П. Д. Гершензон, О. Б. Манулкина. М., 2013. Многие архивы и музеи подготовили тематические онлайн-выставки и оцифровали коллекции, в частности Национальная библиотека Франции оцифровала множество эскизов, программок и других печатных материалов «Русского балета», доступных на ее сайте: http://www.bnf.fr, а Гарвардская театральная коллекция — помимо изобразительных материалов, переписки и счетов, — партитуры, репетиторы и клавиры «Русского балета», отложившиеся в ее фондах (см., например, http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/deepLinkDigital?_collection=oasis&inoid=null&histno=null&uniqueId=hou01892).
2 В 1971 г. американский исследователь Джон Уайли по материалам коллекций Энтовена (Лондон) и Сергея Григорьева (Стокгольм) составил предварительный перечень представлений, которые «Русский балет» дал в различных городах Европы и мира за все время его существования. С его подачи этот перечень был доступен ученым, но так и не был опубликован. На перечне Уайли, уточненном и расширенном, основана публикация Джейн Притчард «Русский балет Сергея Дягилева: Маршруты», изданная в 2009 г. (См. Pritchard J. Serge Diaghilev’s Ballets Russes — An Itinerary. P. 1: 1909 – 1921 // Dance Research. 2009. Vol. 27. Iss. 1. P. 109 – 198; Idem. Serge Diaghilev’s Ballets Russes — An Itinerary. P. 2: 1922 – 1929 // Dance Research. 2009. Vol. 27. Iss. 2. P. 255 – 357. Как признает сама Дж. Притчард, этот вариант также не является исчерпывающим и открыт для уточнений. Действительно, начало сезона 1912/1913 гг., критичное для работы над «Весной священной», в нем практически не отражено: репертуар гастролей Русского балета в Кельне, Франкфурте, Мюнхене, Дрездене, Берлине, Будапеште, Праге, Лейпциге за редким исключением дается количеством представлений, а приводимые даты не отражают реальную картину гастролей. Совсем иная ситуация с гастролями в Вене, Лондоне, Париже и Монте-Карло, репертуар которых воссоздан во всех подробностях.
3 Перевод мой. — С. К. Ср. на англ.: «One [ballet] is called Sacre du Printemps… I think it will prove a strangely interesting work. It is really the soul of nature expressed by movement to music. It is the life of the stones and the trees. There are no human beings in it. It is only the incarnation of Nature — not of human nature. It will be danced only by the corps de ballet, for it is a thing of concrete masses, not of individual effects». (Pall Mall Gazette. 1913. 15 febr.).
4 См. Петицию о предоставлении гражданства (Petition of Naturalization), поданную С. В. Пуаре-Карповой в 1928-м г., скан которой доступен на сайте ancestry.com (благодарю Л. Гарафолу за организацию доступа к скану).
5 См.: Жертвы политического террора в СССР. Электронный ресурс: http://pkk.memo.ru/letters_pdf/000130.pdf
6 497 Открытка приобретена английским исследователем балета Э. Фостером, собирающем информацию об участниках Русского балета, на интернет-аукционе ebay.com. Благодарю Э. Фостера за предоставленный скан.
7 См.: Дунаева Н. Л. Будни Дягилевской антрепризы: Свежий взгляд изнутри // Дунаева Н. Л. Из истории русского балета: Избранные сюжеты. СПб., 2010. С. 137 – 149.
8 С. В. Пуаре — наряду с такими знаменитыми танцовщицами, как, например, А. П. Павлова, — послужила моделью для цикла балетных статуэток скульптора Алисы Яковлевны Брускетти-Митрохиной (1909 – 1914).
9 Ayers R. Cupid Rings Down The Curtain // The Pittsburgh Press. 1932. 20 febr. P. 3.
10 В оригинале «beautiful but dumb», что примерно соответствует выражению «тупая блондинка».
11 Сообщено Л. Гарафолой публикатору и Е. Я. Суриц в письме от 28 октября 2013 г.
12 См. Театральная жизнь. Киев, 1918. № 16. 16 мая. С. 17.
13 Ayers R. Cupid Rings Down The Curtain // The Pittsburgh Press. 1932. 20 febr. P. 3.
14 См.: NARA T1249. Records of the Department of State Relating to Internal Affairs of the Soviet Union, 1930 – 1939.
15 См.: Жертвы политического террора в СССР. Электронный ресурс: http://pkk.memo.ru/letters_pdf/000130.pdf
16 См. Незабытые могилы: Российское зарубежье: Некрологи 1917 – 1997: В 6 т., 8 кн. / Сост. В. Н. Чуваков. М., 2001. Т. 3. С. 212. «Карпова (урожд. Пойте) Сюзанна Витальевна (? – 16 мая 1962, США). Похоронена в Ново-Дивееве. Новик. — Нью-Йорк, 1963». Запись содержит простительные искажения, вызванные обратным транскрибированием: «Пойте» вместо «Poire» и «Сюзанна» вместо «Сусанна».
С. В. Пуаре — Е. П. Соколовой
17 Автограф: СПбГМТиМИ, ОРУ 5460.
18 Имеется в виду рассказ Дж. К. Джерома «Как написать повесть», в котором Браун, один из четырех соавторов предполагаемого сочинения, характеризуется так: «Главное честолюбие Брауна в жизни — это быть оригинальным, и его метод достигать оригинальности заключается в том, чтобы взять что-нибудь неоригинальное и перевернуть это вверх ногами. Если б Брауну была отдана маленькая планета в полную собственность, чтоб поступать с нею, как он хочет, то он назвал бы день ночью, а лето зимою. Он пожелал бы, чтоб все его обитатели и обитательницы ходили на головах и здоровались ногами, чтобы деревья росли корнями кверху, чтоб старый петух нес яйца, а куры взлетали бы на забор и кричали: “Кукареку!” Затем он отступил бы назад и сказал: “Посмотрите, какой оригинальный мир я создал, совершенно по моей собственной идее”». Джером К. Джером. Как написать повесть / Пер. В. П. Лачинова // Собрание сочинений: В 2 т. СПб., [б. д.] Т. 1. С. 93.
19 Рерих Николай Константинович (1874 – 1947) — художник, соавтор либретто и автор оформления «Весны священной». Неосмотрительность Рериха, отправившего «24 костюма и две книги с образцами украшений» Стравинскому, а не постановщику спектакля Нижинскому, была одной из причин откладывания репетиций. Дягилев дважды, 18 декабря 1912 г. и 2 января 1913 г., телеграфировал Стравинскому о том, что эскизы по-прежнему «не получены» и это ставит его в тяжелое положение (См.: Конаев С. А. Рождение Весны [История создания балета в документах и свидетельствах] // Век «Весны священной» — век модернизма / Сост. П. Д. Гершензон, О. Б. Манулкина. М., 2013. 498 С. 41). В письмах Стравинского Рерих неоднократно выражал желание присутствовать на репетициях, Дягилев, напротив, считал присутствие художника на них «бесполезным» (inutile). В «Ранних воспоминаниях» Б. Ф. Нижинская пишет, что «один лишь Рерих поддерживал Вацлава. Он часто приходил на репетиции и подбадривал Вацлава, который внимательно его слушал. Только в присутствии Рериха брат освобождался от сковывавшего его напряжения. Вацлав не раз говорил мне, как интересно слушать рассказы Рериха о происхождении человека, о древних обрядах и предыстории племен, “которые кочевали по стране, ныне именуемой Русью”» (Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания: В 2 ч. / Пер. с англ. И. В. Груздевой, вступ. статья М. Ю. Ратановой, коммент. Е. Я. Суриц. М., 1999. Ч. 2. С. 246). Очевидно, имеются в виду репетиции в Лондоне или Монте-Карло, когда они шли действительно часто, однако уточнить свидетельство Нижинской пока не удается.
20 Стравинский Игорь Федорович (1882 – 1971) — композитор, солибреттист и автор музыки «Весны священной».
21 Нижинский Вацлав Фомич (1889 – 1950) — танцовщик, балетмейстер, автор хореографии «Весны священной».
22 О хронологии возникновения и осуществления замысла балета «Весна священная» см.: Конаев С. А. Указ. соч. С. 37 – 44).
23 Жак-Далькроз Эмиль (1865 – 1950) — композитор, создатель системы ритмической гимнастики. Известно, что Дягилев и Нижинский как минимум дважды посещали Институт музыки и ритма Далькроза в Хеллерау под Дрезденом, последний раз в связи с постановкой «Весны». Точную дату этого визита мешает установить противоречия и недоговоренность в мемуарах М. Рамбер и Б. Ф. Нижинской. Во всяком случае, это произошло не ранее середины ноября и не позднее декабря 1912 г.
24 Имеется в виду Мари Рамбер (наст. Мириам Рамберг, 1888 – 1982), танцовщица, хореограф, в пору репетиций «Весны» — ученица Далькроза и помощница Нижинского. О своем участии в постановке «Весны священной» Рамбер рассказала в мемуарах, изданных в 1972 г. под названием «Ртуть» (см. Rambert M. Quicksilver. L.; N. Y., 1972), а также в интервью (ср., напр., Berg S. C. Le sacre du printemps: seven productions from Nijinsky to Martha Graham. Michigan, 1988. P. 28). Далькроз действительно рекомендовал ее Дягилеву, и по приглашению импресарио Рамбер 19 декабря 1912 г. приехала в Берлин к последнему представлению «Русского балета». После ужина с Дягилевым и обсуждения увиденного она, несмотря на «анти-балетные», «продунканистские» настроения, соглашается «познакомить труппу с методом Далькроза», «помочь Нижинскому применить его в постановке “Весны священной”» и танцевать в тех балетах, для которых она «окажется пригодной». Рамбер присоединилась к Русскому балету в Будапеште, где труппа находилась на гастролях с 23 декабря 1912 г. по 8 января 1913 г. (согласно объявлениям в газете «Пештер Ллойд» («Pester Lloyd»), выходившей в Будапеште на немецком языке, первый спектакль состоялся 27 декабря 1912 г., последний — 8 января 1913 г. См.: Pester Lloyd. 1912. N 303. 24 Dec. P. 14; Pester Lloyd. 1912. N 6. 7 Jan. P. 12).
25 На репетицию Григорьев всех зовет… — По-видимому, речь идет о первой репетиции «Весны священной» с труппой. Точная дата ее остается неизвестной, но из «басни» Пуаре следует, что она состоялась в Будапеште, после приезда Рамбер и до визита туда Стравинского, т. е. между 23 декабря 1913 г. и 4 января 1913 г. Возможно, ее следует датировать 1 января 1913 г., так как на следующий день, 2 января 1913 г. в 10 ч. 30 мин., 499 Дягилев отправил Стравинскому телеграмму, которую можно интерпретировать как реакцию на творческий тупик, описанный в «басне»: «Если ты не приедешь немедленно сюда на 15 дней, Sacre дана не будет. <…> Телеграфируй о приезде» («Si vien pas immédiatement ici pour 15 jours, Sacre passera pas. <…> Cable pour arrivée» — Архив Стравинского в фонде Пауля Захера (Paul Sacher Stiftung), Базель; см. также Конаев С. А. Указ. соч. С. 41).
По воспоминаниям Рамбер, на первой репетиции Дягилев обратился к артистам со специальным заявлением, в котором «объяснил им тему балета и потребовал от них в точности воспроизводить движения, которые собирался сочинить Нижинский» (Rambert M. Ibid. P. 55). Это заявление понадобилось потому, что труппа, по словам Рамбер, «от всего сердца ненавидела» хореографию Нижинского в «Фавне», считая, что тот «отрицает их классическую технику» (Ibid). Пластический замысел нового балета, сразу обозначенный балетмейстером, мог лишь укрепить их в этом мнении: «… первым делом Нижинский установил основную позицию: стопы сильно развернуты внутрь, колени слегка согнуты, положение рук обратно классическому, — примитивная, доисторическая поза» (Ibid. P. 63; ср. с описаниями С. В. Пуаре).
Также Дягилев объявил, что Рамбер «будет ежедневно давать урок ритмической гимнастики всей труппе» (Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. Ч. 2. С. 231). Несмотря на это распоряжение, «оказалось невозможно найти время для специальных классов в расписании, уже занятом жизненно важной работой: трудный ежеутренний класс маэстро Чекетти, затем репетиции до и после ланча, а вечером спектакль» (Rambert M. Ibid. P. 55). С другой стороны, артисты не горели желанием участвовать в этих классах: во второй раз пришло «около половины труппы», в третий — сторонник Далькроза Больм и еще два артиста, «не желавших перечить Дягилеву» (Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. Ч. 2. С. 231). В итоге Григорьев посоветовал Рамбер вместо специальных классов начать «работать с каждым артистом индивидуально, разучивая с ними партии» нового балета.
26 Пришлось Стравинскому на спор / их прилететь… — В результате обмена телеграммами между Дягилевым и Стравинским композитор приехал в Будапешт 4 января по н. ст. Дягилев планировал уехать 5 января по н. ст. в Петербург. Неясно, отложил ли он визит или успел вернуться к 10 января, к открытию гастролей в Вене. Неизвестно также, находился ли Стравинский с 4 января неотлучно при труппе вплоть до своего отъезда из Вены в Кларан 16 или 17 января. В этот промежуток времени произошла «эпическая ссора» между хореографом и композитором из-за темпов, отразившаяся в следующем эпизоде «басни»: «Когда Стравинский впервые пришел на одну из наших репетиций и услышал, как играют его музыку, он вскипел, оттолкнул немецкого пианиста <…> и продолжил игру вдвое быстрее, чем делали мы, и вдвое быстрее, чем мы вообще могли танцевать, — вспоминала Рамбер. — Он топал ногой по полу, стучал кулаком по пианино, пел и кричал, все для того, чтобы дать нам почувствовать ритмы музыки и краски оркестра» (Rambert M. Ibid. P. 58 – 59). Спор улаживал Дягилев, по настоянию которого, видимо, Нижинский отправил 19 января Стравинскому телеграмму об успехе второго представления «Петрушки» в Вене, — других такого рода телеграмм от Нижинского в архиве Стравинского в Базеле (Paul Sacher Stiftung) не сохранилось. (См. также Конаев С. А. Указ. соч. С. 42).
27 Ритмичка — прозвище, которым Рамбер наградили артисты Русского балета. «Каждый день после общей репетиции я должна была оставаться на час или два и слушать с Нижинским партитуру “Весны”, — вспоминала Рамбер. — Затем он набрасывал 500 движения для следующей репетиции. Ритмы были очень трудные, и я должна была разучивать ритм с каждым артистом индивидуально. Вскоре они окрестили меня “ритмичкой”. В отсутствие мелодии, на которую можно опереться, единственным способом что-либо выучить было все время считать такты» (Rambert M. Ibid. P. 57). Рамбер подчеркивала, что «движения сами по себе были простые, как и рисунок перемещений». Хореография состояла из «плавных проходок или притаптываний, прыжков преимущественно с обеих ног, тяжелых приземлений». Но придуманную Нижинским основную позицию «было трудно сохранять в динамике», а освоиться с ритмом музыки — «почти невозможно» (Ibid. P. 63).
28 В мемуарах М. Рамбер упоминается «толстый немец-пианист», которого Дягилев, по ее словам, иронически звал «колоссаль» (См. Rambert M. Ibid. P. 58 – 59; Berg S. C. Le sacre du printemps: Seven productions from Nijinsky to Martha Graham. Michigan; Ann Arbor, 1988. P. 28). Однако в «Ранних воспоминаниях» Б. Ф. Нижинской утверждается, что на репетициях «Весны священной», как и во время репетиций «Фавна», аккомпаниатором был Михаил Осипович Штейман (1889 – 1949), ученик Санкт-Петербургской консерватории, соученик и друг С. С. Прокофьева. Нижинская пишет, что во время лондонских репетиций Стравинский «без конца объяснял» Штейману, «какие места из партитуры играть» (Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. Ч. 2. С. 234). Пути Б. Ф. Нижинской и М. О. Штеймана пересекались несколько раз (в Киеве во время Гражданской войны, затем в Париже в эмиграции). В описываемое время он действительно «законтрактовался к Дягилеву», «объездил всю Европу» и «насмотрелся, где и как делают музыку» (см.: Прокофьев С. С. Дневник: 1907 – 1918. P., 2002. С. 304). Штейман родился в Елисаветграде в еврейской семье и приходился племянником Марии Тихоновне Штейман, жене выдающегося дирижера Эмиля Альбертовича Купера. Даже если предположить, что семья Штейман исповедовала протестантизм и принадлежала к немецкой культурной среде, остается открытым вопрос, зачем было М. О. Штейману на репетициях дягилевской труппы переходить на немецкий, если с Прокофьевым и другими однокашниками он общался, очевидно, по-русски.
29 Согласно подписанному И. Ф. Стравинским, В. Ф. Нижинским и Н. К. Рерихом 9 июня 1913 г. «Свидетельству о декларации» (Bulletin de déclaration) для французского Общества драматических писателей и композиторов, общий доход с балета должен был распределяться между ними в следующих долях:
«Jgor Strawinsky — 3/6
Nicolas Roerich — 1/6
Waslaw Nijinsky — 2/6»
(архив Стравинского, фонд Пауля Захера).
30 Если публика возмущалась «Фавном», находя его неприличным… — Речь идет о первом балете В. Ф. Нижинского «Послеполуденный отдых фавна» на музыку К. Дебюсси. Премьера состоялась в Париже в театре «Шатле» 29 мая 1912 г. Скандал вызвал главным образом финал балета, так описанный М. М. Фокиным: «Нифма убегает от Фавна. Он берет часть оставшейся ее одежды, идет на горку и медленно ложится на тряпку». (Фокин М. М. Против течения / Сост. Ю. И. Слонимский и Г. В. Добровольская. Л., 1981. С. 165). Называя это не иначе как демонстрацией «сексуального извращения», Фокин признавал, что мнение публики разделилось: «Скандал, сенсация, борьба партий… было все что нужно» (Там же. С. 166).
31 501 Чекетти злится и собирается уходить. — Чекетти Энрико (1850 – 1928) — выдающийся итальянский танцовщик-гротеск и педагог классического танца, педагог-репетитор Русского балета Дягилева в 1911 – 1921 гг. Из описания Пуаре следует, что к февралю ситуация с расписанием уроков изменилась зеркально относительно той, которую описала Рамбер.
32 4 февраля н. ст. Русский балет открыл сезон в Ковент-Гардене. График спектаклей был составлен таким образом, чтобы «сосредоточить все силы на завершении “Весны священной”» (слова С. Л. Григорьева). Перерывы между представлениями занимают один — два дня, предоставленные для репетиций в театре Олд-Вик, снятом для Русского балета Дж. Бичемом. Прибывший в Лондон в начале февраля Стравинский принимает в них участие. Настроения труппы этого периода выразил Григорьев, которому «часто казалось, что этот балет никогда не удастся закончить и что Дягилев сожалеет о затеянном деле» (Григорьев С. Балет Дягилева: 1909 – 1929 / Пер. Н. А. Чистяковой; предисл. и коммент. В. В. Чистяковой. М., 1993. С. 76).
33 … я живу в одном отеле с Людмилой… — Очевидно, речь идет о Шоллар Людмиле Францевне (Федоровне) (1888 – 1978), танцовщице и педагоге. В 1909 – 1914 гг. участвовала в Русских сезона, в 1921 – 1925 гг. — солистка Русского балета Дягилева.
34 … по дороге в Монте-Карло заедем в Лион. — 14 марта 1913 г. Русский балет дал представление в Лионе на вечере, организованном Ассоциацией периодической печати.
35 Алиса Петровна — неустановленное лицо.
36 Евгения Николаевна — очевидно, Минина Евгения Николаевна (1874 – 1942), дочь Е. П. Соколовой.
37 Эдуард Андреевич — По-видимому, Крушевский Эдуард Андреевич (1857 – 1916), композитор и дирижер, с 1910 г. заведующий Центральной музыкальной библиотекой Императорских театров.
502 «ДОВОЛЬНО
ТЕБЕ НАСЛАЖДАТЬСЯ “СПЯЩЕЙ КРАСАВИЦЕЙ”»
Письма Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионова
С. П. Дягилеву
(1918 – 1926)
Публикация, вступительная статья
и комментарии Е. А. Илюхиной
Публикуемая переписка касается одного из самых ярких периодов истории «Русских балетов» конца 1910-х – середины 1920-х гг. В это время С. П. Дягилев активно сотрудничает с художниками авангарда. И именно Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионову принадлежит честь открытия новой эпохи дягилевского балета. Событием, убедившим Дягилева в правильности выбранного пути, стал грандиозный успех 24 мая 1914 г. на парижской сцене оперы-балета «Золотой петушок»1 в оформлении Н. С. Гончаровой.
Знакомство художников с Дягилевым состоялось гораздо раньше. По воспоминаниям Ларионова, первая личная встреча относится к 1903 г., а уже в 1906 г. художник получил приглашение сопровождать Дягилева в Париж, где в современном разделе Выставки русского искусства экспонировались живописные полотна Ларионова и пастели Гончаровой. Дягилев одним из первых сумел увидеть талант молодых художников и вписать их в контекст истории русского искусства. Предложение, сделанное в 1913 г. никогда до этого не работавшей для профессионального театра Наталии Гончаровой, также, скорее всего, связано с впечатлениями от ее живописных произведений. В это время «Русские балеты» переживали кризисный момент — В. Нижинский2 покинул труппу, Дягилев вынужден был уговаривать вернуться М. Фокина3, хореографию которого в определенном смысле уже «пережил». В поисках художественного решения спектакля Дягилеву нужна была «свежая кровь». Персональная выставка 1913 года Гончаровой4, где экспонировались ее крестьянские циклы и лубки, «открыла» ему новую, отличную от стилизаций мирискусников интерпретацию русской темы. Договор с Гончаровой, впрочем, был подписан на определенных условиях: Гончарова должна была исполнить первый эскиз декорации, предоставить его Дягилеву, и только в случае одобрения, контракт вступал в силу. Эскизы были приняты, а художником-исполнителем декораций был назначен М. Ф. Ларионов. Так началось плодотворное сотрудничество, которое окончилось лишь со смертью Дягилева в 1929 году. «Золотой петушок» стал настоящим триумфом. Все рецензенты особо отмечали оформление Н. С. Гончаровой. В одночасье она проснулась «знаменитой». Не случайно впоследствии Гончарова, как это следует из писем, внимательно и не без ревности «отслеживает» представления «Золотого петушка» на разных сценах.
Найдя «своего» художника для воплощения русской темы, Дягилев в 1915 г. приглашает Гончарову присоединиться к нему в Швейцарии для подготовки нового балетного сезона. А так как без Ларионова она ехать отказывается, 503 то приходит приглашение и ему. Следующей постановкой, для оформления которой официально приглашена художница, стал балет «Литургия»5. Ларионову были поручены декорации и костюмы для балета на музыку из оперы «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова «Полуночное солнце»6. Впрочем, в швейцарском городке Уши (1915) разрабатывалась программа «русских балетов», реализация которых растянулась на целое десятилетие. Так, например, было с балетом «Шут»7, где от первоначального замысла до постановки прошло 6 лет. Еще дольше — с 1915 по 1923 г. — продлилась работа над «Свадебкой»8. Первоначальное оформление было очень близко декорациям и костюмам «Золотого петушка», однако, как вспоминала сама Гончарова, «сходство темы — деревенского праздника — увлекло меня по ложному пути»9. С 1915 по 1918 г. она создает множество вариантов оформления, источником вдохновения которых стало народное искусство различных областей России: городецкая резьба и росписи, архангельское кружевоплетение, дымковская игрушка. В 1923 г. Дягилев наконец вернулся к постановке балета, но выбранный им балетмейстер — Б. Нижинская10 — категорически не согласилась с пышным и декоративным оформлением. Только после посещения репетиций, очевидно не без помощи Ларионова, Гончарова нашла лаконичное конструктивистское решение декораций и простых костюмов, в равной степени напоминающих крестьянские сарафаны и рубахи, а также репетиционную одежду танцовщиков. За шесть месяцев пребывания в Швейцарии художниками было придумано, а частично и исполнено оформление балетов «Литургия», «Полуночное солнце», «Шут», «Русские сказки»11, появились первые варианты «Свадебки» и «Байки про лису»12. Одно задание сменяло другое, и всем участникам небольшой творческой группы приходилось работать одновременно над многими проектами, исполнять не только свою непосредственную работу, но и быть соавторами либретто, обсуждать музыку и хореографию. «Все споры вертятся на проектах, исходящих от Гончаровой и него [Ларионова — Е. И.]», — писала о пребывании в Уши Р. Задкова-Хвощинская13. Для Гончаровой это совмещение казалось мучительным, Ларионов погрузился в новый вид деятельности с энтузиазмом. Не случайно большую часть переписки составляют именно его письма. Почувствовав интерес Ларионова к балету, Дягилев для общего «руководства» приставил Ларионова к начинающему хореографу Леониду (Лёле) Мясину14. Мясин вспоминал: «Так как это был мой первый балет, Дягилев попросил Ларионова наблюдать за моей работой, и мы начали репетировать в маленьком зале в Уши, проходя вместе шаг за шагом каждое па и решительно отсекая все лишнее для достижения естественной простоты»15. Все более увлекаясь, Ларионов переходит от общих консультаций к попыткам «ставить» танцы. При этом созданные по его эскизам костюмы подчас входят в противоречие с теми движениями, которые он демонстрирует артистам. И Ларионов «учитывает опыт» — освобождает сцену и стремится упростить и облегчить костюмы, обыграть в движении каждый элемент костюма. В письмах, касающихся оформления миниатюры «Царевна-Лебедь», он очень детально описывает не только грим и костюм, подробно останавливается на способе исполнения, но соотносит его с движением артистов. Эта своеобразная практика ставить балет совместными усилиями хореографа и художника использовалась каждый раз, когда Дягилев «воспитывал» нового хореографа. В 1915 г. — с Л. Ф. Мясиным, в 1921 г. — с Т. Славинским16, в 1929 г. — 504 с С. М. Лифарем17. Сотрудничество со Славинским, впрочем, оказалось нерезультативным — польский танцовщик хореографом не стал. И Ларионов самостоятельно сочинил, а затем и записал, вернее, зарисовал весь балет. По тем временам это был абсолютно уникальный случай, и здесь надо отдать должное смелости Дягилева, когда поставленный художником балет был представлен публике на сцене одного из крупных парижских театров.
Совместная непрерывная работа в Уши настолько связала творческую команду, что в 1916 г. Дягилев приглашает Ларионова и Гончарову присоединиться к нему в поездке по Испании. Там рождаются идеи «испанских» балетов — «Трианы» на музыку И. Альбениса и «Испании» на музыку М. Равеля18. Оформление их вновь поручено Наталии Гончаровой. Илья Зданевич писал: «Балеты “Espagne” и “Triana” показали нам две Испании Гончаровой, под музыку Ravel’а и Albenis’а. “Espagne” — это экстремистская Испания, преображенная районизмом и кубизмом до высшего живописного пафоса. “Triana” — это Испания гибкая и реальная, но по-новому понятая, такая, какой нет, но которая могла бы быть. В “Espagne” часть костюмов была трактована на плоскости, за которой и находился актер»19.
Эти постановки также не были реализованы, но благодаря Дягилеву художница нашла новую, испанскую, тему, которая станет лейтмотивом не только театрального, но и станкового творчества всего парижского периода жизни.
Однако калейдоскоп проектов и их долгая реализация (или не-реализация) отражались на финансовой стороне дела. И если в плане творчества, несмотря на споры, в которых Гончарова часто играла роль миротворца, их «тройственный союз» был очень плодотворен, то финансовые отношения были менее гармоничны. Не случайно постоянные напоминания о деньгах пронизывают переписку художников с Дягилевым. Дягилевская антреприза и в наиболее благополучный первый период своего существования часто «жила не по средствам», после начала Первой мировой войны ситуация изменилась в худшую сторону. Вечно пребывая в долгах, часто в последний момент изыскивая средства на постановки, Дягилев не любил платить гонорары. В Уши и во время совместного путешествия по Испании он оплачивал пребывание и питание своей маленькой группы, всячески минимизируя «живые» выплаты. Получить гонорар было почти искусством, не случайно в одном из писем Ларионова Гончаровой он просит, обсуждая детали, о деньгах не говорить: «… я сам пошлю, а то от него (Дягилева — Е. И.) не получишь»20. Именно этими обстоятельствами объясняется почти катастрофическая финансовая ситуация, в которой оказались художники в 1918 г., когда после трех лет совместного существования с дягилевской труппой обрели собственное жилье в Париже. Отсутствие денег вынуждает их наняться сезонными рабочими в поместье графа Игнатьева Ле Пивотен пар Гарши (Les Pivotins par Garchy). Впрочем, этот аграрный «ангажемент», скорее всего также связан с театральным знакомством. «Красный граф», Алексей Алексеевич Игнатьев (1877 – 1954), военный атташе во Франции и представитель русской армии при французской главной квартире, был женат на танцовщице Наталии Владимировне Трухановой (1885 – 1956). В 1910-е годы имя ее было хорошо известно в Париже, она была знакома с французскими и русскими художниками и композиторами, должна была танцевать у Дягилева в балете «Пери»21, выступала на сценах парижских варьете и таких театров, как «Шатле» 505 и Парижская опера. Посещавшие театральные премьеры Гончарова и Ларионов наверняка видели, а скорее всего и были знакомы с Трухановой. Однако после перехода на сторону красной России А. А. Игнатьев отказался передать эмигрантским организациям хранившиеся на его личном счету денежные средства (225 млн золотом), считая их принадлежащими новому правительству, и был подвергнут бойкоту, осужден собственной семьей, а его жена в одночасье лишилась всех контрактов. Поместье на самом деле было скорее фермой, где сами хозяева вместе с наемными работниками занимались выращиванием на продажу овощей. Это был способ выживания, как очевидно из писем, оказавшийся не очень долговременным. Видимо, именно «театральное» знакомство и было причиной приглашения М. Ф. Ларионова и Н. С. Гончаровой в качестве сельскохозяйственных рабочих. Там они поселились в конце 1918 г. 29 ноября 1918 г. М. Ф. Ларионов писал И. Ф. Стравинскому: «Мой новый адрес: Les Pivotins par Garchy (Nièvre), France. Я теперь в деревне и усердно занят землей»22.
Любопытно, что в этот наиболее критический в финансовом отношении для Ларионова и Гончаровой год (1918) в Париже с успехом прошли сопровождавшиеся концертами и поэтическими выступлениями выставки их театральных работ — эскизов оформления спектаклей «Русских балетов С. Дягилева» — в галереях Соваж (Sauvage) и Барбазанж (Barbazange)23, вышел первый посвященный им парижский альбом. Эти выставки не только привлекли внимание парижского художественного бомонда, они способствовали популярности Ларионова и Гончаровой как художников-декораторов и в определенном смысле освободили их от постоянной финансовой зависимости от Дягилева. С этого момента к ним все чаще обращаются с заказами другие театры и антрепризы, хотя оба художника всегда мгновенно откликались на приглашения знаменитого друга. И здесь надо коснуться еще одной грани их дружбы. Как замечал сам Ларионов, Дягилев обладал особым даром ссориться, когда ему необходимо было избавиться от ненужных ему сотрудников. Если судить по некоторым намекам в воспоминаниях Гончаровой, иногда такие попытки он предпринимал и по отношению к Ларионову и Гончаровой. И все же их совместная работа, пусть и с перерывами, продлилась до самой смерти Дягилева. Причин такого многолетнего сотрудничества было несколько. Во-первых, Ларионов и сам был великим мастером создавать и разрушать разного рода союзы и в этом качестве был Дягилеву достойным соперником, а Гончарова, напротив, часто выступала миротворицей, гасившей зарождавшиеся конфликты. Во-вторых, трудолюбие и редкий декоративный талант Гончаровой и гибкость Ларионова, его живая реакция на все новое, готовность глубоко и с удовольствием входить во все театральные мелочи позволяли им вновь предлагать оригинальные решения, что, безусловно, привлекало Дягилева. И, наконец, в отличие от друзей юности, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакста24, претендовавших на роль «воспитателей» С. П. Дягилева, Ларионов и Гончарова, приглашенные уже знаменитым импресарио, всегда сохраняли пиетет по отношению к нему, уважение к масштабу личности, к энергии и способности реализовывать, казалось бы, самые фантастические проекты. Свидетельство тому не только многочисленные высказывания Гончаровой и книга воспоминаний, которую на протяжении многих последующих лет писал Ларионов, но и его стремление «продолжить» дело Дягилева, возглавив одну из наследовавших 506 ему антреприз. С расстояния прошедших ста лет можно сказать, что благодаря Дягилеву имена Ларионова и Гончаровой оказались вписанными не только в контекст русского искусства, но и в историю искусства европейского. В Третьяковской галерее хранится незаконченный натюрморт Гончаровой с трогательной надписью, во время работы над которым ее застало сообщение о смерти Дягилева.
Письма публикуются по автографам, хранящимся в фонде Бориса Кохно25 (Paris. Bibliothèque-musée de l’Opéra).
Тексты Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионова публикуются с сохранением особенностей авторской транскрипции французских слов и названий спектаклей; для удобства чтения они приведены в соответствие с правилами современной орфографии и пунктуации. Письма, написанные по-французски, публикуются в оригинале и в переводе авторов публикации.
Автор сердечно благодарит Е. Я. Суриц за помощь в подготовке комментариев.
507 1
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
[До 31 июля 1918 г.]
в Hotel Eduard VII, Madrid26
Милый Сергей Павлович!
Вот уже второй раз в Париже, но тебя нет. На этот раз я пробуду в Париже до 31-го (среда). 1-го же утром в 8 часов уезжаю с Лионского вокзала с экспрессом на Виши опять в Pivotins. Мой адрес до 31-го: Hôtel de Saumer 22 rue de Belle Chasse (телефона нет). Если ты попадешь в Париж позже, то, пожалуйста, [нрзб.] о чем ты хотел поговорить, напиши на мой постоянный адрес: Les Pivotins par Garchy, Nièvre или, если у тебя будут время, приезжай в La Charité sur Loire и дай мне телеграмму. Я приеду сейчас же, это от меня в 14 километрах. Тебя ждали M-me Эдвардс, Дефос27 и всякий другой народ, говорили о твоем контракте с Лондоном и о всяких неудовольствиях, которые тебе чинят28.
Обнимаю тебя, будь здоров.
Твой Ларионов
2
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
[Лето 1918 г.]
Дорогой друг!
Я не знаю, застало ли мое письмо тебя в Барселоне29. Твою телеграмму я получил с большим опозданием и тут же ответил30. Я с огромным удовольствием приеду в Париж повидать тебя. Я живу сейчас в четырех часах езды от Парижа в небольшом поместье (замке) Les Pivotins, в департаменте Ньевр, рядом с небольшим городком La Charité sur Loire. Когда приедешь в Париж, телеграфируй мне сюда или, если у тебя будет время, приезжай в La Charité и остановись в Hôtel de la Poste et du Grand Monarque — это лучшая гостиница в этом городке, и дай мне знать телеграммой в Les Pivotins. Через час я буду у тебя (на автомобиле). Я покинул Париж всего неделю назад. Буду рад тебя видеть, как и Наташа. Телеграммы из Парижа идут сюда к нам очень медленно, около двадцати четырех часов, так что меня после отправки телеграммы можно ждать где-то в течение сорока восьми часов или еще позже. А пока, в ожидании встречи, до свидания. Обнимаю тебя и Мясина. Гончарова передает привет вам обоим.
Твой М. Ларионов
3
Н. С. Гончарова — С. П. Дягилеву
20 sept. 1918
2 rue Jean
Dollfut, Hôtel
de Square, Cannes
Cher ami
Il y a déjà longtemps que je t’ai envoyé les dessins de Larionow — les maquettes pour renouveler les décors des «Contes Russes» que tu lui a demandé de faire. Puis je t’ai 508 envoyé un télégramme pour te prier de me télégrafier aussitôt qu’il[s] seront arrivés et je ne reçois rien de toi, ni Larionow non plus.
Fais moi savoir, s’il te plais, quand sont arrivés les dessins. Et aussi Larionow me prie de te rappeler l’argent que tu a promis d’envoyer.
Au revoir, cher ami. Nous t’embrassons et Lela aussi.
N. Gontcharowa
P. S. J’éspere que les affaires du ballet vont bien
Ad. Les Pivotins par Garchy, Nièvre
Перевод:
Милый друг, прошло уже много времени с тех пор, как я послала тебе рисунки Ларионова — эскизы для новых декораций «Русских сказок»31, которые ты просил его исполнить. Потом я тебе послала телеграмму32 с просьбой телеграфировать мне, как только они до тебя дойдут, и ни я, ни Ларионов ничего не получили. Пожалуйста, дай знать, когда получишь рисунки. А также Ларионов просил меня напомнить о деньгах, которые ты обещал прислать.
До свидания, милый друг. Мы обнимаем тебя и Лёлю33.
Н. Гончарова
P. S. Я надеюсь, дела у балета идут хорошо.
4
N. Gontcharova — S. Diaghilev
[После 20 сентября – до 23 декабря 1918 г.]
Cher ami
Je t’ai expedié au nom de Barocchi et de Massine les maquettes des dessins et accessoires que tu a prié Larionow de te faire. Le costume de Lopoukowa a été fait et lui a été remis encore à Paris. L’argent que tu a promis d’envoyer aussitôt après ton arrivée à Londres n’est pas encore reçu. De sorte que les maquettes ont dû être faites à la campagne et que le travail d’agriculture prenait beaucoup de temps. En tout, avec le costume ont été fait plus de 20 pieces. Les mesures, les places decorées (pour le ballet «Bova»), profil là où il le faut, tout est marquée exactement. Dis je te prie au peintre qui executera les décors, qu’il soit fidel au maquettes, et aussi qu’il ne salisse pas les maquettes. Larionow me prie de te rappeler encore une fois l’argent et aussi il te prie dès que tout sera peint d’après les maquettes de les lui renvoyer comme toujours à l’adresse: Hôtel Castille, rue Cambon, Paris, parce que nous serons à Paris au mois d’octobre. Nous t’embrassons tous les deux et Miassine aussi.
N. Gontcharowa
P. S. J’ai tout de suite reçu les coupures des journaux ou l’on parle du «Coq d’Or». Je suis très contente du son succès, et je regrette beaucoup de ne pas avoir pu le voir à Londres, mais pourquoi n’a tu pas parlé de ce qu’il sera donné cette saison.
N. Gontcharowa
509 Перевод:
Н. С. Гончарова —
С. П. Дягилеву
[После 20 сентября – до 23 декабря 1918 г.]
Милый друг, я послала для тебя на имя Барокки34 и Мясина костюмы и аксессуары35, которые ты заказывал Ларионову. Костюм Лопуховой36 готов и будет также отослан в Париж. Деньги, которые ты обещал прислать сразу по приезде в Лондон37, до сих пор не получены. Между тем макеты пришлось делать в деревне, где сельская работа отнимает много времени. В целом, с костюмом, сделано более 20 эскизов. Размеры, детали с орнаментами (для балета «Бова»38), профиль там, где это нужно, все сделано точно. Очень прошу, скажи художнику-исполнителю, чтобы он строго следовал эскизам, а также чтобы он их не запачкал. Ларионов просил меня еще раз напомнить о деньгах и о том, чтобы после исполнения макеты, как всегда, были бы ему возвращены по адресу: Hôtel Castille, rue Cambon, Paris, так как в октябре мы будем в Париже. Мы оба обнимаем тебя и Мясина.
Н. Гончарова
P. S. Я только что получила газетные вырезки о «Золотом петушке»39. Я очень рада его успеху и сожалею, что не могла увидеть его в Лондоне. Но почему ты не написал, что он будет дан в этом сезоне?40
Н. Гончарова
5
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
30 ноября 1918 г.
Дорогой Сергей Павлович!
Приступил к работе над эскизами к «Озеру» и «Бове» с «Царевной-Лебедь»41. Надеюсь, что не ошибся, так как они были названы в телеграмме Кава и Карема-Синь42, а озеро буквально фервальдистетским43. Получил я телеграмму 29 ноября44. Значит, ты мне даешь времени 9 дней, включая сюда переезд эскиза к тебе — тоже не менее трех дней. Я сделаю тебе и два костюма, так как на этом фоне должны быть свои костюмы — соответствующие, и мне не желательно, чтобы на моем фоне были чьи-либо (кого-нибудь другого) другие костюмы. Тем более что у тебя совсем нет костюма Царевны-Лебедь. Как ты поступишь, не знаю, но это мои соображения. Теперь, сколько ты мне пришлешь денег?
Меня сейчас так же, как и в первом случае, беспокоит выполнение, и не думаю, чтобы это выходило дешевле, но быть может, ты выигрываешь в скорости. Слышал, что шло «Ночное солнце»45. Как прошло?
Целую тебя и Лёлю.
Твой М. Ларионов
510 6
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
5 декабря 1918 г.
Les
Pivotins par Garchy, Nièvre
Savoy Hotel
London
Дорогой Сергей Павлович!
Послал тебе эскиз «Озера». Оно и занавес, и декорация вместе. Насколько я понял, это и было твоим желанием — раз на этом фоне будут танцевать. Также отправил тебе и костюм «классической Царевны-Лебедь»46, и костюм для Лёли47, так как тот, который был сшит в Риме, мне кажется очень грубым. Этот соединяется и по форме, и по цвету больше и с декорацией «Бовы», и с «Озером». Указания относительно исполнения: декорации надо писать на холсте, загрунтованном серым (тона бумаги, на которой он сделан). Этот эскиз надо отдать вставить под стекло и на стекло сделать анилиновым красным лаком сетку так, чтобы форму его перевести на холст возможно точнее. От этого очень зависит впечатление занавеса, когда он будет увеличен (так как я это точно рассчитал). Также, очень прошу эскиз не запачкать, так как он мне нужен для выставки, которую этой весной хотят устроить в Париже48. Костюм Царевны (не знаю, понравится ли он тебе) надо все цвета делать сдержанными, розовое трико, например, обязательно жемчужно-серо-бледно-розового цвета, а не анилинового, в каком у нас ходят на репетицию, в особенности когда оно новое и не было в стирке. Надо найти тон и, если он будет резким — смыть его. Одним словом, луна — так луна, классическая так классическая. Там, где серое, должно быть серебро (у меня не было краски серебряной). Но если даже останется так, то, все равно, впечатление серебра будет, даже это лучше без серебра — очень эффект не дорогой. Под низом тарлатановые юбки, которые держат все сооружение, которое сверху. Большой шарф голубой, который она раздвигает, нужно устроить так: она с ним вылетает (точно как из лунного тумана). И надо только (если ты хочешь), чтобы она в момент появления (первый) была с этим шарфом, за другой конец которого держится Бова, ловя ее и вылетая с ней на сцену. Затем шарф падает, и они танцуют, как им там надо. То, что она выходит якобы из граненого тумана и Бова тоже раздвигает этот туман, находя ее, может быть не плохо — если тебе понравится. Устройство, система этого покрывала (голубого), чтобы оно было граненым и держалось хотя бы один момент их появления, следующее: покрывало делается из марли (твердый тарлатан), очень накрахмаленный и заложенный в показанные на рисунке складки (материал этого покрывала стоит дешево, и их лучше сделать несколько, а каждое старое отдавать заново крахмалить после каждого спектакля). Затем в вершинах (углах) главных складок прикреплены нитки, которые идут в руке Царевны и в руке Бовы (покрывало между ними), и, таким образом, Бова его может как будто бы ловить, а, пробежавши так через сцену до (следующей) другой стороны, они покрывало бросают.
Трико также может быть голубое и туфли розово-серо-жемчужные, и уж к этому изменению лицо может быть также голубое и румянец на нем голубой.
Относительно же царевича — у него так же, где оставлена бумага — серебро должно быть. Вверху направо — с солнцем красный щит. Внизу налево — пояс и его форма, и орнамент. На лицо можно одевать серебряную маску (папье-маше, покрытое 511 листовым серебром). Только она должна быть не матовая, а обязательно из полированного листового серебра, а на руки такие же перчатки, также полированное серебро. Это даст то же впечатление, что и иконная риза, хотя оно на самом деле обратное (но так лучше). Маска просто или тип лица, что намечено, или просто лицо Лёли — только у глаз, рта и носа — с чернью.
Я очень тебя прошу — пришли мне денег, сколько можешь больше, так как я должен все время платить долги. Мне нужно к концу месяца обязательно заплатить 2000 франков и за хранение вещей 300 франков в Париже. Кроме того, туда надо поехать, жить там некоторое время. А сейчас такой наплыв королей и президентов, что ужасно дóроги комнаты. Пожалуйста, не откажи мне в этом, так как я, просидевши вот скоро два года (весной) на свои деньги в отеле, и задолжал, а главное, сейчас без денег. И еще Наташа просит, чтобы ты ставил в афишах и программах (помечал), что костюмы к «Садко»49 сделаны по ее эскизам (если только балет с ее костюмами идет), так как в вырезках, какие она получила, сказано, что рисунки Бакста и с большой похвалою по его адресу. А в других упоминают автора музыки балета, а ее нет, — и просто ставить ее имя там же, где композитор и балетмейстер. Хотя она не особенно ценит эти свои костюмы, но что ее, то ее. Меня также ставь на афишу и программу так: сделано по эскизам и макетам Ларионова, так как теперь не я сам пишу свои декорации.
Обнимаю тебя и Лёлю.
Твой М. Ларионов
Привет от Наташи.
7
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
12 декабря 1918 г.
Les
Pivotins par Garchy, Nièvre
Дорогой Сергей Павлович!
Когда ты получишь костюмы «Бовы» и «Царевны-Лебедь», телеграфируй мне, пожалуйста, сейчас же.
Потому что меня беспокоит, почему ты их до сих пор не получил. Они посланы в пакете, а не в руле50.
Целую тебя и Лёлю.
Твой М. Ларионов
P. S. Телеграмма, посланная тобою по отметке 9-го, пришла только сегодня, 12-го декабря. М. Л.
А в деревне сейчас тепло, и фиалки цветут — не городские, а настоящие, с запахом.
8
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
14 декабря 1918 г.
Милый Сергей Павлович!
Я тебе совсем забыл написать, что на костюм Царевны-Лебедь не надо класть жемчуга вовсе. Надо положить деревянные бусы, крашенные в тон, который дан 512 на рисунке. На Бове, если ты его будешь делать, если положишь серебро, то, пожалуйста, блестящее полированное — настоящего металлического блеска и силы. Пишу это, потому что обыкновенно ставят и любят портнихи матовый сдержанный металлический блеск (так называемый старинный) и любят также фальшивые жемчуга. Портнихи всего мира одни и те же. Английские, наверное, специально со вкусом тонким. Поэтому, если не поздно, предупреди, пожалуйста, об этом. Кажется, последняя забота этим исчерпывается.
Извини, что не все сразу.
Обнимаю тебя и Лёлю.
М. Ларионов
P. S. Получил ли ты уже рисунки костюмов?
9
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
22 декабря 1918 г.
Les
Pivotins par Garchy Nièvre
Милый Сергей Павлович!
Благодарю за телеграмму51 — рад, что ты все получил: и эскиз декорации (занавеса), и костюмы. Также я и Наташа желаем тебе и Лёле хороших праздников. Как ты находишь эскизы? Сколько мог, старался быть классичным. Будь добр, ответь мне теперь же, до того, как ты будешь окончательно фиксировать весенний сезон, думаешь ли ты приблизительно воспользоваться чем-нибудь в сезоне 1919 года из того, что есть в эскизах (Испанских, Русских52 и т. д.) у меня и Наташи? А также относительно денег. Так настойчиво я спрашиваю относительно постановок (испанских и русских вещей), потому что в январе в самых первых числах мне нужно это определенно решить, — буду ли я свободен или занят какими-либо вещами театральными для тебя, и также и Наташа. Попросту ты реши в принципе, нужна ли будет тебе весной наша работа или нет?
Почтальон ждет — обнимаю тебя и Лёлю.
Желаю Вам обоим всего хорошего.
Твой М. Ларионов
10
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
3 января 1919 г.
Les
Pivotins par Garchy, Nièvre
Дорогой Сергей Павлович!
Благодарю тебя за телеграмму53, очень рад, что «Сказки»54 имеют успех. Поздравь от меня Лелю. Очень жаль, что не могу сам видеть их. Так как теперь все с эскизов написано, пришли мне их, если тебе они в данный момент не нужны. И у меня к тебе еще раз очень серьезная просьба ответить поскорее относительно денег и моей и Наташиной надобности тебе в этот сезон. Дело обстоит так, что я должен обязательно 513 решить все до 12-го января. Американцы уезжают из здешних мест, и все, что раньше готовилось из овощей для сбыта, теперь нет смысла сажать, так как это не даст дохода. Поэтому имение, где я и Наташа работали, — его хозяин все ликвидирует. Денег у нас нет совсем, и все так дорого, что меньше чем на 1000 франков одному человеку ничего нельзя сделать. Нам предлагают заведовать небольшим куском земли и самую скромную плату, на которую существовать немыслимо. Но все-таки даже и это надо решать сейчас. Потому что с середины января надо приниматься за работу. Во всяком случае, это займет много времени и заставит еле существовать. Я тебе уже писал, и теперь оба мы еще раз просим тебя ответить как можно скорее. Я бы тебя не стал беспокоить и не настаивал бы на чем-то, чего ты не решил пока, если бы не такая надобность во всем этом. Без трех месяцев 2 года сверх того срока, который мы определили для реализации эскизов. И все это время мы денег от тебя не получали. Теперь вышло так, что сельское хозяйство мне ничего не дало. Долгов у меня много, и с ними очень неприятно. Я и Наташа просим тебя решить быстро, будешь ли ты писать декорации задуманных постановок, к которым эскизы уже готовы: «Шут»55, испанские балеты и т. д.? Или мы вообще предлагаем тебе писать все, что ты сейчас желаешь. Готовы сделать это сейчас или в будущем. Только начиная с этого месяца января вместо условленных 3 000 франков посылай нам 2 000 франков в месяц, чтобы нам была возможность существовать и уплачивать проценты — плату за хранение вещей и т. д. Ты же можешь рассчитывать с нашей стороны на какую угодно театральную работу теперь или потом, когда у тебя начнется сезон.
Ты мне также ничего не написал относительно платы за мои последние эскизы. Я тебе написал обо всем. Решай, пожалуйста, главное относительно денег, потому что со всеми эскизами через неделю будем голодать и сидеть на улице.
Обнимаю тебя и Лёлю, шлем Вам хорошие пожелания для нового года.
Твой М. Ларионов
11
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
16 июня 1919 г.
[На бланке:] Hôtel
du Midi, Hendaye56
Милый Сергей Павлович, я все рассчитывал получить от тебя какие-нибудь известия. Когда ты был в Париже, я был в деревне. Дерену57 я дал мой адрес парижский58 и попросил его передать тебе. Я живу 16, rue Jaques Callot, недалеко на углу rue de Seine. Я получил от Roger Fry59 все, что было у него на выставке. Но моих рисунков и акварелей, которые я тебе послал для возобновления «Русских сказок», я не получил ни от тебя, ни от Fry’я. Очень тебя прошу, пришли их, пожалуйста. Говорят, что ты заключил контракт не с Вольта (в Аполло)60, а с Гизи61. Скажи, пожалуйста, что и как ты решил насчет «Салтана»62, а также относительно «Шута». Хочешь ли ты купить его эскизы или нет? Очень буду рад получить от тебя ответ скорее, так как на лето опять покидаю Париж.
Еще раз прошу — распорядись, чтобы мне послали эскизы «Сказок» поскорее.
Обнимаю тебя и Лёлю.
Твой М. Ларионов
514 12
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
21 марта 1921 г.
[На бланке:] Hôtel
du Midi, Hendaye
Милый Сергей Павлович, я сижу в этом [рисунок: стрелка на название отеля] вот уже трое суток. Дал тебе 3 телеграммы, 1 телеграмму Григорьеву63. Ответа ни от кого не получаю. Это меня беспокоит. С моей испанской визой из Парижа мне не дали пропуска в Ирун64. Тамошняя пограничная полиция. Требуется специальное разрешение из Министерства иностранных дел Испанского в Мадриде65. Сделай, пожалуйста, все что надо, и пускай Министерство телеграфирует в Ирун дать мне пропуск. Я здесь работаю, исписал две записные книжки хореографическими проектами66, но мне все же здесь скучно сидеть без дела — да и здесь дорого довольно. У меня же пропали, а может быть, потерял все песеты, что я разменял в Париже на 13000 франков. Я специально их отложил в кошелек и держал в пальто, чтобы иметь под рукой в Ируне, а затем, когда меня отправили обратно в Hendaye, я не сразу их хватился и теперь не нахожу. Целую тебя. Пошли, пожалуйста, с ресуртьманием67.
Твой М. Ларионов
13
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
24 марта 1921 г.
[На бланке:] Hôtel
du Midi, Hendaye
Милый Сергей Павлович!
Твои «шаги» плохо действуют. Мне окончательно надоело здесь сидеть без дела и без толку. Я уже «Шута» разработал и выучил наизусть. Купил новую, уже большую «тетрадь» и занялся выходами и рисунками фигур хореографических. «Шут» у меня весь в голове, и без того, чтобы это реализовать, так держать вещь в голове очень утомительно. Я меняю текст либретто «Шута», потому что он вообще неопределенный и схематичный. Да, кроме того, в каждой картине у Прокофьева68 действует всегда одна фигура, потом появляется другая, и о первой он уже забыл. Таким образом, на сцене накопляются персонажи, которые неизвестно что делают, и вместе с тем об них не сказано, что они должны уйти. Да они и не могут уйти, так как через 10 – 15 тактов они должны снова вступить. Теперь я их всех во все время, пока они на сцене, пришпилил и соединил. И разрабатываю их выходы. Все-таки забавно, даже такие композиторы, которые знают сцену, думают, что достаточно сказку или еще что-нибудь пересказать своими словами и к этому тексту написать музыку, и уже это можно давать на сцене в таком виде. Милый Сергей Павлович, мне скучно в этой дыре Hendaye’е, выручай меня поскорее. Твои испанцы наобещали, наверное, тебе мой пропуск и забыли. Но уж ты не забудь, пожалуйста.
Обнимаю тебя.
Твой М. Ларионов
515 14
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
30 апреля 1921 г.
[На бланке:] Hôtel
Terminus, Monte-Carlo
Милый Сергей Павлович!
Я все, что касается мерок для обуви, послал Наташе. Но только не знаю, как быть с Хильдой Соколовой и с Девильер69 (обе на одну и ту же роль жены Молодого шута) и потому посылаю мерку обеих дам. Ты сам реши, шить для обеих или для какой-либо одной. Прошу тебя также распорядись снять мерки с ноги Рибаса70 и другого испанца, так как, по словам Григорьева71, они оба в Париже. Мерки отдать Наташе72. Аксессуары: сабли, веера и гребни закажите в Париже. Здесь мы сделаем все остальное. «Шут» подвигается понемногу вперед.
Целую тебя.
Твой Ларионов
P. S. Боре [Кохно] привет и «Валичке» [Нувелю]73 тоже.
15
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
[Апрель – начало мая 1921 г.]
[На бланке:] Hôtel
Cotinental, Paris
Милый Сергей Павлович,
1. Необходимо, (чтобы была возможность свободно танцевать финальный танец в 6-й картине). Заказать добавочные 7 лифчиков для невест. Это отдельный заказ, так как эта работа добавочная и это должно быть заказано не позднее завтрашнего утра. Это делается потому, что Бонгарт74 занята очень новой твоей работой и никаких сложных переделок в уже сделанных костюмах не может делать.
2. Необходимо заказать не позднее завтрашнего дня сапожнику 7 пар белых гетр для шутов. Иначе они останутся с голыми ногами. Сегодня в вечерних газетах видел заметку о «Шуте» «с хореографией Славинского»75. Мне очень неприятно видеть, что так невнимательно относятся к моим желаниям. Я вовсе не хочу делать подарков людям, которых я знаю всего несколько недель.
Твой М. Ларионов
P. S. Вместе с этим письмом передаю текст «Шута» для Вальтера Федоровича.
16
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
2 мая 1921 г.
[На бланке:] Hôtel
Terminus, Monte Carlo
Милый Сергей Павлович!
Я получил письмо от Владимирова76 из Барселоны. Он слезно просится к тебе в труппу. Просит меня попросить тебя опять его взять. Насчет Дубровской77 пишет, 516 что она совсем поправилась, охотно будет работать вместе с ним. Можно написать, если ты что-нибудь решишь, Дубровской: Cap-Martin Roquebrune Pension Mirasole. Я не получал за апрель и теперь за май, всего 2000 франков за эскизы «Шута» (как мы уговаривались по 1 000 франков каждый месяц), и даже, так как «Шут» идет в середине мая, то и все, что остается по нашему договору. Прошу поэтому передай 2 000 франков Наташе, ей нужны сейчас деньги, и возьми с нее расписку.
Целую тебя.
Твой М. Ларионов
17
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
22 мая 1921 г.
[На бланке:] Hôtel
Continental, Paris
Милый Сергей Павлович!
Чтобы не было недоразумений и для полной точности. Я просмотрел свой контракт — ты мне должен 2 500 франков за танцы «Шута», абсолютно верно по контракту за два месяца работы и уплата уже за произведенную работу. Так как ты работу над «Свадьбой»78 откладываешь, то, по нашему условию, тебе нужно мне уплачивать по 1 000 франков каждый месяц до начала работы в счет суммы за «Свадьбу».
Это чтобы ты не забыл.
Твой М. Ларионов
18
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
25 мая 1921 г.
43 rue de
Seine Paris (6-e)
Милый Сергей Павлович!
Прокофьев попросил дать ему какой-нибудь сюжет для Нежной музыки79. Я предложил написать что-нибудь из жизни в скитах раскольничьих. Но не мистическое или немного мистическое, то есть скиты ясные, весенние — где есть четкость, прозрачность и нежность, привлекающая тайной прелестью, не мистической глубиной. Скиты поволжские, камские, уральские, с густыми лесами, с бесконечными далями, ведущими прямо на небо. Там работа похожа на церковную службу, торжественную и радостную, и веселие — на экстаз. И [бок] о бок с этим — дьявольская пляска отдыхающих волжских рыбаков-«никонианцев»80, у них грешная веселая кровь. Кажется, представил все поэтично и нежно?! Прямая противоположность светлой жизни скита. Скиты не религиозные. Если хочешь, это раскольничьи миряне, просто ушедшие от реформ Никона люди старой веры. Трудно сказать, что из этого выйдет, но пока Прокофьев меня «обрадовал» — купил себе для ознакомления со скитской жизнью «На горах и в лесах». Конечно, на все это можно написать очень хорошую музыку. Но я ему посоветовал прочесть также, кроме Загоскина81, еще «Запечатленного ангела», «Серебряного голубя»82, «Жития северных святых» и еще что найду здесь, в Париже. Но главное, скажи, пожалуйста, такая тема может 517 ли тебе нравиться? Как мне кажется, для музыки она мало использована. По этому поводу у меня явилось много мыслей хореографических и живописных. Это все совсем противоположно тому, что меня увлекало раньше.
Целую тебя.
Твой М. Ларионов
P. S. Тема подходящая для Наташи.
19
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
[Первая половина июня 1921 г.]
[На бланке:]
Savoy Hôtel, London
Милый Сергей Павлович, был у тебя, очень нужно было увидеть. Мне нужно уезжать из Лондона. У меня есть долги и нет денег. Очень прошу тебя, не мог ли бы ты мне дать немного из того, что мне нужно получить из двух тысяч за «Шута», что ты обещал еще в Париже уплатить, теперь еще плюс одна тысяча из того, что следует по контракту за свободу83. Я буду очень благодарен, если ты сам или распорядишься, чтобы Барокки уплатит мне сколько-нибудь из этих денег.
Обнимаю тебя.
Твой М. Ларионов
20
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
23 января 1922 г.
43 rue de
Seine, Paris
[«Цветы» — рисунок чернилами, пером]
Милый Сергей Павлович!
Довольно тебе наслаждаться «Спящей красавицей»84. Такие романтические занятия могут окончательно иссушить сердце человеческое, и даже — тело, а карман наверное. Вспомни о серьезных людях. Ты мне сегодня приснился — по-хорошему, и Григорьев85 что-то около суетился. Вы оба не хотели мне дать билет на новый балет.
Обнимаю тебя крепко.
Передай привет Боре.
Твой М. Ларионов
21
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
25 мая 1923 г.
43 rue de
Seine, Paris 6-e
Милый Сергей Павлович, по просьбе Наташи переписал для тебя твой с ней договор. Переписан он совершенно точно, исключая места, которое подчеркнуто и которое касается твоего с ней последнего уговора относительно сроков платежа 518 последних шести тысяч с указанием дат. Написал это тебе для памяти. Между прочим, у тебя должен быть договор, подписанный Наташей. Взял ли ты его сам или Барокки, я точно не помню сейчас, но это было тогда, когда Барокки занимался у тебя секретарскими делами.
Твой М. Ларионов
[Текст договора]
Париж, тысяча девятьсот двадцать первого года, марта, пятнадцатого дня, я, Сергей Павлович Дягилев, с одной стороны, и художница Наталья Сергеевна Гончарова, с другой стороны, заключили настоящий договор в следующем. Я, Гончарова, предоставляю С. П. Дягилеву для постановки на сцене мои эскизы декораций и костюмов для оперы-балета И. Ф. Стравинского «Свадебка» и беру на себя писание совместно с помощником-художником и маляром декораций и наблюдение за шитьем костюмов по вышеуказанным эскизам для «Свадебки».
За предоставление означенных выше эскизов и за писание по ним декораций, а также за наблюдение за шитьем костюмов я, Дягилев, уплачиваю Н. С. Гончаровой десять тысяч (10 000) франков, причем платежи этой суммы производятся следующим образом:
1) одна тысяча (1 000) франков уплачивается при подписании настоящего договора.
2) три тысячи (3 000) франков в день начала работ в мастерской и остальные, то есть шесть тысяч (6 000) франков, в два срока: три тысячи (3 000) франков через две недели после начала работ то есть 5 июня 1923 года, и три тысячи (3 000) франков 15-го июня 1923 года86 согласно последнему договору между Н. С. Гончаровой и С. П. Дягилевым.
3) С. П. Дягилев предоставляет Н. С. Гончаровой за свой счет одного помощника-художника и одного маляра, мастерскую с отоплением и освещением, холст в сшитом виде, краски, кисти и вообще все необходимые для производства работ материалы.
4) Эскизы костюмов и декораций остаются собственностью Н. С. Гончаровой.
22
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
[До 13 июня 1923 г.]
[На бланке:] Hôtel
Continental, Paris
[К листу прикреплен образец ткани]
Сергей Павлович, план театра Монте-Карло, который ты дал мне, не указывает угла, под которым зритель видит справа и слева пролеты. Кроме этого я не знаю, какой глубины для Нижинской87 нужно сцену. Все это для того, чтобы точно высчитать, сколько нужно холста, нужно ли с боков закрывать или нет. Образчик холста я тебе прикладываю здесь (в письме). Это называется кротон, самый легкий, прочный, дешевый, только надо взять толще, чем этот. Цены сейчас на холст упали, так что время удобное для покупки. Так как воскресение и понедельник праздники, то, 519 чтобы не терять время, надо завтра же постараться купить холст, по крайней мере на одну завесу — со швами и мешками — 13 х 11 (эта завеса будет как в расшитом виде — 12 х 10). Брать холст надо шириной в 2 метра, чтобы скорее и меньше шить. Я приеду после Пакро88 к тебе в 10 – 10 1/2 часов вместе с Орловым89. Он очень хорошо знает, где что нужно купить (у Вьеля90). Надо сделать так, чтобы до 12 часов все устроить к вторнику, чтобы зря не платить за мастерскую, а главное, успеть в эти 20 дней все написать, а работы все же очень много со «Свадьбой». Просто в виду сушки, растяжки и так далее, так как у Пакро с 8 – 9-го июня уже другая работа начнется. Орлова надо у нас считать с субботы. Пишу тебе все это для того, чтобы ты все обдумал и завтра просто распорядился и на разговоры не тратил время.
23
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
[До 13 июня 1923 г.]
[На бланке:]
Hôtel Continental, Paris
Милый Сергей Павлович, Наташа просит тебя, если можно, поговорить с ней, что надо, не в воскресение как ты хотел, а завтра в субботу, лучше всего за завтраком, так как она собралась хоть на праздники, воскресенье, понедельник в деревню до вторника. Завтра она позвонит к тебе по телефону в 11 1/2 утра.
Твой М. Ларионов
P. S. Вспомнил еще разные вещи и пишу на отдельном листе тут же в этом письме.
Какая покатость у сцены в Монте-Карло? Это нужно для всех пратикаблей91, какие мы будем строить, чтобы это учесть для большей устойчивости.
В Гэте-лирик92 2 сантиметра на метр. Я думаю, что с вторника нужно все это строить и заказать теперь. Это делают медленно. Надо еще все это, что нужно, покрасить.
24
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
[Июнь 1923 г.]
[На бланке:]
Hôtel Continental, Paris
Милый Сергей Павлович, буду у тебя после ателье, чтобы узнать, нет ли чего сказать мне? Пакро был сегодня в мастерской и говорит, что ему последний триместр, то есть начиная с конца апреля, не уплачено. Околов93 утверждает, что тобой арендатору уже уплачено. Кроме этого, скажи, пожалуйста, что из «Нарцисса»94 старого можно взять и употребить для половика к «Лисе и Петуху»95? Околов хочет ждать приезда Камышова96. Нужно его ждать или можно самим ящик раскупорить? Дело было бы сделано и построено.
Покраска платьев организована. 2 красильщицы по 20 франков в день красят 2 дня «Армиду»97 и 1 «Игоря»98.
Твой Миша
520 25
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
11 июля 1923 г.
Hôtel
Continental, Paris
Милый Сергей Павлович!
Якулов99 останется месяца два. Если ты ему что-нибудь закажешь100, то и дольше. Я сейчас живу в деревне недалеко от Парижа (48 километров). Адрес: Hôtel des Voyageurs St Arnoult Seine et Oise.
15-го и 16-го буду в Париже (собираюсь быть), если ты или Боря мне напишете точно, когда ты там будешь, я приеду и приду к тебе с Якуловым, чтобы вы познакомились, если ты его не знаешь.
Привет тебе, Боре и Лифарю101.
Твой М. Ларионов
P. S. Все адреса у меня в Париже. Боюсь наврать тебе адрес Якулова, так как был у него и помню дом в лицо, но номер дома не помню. Это на avenue D’Italie.
26
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
[20 или 27 июля 1923 г.]
Пятница утром
[На бланке:] Hôtel
Continental, Paris
Был у тебя. Если буду в Париже до вечера, зайду еще тебя повидать до отъезда.
Привет тебе и Боре [Кохно].
М. Ларионов
27
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
[20 или 27 июля 1923 г.]
[На бланке:]
Hôtel Continental, Paris
Милый Сергей Павлович!
Ты, наверное, забыл, что по моему контракту, касающемуся «Свадьбы», ты мне уплачиваешь из причитающихся за работу денег 1 000 франков в месяц, если только «Свадьба» не идет сейчас же за «Шутом». Я этих денег не получал уже три месяца. Мне сейчас очень нужны деньги.
Будь добр, заплати мне деньги или попроси Вальтера Федоровича [Нувеля] заняться этим делом. Кроме этого я хотел поговорить с тобой и предложить тебе одну молодую польку — танцовщицу классическую.
Обнимаю тебя.
Твой М. Ларионов
521 28
Н. С. Гончарова — С. П. Дягилеву
31 августа 1926 г.
Канны
Милый Сергей Павлович, твое письмо и добавление к нему, посланное Борей (список костюмов) получила. На условия, которые ты мне делаешь в своем письме для «Жар-птицы»102, я согласна, не потому, что предприятие русское или иное, а потому что оно твое и музыка Игоря [Стравинского]. Но делаю некоторые добавления или, вернее, разъяснения к нашим условиям. Эскизы декораций я сдаю здесь в Cannes или в Париже, эскизы костюмов в Париже, за исполнением костюмов для «Жар-птицы» я наблюдаю в Париже и не позднее, чем до 15-го ноября этого года. Присылай задаток четыре тысячи франков, эта присылка и будет обозначать, что мы с тобой в условиях согласны. Боря мне передавал о твоих мыслях по поводу этой постановки, на мой взгляд, очень хорошо подходит, только, я думаю, ты сам знаешь, что сцену «Сад» нельзя очень загромождать к моменту выхода свиты Кащея, но это можно устроить (можно сделать к этому моменту несложную быструю перемену). Затем процессия — для нее придется все же сделать некоторые деревянные построения, хотя и гораздо проще, чем то, что до сих пор было в «Жар-птице» (насколько я помню, там было бесконечное количество шасси в виде горок, довольно высоких). Затем костюмы: Царевны (12 одинаковых, в ночном туалете). Думаешь ли ты, что надо очень настаивать на ночном туалете. Я принимаю, конечно, в расчет, что после превращения царевен нужно будет еще разукрасить, но на ночном туалете, думаю, настаивать не стоит. Еще о процессии и народе. Совершенно невозможно оставлять какие бы то ни было костюмы или другие вещи из старой постановки, что же касается до материалов, то их частью можно будет использовать в новых формах, думаю, что это можно будет сделать. Крепко целую тебя, так же как и Миша. Передай Боре привет, и благодарю его также за присылку списка.
Твоя Н. Гончарова
29
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
[Конец мая – начало июня 1927 г.]
7 часов 5 минут
[На бланке:] Hôtel
Continental, Paris
Куда же вас унесло?
М. Ларионов
P. S. Говорят, что «Огненный ангел» Прокофьева103 очень хорош.
30
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
Сергей Павлович и Лёля, мы были, как было назначено, в 3 1/4, будем снова в 6. Наталья Сергеевна — наверное, а я, может быть, тоже, но только до 6 1/2, не больше.
М. Ларионов
522 31
М. Ф. Ларионов — С. П. Дягилеву
[1920-е]
[На бланке:] Hôtel
Vagram, Paris
Милый Сергей Павлович, хотел тебя повидать. Хотел вчера встретить. Валентин Федорович [Нувель] сказал, что у вас был Боря [Кохно], сказал, что лучше всего тебя увидеть сегодня (четверг) в 3 часа. Очень жаль, что никого не застал. Мне хотелось (нужно) было бы с тобой повидаться все же (до твоего отъезда) в этот твой приезд.
Твой М. Ларионов
523 Комментарии
Вступительная статья
1 «Золотой петушок» — опера-балет в 3 актах на музыку одноименной оперы Н. А. Римского-Корсакова. Хореограф М. М. Фокин. Художник (декорации и костюмы) Н. С. Гончарова. Режиссер С. Л. Григорьев. Дирижер П. Монтё. Премьера — 24 мая 1914 г. Труппа «Русские балеты С. Дягилева» на сцене Парижской оперы. Затем спектакль был показан во время лондонского сезона труппы в 1914 г.
2 Нижинский Вацлав Фомич (1890 – 1950) — танцовщик, хореограф; в 1909 – 1913 гг. выступал в труппе «Русских балетов Сергея Дягилева», в 1912 – 1913, 1916 – 1917 гг. — также хореограф труппы.
3 Фокин Михаил Михайлович (1880 – 1942) — танцовщик, хореограф, педагог; в 1909 – 1912 и 1914 гг. художественный руководитель, хореограф и танцовщик в труппе «Русских балетов Сергея Дягилева»; с 1936 по 1939 г. в «Русском балете Монте-Карло».
4 Выставка картин Н. С. Гончаровой была открыта с 30 сентября по 5 ноября 1913 г. в Москве (Художественный салон. Б. Дмитровка, 11). Затем в сокращенном варианте показана в Санкт-Петербурге. (Каталог: Выставка картин Наталии Сергеевны Гончаровой. 1900 – 1913. М., 1913.) Хорошо известно, что Дягилев посещал большинство крупных выставок, тем более что выставка вызвала резонанс и о ней много говорили. В отзыве о выставке Гончаровой Бенуа писал: «<…> по какой причине остается до сих пор не использованным и великолепный стилистический декоративный дар Гончаровой? <…> где те театры, которые обязаны поручить ей роспись своих храмов?» (Бенуа А. Из дневника художника // Речь. 1913. № 288. 21 окт. С. 4). «Бенуа, в то время также часто бывавший в Москве, дал Дягилеву дельный совет, порекомендовав ему посетить в Москве выставку Натальи Гончаровой» (Схейен Ш. Дягилев: «Русские сезоны» навсегда. М., 2012. С. 355). Как следует из воспоминаний Ю. П. Анненкова, Дягилев совету последовал: «О Наталии Гончаровой еще в 1913 г. Сергей Дягилев рассказывал французскому писателю и биографу деятелей искусств Мишелю Жорж-Мишелю: “Наиболее замечательным авангардным художником в России является женщина, ее имя Наталия Гончарова. В последнее время она выставила семьсот своих холстов, представляющих лучи, и несколько панно, каждое — по сорок квадратных метров. Располагая только маленьким ателье, она пишет эти панно отдельными небольшими кусками, которые соединяет в одно целое только в выставочных залах”» (Анненков Ю. Дневник моих встреч: В 2 т. Л., 1991. Т. 2. С. 196 – 197).
5 «Литургия» — балет-мистерия. Постановка Л. Ф. Мясина, художник Н. С. Гончарова. В качестве музыкального сопровождения в разное время предполагалась футуристическая музыка и шумы, русская духовная музыка, музыка Д. Б. Перголези. Обсуждалась и возможность постановки балета без музыки, под ритм шагов танцовщиков, для чего планировалась специальная полая сценическая площадка. Постановка не была осуществлена, но сохранилось множество эскизов костюмов Н. С. Гончаровой (ГТГ, частные собрания) и эскиз декорации (Метрополитен-музей, Нью-Йорк).
6 «Ночное солнце» («Полуночное солнце», «Soleil de Nuit», «Soleil de Minuit») — балет в 1 акте на музыку из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка». Хореограф Л. Ф. Мясин. Художник (декорации и костюмы) М. Ф. Ларионов. Режиссер С. Л. Григорьев. Дирижер Э. Ансерме. Премьера — 20 декабря 1915 г., труппа «Русские балеты 524 Сергея Дягилева», Большой театр в Женеве. Новая версия — 19 ноября 1918 г., труппа та же в театре «Колизеум» в Лондоне. В создании хореографии, по воспоминаниям Л. Ф. Мясина, принимал активное участие М. Ф. Ларионов.
7 «Шут» («Сказка про шута, семерых шутов перешутившего», «Le Chout», «Le Bouffon») — балет в 6 картинах. Композитор С. С. Прокофьев. Хореографы М. Ф. Ларионов и Т. Славинский. Художник (декорации и костюмы) М. Ф. Ларионов. Режиссер С. Л. Григорьев. Дирижер Э. Ансерме. Премьера — 17 мая 1921 г., труппа «Русские балеты С. Дягилева», в театре «Гэте-лирик» в Париже. Эскизы оформления балета были созданы в 1915 г. Эффектные, восходящие к лубкам и народным игрушкам костюмы были исполнены из «неожиданных» материалов — коленкора, ивовых прутьев, разнофактурных тканей и расписаны «от руки» Ларионовым. Часть костюмов (Музей танца, Стокгольм) сохранилась, и можно с уверенностью утверждать, что и сам процесс их «реализации» (слово «шитье» здесь не подходит) мог быть осуществлен только при участии художника. При этом надо отметить, что костюмы главных героев (Молодого шута и его жены), партии которых наиболее танцевальны, лишены громоздких элементов. Декорация включала движущиеся элементы — актеры меняли ее на глазах зрителей, увозили печь, раскатывали половики.
Занавес совмещал в своем изображении мотивы русской и французской средневековой архитектуры, скифскую каменную бабу и готическую скульптуру, надписи на русском и французском языках, переносил зрителя в средневековую эпоху, во времена шутов и скоморохов, устраивавших свои представления на церковных папертях и соборных площадях как во Франции, так и в России. Это сопоставление русских и французских «архаических» источников как бы указывает на национальные истоки современного искусства. «Шут» Ларионова мог быть расценен как программная декларация национального пути русского искусства. С момента исполнения эскизов «Шута» в 1915 г. до его постановки в 1921 г. прошло почти 6 лет. Ларионов уже в течение долгого времени сотрудничал с балетной антрепризой не только в качестве художника, но и в странном, изобретенном Дягилевым качестве балетного «консультанта» при начинающих балетмейстерах. Однако его новый подопечный Т. Славинский, как оказалось, не обладал талантом хореографа, и Ларионову пришлось ставить балет практически самостоятельно. Как свидетельствуют письма, свои хореографические идеи он зарисовывает в блокнотах (ныне хранятся в фонде графики ГТГ). В афише спектакля «Шут» Ларионов был официально обозначен как хореограф.
8 «Свадебка» (Les Noces) — балет («русские хореографические сцены с пением и музыкой») в 4 картинах. Композитор и либреттист И. Ф. Стравинский. Хореограф Б. Ф. Нижинская. Художник (декорации и костюмы) Н. С. Гончарова. Режиссер С. Л. Григорьев. Дирижер Э. Ансерме. Премьера — 13 июня 1923 г., труппа «Русские балеты С. Дягилева», в театре «Гэте-лирик» в Париже.
9 Гончарова Н. С. Воспоминания о постановке балета «Свадебка». — ОР ГТГ. Ф. 180. Ед. хр. 16.
10 Нижинская Бронислава Фоминична (1890/1891 – 1972) — танцовщица, хореограф, педагог; в 1910 – 1913, 1917 гг. выступала в антрепризе «Русские балеты Сергея Дягилева» с 1910 по 1913 г., в 1922 – 1924 гг. работала как балетмейстер, с 1932 по 1935 г. руководила собственной труппой. Работала во многих странах. Оставила воспоминания о работе с Гончаровой и Ларионовым. Ее талант балетмейстера очень ценил Ларионов, в его архиве — комментарии и оценка ее работы как хореографа. Правда, в начале 1930-х гг. 525 между ними произошел конфликт, вернее сказать, именно Ларионов был обижен на Нижинскую, поставившую балет «Гамлет», над художественным в том числе, хореографическим решением которого работал Ларионов. В блокнотах Ларионова (ГТГ) хранится множество зарисовок репетиций Б. Нижинской.
11 «Русские сказки» («Contes russes», «Russian Tales», «Children’s Tales») — сюита миниатюр по мотивам русского фольклора на музыку А. К. Лядова. Хореограф Л. Ф. Мясин. Художники М. Ф. Ларионов (декорации и костюмы) и Н. С. Гончарова (костюмы). Режиссер С. Л. Григорьев. Сюита складывалась постепенно. Первой, в 1916 г., была поставлена миниатюра «Кикимора». Она вошла вместе с миниатюрами «Баба-яга» и «Бова-королевич и Царевна-Лебедь» в сюиту под названием «Русские сказки», впервые показанную труппой «Русские балеты С. Дягилева» 11 мая 1917 г. в театре «Шатле» в Париже. В окончательном варианте (с номерами «Плач Царевны-Лебедь», «Похороны дракона») сюита в 4 частях с прологом показана 23 декабря 1918 г. в Лондоне в театре «Колизей».
12 «Байка про лису» («Байка про лису, петуха, кота да барана», «Le Renard») — балет («веселое представление с пением и музыкой») в 1 действии. Композитор и либреттист И. Ф. Стравинский. Хореограф Б. Ф. Нижинская. Художник (декорации и костюмы) М. Ф. Ларионов. Режиссер С. Л. Григорьев. Дирижер Э. Ансерме. Премьера — 18 мая 1922 г., труппа «Русские балеты С. Дягилева», в Парижской опере.
В спектакле на сцене находились только танцовщики, изображавшие всех персонажей, в то время как певцы располагались в оркестровой яме.
Стравинский высоко оценил работу постановщика: «Нижинская великолепно уловила характер и дух этой коротенькой буффонады для уличных подмостков. У нее нашлось столько изобретательности, остроты и сатирической жилки, что спектакль производил неотразимое впечатление» (Стравинский И. Ф. Хроника моей жизни. М., 2005. С. 235 – 236). Между тем в труппе Дягилева была и вторая версия того же балета, когда Дягилев поручил поставить его С. М. Лифарю. Премьера состоялась 21 мая 1929 г. на сцене Театра Сары Бернар. В обоих спектаклях использовались декорации и костюмы Ларионова. Но Лифарь создал совершенно новую редакцию, используя, наряду с танцовщиками, профессиональных акробатов.
13 Задкова-Хвощинская Р. Фрагменты из дневника. 1915. Цит. по.: Ларионов М., Гончарова Н. Парижское наследие в Третьяковской галерее: Графика. Театр. Книга. М., 1999. С. 115.
14 Мясин Леонид Федорович (1895 – 1979) — балетный танцовщик, хореограф. С 1914 по 1921 г. и с 1924 по 1928 г. солист и хореограф в антрепризе С. П. Дягилева. С М. Ф. Ларионовым и Н. С. Гончаровой его связывали дружеские отношения. В начале его работы в качестве балетмейстера в труппе «Русских балетов» Ларионов по просьбе Дягилева помогал ему, активно участвуя в хореографическом решении «Литургии». Мясин оставил об этом воспоминания (Мясин Л. Ф. Моя жизнь в балете / Пер. с англ. М. М. Сингал; предисл. Е. Я. Суриц; коммент. Е. Яковлевой. М., 1997. С. 63 – 64). Ларионов, в свою очередь, в готовившейся книге о балете посвятил ему отдельную главу. Сотрудничество с Мясиным продолжалось и после его ухода из дягилевской антрепризы. Одна из самых ярких работ Гончаровой позднего периода — оформление поставленного Мясиным для «Русского балета Монте-Карло» балета на музыку оперы А. П. Бородина «Богатыри» (1938).
15 Мясин Л. Ф. Указ. соч. С. 63.
16 526 Славинский, Славиньский (Slavinski, Slavinsky) Тадеуш (1901 – 1945) — польский танцовщик, хореограф. С 1921 по 1925 г. солист «Русского балета С. Дягилева». В сезоне 1932/1933 гг. выступал в Балете Нижинской, с 1936 по 1938 г. — в «Русском балете полковника де Базиля». Совместно со Славинским Ларионов поставил балет «Шут».
17 Лифарь (Lifar) Серж (Сергей Михайлович) (1905 – 1986) — танцовщик, хореограф, педагог, автор книг о балете. С 1923 по 1929 г. — в антрепризе «Русские балеты С. Дягилева», с 1929 г. — солист, с 1933 г. — главный балетмейстер Парижской оперы, в 1938 – 1940 гг. сотрудничал с труппами «Русский балет Монте-Карло» и «Оригинальный русский балет полковника де Базиля». С М. Ф. Ларионовым и Н. С. Гончаровой Лифаря связывали непростые отношения. В 1928 г. С. П. Дягилев «приставил» Ларионова к молодому Лифарю в качестве помощника для работы над новой постановкой балета И. Ф. Стравинского «Байка про лису». Ларионов стремился принять участие в хореографическом решении балета, присутствовал на репетициях, помогал найти акробатов, дублирующих танцовщиков. Очевидно, это задевало самолюбие молодого хореографа, и впоследствии Лифарь старался не упоминать об этом сотрудничестве. Ларионов не остался в долгу, в черновиках его книги воспоминаний о С. П. Дягилеве он критически оценивает постановки Лифаря. В 1932 г. Ларионов и Гончарова вновь встретились с Лифарем при постановке балета С. С. Прокофьева «На Борисфене», в качестве декораторов. И, наконец, в начале 1940-х Гончарова исполнила эскизы декораций для готовившейся постановки балета «Легенда» («Шота Руставели»), которая была отложена, а затем осуществлена уже без участия Гончаровой. В 1937 г. Гончарова и Лифарь участвовали в комитете по подготовке празднования пушкинского юбилея, неоднократно встречались при организации выставок, посвященных памяти С. П. Дягилева. В коллекции Лифаря были эскизы обоих художников.
18 «Триана» — балет на музыку И. Альбениса (1916). «Испания» — балет на музыку М. Равеля (1916). Постановки не были осуществлены. Эскизы и наброски Гончаровой хранятся в музейных (в том числе в ГТГ) и частных собраниях.
19 Эганбюри Э. [Зданевич И.] Кубизм в театре. Маш. копия. — ОР ГТГ. Ф. 180. [Фонд не описан].
20 Письмо М. Ф. Ларионова Н. С. Гончаровой от 22 апреля 1921 г. Автограф. — ОР ГТГ. Ф. 180. Ед. хр. 4508.
21 «Пери» (La Péri) — балет в 1 действии. Композитор и либреттист П. Дюка. Хореограф И. Н. Хлюстин. Художник Р. Пьо. Труппа Н. В. Трухановой. Премьера — 22 апреля 1912 г. в театре «Шатле» в Париже; также в постановке хореографа Марикиты — 29 мая 1914 г. в парижском театре «Опера-Комик»; также в постановке Хлюстина балет шел в труппе Анны Павловой с 1919 г., затем 20 июня 1921 г. показан в этой редакции в Парижской опере. Роль Пери в двух первых постановках исполняла Труханова, а на сцене Парижской оперы — А. П. Павлова. В сезоне 1911/1912 гг. планировалась постановка балета в антрепризе С. П. Дягилева с Н. В. Трухановой в главной роли, Л. С. Бакстом был исполнен эскиз костюма Пери, однако спектакль не был осуществлен из-за конфликта Дягилева с Трухановой.
22 И. Ф. Стравинский. Переписка с русскими корреспондентами. Материалы к биографии: В 3 т. Т. II: 1913 – 1922 / Сост., текстологич. ред. и коммент. В. П. Варунца. М., 2000. С. 436.
23 Выставка «L’Art Décoratif Théâtral Moderne de M. Larionov et N. Gontcharova», которая открылась в галерее Соваж в 1918 г., затем в 1919 г. в том же составе переехала в галерею Барбазанж.
24 527 Бенуа Александр Николаевич (1870 – 1960) — художник, член объединения «Мир искусства», оформил многие балетные и оперные спектакли для антрепризы Дягилева. С Гончаровой и Ларионовым у Бенуа складывались непростые отношения, часто возникали конфликты. На первом этапе Бенуа-критик с восхищением отзывался об экспонировавшихся на персональной выставке в 1913 г. работах Гончаровой. Возможно, что его восторженные отзывы стали дополнительным доводом для Дягилева в пользу приглашения Гончаровой к сотрудничеству. Однако впоследствии между Бенуа и Гончаровой возник конфликт по поводу авторства оформления оперы-балета «Золотой петушок» (обсуждался вопрос, кому принадлежит идея расположения певцов по сторонам сцены на выстроенных лестницей скамьях). Бенуа, очевидно, считал Ларионова и Гончарову виновниками увлечения Дягилева искусством авангарда, приглашения в качестве декораторов (и соответственно отставки его самого) сначала русских, а затем и французских представителей нового искусства.
Бакст Лев Самойлович (Розенберг Лейб-Хаим Израилович) (1866 – 1924) — художник, член объединения «Мир искусства», с 1909 по 1914 гг. ведущий художник «Русских балетов». С Гончаровой и особенно с Ларионовым его связывали отношения дружбы-соперничества. Однако Ларионов высоко оценивал художественный талант Бакста, подчеркивая в своих воспоминаниях, что именно искусство Бакста во многом определило образ антрепризы на первом этапе ее существования. В альбомах Ларионова множество набросков-шаржей Бакста.
25 Кохно (Kochno) Борис Евгеньевич (1904 – 1990) — русский и французский театральный деятель, либреттист. С 1922 по 1929 г. секретарь Дягилева. С 1932 по 1936 г. — один из руководителей труппы «Русские балеты Монте-Карло».
1
26 В Мадриде труппа С. П. Дягилева гастролировала с 25 мая по 2 июня 1918 г.
27 Эдвардс (Edvards), Мися, (Мизия) (урожд. Мария София Ольга Зинаида Годебска), в первом браке Натансон, во втором браке Эдвардс, в третьем браке Серт (Серт-и-Вадия; Sert y Badia) (1872 – 1950) — польская и французская пианистка, муза и покровительница поэтов, живописцев, музыкантов, хозяйка литературного и музыкального салона, модель известных художников. Мизия Серт была другом С. П. Дягилева, выступала в качестве мецената «Русских сезонов». Именно она познакомила Дягилева с М. Равелем, который заказал ему балет «Дафнис и Хлоя», настояла на приглашении к сотрудничеству П. Пикассо. Дефос (Defos) Анри — английский дирижер. Сотрудничал с Дягилевым во время гастролей «Русских балетов» в Лондоне, в том числе во время сезона 1919 г.
28 … о всяких неудовольствиях, которые тебе чинят. — Возможно, имелся в виду отказ французского правительства выдать труппе транзитные визы для переезда в Лондон, где в театре «Колизеум» должны были начаться гастроли «Русских балетов Сергея Дягилева». Благодаря вмешательству испанского короля Альфонсо ситуация благополучно разрешилась, визы были даны.
2
29 Труппа С. П. Дягилева выступала в Барселоне с 6 по 16 июня 1918 г.
30 Телеграмму С. П. Дягилева, как и ответную телеграмму М. Ф. Ларионова, обнаружить не удалось.
528 3
31 «Русские сказки» — См. коммент. 11.
32 Телеграмму Н. С. Гончаровой обнаружить не удалось.
33 Лёля — Мясин (Massine) Леонид Федорович (1895 – 1979) — танцовщик, хореограф. С 1914 по 1921 г. и с 1924 по 1928 г. солист и хореограф в антрепризе «Русские балеты С. Дягилева». С 1928 по 1931 г. сделал несколько спектаклей с труппой И. Л. Рубинштейн, также в США и др. странах.
4
34 Барокки (Barocci) Рандольфо (1882 – ?) — администратор «Русских балетов», итальянец по происхождению, владевший английским языком, которого С. П. Дягилев нанял для гастролей в Америке в 1916 г., пробыл с труппой до начала 1920 г.
35 Речь, очевидно, идет о костюмах для балета «Русские сказки». См. коммент. 11.
36 Лопухова (Lopokova, Lopukhova) Лидия Васильевна (1891 – 1981) — танцовщица, в 1910 г. и с 1915 по 1924 г. (с перерывами) танцевала в труппе Дягилева. В данном случае речь, очевидно, идет о балете «Полуночное солнце». 21 ноября 1918 г. в лондонском театре «Колизеум» состоялась премьера новой версии спектакля, дополненного вариацией, которую, по воспоминаниям С. Л. Григорьева, «на редкость темпераментно исполнила Лопухова» (Григорьев С. Л. Балет Дягилева: 1909 – 1929 / Пер., предисл. и коммент. Н. А. Чистяковой. М., 1993. С. 123). Возможно, для гастролей в Лондоне был исполнен новый костюм по эскизу М. Ф. Ларионова — костюм Снегурочки.
37 Труппа С. П. Дягилева выступала в Лондоне с 5 сентября 1918 по 20 декабря 1919 г., за исключением коротких гастролей в Манчестере (7 – 19 апреля 1919 г.).
38 «Бова» — «Бова-королевич и Царевна-Лебедь» — одна из хореографических миниатюр, вошедших в балет «Русские сказки».
39 Н. С. Гончарова была автором декораций и костюмов в «Золотом петушке». См. коммент. 1.
40 Во время лондонских гастролей 1918 г. опера-балет «Золотой петушок» не был дан. В некоторых газетных вырезках, присылаемых художникам, есть упоминания о концертных исполнениях симфонических фрагментов оперы Н. А. Римского-Корсакова. Во время гастролей подобные музыкальные номера С. П. Дягилев иногда включал в программу балетных вечеров. Возможно, Гончарова перепутала исполнение музыки с исполнением оперы-балета.
5
41 «Озеро» — эскиз декорации (ГТГ), «Бова» (ГТГ), «Царевна-Лебедь» — эскизы костюмов к балету «Русские сказки».
42 Кава — неправильно написанное — Бова, Карема-Синь — неправильно транскрибированное — La Reine-Cigne (фр.), т. е. Царевна-Лебедь.
43 Очевидно, от нем. слова — Verwandlung — сменная декорация.
44 Телеграмму С. П. Дягилева обнаружить не удалось.
45 «Ночное солнце» — См. коммент. 6.
6
46 Карандашные эскизы костюма Царевны-Лебедь, а также фотографии сцен Л. Чернышевой в партии Царевны-Лебедь хранятся в ГТГ. Ларионов оригинально интерпретировал 529 классическую тюнику, удобную для танца, «поместив» ее внутрь трансформирующегося по ходу спектакля костюма с пышной юбкой и длинным плащом.
47 … костюм для Лёли… — Имеется в виду костюм Бовы, партию которого танцевал Л. Ф. Мясин. Эскиз одного из вариантов хранится в ГТГ.
48 … для выставки, которую этой весной хотят устроить в Париже. — Очевидно, речь идет о выставке «Искусство современной театральной декорации М. Ларионова и Н. Гончаровой», которая открылась в галерее Барбазанж чуть позднее, 11 июня 1919 г. В каталоге выставки среди экспонатов под №№ 253 – 261 указано оформление хореографической картины «Bova».
49 «Садко» («Подводное царство») — балет в 1 акте на музыку 6-й картины из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко». Хореограф М. М. Фокин. Художник (декорации и костюмы) Б. И. Анисфельд. Премьера — 6 июня 1911 г. Труппа «Русские балеты С. Дягилева», в театре «Шатле» в Париже. Возобновлен той же труппой в хореографии А. Р. Больма с декорациями по эскизам Анисфельда и костюмами по эскизам Гончаровой 25 августа 1916 г. в Театре Эухении-Виктории в Сан-Себастьяне (Испания).
7
50 Руле (от фр. Rouleau) — рулон.
9
51 Телеграмму С. П. Дягилева обнаружить не удалось.
52 Речь идет о непоставленных балетах на испанскую тему «Триана» на музыку И. Альбениса и «Испания» на музыку М. Равеля, оформление для которых было заказано Гончаровой. Под «русскими вещами» могли подразумеваться постановка «Свадебки» на музыку И. Ф. Стравинского с оформлением Гончаровой (Гэте-лирик, Париж, 1923), балета «Шут» на музыку С. С. Прокофьева с оформлением Ларионова (Парижская опера, 1922).
10
53 Телеграмму С. П. Дягилева обнаружить не удалось.
54 «Сказки» — «Русские сказки». См. коммент. 11.
55 «Шут» — см. коммент. 7.
11
56 Hendaye — популярный курорт на юго-западе Франции.
57 Дерен (Derain) Андре (1880 – 1954) — французский художник, примыкавший к группе фовистов; сотрудничал с футуристами. Оформил для «Русских балетов С. Дягилева» балеты «Волшебная лавка» на музыку Дж. Россини (1919) и «Черт из табакерки» (Jack in the Box) Э. Сати (1926).
58 5 мая 1918 г. Ларионов и Гончарова окончательно поселились в Париже в квартире по указанному адресу.
59 Фрай Роджер Элиот (Fry Roger Eliot) (1866 – 1934) — английский художник и художественный критик, организатор выставки «Выставка эскизов М. Ларионова и рисунков учениц Высшей школы Дадли» (Лондон, Мастерские Омега, 1919), на которой Ларионов экспонировал свои работы вместе с работами детской художественной школы.
60 530 Вольта (Вольт?) — неустановленное лицо, возможно, импресарио, помогавший Дягилеву с организацией сезонов в «Аполло» — очевидно, речь идет о лондонском театре «Аполло» (открылся 21 февраля 1901 г.), в котором шли музыкальные постановки. Однако в 1919 г. и в 1920 г. труппа С. П. Дягилева выступала в Лондоне в театрах «Альгамбра», «Эмпайр» и Ковент-Гарден.
61 Гизи — возможно, имеется в виду Пьер Гези, высокопоставленное лицо в парижской Опере, к которому С. П. Дягилев обращался за поддержкой в организации балетных сезонов.
62 … что и как ты решил насчет «Салтана»… — Как следует из письма, Дягилев предполагал постановку оперы Н. А. Римского-Корсакова «Царь Салтан». В ГТГ хранятся эскизы и зарисовки костюмов Гончаровой. Однако в антрепризе Дягилева спектакль поставлен не был. Позднее Гончарова исполнила оформление оперы для театра в Ковно (постановка Н. М. Зверева, 1932).
12
63 Обнаружить телеграммы М. Ф. Ларионова С. П. Дягилеву и С. Л. Григорьеву не удалось.
64 Ирун (исп. Irún, баск. Irun) — город на севере Испании, расположенный на атлантическом побережье недалеко от французского курорта Андай, где находился Ларионов.
65 С. П. Дягилев с труппой в это время находился в Мадриде. Ларионов вскоре присоединился к ним, продолжая работу над «Шутом» С. С. Прокофьева.
66 … исписал две записные книжки хореографическими проектами… — имеются в виду разработки хореографии балета «Шут», записные книжки с зарисовками хранятся в ГТГ.
67 … с ресуртьманием… — Очевидно, Ларионов соединил два французских слова: remboursement (посылка наложенным платежом) и ressourcement (восстановление), имея в виду присылку ему некой суммы взамен утраченных денег.
13
68 Прокофьев Сергей Сергеевич (1891 – 1953) — композитор, пианист, дирижер. Ларионов имеет в виду либретто Прокофьева, написанное им для собственного балета по мотивам русской сказки «Про шута, семерых шутов перешутившего».
14
69 Соколова (Sokolova) Лидия (наст. Хильда Маннингс, Munnings) (1896 – 1974) — английская танцовщица, хореограф, педагог. С 1915 по 1929 г. (с перерывом) танцевала ведущие партии в «Русских балетах С. Дягилева».
Девильер (Девилье, Девийе) (Devillier) Катрин, Екатерина Львовна (1891 – 1959) — танцовщица, хореограф. Работала в Большом театре (1908 – 1919), затем за границей, в 1920 – 1921 гг. выступала в антрепризе Дягилева.
На премьере роль жены Молодого шута исполняла Соколова.
70 Рибас (Ribas) — испанский танцовщик. В хранящемся в Отделе рукописей ГТГ списке исполнителей, очевидно, числится как «испанец», исполнял роль одного из слуг купца в балете «Шут».
71 Григорьев Сергей Леонидович (1883 – 1968) — танцовщик, хореограф, режиссер труппы «Русский балет Сергея Дягилева» в 1909 – 1929 гг.
72 Имеется в виду Гончарова, которая следила за исполнением костюмов и декораций в Париже, пока Ларионов репетировал балет «Шут» в Монте-Карло.
73 531 Нувель (Nouvel) Вальтер (Валентин) Федорович (1871 – 1949) — друг Дягилева. Член редакции журнала «Мир искусства», администратор театральной антрепризы Дягилева, композитор-любитель.
15
74 Бонгарт (Bongart) — портниха, возможно, владелица ателье, где шились костюмы.
75 Сегодня в вечерних газетах видел заметку о «Шуте» «с хореографией Славинского». — Вероятно, в газетных сообщениях не указывалось хореографическое соавторство М. Ф. Ларионова.
16
76 Владимиров Петр Николаевич (1893 – 1970) — танцовщик, педагог. Танцовщик Мариинского театра с 1911 по 1919 г. С 1912 по 1925 г. периодически выступал у С. П. Дягилева. Муж Ф. Л. Дубровской.
77 Дубровская (наст. фам. Длужневская) Фелицата (Фелия) Леонтьевна (1896 – 1981) — артистка балета, педагог. Танцевала в антрепризе С. П. Дягилева (1920 – 1929). Позднее в труппе Анны Павловой и различных труппах во Франции и США (до 1939). С 1949 по 1980 г. ведущий педагог Школы американского балета в Нью-Йорке.
17
78 «Свадьба» — «Свадебка» см. коммент. 8.
18
79 … сюжет для Нежной музыки — Выяснить, что подразумевал М. Ф. Ларионов, не удалось.
80 «Никонианцы» — последователи шестого московского патриарха Никона (1605 – 1681), чья реформаторская деятельность привела к расколу русской церкви на сторонников Никона («никониан», «никонианцев») и его противников («старообрядцев»), одним из лидеров которых стал Аввакум.
81 Загоскин Михаил Николаевич (1789 – 1852) — писатель. Ларионов ошибся: роман «В лесах и на горах» написал П. И. Мельников (псевд. Андрей Печерский, также известен как Мельников-Печерский (1818 – 1883) — писатель, этнограф-беллетрист).
82 «Запечатленный ангел» — рассказ Н. С. Лескова, «Серебряный голубь» — роман Андрея Белого.
19
83 Возможно, в контракт Ларионова с Дягилевым был внесен пункт, предполагающий некую оплату времени между исполнением эскиза и реализацией постановки в том случае, если она откладывалась.
20
84 «Спящая красавица» — «Спящая принцесса» (The Sleeping Princess) — балет в 3 актах и 4 сценах с прологом. Композитор П. И. Чайковский. Хореограф М. И. Петипа. (Возобновление Б. Ф. Нижинской с отдельными ее танцами.) Художник (декорации и костюмы) Л. С. Бакст. Премьера — 2 ноября 1921 г. Труппа «Русские балеты С. Дягилева» в театре «Альгамбра» в Лондоне.
85 Григорьев — см. коммент. 71.
532 21
86 В первой публикации текста договора (И. Ф. Стравинский: Переписка с русскими корреспондентами: Материалы к биографии: В 3 т. Т. 2: 1913 – 1922 / Сост., текстолог. ред. и коммент. В. П. Варунца. М., 2000. С. 488) публикатор без каких-либо аргументов заменил в третьем пункте документа отчетливо написанный «1923 год», на «1921 год». Кажущаяся нестыковка в датах, смутившая В. П. Варунца, объяснима тем, что, переписывая давний договор на несколько раз откладывавшуюся работу над «Свадебкой», Ларионов и Гончарова привели сроки в соответствие с нынешним положением дела. Тем более что сам Ларионов в сопровождающем письме подчеркивает, что изменения, внесенные в договор, касаются именно дат.
22
87 Монте-Карло стал городом, в котором базировалась компания Дягилева, где проходили репетиции и подготовка будущих постановок. Здесь в первой половине 1923 г. Нижинская репетировала «Свадебку». См. коммент. 8.
88 Пакро — очевидно, владелец ателье, которое арендовалось для реализации декораций балета «Свадебка».
89 Орлов — очевидно, художник, который был нанят для реализации декораций балета «Свадебка».
90 Вьель — очевидно, имя владельца магазина или фирмы, где продавался холст и другие материалы.
23
91 Пратикабль — помост. В данном случае речь идет о деревянных помостах декорации балета «Свадебка».
92 Гэте-лирик — театр в Париже, где состоялись премьеры балетов «Шут» (1921) и «Свадебка» (1923).
24
93 Околов-Зубковский Евгений — художник, знакомый Ларионова и Гончаровой, в качестве художника-исполнителя работал у Дягилева.
94 «Нарцисс и Эхо» — балет в 1 акте. Композитор Н. Н. Черепнин. Хореограф М. М. Фокин. Художник (декорации и костюмы) Л. С. Бакст. Премьера — 26 апреля 1911 г. Труппа «Русские балеты С. Дягилева» в Театре Монте-Карло. Из соображений экономии отдельные элементы старых декораций снятых с репертуара спектаклей использовались вторично.
95 «Лиса и Петух» — «Лис», Le Renard, наст. название «Байка про лису, петуха, кота да барана». См. коммент. 12.
96 Камышов — возможно, Ларионов имеет в виду Камешева, в 1910-е гг. служившего у Дягилева рабочим сцены, позднее он мог выполнять обязанности заведующего декорациями и костюмами.
97 «Павильон Армиды» — балет-пантомима в 3 картинах. Композитор Н. Н. Черепнин. Хореограф М. М. Фокин. Художник (декорации и костюмы) А. Н. Бенуа. Премьера — 25 ноября 1907 г. Мариинский театр. Первое представление в Париже во время «Русских сезонов» 19 мая 1909 г. в театре «Шатле».
98 533 «Половецкие пляски» из оперы А. П. Бородина «Князь Игорь». Хореограф М. М. Фокин. Впервые показаны в составе оперного спектакля 19 мая 1909 г. во время «Русских сезонов» в театре «Шатле» в Париже. В дальнейшем исполнялись как отдельный балет.
25
99 Якулов Георгий Богданович (1884 – 1928) — художник.
100 В 1923 г. Дягилев так ничего и не заказал Г. Б. Якулову. Но позже Якулов оформил для труппы С. П. Дягилева балет С. С. Прокофьева «Стальной скок» (1927, хореография Л. Ф. Мясина. Париж, Театр Сары Бернар).
101 Лифарь — см. коммент. 17.
28
102 «Жар-птица» (L’Oiseau de feu) — балет в 1 действии 2 картинах. Композитор И. Ф. Стравинский. Хореограф М. М. Фокин. Художник (декорации и костюмы) А. Я. Головин, отдельные костюмы Л. С. Бакста. Премьера — 25 июня 1910 г. во время «Русских сезонов» в Парижской опере. Новая версия с оформлением Н. С. Гончаровой — 25 ноября 1926 г., труппа «Русские балеты С. Дягилева» в театре «Лицеум» в Лондоне.
Гончарова исполнила новые эскизы декораций и костюмов. По сравнению с оформлением А. Я. Головина 1909 г. в гончаровской интерпретации, пожалуй, яснее проступала идея русской сказки, которую пытался акцентировать в своей постановке Фокин. Оформление строилось на контрасте тьмы и света, первое действие и сцена «В поганом царстве» происходили на фоне декорации «Ночь», торжество светлых сил ознаменовывалось превращением ночи в день, а на месте колдовского сумеречного сада вырастал русский город с церквями и колокольнями. В костюмах принципиальным в духе тенденций времени был отказ от подчеркнуто восточного костюма Жар-птицы и его замена традиционной балетной «пачкой».
29
103 «Огненный ангел» Прокофьева — опера по роману В. Я. Брюсову, либретто С. С. Прокофьева. Композитор работал над ней в Париже с 1919 по 1927 г. 14 апреля 1927 г. состоялось концертное исполнение в Париже фрагментов из оперы «Огненный ангел» оркестром под управлением С. А. Кусевицкого.
534 «МОИ ТАНЦЫ —
ЭКСЦЕНТРИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА…»
Три танца Валентина Парнаха в спектаклях Вс. Мейерхольда:
«Жирафовидный истукан», «Этажи иероглифов» и «Эпопея»
Публикация, вступительная статья
и комментарии О. Н. Купцовой
Поэт, переводчик, критик Валентин Яковлевич Парнах два последних десятилетия привлекает внимание и исследователей истории танца как своеобразный танцовщик, оставивший заметный след в танцевальной культуре двадцатых годов1.
Сам Парнах объяснял свое обращение к танцам двояко: с одной стороны, он видел в них возможность создания всемирного объединяющего языка, своего рода телесного эсперанто. С другой — причислял себя к послевоенному поколению европейцев, объективно нуждавшемуся в динамичных, экспрессивных танцах как в средстве избавления от послевоенного синдрома, спасения от «потерянности» и депрессии первых послевоенных лет.
«Сразу же после войны тягостную тишину, царившую в европейских городах, взрывают громоподобные звуки джаза. Те, кто совсем недавно был обречен на страдания, бездвижно терпел муки в сырых окопах, те, кому удалось выжить, бросаются в безудержный танец.
Европу снова охватывает мания танца. Фокстрот, уанстеп, тустеп, шимми, подобно дикой орде, набрасываются на все страны. Мир содрогается от синкопированных ритмов и порывистых движений танцующих. Танцы, полонившие мир, механически точны, как работа машин»2, — писал Парнах в своей «Истории танца», вышедшей в Париже в 1932 г.
Сочинитель «ряда танцев» (как он представлялся Мейерхольду из Парижа3), Парнах, по свидетельству Е. И. Габриловича, хореографии никогда не учился4.
Первые документированные упоминания о Парнахе-танцовщике относятся к 1921 г. На международной выставке «Салон Дада» в галерее Монтень при театре «Комедия Елисейских Полей» 10 июня 1921 г. Парнах исполнил танец «Чудесная домашняя птица» (La volaille miraculeuse)5. В тот же вечер Парнах принял участие как танцор в постановке пьесы Т. Тцара «Газовое сердце»6. С. И. Шаршун, присутствовавший на этом вечере, запомнил его выступление так: Парнах «протанцевал под музыку <…> лежа на столе, дергаясь и подпрыгивая»7 (впрочем, воспоминания Шаршуна, могли относиться к другим, более поздним выступлениям Парнаха).
В августе 1921 г. в парижском монпарнасском кафе «Хамелеон» «по примеру французских собратьев» было открыто русское литературно-художественное кабаре группы поэтов — «Палата поэтов» (Парнах был в числе инициаторов его создания). В этом кабаре вплоть до января 1922 г., до своего отъезда из Парижа, Парнах «показывал новые танцы, читал лекции о джазе, 535 исполнял песни и романсы. <…> Один за другим прошли вечера Евангулова, Парнаха, мой, Шаршуна»8, — писал участник и организатор «Палаты поэтов» поэт М. В. Талов. Парнах принимал участие в большинстве затей этого кабаре9, а его персональный вечер состоялся 9 ноября. «Беженская традиция» (по определению С. И. Шаршуна) — устраивание вечеров-бенефисов — вызвана была в первую очередь тяжелым материальным положением участников «Палаты поэтов», в том числе и Парнаха10. Вечера в «Палате поэтов» были платные (плата за вход составляла 5 франков11).
Исполнение танцев для Парнаха стало одним из немногих возможных способов заработка (литературный гонорар в эмигрантских условиях был случаен и мал). «Тяжко приходится с деньгами. Но ездил осенью в Испанию и весной в Италию, где, как и здесь, выступал с моими танцами», — признается он М. Ф. Гнесину12. Гастроли в Севилье, Риме, Берлине помогают Парнаху продержаться до его возвращения в Советскую Россию летом 1922 г.13
Трудно сейчас сказать, сколько авторских танцев входило в концертный репертуар Парнаха. Вероятно, уже упоминавшаяся «Чудесная домашняя птица». Во-вторых, сюита «Необычные истории» (Histoires extraordinaires), которая состояла, по-видимому, из трех частей («концентрированные трагедии» «Жирафовидный истукан», «Этажи иероглифов», «Эпопея»), исполнявшихся Парнахом по отдельности позже в театре Мейерхольда14. А. Н. Баташев, исследователь советского джаза, упоминает еще «Танец банкиров на бирже», поставленный Парнахом для И. В. Ильинского (спектакль «Человек-масса» по Э. Толлеру)15. В 1925 г., оказавшись на пути из Москвы в Париж за нарушение визового режима в Моабитской тюрьме, Парнах, «помня музыку», «сделал» еще один свой танец, о котором, впрочем, ничего больше не известно16. Вот все, о чем можно говорить с большей или меньшей достоверностью.
История же взаимоотношений Парнаха и Вс. Э. Мейерхольда восходит к 1913 г., когда М. Ф. Гнесин привел юного студента Петербургского университета в Студию на Бородинской. Приобщение Парнаха к работе студии было прервано его отъездом в Европу летом 1915 г., в разгар Первой мировой войны. В первом сборнике стихов — «Самум», вышедшем в Париже в 1919 г., Парнах напечатал два стихотворения (оба датированы 1915 г. и написаны, очевидно, вскоре после отъезда в Европу), тематически связанных с его пребыванием в мейерхольдовской студии — «Вс. Мейерхольду» и «Цирк», посвященное студийке В. Н. Клепининой17.
Знакомство с Мейерхольдом возобновилось лишь через семь лет, осенью 1922 г., уже в Москве18.
2 июня 1922 г. (на следующий день после истечения срока, до которого по постановлению советского правительства русские эмигранты должны были явиться в советскую миссию; позже эмигрант терял права на гражданство, и въезд в Советскую Россию ему был закрыт) Парнах обратился с письмом к Мейерхольду за помощью в получении визы19. По-видимому, подобные письма Парнах отправил нескольким своим знакомым, остававшимся в Советской России20. Мейерхольд был выбран им как человек, еще недавно представлявший официальную власть на посту заведующего ТЕО Наркомпроса. Ответил или нет на это письмо Мейерхольд, неизвестно; за Парнаха перед чиновниками советского представительства 536 в Берлине в результате ходатайствовал И. Г. Эренбург21. Но въездную визу Парнах все-таки получил. И местом своего возвращения он, уезжавший в эмиграцию из Петербурга, выбрал новую столицу — Москву. Парнах вез с собой джазовые инструменты (в их перевозке помогал М. В. Талов), надеясь познакомить музыкальную и театральную Москву с джазовой музыкой и новыми европейскими танцами.
В Москве Парнах за пару месяцев создал джаз-банд из трех человек: пианиста Е. И. Габриловича (в будущем известного драматурга и сценариста), шумовика Г. И. Гаузнера, ударника А. И. Костомолоцкого22. (Сам Парнах не играл ни на одном музыкальном инструменте, да и все остальные не были профессиональными музыкантами.) Во время концерта «I-го эксцентрического оркестра РСФСР» в Доме искусств 1 октября 1922 г. Парнах исполнил свой танец «Жирафовидный истукан», о чем он писал в одноименном стихотворении:
«Прийдя в публичный “Дом искусств”,
Если на эксцентризм вы падки,
Услышите костяшек хруст
И оркестровые лопатки.
Наглухо завинтив свой стан,
В лихом хлестании орбит
Жирафовидный истукан
Выстукиванья задробит»23.
Мейерхольд, уже подготовленный берлинским письмом, под сильным впечатлением от концерта пригласил джаз-банд Парнаха в свой театр.
В тот театральный сезон 1922/1923 гг. в Москву пришла мода на новые европейские танцы, особенный интерес они вызывали у деятелей Левого фронта искусств. Лиля Брик свидетельствовала об этой «фокстротомании» в письме к сестре Эльзе Триоле в феврале 1923 г.: «По вечерам танцуем. Оська (О. М. Брик. — О. К.) танцует идеально <…> Мы завели себе даже тапера. Заразили пол-Москвы»24. Парнах обучал фокстроту актеров Первого театра Пролеткульта, возглавляемого С. М. Эйзенштейном25; а также студийцев студии И. В. Соколова26 (близкого в то время по театральным взглядам к театру Мейерхольда).
В спектакль «Великодушный рогоносец», премьера которого состоялась в апреле 1922-го, осенью этого же года Мейерхольдом был введен джаз-банд Парнаха, сыгравший в третьем действии фокстрот «Японский песочный человек» (Japanese Sandman), очень популярный в Америке и Европе благодаря оркестру нью-орлеанского «короля джаза» Пола Уайтмена. Под звуки фокстрота «претенденты на ложе мадам Брюно танцуют на помосте, ожидая своей очереди. Появление Брюно, который притворяется одним из обожателей своей жены, сопровождалось вступлением, в форме серенады, из этого фокстрота»27.
Через два года в одном из двух спектаклей театра Мейерхольда, в котором Парнах выходил на сцену как танцовщик, он использовал ту же музыку. В 1924 г. в первом эпизоде спектакля-ревю «Д. Е.» (скетч из 17 эпизодов в 3 частях М. Г. Подгаецкого на основе текстов И. Г. Эренбурга и Б. Келлермана) Парнах исполнил два 537 своих коротких танца — «Жирафовидного истукана» и «Этажи иероглифов» (последний под аккомпанемент фокстрота «Японский песочный человек»).
Кроме мужских одиночных танцев Парнаха в «Д. Е.» существовали и танцы, поставленные К. Я. Голейзовским для З. Н. Райх и М. И. Бабановой (с партнерами — Д. Я. Липманом и Л. Н. Свердлиным). Все вставные танцевальные номера в этом спектакле — политической сатире служили одной цели: созданию пластического и музыкального образа капиталистического Запада. Танцы маленького, щуплого, рыжего Парнаха, в черном костюме, манишке, галстуке, с белым лицом-маской (напоминавшим о выбеленных лицах негров-джазбандистов), воспринимались зрителями как «наистраннейшие», что вполне соответствовало режиссерской задаче изображения гротескного, изнаночного, оборотного (по отношению к строящемуся социализму) мира «загнивающего» капитализма.
А. А. Гвоздев, рецензируя «Д. Е.», очень высоко оценил Парнаха-танцовщика: «“Фокстротирующие танцы” исполняются мастерски. Отличную технику, замечательную точность темпа и выверенность ритма показал в своих резко угловатых, геометричных танцах В. Парнах»28.
В. Ф. Федоров свидетельствовал, что и первый, и второй танцы Парнаха сопровождала музыка американских фокстротов и шимми (под какую конкретную музыку исполнялся «Жирафовидный истукан», точно неизвестно)29.
В 1925 г. в спектакле «Учитель Бубус» по пьесе А. М. Файко Парнах исполнил свой третий танец — «Эпопея», не имевший уже такого резонанса.
Видимо, тогда же, в 1925 – 1926 гг., Парнах и записал все три своих танца — в статьях и в изобретенной им системе «иероглифов движения». Во всяком случае, Парнах пишет Мейерхольду из Парижа 2 июля 1926 г., что выслал ему «новые статьи» для журнала «Афиша ТИМа», среди которых называет и «К вопросам записи движений», но опубликованы на русском языке они так никогда и не были.
Автоописания танцев Парнаха сохранились в двух архивных единицах в фонде ГосТИМа в РГАЛИ (на части документов имеется штамп музея ГосТИМа), но оказались растворенными в материалах к спектаклям «Д. Е.» и «Учитель Бубус» (может быть, поэтому эти автоописания до сих пор не привлекли внимания исследователей творчества Парнаха).
Спустя три года жизни в Советской России Парнах вновь выехал в Европу: через Берлин в Париж, где он провел следующие шесть лет (со второй половины 1925 по 1931 г.). В письмах из Парижа Парнах беспокоился о публикации текстов танцев. Не получив ответа от Мейерхольда о судьбе своих статей, написанных и отправленных для «Афиши ТИМа», Парнах обратился за помощью к актрисе мейерхольдовского театра Е. А. Тяпкиной. И хотя главной темой его письма была гонорарная сторона вопроса, однако Парнах подчеркивал: «Мне исключительно важно узнать, появились ли мои “Записи движений” (объяснительные тексты и условные значки моих танцев), а также мои заметки о парижских танцовщиках»30. В марте 1926 г. Парнах, предваряя публикацию в России, опубликовал запись танца «Эпопея» на французском языке в амстердамском журнале «De Stijl»31, а в конце 1927 г. напечатал литературную запись танцев «Эпопея» и «Жирафовидный истукан» в журнале «Cahiers d’art»32 и в марте 1928 г. дал возможность французскому же читателю еще раз познакомиться с записью третьего своего танца «Этажи иероглифов» в «Revue musicale»33.
538 Уезжая в Париж, Парнах обучил танцу «Эпопея» (для остававшегося в репертуаре «Учителя Бубуса») танцора и художника, музыканта-ударника его джаз-банда, одаренного актера-мима А. И. Костомолоцкого, о котором Е. И. Габрилович вспоминал: «Он у нас сидел впереди остального ансамбля, был единственным, кто был загримирован и одет в соответствующий эксцентрический костюм типа широкого пиджака с огромным бантом <…>. Костомолоцкий был в центре внимания, на него в первую очередь были обращены взгляды всего зрительного зала»34.
Однако Парнах, оставаясь в Париже, не исключал возможности и собственного выступления со своими танцами в спектаклях ГосТИМа во время предполагавшегося гастрольного европейского турне театра. Об этом он напоминал Мейерхольду в письме от 9 апреля 1930 г., ожидая приезда мейерхольдовской труппы из Берлина: «Не раз Вы утверждали, что я смогу исполнять мои танцы в спектаклях Вашего театра, во время гастрольной поездки по Европе. <…> Мои танцы могут быть включены, напр[имер], в пьесы “Рычи, Китай!” и “Великодушный рогоносец”, даже если не пойдет “Д. Е.”»35.
Это последнее письмо Парнаха, сохранившееся в архиве режиссера. Парнах, по-видимому, так и не получил ответа от Мейерхольда, и их переписка с этого момента прекратилась. После возвращения Парнаха в 1931 г. в Москву его отношения с Мейерхольдом и театром не возобновились. Очевидно, тогда же закончилась и карьера Парнаха-танцовщика.
За шесть лет своего второго парижского периода Парнах написал основные статьи о танцах разных времен и разных народов36. Итогом этой работы стала книга «История танца», вышедшая на французском языке в Париже в 1932 г.37
Одной из главных тем всего литературного творчества Парнаха 1920-х гг. стала именно фиксация движения. От первых стихотворных сборников до книги по истории танца запись движения для Парнаха — это не только техническая задача исполнителя, желающего зафиксировать и передать свой танцевальный опыт, но поэта и прозаика, пытающегося в слове запечатлеть динамику человеческого тела (акробата, танцора). «Изобретая» (одно из любимых слов Парнаха) разные способы описания движения, он оставался одновременно исполнителем, поэтом и исследователем танца.
Для записи танца Парнах изредка использовал балетную терминологию, считая, впрочем, что она вполне годится только для классического балета38. Парнах знал и о современных способах фиксации движения (например, о работах, которые велись в этом направлении в Хореологической лаборатории ГАХН под руководством А. А. Сидорова)39, но считал необходимым искать свой собственный вариант описания. «Не говоря уж о ценности практической, помогающей зрителю и исполнителю танца расшифровывать движения в их хореографической и лирической сути, каждый способ записи (нотации) представляет некий живой организм»40, — писал Парнах.
Свои танцы Парнах зафиксировал не только словесно — в стихах и в прозе, но также иероглифически (в виде своеобразных «пляшущих человечков»). Стихотворная, прозаическая, графическая фиксации движения, по отдельности 539 недостаточные и неточные, становились у него друг по отношению к другу комментариями и дополнениями. Так, в стихе создавался слитный, не поддающийся фабульной расшифровке образ танца. Прозаическое автоописание оказывалось более аналитичным, разложенным на составные части и элементы, однако и в нем оставались следы поэтического описания: метафоры, сравнения, избыточные синонимические ряды и т. п. Что касается иероглифической записи танца, то в каждом отдельном «иероглифе тела», представляющем концентрированную суть (l’essentiel) движения, Парнах видел совокупную связь позы, жеста, мимики с определенным эмоциональным состоянием. «Я давно убедился в точности этих иероглифов», — писал он в статье «К записи танцев»41. Парнаховские как будто неумелые, примитивные человечки-иероглифы напоминают графику авангарда: точную и лапидарную линию его друзей-художников: П. Пикассо, М. Ф. Ларионова и др. «Иероглиф» обозначал не просто позу, но мизансцену, то есть танцора в пространстве.
Вот только один из примеров подобного взаимодополняющего описания танца. В стихотворении «Изобретение» поэтически запечатлен «Жирафовидный истукан»:
На месте выдержал я счет,
Дыша вступлением фокстрота,
Египетского поворота
Я принял лад. Со взрывом нот,
Нога перед ногой, каблук
Перед носком, ход высек дробный,
Носком вычерчиваю лук!
Южный, веселый и загробный,
Синкопствую! Спрут быстрых рук
В воздух! И шею под ярмо.
Встреча ногтей на подбородке
И маской вдруг лицо само.
На миг тиски под дрожь чечетки!
Мое фабричное клеймо:
Пальцем изогнутым с разбегу
От уха к уху полосну,
И ноготь заострил омегу.
Мелькнув за носа вышину,
Карает бритвой сутенер
Любовниц, показать Марселю
Этот убийственный узор
Закупорка! Упорно целю,
Пронзая, бью в ладонь под челюсть.
Отталкиванья рычага,
Стержней порывистых цезура,
Два брыка — правая нога,
Падающей башней шатаюсь хмуро42.
540 Сравнив стихотворение с прозаическим автоописанием этого же танца, которое публикуется ниже, мы найдем и ту же последовательность движений, и почти буквальные словесные повторения: «Нога перед ногой, каблук перед носком», «шея под ярмом», «лицо в эту минуту — маска», «очертя греческую букву омегу Ώ в заостренном виде Λ, повторяя убийственный узор, который оставляют бритвой на лицах проституток в Марселе мстящие им сутенеры» и так далее. Но вот возникает маленькое различие: в прозаическом тексте упоминается не просто «падающая башня», но «пошатываясь Пизанской башней», и это существенная деталь.
Импульсом к созданию «Жирафовидного истукана» для Парнаха была Эйфелева башня. Многократно и в слове, и в рисунке писатели и художники на рубеже веков сравнивали конструкцию Эйфеля с жирафом («жирафовидность»); слово же «истукан» (т. е. идол) обозначало не только неподвижность, но и обожествление, сакрализацию этого объекта, возникшую в европейском (и прежде всего французском) авангарде 1910 – 1920-х гг. Свою поэму об Эйфелевой башне Парнах читал в «Палате поэтов» в 1921 г. (опубликована в сборнике «Карабкается акробат»)43. Тогда же он декларировал свое желание изобразить Эйфелеву башню в движении. Однако позже он превратил конкретную аллюзию в этом танце в универсальную метафору: образ «падающей башни» гораздо шире, и он скорее вызывает ассоциации с Пизанской, чем Эйфелевой башней, но и ею не ограничивается.
Сохранившиеся прозаические автоописания танцев корректируют и расширяют также устоявшееся представление об исполнении Парнаха исключительно как о тейлоризированном движении, «истуканизации», механистичности44 (для автора это была важная, но всего лишь одна из составляющих хореографического рисунка).
В раннем стихотворении «Жирафовидный истукан» Парнах использует действительно «машинный инвентарь» для создания образа самого танцовщика и его танцевального движения: «Системы шатунов и шкив, / Педали, гаек ералаш…»45.
В близких словах описывали парнаховский танец и современники. «Это были движения вдоль и вглубь сцены — с размеренными механическими подергиваниями. Представьте себе танцующий оживший манекен <…>. Это было характерное для 20-х гг. утверждение механизации человека, автоматизации его движений, его эмоций. Эксцентрика, гротесковость всех внешних жизненных проявлений. Структурой этого танца являлись безликость и деревянность, алогизм. Мне кажется, что на этот танец-пантомиму повлияла тогдашняя живопись, особенно кубизм с его “разложением” предметов на составные части…»46 — так представлял Парнаха-танцовщика по давним своим впечатлениям Е. И. Габрилович. Однако если посмотреть на прозаическое автоописание танца Парнахом, то слов механистического ряда там оказывается довольно мало.
Сам Парнах определял свои танцы в начале 1920-х гг. как эксцентрические. «Эксцентризм» по Парнаху — это неожиданные сочетания «движения, перипетий и неслыханных гармоний (синкоп, диссонансов, новых темпов)»47.
В одной из своих статей он дал своеобразный каталог эксцентризмов, среди которых: «Истуканизация тела, мгновенные остановки и резкое продолжение движений или жеста, истуканское обрушивание корпуса вперед, при неподвижности 541 ног, кеглеобразные покачивания механизированного тела перед падением, взрывчатые короткие подскакивания ступней на месте, пневматическое вбирание шеи в плечи и обратное выталкивание ее и т. д. и т. п. — вот некоторые элементы для новых постановок в театре, кино, танце»48.
Одним из главных признаков эксцентризма, по Парнаху, являлась динамизация искусства, порожденная ускорением темпа современной жизни49. Динамизация искусства требовала краткости форм, концентрированности: «Десятиминутная пантомима, трехминутный танец вместит все содержание высокой трагедии»50. «Полутораминутный танец способен распутать целый клубок интриг»51, — утверждал Парнах.
Основное понятие эксцентрического искусства в парнаховской теории — синкопа («древнее начало, которое в наш век получает новое значение») в музыке, языке, движении52. В сравнении с современным использованием этого музыкального термина Парнах понимал его расширительно и придавал ему почти универсальное значение. Программной в этом отношении являлась статья Парнаха «Древность и современность в слове и движении», в которой он приводил примеры синкоп в традиционной музыке стран Востока, в древней поэзии греков (хориямб как синкопический размер, в котором чередовались длинные слова, резкие паузы и односложные слова)53. Контекстуальными синонимами «синкопы» в его описании танцев стали акцент, толчок, залп, заряд (нот) и др. Парнах даже образовал глагол и глагольные формы от этого слова — «синкопствовать». «Синкопствуя», как он пишет, «сухое тело во фраке» танцует «Жирафовидного истукана».
Синкопа языка в танце проявляется через синкретическое соединение слова и движения (Парнах придумал для него термин — «словодвиг» / mot-dinamo; так назывался и первый сборник его стихов). «Слово и движение, движение и слово в области театра, чистое движение в области танца и кино, заставляют коснуться корней человеческого бытия»54, — писал он в статье «Древность и современность в слове и движении», опираясь на поэму А. Белого «Глоссолалия» (1917 – 1922), связанную с эвритмией Р. Штейнера, и на идеи культурной памяти, о которых писал в начале 1920-х гг. О. Мандельштам («“В жилах нашего века течет кровь отдаленных культур, в частности египетской и ассирийской”, — сказал О. Мандельштам. Запас древних свойств в области позы и движения, закупорынной (так! — О. К.) в веках, быть может, бессознательно, должен открыться в телах нашего времени»55).
Парнаха интересует в поэме Андрея Белого «жест языка», т. е. работа артикуляционного аппарата и включенность всего тела в звукоизвлечение. «Насколько язык, слово тесно связаны с мимикой, танцем, можно судить хотя бы по фразе Андрея Белого, исключительно интересующегося теперь мимической стороной жизни: “Язык (слово) — танцовщица, пляшущая у нас во рту” (Андрей Белый. “Глоссолалия. Поэма звука”)»56.
В танцах Парнаха несколько раз встречается произнесение звуков во время движения: дважды — в «Жирафовидном истукане» (гласный «а» и согласный «ч») и однажды — в «Эпопее» (целое слово «немедленно»).
В «Жирафовидном истукане», «синкопствуя, губы выпаливают звук “а”». Это малопонятное указание расшифровывается и конкретизируется Парнахом все в 542 той же статье «Древность и современность в слове и движении»: «В санскрите существовали звуки с синкопическими придыханиями, например на “а”, т. е. гласная “а” подскакивала, вторично ударяясь в гортань. В современном арабском языке синкопа управляет гласными: мгновенный перерыв и возобновление тех же гласных в гортани араба является характерной особенностью арабской речи; гортанный звук аин и гхаин не что иное, как синкопа арабского и древнееврейского языка. “Барабанят арабы гортанями”, — сказал Андрей Белый в записках о своем путешествии по Тунису…»57 Парнах предполагал, вероятно, при исполнении танца использование именно такого гортанного «а» с «синкопическим придыханием».
Включение звука разнообразит и динамизирует неподвижное лицо исполнителя («Губы бормочут звук “ч”, от времени до времени озаряя лицо-маску») или создает более сложную жестовую метафору при произнесении целого слова («Исполнитель резко выпрямляется и, на секунду покачнувшись корпусом назад, как бы вырывает пальцами правой руки изо рта большое мучительное слово “Немедленно”»). Смысл самого слова в данном случае неважен: существенны звуки, в него входящие (три гласных «е»; сонорные согласные: три «н» — в одном случае сдвоенное, длительно звучащее, — и одиночное «м»), требующие определенных мимических движений для их произнесения.
Парнах-поэт в описании своих танцев придавал большое значение выбору словесных выразительных средств, Парнах-исполнитель и историк танца — отбору самих элементов описания. Автоописание Парнаха включает несколько слоев.
Одним из первых должен быть назван музыкально-ритмический слой. Он состоял не столько из указаний конкретной музыки (так, в «Жирафовидном истукане» она совсем не обозначена) или музыкальных инструментов (можно назвать разве что гавайские гитары в «Эпопее» или саксофон в «Этажах иероглифов»), но главным образом был сконцентрирован на изменениях ритма (на всех остановках, ускорениях, замедлениях и т. п.), например: «с синкопами в плечах мерно».
В жестовом и мимическом слое автоописания Парнахом почти полностью убраны слова, имеющие отношение к механистичности движения (за редким исключением: «ножницеобразные ноги»). Зато в нем много живых (животных) сравнений: «так называемый крокодилов шаг», «лошадиное движение», «опустив неподвижную голову, как бык», «верблюжий шаг», «колыхание верблюда», «рука подрагивает, как крыло», «поднимая, как цапля, левую ногу». (Напомню, что и фокстрот /fox-trot/ в переводе с английского означает «лисьи шажки»). А в финале «Эпопеи» танцовщик превращается, например, «в пальму», но никак не в машину.
И хотя Парнах использует не только конкретные слова «танцовщик», «исполнитель», но и отстраненное, абстрактное «тело», «сухое тело», однако это живое тело (а не «система шкив»), достаточно экспрессивно описанное: «Все тело как бы вздыхает в этом движении» («Этажи иероглифов»). Одушевляются даже отдельные части тела: «Рука держит взволнованную речь» («Эпопея»).
Движение описывается дробно, включая, в частности, движение пальцев («согнув четыре пальца в нижнем суставе»).
В автоописаниях Парнахом указываются и предпочтительные пространственные решения. Так, для «Жирафовидного истукана» это «эстрада, полукругом выступающая 543 в зрительный зал, перпендикулярно которой, сзади, тесно приставлен узкий помост <…> Или перпендикулярно друг другу поставленные узкие прямолинейные помосты (задний ýже переднего)». А в «Этажах иероглифов» обязательны «два этажа плоскостей (пол и конструкция)», и в обоих случаях должна быть учтена постановка света, которая позволит использовать тени в танце: «… непомерные тени от пальцев содрогаются на низком потолке», «… обе руки и их тени на стене поднимаются».
Автоописания танцев Парнаха представляют собой и своего рода «стихотворение в прозе», так как насыщены метафорами, эпитетами, сравнениями (которые могут рассматриваться и как режиссерские оценочные ремарки): «Легко и вкрадчиво танцовщик соскакивает вниз, описав резкий апостроф в воздухе» («Этажи иероглифов»); «Под глухую дрожь, под бульканье, урчанье и матовый голос гавайских гитар…» («Эпопея») и т. п.
Интересен и значим для Парнаха как теоретика и историка танцев культурно-антропологический слой автоописаний, та самая мандельштамовская культурная память, явленная на этот раз в памяти телесной: этнические, бытовые, универсальные жесты-знаки и изображения жеста / движения в искусстве. Среди этнических жестов Парнах отмечал жест злорадства у черкесов («Танцовщик бегло трет ногти о ногти /тремоло/»), «насмешливый парижский жест», жест марсельских сутенеров и некоторые другие. А в числе поз и движений, отраженных в произведениях искусства, указаны, в первую очередь, чрезвычайно важные для него древневосточные аллюзии: «… изображения бушующего Шивы», «по примеру индусских изображений», «египетский шаг» и проч.
Сами танцы Парнаха с их сознательным смешением языков разных видов искусства, стремлением к соединению звука / слова и движения, созданию рода визуальной (телесной) поэзии восходят к идеям европейского авангарда (и не только танцевального). А попытка их автоописания лежит уже в несколько иной области (впрочем, также связанной с авангардом): в области новых методов в гуманитарных науках (прежде всего формального метода) и новых гуманитарных дисциплин, только рождающихся в 1920-е гг. (культурной антропологии, семиологии и др.).
544 В. Я. Парнах
Театр им. В. Э. МЕЙЕРХОЛЬДА.
«Д. Е.» (1 ЭПИЗОД).
ТАНЕЦ «ЖИРАФОВИДНЫЙ ИСТУКАН»58
Сухое тело во фраке выскакивает на сцену. Насторожившись, в профиль, неподвижно выдерживает залп первого такта. На секунду заряд нот и предстоящего танца затаен в выразительной неподвижности, которой и начинается номер.
С акцентом музыки, стремительно, ладонью в профиль, поднимается левая рука, вытягивается шея, тело начинает своего рода египетский шаг, поднимая и опуская левую руку. Нога перед ногой, каблук перед носком, оно дробно-синкопически передвигается к центру занимаемой танцем площади. Губы бормочут звук «ч», от времени до времени озаряя лицо-маску.
С новым акцентом резкий поворот en face к публике, левая рука захлестывает лицо через всю голову, левая ладонь схватывает подбородок, правая делает обратный ход. Пальцы правой и левой почти встречаются на подбородке, раздирая рот. Голова и шея под ярмом. Танцовщик снял сам с себя голову, а руки держат ее под туловищем.
Лицо в эту минуту — маска с остановившимися глазами и напрягшимися на лбу черными жилами. Дробный шаг, на этот раз en face к публике.
Ярмо разъединяется: большой палец левой руки три раза полоснул лицо-маску, от уха к уху, справа налево, обе щеки и нос, очертя греческую букву омегу Ώ в заостренном виде Λ, повторяя убийственный узор, который оставляют бритвой на лицах проституток в Марселе мстящие им сутенеры.
Снова в профиль, легко и неожиданно тело грохнулось об пол на спину, вместе с обрушившимся ударом медной тарелки59.
Лежачий танец простертого: левая рука захлестывает подбородок через голову; вытянутая правая нога, согнутое левое колено четко отбивает ход тактов; кисть правой руки, с резко выступающим большим пальцем винтообразно, вправо-влево, мелькает в лад ритму и танцу. Вместе с ускоряющимся нарастанием тревожно-разрешающейся музыкальной фразы готовится вскочить.
Стремительно пружинно вскакивает. Левая нога отлетает назад в воздух (своего рода летучий арабеск). Все тело напряжено вверх. Левая рука (от кисти) ладонью вниз, плоская, подброшена под подбородок. Ее пронзает указательный правый (три раза), тогда как правая нога бешено наскакивает на публику, синкопствуя, губы выпаливают звук «а».
Завершив взлет вверх и удар, в упор зрителям, пошатываясь Пизанской башней, поворачивается вокруг себя, двигая краем ступни.
Дожидаясь очередного акцента, насторожившись, пошатнувшись назад, ритмично колеблется, чтобы начать.
Верблюжий шаг, колыхание верблюда, осторожное ступание, руки заткнуты назад, завернуты на спине, как у преступника. С синкопами в плечах мерно, подбирая и вбирая голову в плечи. Движется спиной к публике, в глубь сцены, перпендикулярно центру занимаемой танцем площади. Перед завершительным акцентом, 545 обе руки и их тени на стене поднимаются сотрясаясь; с последним ударом джаз-банда застегивают стан ударом обоих локтей в бок.
Наиболее выразительной площадкой для этого танца является эстрада, полукругом выступающая в зрительный зал, перпендикулярно которой, сзади, тесно приставлен узкий помост, по которому танцовщик ступает верблюжьим шагом. Или перпендикулярно друг другу поставленные узкие прямолинейные помосты (задний ýже переднего).
«Жирафовидный истукан» — танец типа концентрированной трагедии.
К ВОПРОСАМ ЗАПИСИ
ДВИЖЕНИЙ.
«БУБУС».
ТАНЕЦ «ЭПОПЕЯ» ВАЛЕНТИНА ПАРНАХА60
Интродукция
(1) С первым ударом музыки Choo-choo61 танцовщик поднимает руку и, как некий гипнотизер, с тремя акцентами вступительного такта, три раза сжимая и разжимая кулак, посылает в публику залпы, влево, в центр, вправо.
Глава I
(2) С новым акцентом, согнутая в колене, левая нога делает резкий шаг вперед; правую танцовщик закидывает за шею, слегка согнув спину: опустив неподвижную голову, как бык.
(3) Указательный палец правой руки сверлит висок: беглый жест, означающий по-испански: loco! (сумасшедший), ввинчивается между двумя взмахами ноги (№ 2 и № 4).
(4) Со следующим акцентом повторяется движение № 2.
(5) И патетически, как оратор, останавливающий дыхание слушателей, танцовщик стремительно поднимает правую руку ладонью к публике. Рука держит взволнованную речь. Исполнитель выдерживает выразительную паузу и,
(6) выдвинув правый локоть, образуя угол большим и указательным пальцами левой, обрушивает сверху вниз влево удар в невидимый бильярдный шар, в трудную цель.
(7) Отставив и согнув правую ногу, под острое тремоло, он производит пальцами правой руки мерно-порывистые иероглифические жесты бритья и пудрит воздух вдоль лба, щек и подбородка, весь мерно вырастая из земли.
(8) Резкий полуоборот. И отступая в профиль, в глубь сцены, тремя толчками приближая правую ногу к левой, он два раза закладывает левую руку через голову и двумя пальцами два раза касается правого угла губ, куря музыку. Корпус откинут на правое бедро, по примеру индусских изображений.
(9) Перед завершением музыкальной фразы кисть левой руки пригвождается к левой лопатке; рука подрагивает, как крыло; а правая, вместо телефонной трубки, у правого уха, трепещет, раздвинув и согнув пальцы, в заключительном тремоло.
546 (10) Полуоборот, и лицом к публике, тело бешено падает с одной ноги, согнутой в колене, на другую (так называемый «крокодилов шаг»).
(11) Исполнитель резко выпрямляется и, на секунду покачнувшись корпусом назад, как бы вырывает пальцами правой руки изо рта большое мучительное слово «Немедленно».
(12) Движение № 2 (№ 4) в ускоренном виде пламенно заключает первую часть танца.
(13) Глава II. После небольшого фермато следует отрывок из музыки The Rose of the Rio Grande62. Под глухую дрожь, под бульканье, урчанье и матовый голос гавайских гитар, спрятав на спине руки, танцовщик мерными толчками выворачивает корпус вправо — вперед — влево — назад.
(14) С поворотом хода аккомпанемента он внезапно обрушивается на левую ногу, слегка согнутую в колене, а правую твердо отставляет назад. Мерно откидываясь корпусом, плечами закинув голову, он настойчиво, в лад толчкам музыки, бухается вперед, подобно турецким, греческим и арабским лодочникам; локти и выдвинутые — сдвинутые кулаки стройно сопровождают движение. Все тело напряженно и вдохновенно гребет в публику.
(15) В соответствии с шестью последовательными акцентами, танцовщик производит круг закидываний ноги (№№ 2, 4, 9), соблюдая паузы, показываясь в профиль и спиной.
(16) Удар локтей в бока, легкий взлет, и он решительно падает на ножницеобразные ноги.
(17) Глава III
Под Dancing Honey-Moon63, проделав прыжок «по шестой позиции» слева направо, он на мгновение останавливается, сопровождая оркестр баюкающим движением сближенных рук. То же справа налево.
(18) Левая нога короткими толчками скользит слева направо, другая описывает тройки, пятерки и шестерки, 3, 5, 6, своего рода rond de jambe en l’air. Левая рука, согнув четыре пальца в нижнем суставе и подняв большой, отбивает у сердца ход тактов.
(19) Резкий удар правой руки и колена, под согнутое поднятое в воздух левое колено заключает эту часть.
(20) Глава IV
С forte отрывка из Dardanella64 удар ног в пол. Танцовщик выкидывает руки и ноги, подобно изображениям бушующего Шивы, вращается вокруг себя в этом движении, лицом и спиной к публике, и,
(21) резко остановившись, сблизив пальцы рук на груди, описывает в воздухе два опахала. Он обернулся пальмой. Исторгает свою силу — счастье.
547 К ВОПРОСАМ ЗАПИСИ
ДВИЖЕНИЙ.
«Д. Е.»
ТАНЕЦ «ЭТАЖИ ИЕРОГЛИФОВ» ВАЛЕНТИНА
ПАРНАХА65
Интродукция
I. Два этажа плоскостей (пол и конструкция). Под медлительное вступление серенады из Japanese Sandman66, на узкой верхней площадке, исполнитель нащупывает ее поверхность правым носком, а руки коромыслом вращаются ладонями назад, в манере испанских танцовщиц, щелкающих за спиной кастаньетами.
II. Лошадиным движением тело подступает к правому краю площадки и, подойдя к нему, в последний раз производит тремоло поднятыми руками, непомерные тени от пальцев содрогаются на низком потолке.
III. Легко и вкрадчиво танцовщик соскакивает вниз, описав резкий апостроф в воздухе.
IV. Немедленно, продолжая движение, под адажио из Japanese Sandman, правая нога высоко три раза очерчивает дугу, и плоско сложенная правая рука, ладонью вниз, от подбородка проделывает вправо тот же чертеж, вариацию дразнящего и насмешливого жеста парижан.
V. Танцовщик бегло трет ногти о ногти (тремоло), как бы выбивая искры из кремней или повторяя жест черкесов, выражающий злорадство; немедленно, выпрямившись, правая рука взлетает вверх.
VI. Подхватывая аккомпанемент, вместе с правой ногой, она снова описывает дугу.
VII. То же движение влево, одновременно с правой ногой, действующей вправо.
VIII. Повторяя движение № 6, отсчитывает последний оборот ноги в воздухе.
IX. Заключением этих тройных опахал является легкий прыжок со взмахом обеих рук вверх.
X. Легкий округлый поворот. Исполнитель движется, отчетливо поднимая, как цапля, левую ногу, причем ею управляет правая рука, чертя эллипсы, выжимая тяжесть, выволакивая все тело из земли; пальцы правой поднятой руки напряженно работают, как бы щелкая кастаньетами.
XI. Осторожный задний ход. Левое бедро выдается. Левая нога ступает вовнутрь. То же пружинное наступление. Осторожно замахивается и ударяет правой рукой.
XII. Внезапно, с резким фермато, исполнитель испуганно останавливается, отшатнувшись, закинув назад голову, откинувшись корпусом и левым плечом, ошеломленный толчками музыки.
XIII. Под меланхолическое заключение Japanese Sandman танцовщик поводит руками, как в начале (№ 1).
XIV. Правая рука замедленно вытягивается у правого бедра. Описывая удлиненную дугу, перед грудью, высоко над головой, в пространство, и медленно тянет ее, с последней протяжной нотой саксофона. Все тело как бы вздыхает в этом движении.
548 В ходе действия «Д. Е.», опустив интродукцию того танца, исполнитель бодро и пружинно выбегает на сцену после саркастических восклицаний («Принимайте холодные ванны! Холодные ванны!») Джебса и его секретаря в ответ на предложенья нелепой «изобретательницы». Танцовщик посылает вдогонку этому синему чулку насмешливый парижский жест, потирая подбородок пальцами правой руки, чертя кривую в направлении убегающей и выкрикивающей бабы, и танец «Этажи иероглифов» немедленно начинается с движения № 4.
549 Комментарии
Вступительная статья
1 См., в частности: Gordon M. Valentin Parnakh, apostle of eccentric dance // Experiment/Эксперимент. A journal of Russian Culture. MOTO-BIO — The Russian Art of Movement: Dance, Gesture and Gymnastics, 1910 – 1930. 1996. Vol. 2. P. 430 – 434; Misler N. Taylorisme, biomécanique et les politiques de la danse moderne // Etre ensemble. Figures de la communauté en danse dans le XX siècle. Pantin, 2003. P. 103 – 122; Idem. L’Idole-jirafe, Moscow, 1920-s // Experiment/Эксперимент. A journal of Russian Culture. Performing art and the avant-garde. 2004. Vol. 10. P. 97 – 102; Мислер Н. Вначале было тело: Ритмопластические эксперименты начала XX века. М., 2011. С. 351 – 359; Акимова М. В. Еще раз об иллюстрациях: Иероглифы танцев В. Парнаха // Художник и его текст: Русский авангард: история, развитие, значение. К 80-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова. М., 2011. С. 35 – 51; глава «Человек-оркестр» в кн.: Сироткина И. Е. Свободное движение и пластический танец в России. М., 2012. С. 104 – 108; Лободанов А. П. [Предисловие] Монолитность, наполненная жизнью // Парнах В. История танца. М., 2012. С. 5 – 12.
2 Парнах В. История танца. С. 76.
3 Письмо В. Я. Парнаха Вс. Э. Мейерхольду от 2 июня 1922 г. Автограф. — РГАЛИ. Ф. 998. Оп. 1. Ед. хр. 2163. Л. 2.
4 Петров А. Жирафовидный истукан, или Джаз у Мейерхольда // СпеСивцев вражек. 1997. № 3. С. 3.
5 Письмо В. Я. Парнаха М. Ф. Гнесину от 2 июля 1921 г. [письмо написано на обороте программы вечера дада 10 июня 1921 г.] Автограф. — РГАЛИ. Ф. 2954. Оп. 1. Ед. хр. 613. Л. 40 об. См. также: Сануйе М. Дада в Париже. М., 1999. С. 257 – 259.
«Он (В. Парнах. — О. К.) спустился с галерки, чтобы исполнить номер под названием “Чудесная домашняя птица”. Парнах облачился в немудреный костюм: широкая рубаха, громадные манжеты, а на спине — изображающие куриные крылышки теннисные бутсы. К правому предплечью приладили одну из тех огромных металлических ног, что украшают витрины салонов педикюра. Постукивая этой дополнительной конечностью, он принялся исполнять танец в модных ритмах под аккомпанемент пианистки. Мелодии сами собой заставляли пуститься в пляс, напоминавший торжественное гарцевание» (Там же. С. 258 – 259).
6 В программе «Газового сердца» были указаны действующие лица и исполнители: Oreille (Ухо) — Ф. Супо; Bouche (Рот) — Ж. Рибмон-Дессень; Nez (Нос) — Т. Франкель; Œil (Глаз) — Л. Арагон; Cou (Шея) — Б. Перэ; Sourcil (Бровь) — Т. Тцара; Danseur (Танцор) — В. Парнах (Программа вечера дада 10 июня 1921 г. Автограф. — РГАЛИ. Ф. 2954. Оп. 1. Ед. хр. 613. Л. 40 об.). Парнах принял участие в танцевальных интермедиях.
7 Шаршун С. Мое участие во французском дадаистском движении. Цит. по: Сироткина И. Е. Указ соч. С. 104.
8 Талов М. Воспоминания. Стихи. Переводы. М.; Париж, 2006. С. 60.
9 7 августа 1921 г. состоялся первый вечер объединения при участии Парнаха. 21 августа — вечер, посвященный А. А. Блоку, с воспоминаниями Парнаха; 1 сентября — вечер поэзии со вступительным словом Парнаха «Новые формы в поэзии»; 15 и 22 сентября на вечерах читались новые стихи Парнаха; 29 сентября — вечер поэзии, 550 посвященный Charlot (Чарли Чаплину), на котором Парнах читал свои новые стихи; 27 октября — вечер поэзии с участием Парнаха; 9 ноября — персональный вечер Парнаха (в программе стихи и танцы Парнаха; открытие «Передвижного театра на столах» под упр. П. Куклимати — «Театр Ужасов»; синкретическая драма-буфф — пантомима, испанская танцовщица Siria); 16 ноября — торжественный выпуск книги Г. Е. Евангулова «Белый духан» с участием Парнаха; 14 декабря — вечер поэзии с участием Парнаха; 21 декабря — вечер С. И. Шаршуна «Дада Лир Кан» с участием Парнаха, И. М. Зданевича, В. И. Шухаева, Л. Арагона, А. Бретона, П. Элюара, Т. Френкеля, Ж. Риго, Ф. Супо, Ж. Рибмон-Дессеня, Г. Бюфе, М. Рэя. Парнах исполнил «Слово о молчании» С. И. Шаршуна и «Графические танцы». См.: Русское зарубежье: Хроника научной, культурной и общественной жизни. 1920 – 1940. Франция. Т. I. 1920 – 1929. М., 1995. С. 43 – 55.
10 В частности, М. В. Талов вспоминал, что в его судьбе принимала большое участие Н. В. Крандиевская: «По ее предложению русский литературный фонд в Париже выдал мне в 1921 году вспомоществование — 500 франков, 200 из которых у меня тут же взял для себя Валентин Парнах» (Талов М. Указ. соч. С. 52 – 53).
11 Талов М. Указ соч. С. 219.
12 Письмо В. Я. Парнаха М. Ф. Гнесину от 24 февраля 1914 г. Автограф. — РГАЛИ. Ф. 2954. Оп. 1. Ед. хр. 613. Л. 1 об.
13 О концертах в Париже и гастролях см.: Заметки об исполнении В. Я. Парнахом современных танцев. Газетные вырезки. — РГАЛИ. Ф. 2251. Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 4.; Федоров В. Ф. Проблема классового театра и «Даешь Европу»: Автореферат и очерки о постановке в театре спектакля «Даешь Европу». Маш. копия. — РГАЛИ. Ф. 963. Оп. 1. Ед. хр. 401. Л. 31.
14 В статье «К записи движений» Парнах называет свой танец «Эпопея» частью сюиты «Необычные истории» (Parnac V. Notation de danses // La Revue musicale. 1928. Mars. P. 130). В другой своей заметке, «Танец в СССР», в этом же журнале Парнах писал о том, что сюита состояла из танцев, исполненных им в ГосТИМе (Parnac V. La danse en l’U.R.S.S. // La Revue musicale. 1927. Sept. P. 171).
15 Баташев А. Н. Египетский поворот: Заметки о Валентине Парнахе // Театр. 1991. № 10. С. 122.
16 Письмо В. Я. Парнаха Вс. Э. Мейерхольду. [После 19 окт. 1925 г.] Автограф. — РГАЛИ. Ф. 998. Оп. 1. Ед. хр. 2163. Л. 12.
17 Парнах В. Самум. Париж, 1919. С. 16, 18 – 19.
18 Подробнее о взаимоотношениях Мейерхольда и Парнаха см.: Джаз-банд и «левый театр»: Письма В. Я. Парнаха Вс. Э. Мейерхольду (1922 – 1930) / Публ., вступит. статья и коммент. О. Н. Купцовой // Мнемозина: Документы и факты из истории отечественного театра XX века / Ред.-сост. В. В. Иванов. М., 2009. Вып. 4. С. 819 – 841.
19 Письмо В. Я. Парнаха Вс. Э. Мейерхольду от 2 июня 1922 г. Автограф. — РГАЛИ. Ф. 998. Оп. 1. Ед. хр. 2163. Л. 2 – 8.
20 Возможно, предвидя подобное развитие событий, уже в последних числах марта 1922 г. Парнах посылает по разным московским адресам только что вышедшую книгу своих стихов «Карабкается акробат», тем самым заранее заново налаживая литературные, театральные, музыкальные контакты в России. В музее В. В. Маяковского хранится этот сборник Парнаха с автографом:
551 «Владимиру Владимировичу Маяковскому
привет его монументальным поэмам
автор.
Pension Hager
Motzstr<asse> 37
Berlin W
25.III-22» (сообщено В. Н. Терехиной).
Двумя днями позже книга была отправлена Вс. Э. Мейерхольду, о чем Парнах писал режиссеру в следующем письме:
«Многоуважаемый и дорогой Всеволод Эмилиевич,
27-го марта я напомнил Вам о моем существовании, послав Вам заказным через берлинский книжный магазин “Слово” мою четвертую книгу стихов “Карабкается акробат”, вышедшую в Париже…» (Джаз-банд и «левый театр». Письма В. Я. Парнаха Вс. Э. Мейерхольду (1922 – 1930). С. 824.)
21 Талов М. Указ. соч. С. 63 – 65.
22 Позже в состав джаз-банда уже внутри ГосТИМа вошли А. Капрович (саксофон-альт), А. Власов (саксофон-баритон), И. Ук (скрипка) (Переписка дирекции ГосТИМа с режиссерской частью и другими отделениями театра. Маш. копия. — РГАЛИ. Ф. 963. Оп. 1. Ед. хр. 90. Л. 2).
23 Парнах В. Жирафовидный истукан. М., 2000. С. 95.
24 Лиля Брик — Эльза Триоле: Неизданная переписка (1921 – 1970) / Сост., вступ. статья В. В. Катаняна. М., 2000. С. 22.
25 Эйзенштейн С. М. Как я учился рисовать: Глава об уроках танца // Эйзенштейн С. М. Избранные произведения: В 6 т. / Редкол.: С. И. Юткевич (гл. ред.) и др. М., 1964. Т. 1. С. 267.
26 См.: Советский театр. Документы и материалы. 1921 – 1926 / Ред. кол.: А. З. Юфит (гл. ред.), А. Я. Трабский (отв. ред. тома) и др. Л., 1975. С. 355.
27 Parnac V. Théâtre et musique // La Revue musicale. 1928. Août. P. 368.
28 Гвоздев А. Постановка «Д. Е.» в театре им. Вс. Мейерхольда // Жизнь искусства. 1924. № 26. Цит. по: Мейерхольд в русской театральной критике. 1920 – 1938 / Сост. и коммент. Т. В. Ланиной. М., 2000. С. 152.
29 Федоров В. Ф. Указ. соч. Л. 31.
30 Письмо В. Я. Парнаха Е. А. Тяпкиной от 20 июня 1927 г. Автограф. — РГАЛИ. Ф. 3042. Оп. 1. Ед. хр. 166. Л. 1 – 2.
31 Parnac V. Danse épique // De Stijl (Amsterdam). 1926. N 7 (Mars). P. 11 – 16.
32 Parnac V. Danse [Notations et textes] // Cahiers d’art. 1927. N 6. P. 4 – 5.
33 Parnac V. Notation de danses // La Revue musicale. 1928. Mars. P. 129 – 132.
34 Петров А. Указ. соч. С. 3.
35 Письмо В. Я. Парнаха Вс. Э. Мейерхольду от 9 апреля 1930 г. Автограф. — РГАЛИ. Ф. 998. Оп. 1. Ед. хр. 2163. Л. 28.
36 В книге «История танца» Парнах указал одну свою статью на русском и 22 на французском языке, целиком или частично посвященные искусству танца (список Парнаха, неточный и неполный по библиографическим данным, был уточнен публикатором): 1) Парнах В. Опыты нового танца // Жизнь искусства. 1925. № 4. С. 8; № 5. С. 2; 552 2) Parnac V. Meyerhold et le théâtre russe // Europe. 1925. Vol. 9. N 36. P. 490 – 495; 3) Idem. Der Neue Tanz // Querschnitt (Berlin). 1926. Mai. P. 359 – 361; 4) Parnac V. La danse en l’U.R.S.S. // La Revue musicale. 1927. Sept. P. 169 – 170; 5) Idem. Danses // Cahiers d’art (Feuilles volantes). 1927. N 6. P. 4 – 5; 6) Idem. Danses // Le Monde. 1928. N 4; 7) [Parnac V.] Music-hall // Le Monde. 1928. N 25; 8) Idem. Josephine Baker. Argentina // La Revue musicale. 1928. Mars. P. 153 – 154; 9) Idem. Notation de danses // La Revue musicale. 1928. Mars. P. 129 – 132; 10) Idem. Ballets russes // La Revue musicale. 1928. Juil. P. 289 – 290; 11) Idem. Théâtre et musique // La Revue musicale. 1928. Août. P. 362 – 370; 12) Idem. Ballets espagnols de l’Argentine // La Revue musicale. 1928. Oct. P. 475 – 476; 13) Idem. Spectacle musical // Cahiers d’art. 1928. N 10. P. 449 – 450; 14) Idem. Les danses de l’Argentine // La Revue musicale. 1929. Mai – juin. P. 71 – 72; 15) Idem. Ballets russes de Diaghilev [Le Bal] // Le Monde. 1929. N 5; 16) Idem. La danse et la Révolution // Le Monde. 1930. N 112; 17) Idem. Danse // Le Cahier. 1930. Nov. P. 19 – 28; 18) Idem. Music-hall de la Goulue à miss Florence // Le Cahier. 1930. Déc. P. 21 – 28; 19) Idem. L’Opérette et l’inquisition // La Revue musicale. 1930. Juin. P. 502 – 508; 20) Idem. Notes sur les danses espagnoles // La Revue musicale. 1931. Mai. P. 456 – 462; 21) Idem. Ballets anciens, ballets modernes // L’Amour de l’art. 1931. P. 456 – 460; 22) Idem. Derviches. Mathématique des derviches // La Revue musicale. 1931. Avr. P. 382 – 384.
Не все статьи из этого списка вошли в книгу (хотя по жанру это собрание отдельных эссе), но в то же время и сам список также неполон: не указаны статьи о танце, вышедшие в советской прессе в 1922 – 1924 гг., да и в период с 1925 по 1931 г. Парнах напечатал еще несколько работ в западной прессе, по какой-то причине не вошедших в этот перечень. См., например: Parnac V. Danse épique // De Stijl. Amsterdam, 1926. N 7 (Mars). P. 11 – 16.
37 Parnac V. Histoire de la danse. P., 1932.
38 Parnac V. Notation de danses… P. 130.
39 Parnac V. La danse en l’U.R.S.S… P. 170.
40 Parnac V. Notation de danses… P. 130.
41 Ibid.
42 Парнах В. Карабкается акробат. Париж, 1922. С. 7 – 8.
43 Mercure de France. 1921. 15 septembre. Цит. по: Талов М. Указ соч. С. 219.
44 Так, в кн. И. Е. Сироткиной «Свободное движение и пластический танец в России» (М., 2012) подглава о творчестве Парнаха включена в общую главу «Танцы машин».
45 Парнах В. Карабкается акробат. С. 21 – 22.
46 Петров А. Указ. соч. С. 3.
Ср. также другие отзывы о танцах Парнаха: «… моментальность и резкость толчков, динамическая напряженность, четкость и цепкость трудовых процессов, учащенное биение и перебой моторов, стремительность движения рычагов…» (Кан Е. Московские новаторы танца // Русское искусство. 1923. № 1. С. 95); «машинизированные танцы» (Трувит [Абрамов А. И.]. Балет и танец в Москве // Эхо. 1923. № 13. 15 июня. С. 8 – 9); «… все: и танк, и винт, и рычаг, и египетская иероглифика, но нет человека и его чувств» (Абрамов А. Машинные танцы // Театр и музыка. 1922. № 13. 26 дек. С. 364).
47 Парнах В. Новое эксцентрическое искусство // Зрелища. 1922. № 1. С. 5.
48 Парнах В. Древность и современность в слове и движении // Театр и музыка. 1922. № 10. С. 155.
49 553 В этом Парнах был солидарен с футуристами (как европейскими, так и русскими), которые считали главными характеристиками современной жизни скорость, динамику, диссонанс. Взгляды Парнаха на эту проблему были близки также точке зрения французского художника Ф. Леже, с которым Парнах был знаком по Парижу и даже пытался способствовать сотрудничеству Леже и Мейерхольда. В статье «Спектакль (зрелище). Свет — краска — подвижный образ — предметный спектакль» (1924), посвященной Л. Ю. Брик и предназначенной для публикации в «ЛЕФе», Леже писал: «Перенапряжение настоящей жизни и ее постоянные подергивания (курсив мой. — О. К.) являются на 30 % результатом несоответствия между динамическим темпом ее и тем руслом, в которое ее втиснули» (Лиля Брик — Эльза Триоле… С. 34). Отсюда спектакль «должен быть краток — для внутренней его ценности он должен продолжаться не больше 20 минут» (Там же. С. 26). См. также: Терехина В. Н. Театральный проект Леже и позиция ЛЕФа // Новые российские гуманитарные исследования. Электронный журнал ИМЛИ РАН. — http://www.nrgumis.ru/articles/article_full.php?aid=456&binn_rubrik_pl_articles=205
50 Парнах В. Новое эксцентрическое искусство. С. 5.
51 Парнах В. История танца. С. 79.
52 Не исключено, что Парнах знал и медицинское значение слова «синкопа» — неожиданный обморок при кратковременной потере сознания. Тогда внезапная истуканизация и падение в его танцах («грохающееся», «бухающееся» тело) может быть рассмотрена в этом же ряду как телесная синкопа.
53 Парнах В. Древность и современность в слове и движении. С. 155.
54 Там же.
55 Там же.
56 Там же.
57 Там же.
В. Я. Парнах
Театр им. В. Э. Мейерхольда
58 Маш. с правкой В. Я. Парнаха. — РГАЛИ. Ф. 963. Оп. 1. Ед. хр. 400. Л. 1 – 2. См. также: Парнах В. Я. К вопросам записи движений. Запись танца «Жирафовидный истукан» // Файко А. «Учитель Бубус». Музейный режиссерский экз. Маш. с правкой В. Я. Парнаха. — РГАЛИ. Ф. 963. Оп. 1. Ед. хр. 408. Л. 71 – 74. Запись танца «Жирафовидный истукан» на франц. яз. опубл.: Parnac V. Danses // Cahiers d’art (Feuilles volantes). 1927. N 6. P. 5. Во французском тексте есть деление на нумерованные девять частей танца, отсутствующие в русском варианте.
59 «Отталкивания рычага и порывистых стержней прерываются падением тела, грохающегося среди танца о пол, — лежачий танец, вставленный в первый», — так описывал этот момент В. Ф. Федоров (Федоров В. Ф. Указ соч. Л. 31).
60 Файко А. «Учитель Бубус». Музейный режиссерский экз. Маш. с правкой В. Я. Парнаха. Со штампом музея ГосТИМа. — РГАЛИ. Ф. 963. Оп. 1. Ед. хр. 408. Л. 62 – 70. На л. 66 запись иероглифов движения танца «Эпопея» и на л. 70 запись иероглифов движения танца «Этажи иероглифов». Л. 71 – 74 — запись танца «Жирафовидный истукан».
Запись танца «Эпопея» на французском языке опубл.: Parnac V. Danse épique // De Stijl. Amsterdam, 1926. N 10 (VII). P. 11 – 16; Idem. Danses… P. 4 – 5. Французский текст несколько отличается от русского. Публикация записи танца «Эпопея» в амстердамском 554 журнале «De Stijl» прежде всего графически оформлена как таблица, имеющая четыре столбца: музыка, положение головы и туловища, положение рук, положение ног. (См. републ. этой записи в англ. пер.: Law Alma H. Parnakh Valentin. The Epic Dance // Experiment/Эксперимент. A journal of Russian Culture. MOTO-BIO — The Russian Art of Movement: Dance, Gesture and Gymnastics, 1910 – 1930. 1996. Vol. 2. P. 430 – 434.). В записи «Эпопеи» в «Cahiers d’art» 22 (а не 21) нумерованные части танца.
Название танца «Эпопея» объяснялось Парнахом следующим образом: «… вся эпопея наших дней разворачивается в танце» (Parnac V. Notation de danses. P. 130).
61 Choo Choo Blues («Ту-Ту Блюз», 1922) — фокстрот, входивший в репертуар «Вирджинцев» (Virginians), оркестра под руководством Р. Гормана. «Вирджинцы» считались оркестром-сателлитом джаз-банда П. Уайтмена.
62 The Rose of the Rio Grande («Роза Рио-Гранде», 1922) — фокстрот композитора Г. Уоррена, слова Э. Лесли. Входил в репертуар «Вирджинцев».
63 Dancing Honey-Moon («Танцуя “Медовый месяц”»). Входил в репертуар оркестра П. Уайтмена.
64 Dardanella («Дарданелла»). Входил в репертуар оркестра П. Уайтмена.
65 Запись танца «Этажи иероглифов» на французском языке опубл.: Parnac V. Notation de danses. P. 130 – 132. Французский текст незначительно отличается от русского: в нем не указан конкретный аккомпанемент (фокстрот «Японский песочный человек»), хотя обозначены его части: серенада, аллегро и т. д. Предложена иная нумерация: во французском тексте всего 11 фрагментов танца. «Цапля» во французском варианте заменена на «фантастическую птицу».
66 Japanese Sandman («Японский песочный человек», 1920) — фокстрот композитора Р. А. Уайтинга, слова — Р. Б. Эгана. Приобрел популярность в Америке и Европе благодаря исполнению оркестра П. Уайтмена. Вошел в первую пластинку П. Уайтмена, разошедшуюся тиражом в 2 млн экз.
555 «МЫ ВСЕ
ВИСИМ В ВОЗДУХЕ…»
Письма Н. Г. Сергеева к А. К. Шервашидзе (1921 –
1933)
Публикация, вступительная статья
и комментарии С. А. Конаева
Николай Григорьевич Сергеев (1876 – 1951), педагог Санкт-Петербургского театрального училища и режиссер балета Императорских театров в 1903 – 1917 гг., вошел в историю тем, что под его началом балетный репертуар Мариинского театра был записан в системе нотации В. И. Степанова и сохранился в виде архива. Нельзя сказать, что Сергеев пробил стену непонимания — идее записи балетов сочувствовали все директора Императорских театров начиная с И. А. Всеволожского, добившегося от Министерства Двора утверждения тарифов на оплату записи1. Как продолжатель дела Степанова Сергеев не был ни идеалистом, ни творцом, в отличие от А. А. Горского, более того — чем дальше, тем реже вспоминал о самом авторе системы, что вызвало справедливое возмущение вдовы Степанова2. Морально небезупречной (хотя не противоречившей советскому законодательству3) была сама мысль забрать с собой в 1918 г. в эмиграцию архив нотаций, приобретавшихся дирекцией в казенную собственность.
Если судить по результату, то собрание балетных нотаций и нот из фонда Н. Г. Сергеева в Гарвардской театральной коллекции — при всей неравноценности записей, не все из которых сделаны самим Сергеевым, — едва ли не единственный источник, позволяющий проследить судьбу классического балетного наследия в России и на Западе, выделить среди множества артистов и балетмейстеров тонких интерпретаторов и верных тексту репетиторов, отличить закономерности развития от произвола, мастеров с идеальной памятью — от фантазеров. Нотации, сделанные в ту же эпоху А. И. Чекрыгиным и А. М. Монаховым, но не попавшие к Сергееву, ныне утрачены4. Нотации А. А. Горского ограничиваются его балетом «Клориндай» и несколькими вариациями. Восхищение системой Степанова у московского премьера В. Д. Тихомирова, который считал ее больше подходящей для фиксации движений, чем немое кино5, не оказало никакого влияния на его учеников и учениц, манкировавших занятиями по этой системе, которые вела М. Н. Горшкова. Вообще, увлечение деятелей Большого театра системами записи танца почти всегда сочеталось с неспособностью к систематической работе по фиксации балетных текстов. Так, уже в 1930-е гг., несмотря на интерес балетмейстера Р. В. Захарова к системе С. С. Лисициан, ни одна постановка не была записана полностью.
В отечественном балетоведении сформировалось устойчиво негативное отношение как к самому Сергееву, так и к его записям. Проблема тут даже не в том, что обсуждением личности подменяется изучение хореографических 556 нотаций, а в том, что далеко идущие выводы делаются на неполном либо устаревшем материале. Действительно, М. И. Петипа, А. Я. Ваганова, Ф. В. Лопухов отзывались о Сергееве сплошь в уничижительных выражениях: интриган, приспособленец, бездарность, доносчик дирекции. Но, скажем, балетные эмигранты — Т. П. Карсавина, Б. Ф. Нижинская и даже М. М. Фокин — высказывались о нем куда спокойнее, не отрицая ни консерватизма и творческой ограниченности, ни подлинной страсти к системе записи. Примечательно, что Лидия Лопухова в отличие от своего брата прекрасно ладила с Н. Г. Сергеевым, не раз выступая в роли доброго гения, посредника и переводчика. Нинетт де Валуа вспоминала, что Лидия «обожала» Сергеева, «говорила, что в Мариинском театре его очень боялись», и порой добавляла торжественно: «Он не брал взятки»6.
Критика Н. Г. Сергеева как администратора и режиссера до сих пор во многом основывается на статье о нем во втором томе «Материалов по истории русского балета» (1939)7. За спорами об авторстве данного капитального для своего времени труда8, теряется проблема качества конкретных материалов. В статье о Сергееве архивные факты смешаны с нелепицами и сплетнями, источник которых неизвестен. Так, вопреки утверждениям автора о небывалых командировочных расходах Сергеева, из материалов личного дела режиссера в РГИА следует, что его командировки в Москву ничем не отличались от командировок других сотрудников. Сергеев не донимал своими нравоучениями Театральное училище, как утверждается в «Материалах…», а оправдывался за демонстративный уход с экзаменационного спектакля (балет М. М. Фокина «Времена года»), который по должности обязан был досмотреть до конца, что бы он ни думал о новейших течениях в хореографии9. Ему вовсе не надо было убеждать дирекцию Императорских театров, что в балете берут взятки, — Теляковский это знал без него, с пристрастием отмечая в дневнике малейшие подозрения. Учитывая же свидетельство Л. В. Лопуховой, дирекции естественно было держать Сергеева на хорошем счету. При этом Теляковский, разумеется, превосходно знал все недостатки своего сотрудника, который не был новатором.
Сосредоточенность на «моральном облике» Н. Г. Сергеева мало способствует раскрытию объективных причин, благодаря которым режиссер балета — во все времена полезная, но скромная должность — на полтора десятилетия смог выдвинуться едва ли не в руководители всего петербургского балета.
Возвышение Н. Г. Сергеева, по сути, началось с докладной записки о проблемах записи танцев, предназначенной вниманию директора Императорских театров В. А. Теляковского:
«Покойный артист С.-Петербургского балета Степанов в 1891 г. изобрел способ записывания движений и хода балетных танцев. Способ этот, отличающийся удобством применения, тогда же обратил на себя общее внимание. Не будучи в состоянии в представляемой мною краткой докладной записке выяснить сущность этого дела, позволю себе указать только на практическую пользу этого изобретения. До Степанова раз поставленный балет нигде не записывался, все движения как кордебалета, так и солистов должны были оставаться исключительно в памяти исполнителей. Само собой разумеется, что при постановке в сезон значительного числа балетов память изменяла артистам и при возобновлении какого-либо балета 557 приходилось ставить его как бы заново. Ясно, что дело от этого страдает, приходится тратить совершенно непроизводительно огромное количество времени и труда на возобновление в памяти того, что может быть записано.
Благодаря тому, что мною записано по способу Степанова несколько балетов, я был в состоянии оказать существенную помощь гг. балетмейстерам при возобновлении балетов и как пример могу указать, что “Дон Кихот” был срепетован по моим записям, почему и не потребовалось приезда из Москвы г. Горского.
В 1893 году с ВЫСОЧАЙШЕГО соизволения способ записи танцев был введен в число обязательных предметов преподавания при Театральном училище.
Будучи призван преподавать означенный предмет, считаю своим долгом представить соображения мои по этому вопросу, относительно преподавания записи танцев в училище.
В настоящее время на преподавание моего предмета отведено на всех учащихся 7 часов в неделю, считая 4 часа для воспитанниц и 3 часа для воспитанников. Таким образом, на сто с лишком учащихся приходится в среднем по 4 минуты на воспитанника и 3 минуты на воспитанницу в течение недели. Желать достигнуть каких-либо осязательных результатов при такой затрате времени, уделяемого на каждого учащегося, невозможно.
Поэтому для правильной постановки преподавания в училище необходимо прежде всего:
1) Увеличить число уроков
2) Чаще ставить в школьном театре балетные спектакли с целью приохотить учащихся к записи танцев. Вместо оркестра было бы довольно одного рояля и двух скрипок.
Артисты не должны ограничиться изучением способа записи движений в училище. По окончании курса им следует продолжать начатое дело и показавших успехи следовало бы поощрять тем или иным способом, т. е. или увеличением содержания или назначением на лучшие места, но само собой разумеется, что полагаться на запись всех участвующих в особенности в настоящее время, когда столь важная отрасль балетного дела находится лишь в зародыше, невозможно, дело должно быть поручено, как это практикуется, впрочем, и теперь, одному руководителю, но ему в помощь непременно должны быть назначены два помощника. Лишь по истечении примерно годичного срока, если помощники окажутся способными продолжать дело записи танцев, могло бы быть назначено вознаграждение.
В настоящее время записи танцев веду я один, что при моих служебных обязанностях как танцовщика, так и преподавателя, лишенного помощников по записыванию, является крайне затруднительным.
Артист балетной труппы
Николай Сергеев
15-го мая 1903 года»10.
Сергеев не предлагал ничего неожиданного и не сообщал Теляковскому о том, что директор в общих чертах не знал ранее. Вопрос о помощниках при записи многоактных балетов был впервые поставлен А. А. Горским в 1896 г., когда ему было 558 предложено записать балет «Синяя борода». Перенос балета «по записям» впервые осуществил тот же Горский в 1899 г., поставив в Большом театре «Спящую красавицу», когда сам Теляковский руководил московскими императорскими театрами. Тем примечательней, что директор обратил внимание на докладную Сергеева. 23 мая 1903 г. он, по всей видимости, сам пригласил его для разговора. В брошенном вскользь сообщении о возобновлении «Дон Кихота» по записям, без участия А. А. Горского (сообщении едва ли правдивом, т. к. в коллекции Сергеева нет записей всего «Дон Кихота»), Теляковский увидел перспективы для решения давно беспокоившей его проблемы, с основным содержанием докладной не связанной: «При имении записей по балетам оказывается совершенно не нужной должность второго балетмейстера, а также и первого, если он не занят постановками», — сделал он вывод по итогам разговора11.
Давно присутствовавшая в планах и отчасти уже в практике Императорских театров запись балетов показалась Теляковскому способом разрешить кризис, причиной которого были эстетическое неприятие им внушительного, уже признанного классическим репертуара Мариуса Петипа, необходимость его поддерживать для функционирования труппы и нежелание напрямую вести дело с его создателем, человеком другой эпохи. Вопрос, насколько хорошо Сергеев сохранял этот репертуар и какова действительная роль хореографических записей в этом процессе, возник сразу, как только в афише Мариинского театра появилась строка «возобновлен по записям». Но очевидно, что реалистичный, лабораторно точный ответ на него мог быть дан только в условиях эмиграции: на непривычных сценах, вне хорошо обученной, знакомой с детства труппы, каждая кордебалетная артистка которой могла с полным основанием утверждать, что она и без записей все помнит.
Письма Н. Г. Сергеева художнику Александру Константиновичу Шервашидзе (Чачба) (1867 – 1968), сохранившиеся в Бахметьевском архиве (Нью-Йорк), раскрывают художественные принципы Сергеева и эволюцию, проделанную в 1920-е – начале 1930-х гг. Письма Шервашидзе Сергееву не выявлены, поэтому характер взаимоотношений режиссера и художника ясен не до конца. Неизвестна, в частности, роль, которую играла в этом знакомстве жена Шервашидзе, режиссер, актриса, педагог, издатель Наталия Ильинична Бутковская (1878 – 1948). В большинстве писем Сергеев обращается сразу к ним обоим, а иногда напрямую к Бутковской. В этих письмах мало «личного». Они отражают психологию балетного профессионала, обычные человеческие чувства тоже выражающего через профессию. Так, желая поддержать жену, часто хворавшую в Риге, он просит Шервашидзе купить ей в Париже балетные туфли.
Очевидно, что Шервашидзе и Сергеев были знакомы по Петербургу. Художник начал работать для Императорских театров в 1907 г.12, по рекомендации А. Я. Головина. Шервашидзе занимал в них уникальное положение — не поступая на службу, не примыкая ни к одной партии, он сотрудничал и дружил с людьми противоположных убеждений, добиваясь весомых художественных результатов. Так, в сезоне 1909/1910 он принял участие в экспериментальных поисках В. Э. Мейерхольда, оформив «Тристана и Изольду» Р. Вагнера (1909) и «Шута Тантрисе» Э. Хардта (1910), параллельно создавая костюмы для балета «Талисман» 559 Р. Дриго, который возобновлял ревнитель уходящей эстетики XIX в. и классических традиций Н. Г. Легат. Работа Шервашидзе настолько поразила М. Ф. Кшесинскую, что она заказала у него новые костюмы к своим выступлениям в «Талисмане» и «Дочери фараона»13. По замечанию В. А. Теляковского, Легат, Кшесинская и Сергеев составляли «один лагерь», отсюда должно быть ясно и отношение Сергеева к Шервашидзе. Февральская революция положила конец карьере Сергеева, подавшего в отставку 12 мая 1917 г., но как будто упрочила положение Шервашидзе, в том же месяце назначенного главным декоратором государственных театров14. Правда, уже в 1918-м Шервашидзе уехал из Петербурга в Абхазию, откуда эмигрировал в 1920-м15.
Живя в Париже и работая у Дягилева, то есть находясь в центре художественной жизни16, Шервашидзе, очевидно, был для Сергеева ценным источником сведений и мог быть посредником при переговорах и контактах17. Однако мало оснований думать, что он мог оказывать значительное влияние на их ход. Высказываемое Сергеевым желание «вместе поработать» не было риторической фигурой, но в полноценной форме не осуществилось (предстоит разобраться, были ли воплощены эскизы Шервашидзе в рижских постановках 1922 – 1925 гг., в каком качестве — исполнителей или авторов эскизов — выступали местные сценографы).
Несмотря на многочисленность русских балетных трупп, гастролировавших на Западе и порой ставивших адаптированные версии классики, Сергеев действительно был едва ли не единственным балетмейстером эмиграции, знавшим постановки Мариинского театра «в деталях». Его авторитет подкреплялся профессиональным опытом, хореографическими нотациями и режиссерской нотной библиотекой.
С. П. Дягилев оказался первым на Западе, кто востребовал эти качества и эти материалы. Ирония истории состоит в том, что, приглашая в 1921 г. Н. Г. Сергеева возобновить в Лондоне шедевр Петипа — «Спящую красавицу», Дягилев решал ту же проблему, что и Теляковский в 1903 г. По свидетельству режиссера «Русского балета» С. Л. Григорьева, после разрыва с Мясиным Дягилев как-то заявил в шутку, что ему нужен «балет, который будет идти все время» и, соответственно, делать постоянные сборы. Тогда, сказал Дягилев своему режиссеру, «Вы бы управляли всем, а я занялся бы чем-нибудь другим!»18
В Лондоне Сергеев испытывал явное удовлетворение от репетиций в привычной атмосфере со знакомыми по Мариинскому театру балеринами. Он высоко оценивает работу педагога Энрико Чекетти и балеринский подвиг Веры Трефиловой, вышедшей на сцену в главной партии после одиннадцатилетнего перерыва. Письма проясняют характер работы Н. Г. Сергеева над «Спящей красавицей» и его отношение к предприятию Дягилева. Они позволяют отвести версию Антона Долина, что Сергеев покинул «Русский балет» за «несколько недель до первого представления» из-за вмешательства Брониславы Нижинской в постановку Петипа (в том числе из-за сочиненных ею новых танцев)19. Более того, двухмесячный контракт Сергеева (с 5 сентября по 17 октября 1921 г.) Дягилев продлил на весь сезон и Сергеев отработал весь срок проката спектакля, вплоть до 4 февраля 1922, когда импресарио распустил труппу. Консерватизм не помешал Сергееву совместно с Нижинской по заказу Дягилева расширить партию 560 феи Сирени, которую танцевала Лидия Лопухова (для нее пролог был дополнен эффектной виртуозной вариацией феи Драже из «Щелкунчика» в хореографии Льва Иванова, которую Сергеев возобновил по записям)20. В таком контексте не вызывает удивления фраза Григорьева: «Сергеев удачно восстановил хореографию Петипа и сумел сохранить ее точный стиль»21. Закрытие лондонского сезона Сергеев называл «пакостью», находя причины не в слабой посещаемости спектакля, не в неготовности английской аудитории воспринимать классический балет, а в нежелании Дягилева выплачивать своему партнеру Освальду Столю высокий процент по сборам (версия, подлежащая тщательной проверке по финансовым документам и контрактам).
Собственное дело на серьезных основаниях, контуры которого Сергеев обдумывал в Лондоне и обсуждал с Шервашидзе, ему выпало основать в Риге. Как следует из писем, в Ригу Сергеев и его жена, танцовщица Евгения Федоровна Поплавская (? — 1950), приехали 27 апреля 1922 г. Сергеев предполагает ставить балеты, «как в Петербурге», «полностью, с костюмами и декорациями», под «большой оркестр». Репертуарная программа включала «Тщетную предосторожность» Гертеля, «Пахиту» Дельдевеза и Минкуса, «Тени» из «Баядерки» Минкуса и «Волшебную флейту» Дриго. Она мало походила на обычный репертуар гастролирующих русских трупп и носила отчасти учебный характер. 10-го июня Сергеев открыл балетную студию («Оборудовал студию, как полагается сделал палки, соединил два зала вместе (проломав стенку), зеркало купил в ширину 43 верш[ка], в высоту 34 верш[ка]»). В сентябре открылся сезон в Рижской опере. Практически с первой работы — танцы в «Аиде» Верди — рижская пресса отмечает «усиление балетной части» при новом балетмейстере. Премьера первого балета в редакции Сергеева — «Тщетная предосторожность» — была показана 1 декабря 1922 г., с нее ведется история латышского балета. Главные роли в спектакле исполнили петроградские гастролеры, артисты бывш. Мариинского театра, Елена Люком (Лиза) и Борис Шавров (Колен). Сергеев играл комедийную роль Марцелины. Остальные партии и кордебалет составляли ученицы сергеевской студии и балетная труппа оперы.
Сергеев проработал в Риге три сезона (1922/1923, 1923/1924, 1924/1925), проявив немало настойчивости в осуществлении своей программы, которую ему приходилось чередовать с постановкой танцев в операх и даже в Латышской драме (спектакль «Царь Давид» по пьесе Я. Райниса). В 1923 г. рецензент выходившей на русском газеты «Сегодня» констатировал: «Ввиду отсутствия балерины, центр тяжести балетных представлений на сцене Национальной Оперы лежит, конечно, не в исполнении сольных номеров, а в массовых танцах. В этом отношении наш балет, благодаря умелому руководству г-на Сергеева, достиг заслуживающей признательности ступени. Массовые танцы исполняются с большой чистотой, сложные эволюции проделываются уверенно и проявляется даже известное “brio”. В техническом отношении нельзя не признать, что большинство нашего corps’а значительно усовершенствовалось»22. Из кордебалетных танцев Петипа Сергеев особенно ценил «Тени», которые готов был ставить в любой сюжетной оправе. Мари Рамбер вспоминала, как Сергеев уже в 1930-е гг., работая для Сэдлерс-Уэллс, донимал ее историей про «раджу или султана и всех его жен».
561 «— Так, — сказала я, — в чем я могу вам помочь?
— Ну, — ответил он. — Я думал, вы можете поставить это в своем театре.
— А почему не в Сэдлерс-Уэллс?
— Ох, он невозможно маленький»23.
Поиски балерины занимают значительное место в рижских письмах Сергеева: он пытается связаться с Тамарой Карсавиной, Александрой Балашовой и даже Лидией Карповой24. Перед постановкой «Пахиты» в латвийской прессе появляется информация, что в спектакле выступят артисты бывшего Мариинского театра Александра Федорова и Иван Киреев25. Однако в итоге на спектакле 22 мая 1923 г. главные роли исполняли та же Люком (Пахита), Шавров (Люсьен) и Сергеев (Иниго). По воспоминаниям М. Фонтейн, Люком была единственной балериной, для которой у Сергеева всегда было доброе слово. В письмах Шервашидзе это не отражено. Но всякий раз, когда заходит речь об Ольге Спесивцевой, у него проскальзывают ноты заботы и сочувствия: «Бываете ли Вы у Спесивцевой? Не сторонитесь ее, а захаживайте к ней почаще и вообще настраивайте ее», — внушает он Шервашидзе в письме от 22 декабря 1924 г.
Спесивцева дорожила Сергеевым: так, с ее подачи А. Л. Волынский в 1922 г. развернул кампанию по возвращению Сергеева в Петроград из Риги, где тот оказался после Лондона26. Балерина легче соглашалась на зарубежный ангажемент, если знала, что будет ставить Сергеев. Очевидно, по ее инициативе Н. Г. Сергеев в 1924 г. был приглашен в Парижскую оперу для знакового возобновления «Жизели»27, в 1926-м — «Теней» из «Баядерки» в честь приезда марокканского султана, в 1928-м — «Капризов бабочки» Н. Кроткова в Театре Елисейских Полей, а также должен был ставить «Конька-Горбунка» Ц. Пуни для ее лондонского ангажемента в сезоне 1925/1926 гг., в итоге не осуществившегося28. При этом в парижском архиве Спесивцевой нет его писем или материалов, кроме бумаги с парижским адресом (52 bis, rue des Abbesses, Paris. 18-е) и сообщением: «Имею родственника в Аргентине — Патагония. Начальник топографической съемки Владимир Николаевич Пестриков. — Pestrikoff. Находится на государственной службе» (на обороте приписка: «Рио-де-Жане[й]ро. Theatro Municipal. Monsieur Director do theatro Raul Lopes Cardaso»).
Невозможность обходиться без гастролеров, во многом лишала Сергеева поддержки латышской прессы, мечтавшей о «своей» приме. Но и общее отношение дирекции Рижской оперы к балету все менее способствовало осуществлению его амбициозных планов. 17 февраля 1925 г. состоялся отчетный вечер-концерт студии Сергеева, ставший заметным событием в Риге и отмеченный всеми основными газетами. Критик «Сегодня» писал: «Упорным, можно смело сказать, каторжным трудом Сергееву и его верной помощнице Поплавской удалось создать из весьма тяжелого сырого материала балетную труппу, если не блестящую, то, во всяком случае, приятную и обещающую в будущем много хорошего, ибо балетная труппа не создается по щучьему веленью в какие-нибудь три-четыре года, а вырабатывается лишь в течение десятилетий ценою неустанного упорного труда. Н. Г. Сергееву — пионеру латышского балета — следует предоставить более широкое поле деятельности, в рамках Национальной Оперы»29. Поле предоставлено не было, и в июне 1925 г. Сергеевы уехали из Риги в Париж. Потребность в переписке в значительной 562 мере отпала. Парижские контакты Сергеева и Шервашидзе представлены запиской 1926 г. и приглашением на «Сон Раджи» 7 лет спустя.
Обвинения в том, что «за тридцать лет работы в западных компаниях Сергеев не воспроизвел (по записям) ни один из записанных, но выпавших из репертуара балетов Петипа»30, несправедливы и абсурдны. Сергеев упорно возобновлял «Пахиту» и «Тени» из «Баядерки», которые уже из-за своей музыкальной основы в 1920 – 1930-е не имели никаких шансов на успех в той же Франции31. Возобновлял в свойственном ему стиле, исчерпывающе охарактеризованном Андреем Левинсоном, единственным критиком, имевшим представление о том, что служило Сергееву образцом: «Его драгоценные тетради позволили ему теперь в точности воспроизвести “Жизель” согласно Петипа, — писал Левинсон. — Сам он, насколько я знаю, никогда не сочинял. Этот добросовестный верный последователь клянется только in verba magistri [словами учителя]. Он с одинаковым упорством настаивает как на неувядаемых красотах произведения, так и на некоторых второстепенных и устаревших деталях постановки. Его “Жизель” являет правду тщательной копии. Это не вся правда. Ей не хватает того, что есть высшее достоинство художественного произведения: реального присутствия творца, веяния вдохновляющего духа»32. В одних случаях упорство Сергеева кончалось крахом, — так было, в частности, с постановкой «Баядерки» для труппы Анны Павловой: «Это [индусский танец] было так старомодно, что у труппы случилась истерика, и только Сергеев сохранял серьезность»33. Но в счастливых обстоятельствах то же упорство вело к реинкарнации петербургской школы и традиций Петипа на новой почве. Не будет преувеличением считать, что его постановки «Жизели», «Спящей красавицы», «Щелкунчика», «Коппелии», «Лебединого озеро», осуществленные в «Уик-Уэллс балле» по приглашению Нинетт де Валуа, не только заложили фундамент английского балета, но и позволили ему считать себя правопреемником и подлинным наследником балета императорского.
Письма публикуются по автографам, хранящимся в фонде А. К. Шервашидзе в Бахметьевском архиве (Bakhmeteff Archive of Russian & East European Culture; BAR Ms Coll/Shervashidze. Box 2).
563 1
17 октября 1921 г.
Лондон
Дорогие Наталия Ильинишна и Александр Константинович!
Извините, что так долго Вам ничего не писали. Работы у меня масса, а потому, наверно, меня простите. Труппа у С. П. Дягилева собралась хорошая, так что можно хорошо работать. Открытие предполагается 29-го октября34, но я лично думаю, что еще недельку задержат костюмы и т. п. вещи. Королеву играет жена Судейкина, с которой сегодня я говорил про Вас. Очень большая и красивая женщина, а как артистка еще себя не проявила ни в чем35.
Живем довольно далеко от репетиционного зала, но довольно хорошо устроились. Имеем в тюб36 абонемент и сколько угодно можем ездить; билет на месяц стоит 15 ш. 9 пен. Часто вспоминаем Вас. На этих днях выяснится мое положение, т. е. останусь ли я у С. П. Дягилева или нет?37 Жизнь здесь дороже, чем в Париже. Очень жалеем, что здесь приходится все покупать и за все переплачивать раза в два, а то и больше.
С. П. Дягилев взял в труппу Евгению Федоровну38 и будет платить 20 фунтов в месяц, а теперь платит 8 фунтов в месяц. [Она] страшно довольна и горда, что танцует в вальсе, а в прологе изображает даму.
Если бы открыть здесь школу, то работать можно было бы, т. к. Чекетти39 здесь работает великолепно.
Сейчас в труппе находятся наши артисты: Владимиров, Дубровская, Трефилова, Шоллар, Вильзак, Лопухова, Нижинская, Бурман, Кремнев, Чернышева, Григорьев, Егорова, да из Москвы несколько артистов и артисток40. Очень хотелось бы, чтобы Вы поработали у С. П. Дягилева.
Как идут Ваши дела? Как Ваше и Наталии Ильинишны здоровье? Лондон нам меньше нравится, чем Париж, а потому и скучаем о Париже.
Меня интересует первый спектакль, как встретит публика «Спящую».
С В. А. Трефиловой репетируем отдельно, т. к. она хочет раньше узнать свои силы и решить свой первый выход41, т. е. выступать ли в первый спектакль или подождать. С. П. Дягилев хочет, чтобы она выступала в первый спектакль, а она хочет себя подготовить, а потом уже и показываться, тем более что начало контракта у нее с 1-го Декабря.
Евгения Федоровна и я шлем Вам самых наилучших пожеланий.
Всегда помнящий и искренно Вас уважающий,
Ваш Н. Сергеев
Адрес мой: 32 Addisson Gardens, Kensington, W. 14. London.
2
8 декабря 1921 г.
Лондон
Дорогие Александр Константинович и Наталия Ильинишна!
Бога ради, не сердитесь, что мы до сих пор Вам не писали. Ежедневно у нас утром репетиции, а вечером спектакли, и не видишь дня, как он пролетает.
564 Каждый день идет все «Спящая», и, конечно, в начале недели, т. е. в понедельник и вторник, слабые сборы, а в другие дни лучше, но Дягилев ноет, что плохо идет дело. Столь42 и компания, наоборот, очень довольны сборами. Здесь балет публика любит, но нужно несколько разнообразить репертуар. Если бы иметь 2 или 3 старых балетов, то дела бы шли здесь великолепно. Я все думаю, как бы здесь устроиться или в Париже в «Opéra» и ставить старые балеты. Все декорации и костюмы поручить бы Вам писать.
Громадным успехом пользуется Спесивцева43 и делает сбор, но она танцует 2 раза в неделю. Она очень понравилась одному миллионеру армянину44, который нарочно приехал из Парижа на спектакль и ей преподнес корзину с фруктами, а затем цветы. Сейчас он у вас в Париже, а через две недели хотел опять приехать в Лондон. В пятницу уехал в Париж, а в Воскресенье уже говорил со Спесивцевой по телефону из Парижа. Она ему говорила, что хочет танцевать в Париже «Эсмеральду», он ей сказал, что постарается что-нибудь устроить. Если что осуществится, то, конечно, я Вас проведу уже рисовать декорации и костюмы. У этого миллионера нефтяные промыслы, а потому он и не знает, куда ему девать деньги; вот и начинает ухаживать за Спесивцевой, конечно, из этого у него не выйдет ничего, а она немного от него поживится.
Очень жалею, что нет здесь Вас, т. к. можно бы найти работу. В понедельник ожидаем английского короля на спектакль45. Ежедневно Вас мы вспоминаем и не знаем, как бы дождаться встречи. Я не теряю надежды, что мы вместе с Вами поработаем.
Мы переменили квартиру, и внизу пишу Вам наш новый адрес.
Кого Вы встречаете из наших общих знакомых? Как идет дело у Озаровского46? Очень Вас прошу передать мой привет всем, кто меня знает и помнит.
Здесь второй день тепло, а то было холодновато, да еще частенько туманы. Какая погода у Вас в Париже?
Заказал себе за 11 фунтов пиджачный костюм, довольно порядочно сшили и хороший материал. Я нахожу, что вещи все здесь дороже Парижа.
В субботу [10 декабря] начинает танцевать Трефилова. Танцует она очень хорошо.
Нет ли у Вас и у Наталии Ильинишны новой работы и новых учениц?
Очень будем рады, если Вы на нас не сердитесь и напишете пару слов.
Сейчас уже бежим на вечерний спектакль.
В некоторых газетах черкнули и мою фамилию, и я храню вырезки на всякий случай.
Я и Евгения Федоровна шлем Вам и Наталии Ильинишне самых, самых наилучших пожеланий.
Храни Вас Бог.
Ваш Н. Сергеев.
Адрес: London. 23 Stanwick Road. West Kensington. N. Serguéeff.
3
15 января 1922 г.
Лондон
Дорогие Александр Константинович и Наталия Ильинишна!
Поздравляю Вас с Новым годом и желаю Вам в этом году более лучшей жизни и возвратиться нам в нашу милую Россию.
565 Пишу это Вам второе письмо, но не знаю, почему это Вы мне ничего не пишете?
У Дягилева со Столем идут недоразумения, конечно из-за денег; говорят, что Столь дал на постановку «Спящей» 18000 фунтов и, конечно, со сборов вычитает, но это не устраивает Дягилева, и он хочет как можно скорее удрать из Лондона, забрав с собой и «Спящую». Пройдет этот номер у него или нет, вот вопрос?
Очень жалею, что я не владею английским языком. Есть кой-какие предположения, но до поры до времени я не хочу Вам [о них] писать. Мне кажется, что здесь можно работать, гораздо лучше, чем в Париже.
Мы все висим в воздухе и не знаем, долго ли здесь пробудем. Сборы теперь улучшились, и вряд ли Столь выпустит Дягилева. Столю, говорят, нравится балет.
Как идут у Вас дела и есть ли у Вас работа? Третий день у нас очень холодно и выпал снег. Я не теряю надежды, что мы вместе с Вами поработаем. Здесь хорошо идут дела в балетных школах, и хорошо бы нам открыть школу.
Что у Вас нового? Есть ли ученицы у Наталии Ильинишны?
Жду от Вас письма. Желаю Вам здоровья и всякого благополучия.
Храни Вас Бог,
Ваш Н. Сергеев.
Адрес: London. 23 Stanwick Road. West Kensington. N. Serguéeff.
4
6 февраля 1922 г.
Лондон
Дорогие Наталия Ильинишна и Александр Константинович!
Большое спасибо за Ваше милое письмо. Очень беспокоюсь, что так долго не имел от Вас вестей. 4-го февраля закрыли балетный сезон у Дягилева, закрыли раньше назначенного срока из-за недоразумений Столя с Дягилевым. Дягилев распустил труппу, объявив отпуск всем артистам, и сделал этим большую пакость артистам и Столю, а сам за неделю до последнего спектакля скрылся, оставшись должен большую сумму. За это Столь задержал костюмы и декорации, а Дягилев рассчитывал «Спящую» показать в Париже. Не поговорить ли мне со Столем и не предложить ли Столю продать «Спящую» в «Opéra» в Париж.
Теперь навертывается другое дело, но только когда оно будет, еще неизвестно. Предполагается компания из нескольких лиц богатых, и мы хотим поставить «Тщетную». Интересно знать, сколько будут стоить декорации? Для I-го и II-го акта оставить одну и ту же декорацию, убрав домик, сарай и забор, а для IV-го акта написать заднюю занавесь. III-й акт — должна быть комната. Вот и все декорации. Размер задней занавеси 15 х 12 метров. Я всеми силами буду стараться, чтобы Вы работали вместе с нами. На этой неделе выяснится все. Черкните поскорее, что приблизительно будут стоить декорации и костюмы (рисунки).
Закрытие прошло очень, очень помпезно. Театр был переполнен. Очень бы было хорошо узнать бы у Руше, что как бы он отнесся, купить бы у Столя за дешевую цену «Спящую», и я бы поставил в «Opéra». Вот бы был прекрасный номер для Дягилева, когда Париж увидел бы «Спящую» в «Opéra», а это ведь все возможно при теперешнем положении. Меня немного знают Руше, директор «Opéra», 566 секретарь его и библиотекарь, он же и музыкальный критик в «Фигаро»47. У них у всех я был весной.
Не можете ли Вы прозондировать почву на этот счет. Но только не откладывайте в дальний ящик.
Желаю Вам успеха и очень рад, что Вы имеете работу.
Искренне Вас уважающий,
Ваш Н. Сергеев
Евгения Федоровна шлет привет Вам [и] самых наилучших пожеланий.
Жду поскорее ответа об декорациях.
Адрес: London. 23 Stanwick Road. West Kensington. N. Serguéeff.
5
[Август 1922 г. Рига]
Дорогие Наталия Ильинишна и Александр Константинович!
Бога ради не сердитесь на нас, что мы Вам так долго не писали. Мы все скитались и теперь живем с 27-го апреля в Риге. Я подписал контракт на год, т. е. до 15-го августа 1923 года, в Латышскую национальную оперу балетмейстером. 10-го июня открыл балетную студию, и есть порядочно учеников48. Оборудовал студию, как полагается, т. е. сделал палки, соединил два зала вместе (проломав стенку), зеркало купил в ширину 43 верш[ка], в высоту 34 верш[ка].
Отдал оркестровать балет «Тщетную предосторожность» на большой оркестр, с которой и думаю начать балетные спектакли здесь; а если Бог приведет расширить дело, то весной думаю ехать в Стокгольм, на несколько спектаклей. Во второй спектакль думаю дать балет «Пахиту», а в третий — балет «Волшебную флейту» и из балета «Баядерка» (тени)49. Каждый балет думаю дать по 5 раз в месяц. Балерину для главной роли придется приглашать. Я не теряю надежды, что мы вместе с Вами и Наталией Ильинишной поработаем. Очень дорого будет стоить оркестровка, но все же почин уже сделал и к началу сентября буду иметь партитуру, а затем уже придется расписывать на партии.
Со своими ученицами я уже начал ставить танцы для «Тщетной», поставил вальс с букетами в 24 человека. Если будет все хорошо, то напишу письма к директорам в Лондон, Швецию, Данию, Францию и Германию, чтобы они посмотрели наши старые балеты, а не кривлянье.
Очень хотелось просить Вашего совета, в какие цвета одеть всех дам в вальсе и подруг в «Тщетной», они все 4-е акта будут в одних и тех же костюмах, а также и мать не знаю как нарядить. Все мужские костюмы думаю здесь подобрать, в театре, а дамские придется делать. Шить костюмы думаю в Берлине, т. к. все там дешевле. Я и Евгения Федоровна очень часто Вас вспоминаем, и хотелось бы Вас повидать да обо всем поговорить. Если Богу угодно будет осуществить весь мой план, который я задумал, то работы будет масса и работать будем вместе с Вами.
В студии провожу не менее 8 часов, все это для балета, и очень устаю. Что касается балерин, то я надеюсь, что им будет очень приятно выступать в целых вещах, а не в каких-то отдельных номерах. Не вижу, как проходит время, за работой.
567 Пишите, как Вы поживаете, что делаете? Что нового в Париже? Не знаете ли случайно адреса Лидии Владимировны Карповой50?
Очень жду от [Вас] весточки и думаю, что теперь писать будем чаще. Я и Евгения Федоровна от всей души желаем успеха во всех Ваших делах.
Храни Вас Бог.
Ваш Н. Сергеев
Адрес мой: Lettonie-Riga. Латвийская Национальная опера.
Балетмейстеру Н. Г. Сергееву.
Очень беспокоюсь, что дойдет ли мое письмо, т. к. не знаю, живете ли Вы все на той же квартире.
6
29 сентября 1922 г.
Рига
Дорогой Александр Константинович, письма английского банка, в котором Вы пишете, что перевели мне деньги, я не получал. В подтверждение же того, что я не получал через английский банк ни чека, ни наличных денег, может также служить и то обстоятельство, что я уехал из Лондона 8-го марта 1922 г., проехал через Дувр в Остенде, о чем свидетельствует соответствующая отметка английских властей в моем паспорте.
Простите, что так долго не отвечал Вам, но у меня была большая работа. До 15-го сентября не было оперного режиссера, и мне пришлось ставить оперу «Аиду», совместно с одним артистом оперным!51 В первых числах ноября думаю поставить «Тщетную». Делать думаю только одни тюники52, а остальные костюмы подбираю. Сегодня в пять часов будет заседание относительно балета и все окончательно решится. В будущем сезоне думаю поставить «Тщетную» уже в новых костюмах — с Вашей помощью, — по Вашим рисункам. Я думаю, что у меня будут деньги, чтобы сделать как следует.
Как Ваши дела? Если Вы получите мои 200 франков из банка, то их Вы не присылайте мне, а купите у Крея53 восемь пар розовых атласных танцевальных туфлей, № 25/5 для Евгении Федоровны, за что заранее Вас благодарю.
Евгения Федоровна и я шлем Вам самых наилучших пожеланий.
Ваш Н. Сергеев
Адрес Крея-сапожника: Crait. 42, Rue de Faubourg. Montmartre.
754
7 декабря 1922 г.
Рига
Князю Александру Константиновичу ШЕРВАШИДЗЕ
Милостивый государь Александр Константинович!
При сем письме прилагаю Вам обратно Ваш чек за № 8608 на £ 4.2.2. на Lloyds Bank Limited, London.
568 Денег по этому чеку мне не выдали по той причине, что истек срок выдачи чека.
Очень прошу Вас выслать мне новый чек того же банка или какого-либо другого на эту сумму в Ригу по адресу: Riga, Latwija, Smolenskerstras № 18 w 2. M. I. Iwanow для Nicolai Grigoriewitsch Sergeieff.
С совершенным почтением,
Н. Сергеев
Рига. Смоленская ул., № 18, кв. 2. Иванова.
8
10 января 1923 г.
Рига
Дорогие Наталья Ильинишна и Александр Константинович!
Поздравляем Вас с праздником и Новым годом и желаем всего наилучшего.
Читали в «Последних новостях» в объявлениях о Ваших спектаклях. Как он у Вас прошел?55
Мы теперь работаем над «Пахитой». Ставим как в Петербурге, т. е. все три акта56. Думаем дать в начале февраля.
Получили ли Вы мое заказное письмо с Вашим чеком на четыре фунта. Не можете ли Вы прислать мне новый чек, т. к. по старому мне не выдают, потому что он просрочен. Письмо Вам послал 7-го декабря 1922 г.
Как Вы поживаете и здоровы ли?
Отчего Вы так долго нам ничего не пишете? Написал в Париж письмо балерине А. М. Балашовой, но не знаю, получила ли она его, т. к. я не знал ее адреса и написал на театр Фемина57. Хочу пригласить ее сюда танцевать «Тщетную» и «Пахиту». Может быть, Вы ее встретите, то скажите ей, пожалуйста, об этом обстоятельстве.
Работаю много и, конечно, страшно устаю. Не знаю, как бы дождаться лета. Я и Евгения Федоровна часто вспоминаем и очень бы хотели Вас повидать.
От всего сердца желаем Вам успеха во всех Ваших делах.
Всегда помнящий и искренно любящий,
Ваш Н. Сергеев
9
26 июля 1923 г.
Рига
Дорогая Наталия Ильинишна и Александр Константинович!
Провез все границы, но в Латвии, это последняя станция, и я заплатил пошлину, [пошлина] правда маленькая, но все же пришлось платить.
Незлобин58 уехал в Россию. Муратов59 уехал в Берлин. Если что нужно узнать про русскую драму, то все узнаю, но только напишите. Евгения Федоровна шлет вам привет. Мы с ней часто вспоминаем Вас.
В Берлине видел Карсавину и Владимирова60. Они обещали приехать сюда в Ригу танцевать. Я рассказал все о своем деле, и они оба отнеслись очень хорошо ко всему моему начинанию.
569 Карсавина обещала написать Столю и Вольгейму в Лондон о моем балете61.
Есть ли из Лондона вести? Я не теряю надежды, что мы попадем в Лондон или Париж с нашим балетом. Получили ли Вы от Дягилева долг или нет? Я от Дягилева еще не имею приглашения, но думаю, что скоро напишет. Здесь я слышал, что из Петербурга скоро едет к Дягилеву Бенуа. Он будет писать декорации, но не знаю, для каких балетов.
Ну, как идут Ваши дела и приступили ли Вы к своей работе — расписывать комнату у Ваших жидов, — и дали ли они Вам денег? Думаю, если поеду к Дягилеву, заехать опять в Париж, но об этом я Вам черкну.
Здесь у нас жары нет и несколько дней подряд идут дожди. Я ехал из Парижа очень хорошо.
Если будут какие-нибудь новости, то черкните мне, я буду очень Вам благодарен.
У Евгении Федоровны что-то все держится температура около 37,1 – 37,7. Здесь туго дело обстоит с докторами, потому и не знаем, что делать и как быть?
Пишете ли Вы мне макеты «Тщетной» и «Баядерки»? Я буду напрягать все силы, чтобы был у меня хотя бы один балет полностью, с костюмами и декорациями!
Очень буду рад получить от Вас весточку. Мы Вам оба низко кланяемся и желаем быть здоровыми и успеха во всех Ваших делах.
Ваш Н. Сергеев
10
18 августа 1923 г.
Рига
Дорогой Александр Константинович!
Мы с Евгенией Федоровной очень огорчены Вашей болезнью. Желаем Вам отдохнуть хорошенько и поскорее поправиться. Очень Вас благодарю за Ваше письмо.
От Дягилева я пока еще ничего не имею. Я начал работать в опере и в своей студии. Начинаю ставить «Жизель». Написал письма в Петербург и Москву и пригласил артистов. Надеюсь в этом сезоне как можно больше дать балетных спектаклей.
Относительно эскизов, которые хотели мне сделать, Вы пишете, что пришлете их для «Спящей» и «Баядерки», а мы с Вами условились относительно «Тщетной» и «Баядерки». Наверно, Вы мне написали по ошибке.
Написал Карсавиной письмо и послал в Софию, где она теперь живет, но еще не имею от нее ответа. Я просил ее написать Столю и агенту Вольгейму в Лондон. Письмо я ей послал 26-го июля.
Сообщаю Вам адрес Русской драмы: Латвия. Рига. д. 13. Паулучи. Контора театра Русской драмы.
Муратов полторы недели как вернулся из Берлина.
Евгения Федоровна все хворает и не танцует сейчас.
Шлем Вам с Наталией Ильинишной привет и желаем всего хорошего. Пишите и не забывайте нас.
Ваш Н. Сергеев
570 1162
14 октября 1923 г.
Рига
Милый и дорогой Александр Константинович и Наталия Ильинишна!
Как Ваше здоровье? Отчего Вы ничего не пишете? От Дягилева я до сих пор не имею никаких известий. Не знаю, пригласит меня или нет? Я теперь ставлю «Жизель» и «Волшебную флейту». В ноябре думаю их дать, если ничто не задержит.
Евгения Федоровна все болеет, и доктор не разрешает ей танцевать. Она и я страшно горюем по этому случаю. Жду с нетерпением от Вас эскизов «Тщетной» и «Баядерки». Написал Т. Карсавиной письмо, где приглашаю ее к нам приехать танцевать, а также о нашем деле, чтобы она поговорила со Столем и Вольгеймом, но Вольгейм сейчас в Америке, и она его ждет. Я, как жид, толкаюсь во все щели и надеюсь, что как-нибудь пролезу.
Как пойдут у меня спектакли мои, то Вам пришлю программы. Я и Евгения Федоровна Вас целуем и желаем всех благ.
Искренне Вас любящий,
Ваш Н. Сергеев
[Адрес:] Латвия. Рига. Опера.
12
21 декабря 1923 г.
Рига
Милый и дорогой Александр Константинович и Наталия Ильинишна!
Поздравляем Вас с праздником и наступающим Новым годом. От всего сердца желаем здоровья и счастья.
Что же это Вы ничего не пишете? Как Ваше здоровье?
Я страшно много работаю, а потому плохо [себя] чувствую. Евгения Федоровна все хворает.
Три раза давал балет «Волшебную флейту» и «Тени» из «Баядерки», фотографии этих балетов я Вам посылаю63.
На последнем спектакле была Мария Николаевна Кузнецова и Георгий Михайлович Поземковский64. Они были крайне удивлены, увидав мою труппу и хорошо поставленный балет. Она обещала меня всюду рекомендовать. А в мае месяце предлагает ехать в Стокгольм, где они будут петь. Там будет русская опера и мой балет. Но я не знаю, как это все осуществится.
Как обстоит дело насчет моих макетов? Будем очень рады получить от Вас весточку. Я и Евгения Федоровна шлем Вам самые лучшие пожелания. Я слышал, что я Дягилеву дорог, а потому он меня и не выписывает ставить балеты. Что нового в Париже?
Искренно Вас любящий,
Н. Сергеев
571 13
23 апреля 1924 г.
Рига
Христос Воскресе65!
Дорогие Александр Константинович и Наталия Ильинишна!
Как Вы поживаете и как идут Ваши дела? У меня дела эту зиму шли довольно хорошо, дай Бог, чтобы и на будущее время было так же. В половине июня думаем вместе с Евгенией Федоровной приехать в Париж66. Нет ли у Вас поблизости недельки на две комнаты, чтобы мы могли остановиться на это время, а затем где-нибудь в деревеньке пожить хотя бы один месяц и отдохнуть.
[Когда] приедем, Бог даст, то поговорим о многом. Что нового у Вас в Париже. Слышал, что Романов, Смирнова, Обухов и компания имели большой успех67. Правда ли это? Что слышали про Дягилева? Буду очень рад, если мне черкнете, а то я думаю, что Вы на меня за что-нибудь сердитесь. Прошу прощения, если я что Вам сделал худого.
В Берлине сейчас находится Спесивцева. Карсавина и Владимиров будут танцевать с 1-го Мая в Берлине, а теперь танцуют в Дрездене68.
Я и Е. Ф. шлем Вам и Наталии Ильинишне самых наилучших пожеланий и желаем быть здоровыми.
Надеюсь, что скоро, Бог даст, увидимся.
Искренно Вас любящие,
Сергеевы
Riga. Opéra. Сергеев.
14
22 декабря 1924 г.
Рига
Дорогие мои Наталия Ильинишна и Александр Константинович!
Поздравляем Вас с Праздником и наступающим Новым годом и от всей души желаем здоровья и всякого благополучия.
Как идут Ваши дела?
Видели ли Вы Балашову и как порешили со школой?69 Бываете ли Вы у Спесивцевой? Не сторонитесь ее, а захаживайте к ней почаще и вообще настраивайте ее70. Я ничего не знаю, как обстоит теперь дело в Opéra. Что писали и что пишут про «Жизель» и Спесивцеву?71 Вообще, мне бы хотелось знать настроение публики к старому классическому балету. Я здесь ровно ничего не знаю, что у Вас творится в Париже.
Медаль, которую мне обещал Руше, я еще не получил и не знаю, пришлют ли они?72 Пожалуйста, отыщите мои крылышки, которые я привез им для образца73. Я здесь страшно много работаю со своей студией, и хотелось бы во второй половине января дать ученический спектакль. Вообще, меня здесь страшно жмут и вставляют палки в колеса. Я решил здесь показывать зубы и, если [все это продолжится], в случае чего ехать к Вам в Париж, ибо здесь денег не сделаешь.
Буду бесконечно благодарен, если Вы пришлете вырезки из газет французских про «Жизель». Как, осталась ли довольна Ваша знакомая француженка, которая 572 была на первом спектакле? Если пойдете к Спесивцевой, то передайте ей наш привет. Вообще, если пойдете в Opéra, то передайте, пожалуйста, Руше и Блондо, а также Тисерану74 мой поклон, да это Вы сумеете сделать.
Приехав сюда [в Ригу] после Парижа, [почувствовал, что] мне стало здесь довольно тоскливо. Что [вы] слышали про дела Дягилева в Лондоне? Поедет ли Александр Константинович к Дягилеву в Ниццу?
Буду очень благодарен, если Вы мне черкнете пару слов.
Еще раз желаем Вам успехов во всех делах.
Ваш Н. Сергеев
15
7 июня 1926 г.
Париж
Дорогой Александр Константинович!
Сегодня же позвоните, пожалуйста, к О. А. Спесивцевой. Нужно торопиться с нашим делом75.
Ваш Н. Сергеев
16
[На бланке:] Nicolas
SERGUÉEFF
Ex-Régisseur
Général et Maître de Ballet
du Théâtre
Impérial Marie de Saint-Pétersbourg.
14 января 1933 г.
Париж
С Новым годом!76
Дорогой Александр Константинович!
23-го января пойдет мой балет «Сон Раджи»77, и если захотите посмотреть, как это все вышло, то я на всякий случай прилагаю Вам контрамарку.
Масса всяких интриг. Ну да без этого и нельзя. Привет наш Наталии Ильинишне.
Жена и я желаем Вам здоровья и всего, всего наилучшего.
Ваш Н. Сергеев
573 Комментарии
Вступительная статья
1 См., напр., в рапорте директора Императорских театров В. А. Теляковского министру Императорского двора В. Б. Фредериксу от 1 апреля 1905 г.: «Г. Министр Императорского двора, по докладе ему памятной записи от 22 ноября 1896 г. бывшего Директора Императорских театров, Обер-Гофмейстера, И. А. Всеволожского, предоставил власти Директора Императорских театров право поручать записывание балетов по системе покойного артиста балетной труппы Императорских С.-Петербургских театров Владимира Степанова, с вознаграждением от 25 до 100 руб. за акт» (РГИА. Ф. 497. Оп. 5. Ед. хр. 2848. Л. 50 – 50 об.)
2 См.: Бинокль [Витвицкая Б. И.]. Беседа с Н. Г. Сергеевым. Письмо М. А. Эрлер / Публ. Н. Зозулиной // Балет Ad libitum. № 1 (19). 2010/2011. — http://forum.balletfriends.ru/viewtopic.php?p=122108
3 Частью второй Постановления ВЦИК от 11 ноября 1921 г. о введении в действие Гражданского кодекса РСФСР устанавливалось, что «никакие споры по гражданским правоотношениям, возникшим до 7 ноября 1917 г., не принимаются к рассмотрению судебными и иными учреждениями Республики». В связи с этим в 1920-е гг. некоторые авторы, услуги которых были оплачены дирекцией Императорских театров, обращались в суд с требованием повторных выплат за уже оплаченную работу и выигрывали иски. См., напр., дело В. С. Алексеева, автора перевода либретто оперы «Чио-Чио-сан», против Большого театра в 1925 – 1926 гг. (неатрибутированная вырезка из собрания Библиографического кабинета ЦНБ СТД РФ, папка «Большой театр, общие статьи»).
4 О записях А. М. Монахова см.: Кузнецов А. А. Горский — интерпретатор балетов Петипа // Балетмейстер А. А. Горский / Сост. Е. Я. Суриц, Е. П. Белова. М., 2000. С. 261; о записях А. И. Чекрыгина см. в наст. изд. публ. Б. Ф. Нижинская. Дневник (1919 – 1921); трактат «Школа и театр Движений» (1918 – 1919), коммент. 253.
5 См.: Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых фильмов России, 1908 – 1919 / Сост. В. Иванова и др. М., 2002. С. 160.
6 См. Valois N. de. Come dance with me: a memoir 1898 – 1956. Dublin, 1992. P. 112.
7 Материалы по истории русского балета: 200 лет Ленингр. гос. хореогр. училища. 1738 – 1938: В 2 т. / Сост. М. Борисоглебский. Л., 1938 – 1939. Т. 2. С. 76 – 79.
8 Его составителем значится М. В. Борисоглебский, но большинство материалов приписывается балетоману и архивисту Д. И. Лешкову.
9 См.: Материалы по истории русского балета… Т. 2. С. 77 и личное дело Н. Г. Сергеева в РГИА. Так, 24 октября 1907 г. В. А. Теляковский дал предписание Санкт-Петербургской Конторе командировать Сергеева в Москву на 7 дней — «с выдачею ему суточных за 7 дней по 10 руб. — 70 руб. и за проезд туда и обратно — 42 — руб., а всего сто двенадцать рублей.» (РГИА. Ф. 497. Оп. 5. Ед. хр. 2848. Л. 72). Объяснения Сергеева насчет его демонстративного ухода с экзаменационного спектакля и вердикт Теляковского см.: Там же. Л. 78 – 78 об.
10 РГИА. Ф. 497. Оп. 5. Ед. хр. 2848. Л. 32 – 34.
11 Теляковский В. А. Дневники директора Императорских театров / Под общ. ред. М. Г. Светаевой; подготовка текста С. Я. Шихман и М. А. Малкиной; коммент. М. Г. Светаевой и Н. Э. Звенигородской при участии О. М. Фельмана. 1901 – 1903. М., 2002. С. 486.
12 574 В 1930 г., отвечая на вопросы баронессы М. Д. Врангель, А. К. Шервашидзе указал другую дату — 1906 г., проверить которую не удается (цит. по ксероксу, любезно предоставленному редактором-составителем настоящего издания; оригинал находится в Гуверовском институте). 1907 годом датируется его эскиз декорации («улица» в 3-м акте) к опере «Фауст». (См. А. К. Шервашидзе: Живопись. Графика. Театрально-декорационное искусство. Художественная критика. Сухум; СПб., 2009. С. 40).
13 Премьера возобновления «Талисмана» состоялась 29 ноября 1909 г. в прощальный бенефис О. О. Преображенской. Кшесинская выступила в нем 31 января 1910 г., в «Дочери фараона» — 17 января 1910 г. (См. Кшесинская М. Ф. Воспоминания / Подготов. текста, коммент. и подбор илл. И. Клягиной; предисл. В. Гаевского. М., 1992. С. 117).
14 Такие сведения приводятся в кн.: Романов А. А. На чужих погостах: Некрополь русского зарубежья. М., 2003. С. 279.
15 В анкете М. Д. Врангель Шервашидзе писал, что «в 1920 году приехал в Лондон из Батуми во время английской оккупации Грузии» (см. коммент. 12).
16 Шервашидзе писал М. Д. Врангель, что в 1923 – 1929 гг. выполнил для «Русского балета» Дягилева декорации по эскизам П. Пикассо, Ж. Брака, М. Лорансен, П. Пруна, Ж. Руо, по своим эскизам — «Менины» Г. Форе, «Послеполуденный отдых фавна» К. Дебюсси, «Триумф Нептуна» Л. Бернерса и «Боги-попрошайки» Г. Генделя (ср. коммент. 12 и 15).
17 Подробнее о жизни А. К. Шервашидзе и Н. И. Бутковской в эмиграции см.: Терехина В. Н. Князь А. К. Шервашидзе (Чачба) на Монпарнасе // Авангард и театр 1910 – 1920-х годов / Отв. ред. Г. Ф. Коваленко. М., 2008. С. 507 – 522; Самарин С. Н. Коломбина — подруга Арлекина: (Н. И. Бутковская) // Записки Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки / Отв. ред. П. В. Дмитриев. СПб., 2006. Вып. 6/7. С. 102 – 111.
18 Григорьев С. Л. Балет Дягилева: 1909 – 1929 / Пер., предисл. и коммент. В. Чистяковой. М., 1993. С. 141.
19 Dolin A. The Sleeping Ballerina. L., 1966. P. 24.
20 См. рецензию А. Левинсона, где он пишет, что фея Сирени танцует вариацию Драже из «Щелкунчика» в хореографии Л. И. Иванова, и выражает удивление, что Иванов не упомянут в программке (Levinson A. Une dernière étape des «Ballets Russes». La Belle au Bois Dormant // Le ballet au XIXe siècle. Numéro spécial de la Revue Musicale. Décembre. P., 1921. P. 133 (229)). Режиссерский клавир балета, хранящийся в фонде Пауля Захера (Paul Sacher Stiftung, Базель) свидетельствует, что фея Сирени в спектакле «Русского балета» имела также вариацию в акте нереид, на музыку вариации Авроры, купированной в постановке Петипа. Стравинский, оркестровав ее, посвятил Лидии Лопуховой — исполнительнице феи Сирени. Хореографию этой вариации, очевидно, сочинила Нижинская.
21 Григорьев С. Л. Указ. соч. С. 144.
22 Petropolitanus. Национальная опера. Балетный вечер // Сегодня. Рига, 1923. № 267. 30 нояб. С. 3.
23 Rambert M. The Quicksilver. L.; N. Y., 1972. P. 138.
24 См. о ней коммент. 50.
25 — ņsch. Baletu «Pachita» // Latvijas Sargs. Riga, 1923. N 70. 6 apr. P. 3.
26 В архиве Волынского сохранилось написанное им от имени Спесивцевой письмо, предназначенное для Хореографического совета ГАТОБа:
575 «Аким Львович, Зная [Ваш интерес к балету — зачеркнуто] новую Вашу работу в Хореографическом Совете, хочу довести до Вашего сведения об одном чрезвычайно важном обстоятельстве. Вам хорошо известно, что многие постановки Мариуса Петипа совершенно позабыты. Целые балеты не могут быть возобновлены потому, что в труппе нет лица, которое помнило бы не только в деталях, но и в общем рисунке работу старого мастера. О том, что искажены до неузнаваемости превосходнейшие вариации, которые могли бы сиять новым светом для теперешних поколений артистов, Вы сами писали много раз. [При таком полож — зачеркнуто.] Однако я не считаю такое положение вещей безысходным. Мне кажется, имеется расчет, который поможет делу. Я виделась за границей с Н. Г. Сергеевым. Человек этот хранит, как талисман, подробнейшие записи главнейших произведений М. Петипа. Десятки вариаций и код записаны им на бумагу. По хранящимся у него редчайшим документам могут быть восстановлены танцы кордебалета. Неужели же, Аким Львович, все это должно пропадать где-то в тьме и заброшенности в такую тяжелую для балета, прямо роковую, прямо историческую минуту? Ведь это же чудом сохранившиеся от пожара бриллианты чистейшей воды, столь необходимые для возрождения современной балетной сцены. Вы рассказывали мне иногда о том, что найденные некогда старые античные манускрипты обусловили собою переворот в жизни целого народа. Я хорошо заметила и запомнила смысл Вашего урока. Ну а эти бриллианты великого мастера хореографического искусства? Разве они тоже не могли бы сыграть в настоящую минуту свою спасительную роль?
Но ведь этим одним дело не ограничивается. Сергеев не только записал постановки М. Петипа. Это еще превосходный репетитор, с большим запасом знаний и уменьем держать труппу со всем необходимым авторитетом. По моему опыту я знаю, что он способен не только рассказывать, но и показывать. Он демонстрирует все — не только танцы ногами, но и движения головы и корпуса, классическую жестикуляцию рук.
Мне кажется, что для спасенья дела нашего балета необходимо во что бы то ни стало вызвать этого человека из Риги. Я уполномочиваю Вас доложить содержание этого письма на заседании Хореографического Совета.
С совершенным уважением и преданностью, О. Спесивцева»
(СПбМТиМИ. Ф. 15752/218. ОРУ 15630 а, б).
Выдвинутая через А. Л. Волынского идея возвращения Н. Г. Сергеева в ГАТОБ вызвала резкое неприятие со стороны балетного руководства театра и послужила поводом для атаки на самого критика (См.: Волынский А. Л. Карета скорой помощи // Жизнь искусства. 1922. № 38. С. 5; Леонтьев Л. С. Ответ Управляющего балетной труппой // Там же. № 39. С. 6; Волынский А. Л. Ответ на письмо Управляющего балетной труппой Л. С. Леонтьева // Там же. № 40. С. 4; Лешков Д. И. История двух театральных статей // Обозрение театров и спорта. 1922. № 6. С. 5; Он же. Записи балетных танцев // Там же. С. 5 – 6; Он же. Еще о «Записях» // Там же. № 15. С. 5 – 6).
27 В архиве балерины сохранилась телеграмма администратора Парижской оперы Р. Блондо, отправленная 2 октября в Милан (получена, судя по штемпелю, 3 октября 1924 г.): «Сергеев согласился на фиксированные даты. Стало быть, можем заключить с ним [условие]. Будьте покойны. Комплименты. Блондо» (Архив Спесивцевой в Библиотеке-музее Парижской оперы).
28 576 А. Долин вспоминал: «Ольга была в особенности озадачена тем, чтобы заполучить Николая Сергеева на постановку “Конька-Горбунка” и желала, чтобы она в точности повторяла ту, что шла в России. Сэр Освальд [Столь] не воспринимал эту идею, и после долгих переговоров весь проект показать Спесивцеву в Лондоне был отвергнут» (Dolin A. The Sleeping Ballerina. P. 26). (Речь идет о сезоне 1925 – 1926 гг.)
29 [Б. п.]. Балетный вечер: (Национальная опера) // Сегодня. Рига, 1925. № 40. 19 февр. С. 7.
30 Зозулина Н. Н. С оглядкой на историю: (Н. Г. Сергеев и записи русских балетов из гарвардской коллекции) // Материалы науч.-практ. конф. «Проблемы сохранения и развития академических традиций в современном балете». СПб., 2010. С. 54.
31 Парижская критика 1920-х гг. находила, что и в «Жизели» А. Адана настоящей «музыки мало, конечно» (Brussel R. Théâtre de L’Opéra. Reprise de «Giselle», avec M-lle Spessivtzeva // Le Figaro. 1924. N 333. 28 nov. P. 4).
32 Цит. по машинописи перевода статьи из «Comoedia» (1924. 28 nov.), сохранившейся в архиве О. А. Спесивцевой в Библиотеке-музее Парижской оперы.
33 Algeranoff H. My Years with Pavlova. Melbourne, 1957. P. 165.
1
34 Открытие предполагается 29-го октября… — Сезон «Русского балета Дягилева» в Альгамбре открылся 2 ноября 1921 г.
35 Судейкина Вера Артуровна (урожд. де Боссé, в замужестве также Люри, Шиллинг, Стравинская; 1888 – 1982) — актриса немого кино, художница. В 1914 – 1916 гг. посещала в Москве балетную школу Л. Р. Нелидовой. В 1916 г. увлеклась художником С. Ю. Судейкиным и переехала с ним в Петроград, в июне 1917 г. они уехали в Крым, где в 1918 г. официально оформили брак. В 1920 г. Судейкины после странствий по Югу бывшей Российской империи (Тифлис, Баку, снова Тифлис, Батум) выехали в Париж. В «Русский балет» в 1921 г. Судейкину пригласил, по-видимому, С. П. Дягилев. 19 февраля 1921 г. Дягилев познакомил ее с И. Ф. Стравинским, который спустя почти два десятилетия станет ее мужем. В «Спящей принцессе» Судейкина играла пантомимную роль Королевы.
36 Тюб — метро (tube — англ.).
37 … останусь ли я у С. П. Дягилева или нет? — Контракт Сергеева с Дягилевым был заключен в Париже 11 августа 1921 г. на срок с 5 сентября по 17 октября. За этот срок Сергеев должен был «приготовить к исполнению и прорепетировать в Лондоне с балетной труппой С. П. Дягилева балет Чайковского “Спящая Красавица” по хореографии Мариуса Петипа». Дягилев, в свою очередь, обязывался «уплатить Н. Г. Сергееву за вышеуказанный срок по пятнадцати английских фунтов в неделю, а также предоставить ему два билета II-го класса на проезд из Парижа в Лондон и два билета III-го класса на обратный путь в Париж» (Harvard Theatre Collecrion. MS Thr 465 (50)). По-видимому, вскоре после того, как Сергеев отправил письмо адресату, в контракте появилась приписка: «Продлено до 15 июня 1922 года с жалованьем по тысячу двести фраков в месяц. (F1200). С. П. Дягилев» (Там же).
38 Поплавская Евгения Федоровна (? – 1950) — артистка балета, жена Н. Г. Сергеева.
39 Чекетти Энрико (1850 – 1928) — танцовщик, хореограф, педагог классического танца. Занятия с Чекетти обеспечивали единство стиля в «Русском балете».
40 Перечислены артисты, знакомые Сергееву по Императорским театрам: Владимиров Петр Николаевич (1893 – 1970), Дубровская Фелия (наст. Длужневская Фелицата Леонтьевна, 577 1896 – 1981); Трефилова Вера Александровна (1875 – 1943), Шоллар Людмила Францевна (1888 – 1978), Вильзак (Вильтзак) Анатолий Иосифович (1896 – 1998), Лопухова Лидия Васильевна (1892 – 1991), Нижинская Бронислава Фоминична (1891 – 1972), Бурман Анатолий Михайлович (1888 – 1962), Кремнев Николай Владимирович (1883 или 1886 – 1944), Чернышева Любовь Павловна (1890 – 1976), Григорьев Сергей Леонидович (1883 – 1968), Егорова Любовь Николаевна (1880 – 1972). Из них в партии Авроры были заняты Егорова и Трефилова, фею Сирени танцевали Лидия Лопухова и Бронислава Нижинская.
41 … и решить свой первый выход… — Первый выход В. А. Трефиловой в партии Авроры был назначен на 10 декабря. См. письмо 2.
2
42 Столь (Столл) Освальд — импресарио.
43 Спесивцева Ольга Александровна (1895 – 1991) — прима-балерина б. Мариинского театра (ГАТОБ), в «Спящей принцессе» исполняла партию Авроры. Спесивцева выехала из Советской России на время, с большими трудностями. Проект контракта Спесивцевой с Дягилевым (подпись балерины отсутствует), сохранившийся в ее архиве в Библиотеке-музее Парижской оперы, датирован 18 октября 1921 г. и содержит ряд отличий от других договоров «Русского балета» по «Спящей красавице». Например, в нем нет пункта об оплате проезда в Англию и обратно, срок действия ограничен с 1-го ноября 1921 по 15 февраля 1922 г., причем импресарио обязывался платить балерине 180 фунтов в месяц. Очевидно, после 15 февраля Спесивцева планировала вернуться в Петроград, в этом смысле преждевременное закрытие сезона 4-го февраля для нее мало что меняло. Не исключено, что приглашение Спесивцевой состоялось под влиянием Сергеева. Заслуживает проверки также сообщение А. Долина, что балерина согласилась на ангажемент только из-за того, что режиссером был Сергеев (Dolin A. The Sleeping Ballerina. P. 24). См. также вступ. статью и коммент. 26 и 27.
44 Она очень понравилась одному миллионеру армянину… — Имеется в виду нефтяной магнат и меценат Галуст Гюльбенкян (1869 – 1955). В статье Т. Смоляровой «Король Дягилев» без ссылок на источники высказывается версия, что негативное отношение С. П. Дягилева к ухаживаниям Гюльбенкяна за Спесивцевой сыграло свою роль в том, что спектакли «Спящей принцессы» прекратились раньше намеченного срока (Smoliarova T. Le Roi-Diaghilev // Versailles dans la littérature: mémoire et imaginaire aux XIXe et XXe siècles. 2003. P. 299).
45 В понедельник 12 декабря 1921 г. представление «Спящей…» посетили король Англии Георг V, королева Мэри, герцог Йоркский, королева Норвежская, принцессы Виктория и Мэри и лорд Ласкеллес (см.: Beaumont C. W. The Diaghilev Ballet in London: a personal record. L., 1951. P. 207).
46 Озаровский Юрий Эрастович (1869 – 1924) — артист и режиссер, после революции 1917 г. эмигрировал во Францию. Очевидно, Сергеев знал Озаровского по Императорским театрам, где тот с 1902 г. служил режиссером Александринского театра. Документов об их отношениях в этот период не выявлено. Из письма можно сделать вывод, что они не были враждебными, хотя Сергеев считался диктатором и консерватором, а Озаровский — либералом и новатором.
1 февраля 1921 г. Озаровский открыл Русскую драматическую школу, сведения о которой регулярно печатались в эмигрантской прессе. Так, 3 сентября было объявлено 578 о начале второго учебного сезона, а также об организации Мастерской русского сценического искусства с оперно-драматическим репертуаром, при участии Е. Н. Рощиной-Инсаровой, художников Г. К. Лукомского, С. Ю. Судейкина и др. (см.: Русское зарубежье: Хроника научной, культурной и общественной жизни: 1920 – 1940: Франция: В 4 т. / Под общ. ред. Л. А. Мнухина. М., 1995. Т. 1. С. 24, 45). В пользу школы 9 декабря 1921 г. дала вечер оперная певица, бывшая солистка Мариинского театра М. Н. Кузнецова (см. о ней коммент. 64). 6 декабря Озаровский принимал участие в музыкально-драматическом вечере, где также выступала хорошо знакомая Сергееву балерина Ю. Н. Седова (Русское зарубежье… С. 53).
4
47 Меня немного знают Руше, директор «Opéra», секретарь его и библиотекарь, он же и музыкальный критик в «Фигаро». — Имеются в виду следующие лица из администрации Парижской оперы: Жак Руше (Jacques Rouché, 1862 – 1957) — директор в 1913 – 1945 гг.; Пьер Сулэн (Pierre Soulaine, 1864 – 1940) — генеральный секретарь в 1915 – 1960 гг.; Шарль Буве (Charles Bouvet, 1858 – 1935), библиотекарь-архивист с 1919 г. Секретарем редакции и музыкальным критиком газеты «Фигаро» на самом деле был Сулэн, а не Буве (см. машинопись «Anciens artistes du chant et anciens employés de l’administration» в фонде Парижской оперы в Национальном архиве Франции. AJ/13/1213).
См. также письмо 14.
5
48 Самое раннее объявление об открытии студии с 10 июня разместила газета «Rigasche Rundschau» (1922. № 124. 7 Juni. S. 4):
«Балетная школа главного режиссера балета и главного балетмейстера Мариинского театра Николая Сергеева. Запись на летние подготовительные курсы для начинающих и имеющих опыт производится вплоть до 10 июня по адресу: улица Романова, дом 24, квартира 5, в 2 – 4 часа [дня]. Начало обучения — 10 июня, в 4 часа, по адресу Матвеевская улица, дом 11/13».
«Ballett-Schule
des Ober-Ballettregisseurs u. Ober-Ballettmeister d. Petersburg Marien-Theaters
Nikolai Sergejew.
Anmeldungen zu den Sommer-vorbereitungskursen für Anfänger und für höhere Klassen bis zum 10. Juni, Romanowstrasse Nr. 24, W. 5, von 2 – 4 Anfang d. Unterrichte am 10. Juni, 4 Uhr nachm. Matthäistr., 11/13 2 Tr.».
49 «Тщетная предосторожность» впервые показана 1 декабря 1922; «Пахита» — 22 мая 1923; «Волшебная флейта» и две сцены из «Баядерки» — 28 ноября 1923.
50 Карпова Лидия Владимировна (1885 – 1976) — артистка балета Мариинского театра. После революции уехала во Францию, осенью — зимой 1920 г. открыла в Париже курсы хореографии, участвовала в концертах. С. Н. Худеков писал о ней: «Интересная тонкая фигурка и красивая внешность. Темперамент есть, но очень незначительного объема. Танец корректен, но не больше…» (цит. по: Материалы по истории русского балета. Т. 2. С. 167). По всей видимости, Сергеев планировал пригласить ее на роль Лизы в «Тщетной предосторожности».
579 6
51 … и мне пришлось ставить оперу «Аиду», совместно с одним артистом оперным! — Газета «Latvijas Vēstnesis», в частности, сообщала, что «в связи с поздним прибытием режиссера Мельникова дирекция попросила поставить “Аиду” Рудольфа Берзиньша вместе с Ник. Сергеевым в качестве консультанта» (Nacionalā Opera // Latvijas Vēstnesis. Riga. 1922. N 201. 8 sept. P. 3). Танцами в «Аиде» Сергеев дебютировал в Рижской опере как балетмейстер.
52 Тюника — Так в обиходе петербургского балета называлась пачка. См. разъяснение начальницы главного гардероба московского Большого театра А. А. Гороховой: «Тюники по-петербургски — пачки по-московски» (РГАЛИ. Ф. 659. Оп. 4. Ед. хр. 3855. Л. 38 – 39).
53 … купите у Крея… — Парижский сапожник Крэ (Crait) пользовался безусловным авторитетом в театральном мире: у него заказывала танцевальную обувь дирекция Императорских театров, его адрес приводится в «методическом и практическом» пособии Адольфа Брашара «Как организовать мировое турне», изданном в Париже в 1913 г. (Brachard A. Comment on organise une tournée mondiale (imprésariisme méthodique et pratique). P.; Bruxelles, 1913. P. 85).
За этой строкой неожиданно следует французский текст — изложение просьбы, с которой Сергеев обращается к Шервашидзе в первом абзаце:
«Cher monsieur Schervachidze! Les 200 fr. que vous avez envoyé à Londres pour moi, je n’ai pas reçu, par ce que je suis parti de Londres a l’Ostende déjà le 8 mars.
29/9.22. Riga
N. Serguéeff».
Возможно, это было сделано на тот случай, если хозяева в отъезде, а прислуга не говорит по-русски.
7
54 Машинопись с рукописными вставками. В архиве Шервашидзе сохранился также второй экземпляр машинописи без вставок.
8
55 По всей видимости, имеется в виду объявление от 30 декабря 1922 г.:
«Театр для детей. Второй утренний спектакль для детей, в постановке Н. И. Бутковской и костюмах кн. А. К. Шервашидзе. В программе: Aventure des jouets (пьеса в 2-х картинах из жизни героев Андерсена); Pantomime en trois couleurs на музыку из балета Чайковского “Щелкунчик”; L’arbre de Noël chez Jésus Достоевского; Tableau russe (Русские народные игры, танцы и песни)»
56 В архиве Н. Г. Сергеева в Гарвардской театральной коллекции (далее HTC) сохранилась оркестровая партитуры «Пахиты», сделанная для рижской постановки и имеющая, в частности, карандашную помету «10/X-22 г.» (HTC. MS 245 (39). P. 3).
57 Труппа «Балеты Александры Балашовой» выступала в театре Фемина (Théâtre Femina) 8, 10, 11 января 1922 г.
9
58 Незлобин (наст. фам. Алябьев) Константин Николаевич (1857 – 1930) — театральный антрепренер и режиссер, в 1923 г. служил в Театре русской драмы в Риге.
59 580 Муратов Михаил Яковлевич (1885 – 1944) — антрепренер, с 1921 по 1925 — директор Театра русской драмы в Риге (совместно с А. И. Гришиным).
60 Т. П. Карсавина и П. Н. Владимиров выступали в Берлине 8, 9 и 10 июля 1923 г. в Немецком оперном театре (Deutsches Opernhaus) (см.: [Б. п.] К выступлениям Т. П. Карсавиной // Руль. 1923. № 790. 7 июля. С. 4). 12 июля 1923 г. они дали спектакль в Городском театре в Цоппоте.
61 Вольгейм (Вольхейм) Эрик — лондонский агент Дягилева. Имеется в виду «балет» как предприятие.
11
62 На обороте калькуляция:
12 х 12 [=] 144
12 х 8 [=] 96
5 х 12 [=] 60
2) 3 х 12 [=] 72
2) 10 х 4 [=] 80
5 х 10 [=] 50
[Итого] 502
100
12
63 В 1924 г. «Волшебная флейта» Р. Дриго и «Тени» из «Баядерки» Л. Минкуса были показаны 28 ноября (премьера), 2 декабря (в 2 часа дня) — второй спектакль; третий спектакль, на котором присутствовали М. Н. Кузнецова и Г. М. Поземковский, — состоялся 9 декабря в 2 часа. Тем же вечером в 7 часов они пели в «Кармен» Ж. Бизе.
64 Кузнецова-Бенуа Мария Николаевна (1880 – 1966) — одна из знаменитых сопрано эпохи, солистка Мариинского театра в 1905 – 1917 гг. и участница «Русских сезонов» С. П. Дягилева. Балетмейстеры высоко ценили ее пластическое дарование. М. М. Фокин поставил для нее в «Орфее и Эвридике», где М. Н. Кузнецова пела Эвридику, небольшое танцевальное соло, в котором ее с восторгом вспоминал Ф. В. Лопухов (Лопухов Ф. В. В глубь хореографии. М., 2003. С. 46).
Поземковский Георгий Михайлович (1890 или 1892 – 1958) — лирический тенор, солист Мариинского театра в 1916 – 1919 гг. После революции оба эмигрировали, выступали в Стокгольме, Париже, Вене и др. Точных сведений о гастролях в Стокгольме в мае 1924 г. не выявлено.
13
65 В 1924 г. Пасха справлялась 27 апреля по н. ст.
66 Возможно, эта поездка связана с приглашением Н. Г. Сергеева в Парижскую оперу для постановки «Жизели».
67 … Романов, Смирнова, Обухов и компания имели большой успех. — «Русский романтический балет» (Ballets romantiques russes) Бориса Романова, Елены Смирновой и Анатолия Обухова гастролировал в Париже в Театре Елисейских Полей в апреле 1924 г. (первая открытая генеральная репетиция была объявлена 2 апреля, последний спектакль — 20-го апреля). Газеты откликнулись на выступление Елены Смирновой в 581 «Жизели», сравнивая ее с Т. П. Карсавиной и А. П. Павловой. «Чудесное оживление» и «мощный ритм» 1-го акта в постановке Романова восхитили А. Левинсона (цит. по машинописи перевода из архива Спесивцевой в Библиотеке-музее Парижской оперы; ориг. см.: Comoedia. 1924. 28 nov.).
Сергеев хорошо знал Романова и Смирнову по Мариинскому театру; кроме того, 26 и 27 мая 1923 г. они выступали в Риге.
68 … в Берлине <…> а теперь танцуют в Дрездене. — Эти строки заставляют предположить, что Сергеев отвечает на какой-то запрос Шервашидзе.
Сведений о гастролях О. А. Спесивцевой в Берлине в апреле 1924 г. не выявлено. По всей вероятности, она могла находится там проездом, следуя в Италию. В ее архиве в Библиотеке-музее Парижской оперы сохранился документ, озаглавленный «Пребывание иностранца» (Soggiorno degla Stranieri) и штампом города Санта-Маргарита Лигури (где располагался туберкулезный санаторий) от 28 апреля 1924 г., хотя в «Летописи жизни и творчества» балерины утверждается, что выездной паспорт, позволивший ей уехать в Италию, она получила только в мае 1924 г. (см.: Летопись жизни и творчества // Ольга Спесивцева: [Альбом] / Авт.-сост. Е. М. Федосова, С. В. Лалетин, В. Головицер. СПб., 2009. С. 179).
Т. П. Карсавина и П. Н. Владимиров выступали здесь с 3 мая по 5 июня 1924 г. зале «Винтергартен», а затем 5 и 6 июня в Берлинер-театре. (См. также: [Б. п.] Тамара Карсавина // Руль. Берлин, 1924. № 1030. 25 апр. С. 5; Офросимов Ю. Карсавина в «Винтергартене» // Там же. № 1041. 8 мая. С. 5).
14
69 По-видимому, имеется в виду Театральная школа-студия для подготовки драматических, балетных и оперных артистов, открытая Бутковской в 1924 г.
70 В архиве Н. Н. Евреинова в РГАЛИ сохранилось несколько писем О. А. Спесивцевой к Н. И. Бутковской и А. К. Шервашидзе, имеющих доверительный характер. Почти все они не датированы. В одном письме Спесивцева, очевидно, продолжает обсуждение творческих задач, в разрешении которых мог бы принять участие Шервашидзе как художник: «“Четыре вр[емени] года” Чайковского не захватили, для большой аудитории слишком нежны, хотя тема богатая, можно было бы уничтожить редкие перемены, не закрывать от публики перерождения и соединить все четыре времени апофеозом. Детство, юность, зрелость и вечная старость. Не хватает крыльев, но души без крыльев летают, тело совершает много бессмысленных движений. Увижу ли Вас на этой неделе, а желание есть» (РГАЛИ. Ф. 982. Оп. 2. Ед. хр. 115. Л. 1 – 2). В другом читаем: «Дорогая Наталия Ильинишна, забыла вчера сговориться с Вами, когда удобней послать масло. Решила, что сегодня не застану Вас, у консьержки просила оставить. Широкие Вам мои объятия, Ваша Ольга» (РГАЛИ. Ф. 982. Оп. 2. Ед. хр. 116. Л. 1). К письмам приложен комментарий А. А. Евреиновой, воспроизводящий явно длительную историю отношений в ритме и жанре немой киноленты: «Спесивцева служила у Дягилева, и кн. Шервашидзе влюбился в нее и чуть-чуть не женился. Бутковская, бывшая его гражданской женой, испугалась, поехала в Monte Carlo и расстроила брак. Вскоре после этого мы (муж и я) их оженили (в Neuilly [sur Seine]). А. Евреинова. 28/VII 56 г.» (РГАЛИ. Ф. 982. Оп. 2. Ед. хр. 116. Л. 3).
71 «Жизель» А. Адана была возобновлена на сцене Парижской оперы 26 ноября 1924 г., после более чем пятидесятилетнего перерыва. Н. Г. Сергеев воспроизвел постановку 582 Петипа в Мариинском театре, однако на афише был указан как автор хореографии. Декорации создал А. Н. Бенуа, главную роль исполнила О. А. Спесивцева, ее партнером в роли Альберта был премьер Оперы Альберт Авелин.
В архиве Спесивцевой, хранящемся в Библиотеке-музее Парижской оперы, сохранились переводы статей А. Левинсона, Ж. Пиока, П. Судэ, Р. Брюнеля, Р. Брюсселя. Литературное богатство и красота этих переводов, свободных по стилю, точных без буквализма, компетентных в описании танца и набранных на печатной машинке в новой (советской) орфографии, склоняют к мысли, что эту работу проделал для балерины А. Л. Волынский, остававшийся в СССР.
Р. Брюссель писал: «Искусство этой танцовщицы совершенно особое, лично ей свойственное. Ничего общего с ослепительной виртуозностью и непогрешимым чувством ритма Замбелли; ничего общего с захватывающим натетизмом Павловой. Техника г-жи Спесивцевой обильна, точна и блестяща, но вместе с тем она настолько легка и естественна, что чувствуется только грация. Г-жа Спесивцева не возносит, как Павлова, роль Жизель на трагические высоты, а проводит ее в юном стиле. Вы находите здесь эту “детскую наивность”, этот “легкий налет меланхолического протеста”, которые поразили Готье в исполнении Карлотты Гризи. Г-жа Спесивцева с пленительной естественностью и искусством, в котором очень много элегантной точности, ведет танец и пантомиму. Гризи, ученица Перро, была француженкой по воспитанию. Г-жа Спесивцева точно так же восприяла французскую культуру, так как она окончила школу танцев в Петрограде, где еще живы наши традиции. Культ “Жизели” несколько забыт у нас, но еще недавно он царил в Петрограде, мне вспоминаются мои встречи там несколько лет тому назад с изумительно сохранившимся еще тогда Мариусом Петипа, творцом “Жизели” в исполнении Гризи. Несомненно, хореограф Сергеев, автор постановки “Жизель” в Парижской Опере, знал и сумел оценить указания знаменитого французского артиста. Принципы старинного балета чувствуются во всей продуманности и блеске постановки, в расположении и группировках» (Le Figaro. 1924. 28 nov.).
Одна из самых значительных рецензий принадлежит А. Левинсону: «“Жизель” была поставлена для дебютов в Париже Ольги Спесивцевой. После исполнения ею в Лондоне “Спящей красавицы” слухи об ее успехе перенеслись через Ла-Манш. Еще в школе на нее возлагались величайшие надежды. Она их не обманула. Она слишком молода и не была поэтому этуалью императорских театров. Она бы ею несомненно стала, если бы империя просуществовала дольше. Ее стиль целиком восходит к русской традиции французского танца.
С первого же своего появления Спесивцева поражает и чарует. Это существо удивительное и единственное в своем роде, настолько она приближается к известному типу хореографической красоты, типу, созданному Тальони. Самые линии Спесивцевой, удлиненные и трепетные, ее необычайно идеализованная человеческая сущность преувеличивают, если это возможно, образ серафимоподобной сильфиды. Воздушность, трогательная хрупкость этой новой Жизели кажутся почти болезненными. Но morbidezza [изнеженность, хрупкость] только придает этому элегическому существу лишнее очарование. Рисунок ног, контур подъема великолепны. Простая подготовка к четвертой позиции облекается при таких ногах очень редкой красотой. Тело Спесивцевой было бы достойным обиталищем гения. В нем действительно обитает дух, странный, скорбный, утомленный и иногда словно отсутствующий. Ничего общего с 583 тем ураганом души, какой носится над Павловой. Та точно линия, сверкающая чистотой. Спесивцева, мечтательная и изнемогающая, со склоненной головой и слегка согбенными плечами, не напоминает ли она скорее иву, столь дорогую меланхоличному сердцу двадцатилетнего Мюссе.
Однако эта нежная, едва выздоравливающая больная — танцовщица большого типа и редкого искусства. Взлет ее длинных тонких ног отличается великолепным размахом. Они служат пружинками для высоко взлетающих прыжков. Тонкий носок легко несет тяжесть корпуса при взлетах, вызывающих бурю аплодисментов. Наклоненная арабеска [arabesque penché] балерины вибрирует длительно, как струна Амати [лютни]. Ее пантомима — превосходное подражание Павловой; Спесивцевой она, должно быть, тягостна; мечтательность или тихий стон в колыхании танца ей ближе, чем бурное действие. Эта женщина — если позволено перефразировать знаменитую цитату — пляшущий тростник» (Comoedia. 1924. 28 nov.).
72 Возможно, речь шла о памятной медали по случаю пятидесятилетия открытия здания Парижской оперы — дворца Гарнье (Palais Garnier), к которому было приурочено возобновление «Жизели» (См. Le Ménestrel. 1924. № 45. 7 nov. P. 467).
73 Имеются в виду крепящиеся к тюнике крылышки, с которыми Жизель появляется в виде вилисы во II акте.
74 Блондо (Blondo) Роже — администратор Парижской оперы. В некоторых источниках встречается написание фамилии как Blondeau, однако официальные документы Opéra и подпись в его письмах и распоряжениях указывают, что правильно — Blondot (см.: Архив Спесивцевой в Библиотеке-музее Парижской оперы).
Тисеран (Tisserand) Марсель (1883 – ?) — режиссер балета Парижской оперы.
15
75 Главное дело, связывавшие в июне — июле 1926 г. Сергеева и Спесивцеву, — организация балетного представления в честь султана Марокко Муле Юзефа, которое было заказано маршалом Фердинандом Фошем (Foch), президентом политического клуба Союз Интераллье (l’Union interalliée). Планировалось показать на открытом воздухе, на летней сцене сада Серкль Интераллье, «Тени» из «Баядерки». Возможно, Сергеев пытался привлечь к этому замыслу Шервашидзе, который в таком случае должен был адаптировать старинный балет к пленэру. Документального подтверждения этому, однако, пока не выявлено, и в любом случае надежды организаторов спутала непогода:
«Было чудесное весеннее утро, когда на обширной сцене в английском парке “Серкль Интераллье” мы провели нашу генеральную репетицию, — вспоминала участница спектакля, танцовщица Н. А. Тихонова. — Вечером в последний момент хлынул дождь. Спектакль был перенесен на эстраду, наскоро собранную в бальном зале, на которой мы не смогли прорепетировать. Занавеса не было, черные сукна заменили высокие, освещенные прожекторами деревья и зеленые просторы сада. На небольшой эстраде потеряло весь эффект кордебалетное антре» (Тихонова Н. А. Девушка в синем / Подгот. текста, послесл. и коммент. В. Чистяковой. М., 1992. С. 105 – 106). Сохранилась фотография, по которой можно составить представление о костюмах танцовщиц (Там же. С. 101).
В главных ролях выступали О. А. Спесивцева и Серж Перетти, премьер Парижской оперы. Трио солисток составляли жена Сергеева Е. Ф. Поплавская, ученица студии 584 О. И. Преображенской Н. А. Тихонова и В. Петракевич (по сцене Петрова). Из воспоминаний Тихоновой известно, что вечер был отложен на две недели: приоритет в программе чествований оказался за другим балетным представлением, с участием танцовщиц Парижской оперы (оно состоялось вечером 16 июля 1926 г.; см.: Le sultan de Moroc à Paris. // Journal des débats politiques et littéraires. P., 1926. N 196. 17 juil. P. 2). Согласно отчету «Фигаро», балетный вечер 27 июля подавался уже под маркой «Петроградской Императорской труппы» («troupe du Théâtre Impérial de Petrograd»; см.: [La journée du sultan] A l’Union interalliée // Le Figaro. 1926. N 208. 27 juil. P. 3). Тихонова упоминает также, что Н. Г. Сергеев репетировал балет по своим записям.
Поставленная поначалу в кордебалет, юная танцовщица вынесла исключительно отрицательные впечатления от работы с Сергеевым: «Постриженная ежиком голова, маленькие колючие глазки, резкие окрики были больше под стать фельдфебелю, чем служителю муз. Почему он был так отчаянно бездарен? Почему показанные им движения делались уродливыми? Почему он принимал нас за умственно отсталых? Ответа я не нашла и терпеливо, хотя и без удовольствия, выносила непривычную мне атмосферу» (Тихонова Н. А. Указ. соч. С. 100). По ходу работы над спектаклем она обратила на себя внимание Спесивцевой, — и ее перевели в солистки. Сам спектакль прошел для Тихоновой неудачно: в антре она получила травму, однако смогла закончить свою вариацию, несмотря на «боль и потрясение», потому что «все было надежно проработано на репетиции» (Там же. С. 106).
16
76 Н. Г. Сергеев поздравляет своего адресата с Новым годом по старому стилю.
77 23 января 1933 г. в Театре Елисейских полей был показан вечер памяти Анны Павловой. Программа его включала «Сон раджи» («Тени» из «Баядерки» Л. Минкуса), поставленный Н. Г. Сергеевым по своим записям в декорациях К. А. Коровина. В главных ролях выступили танцовщик Генрих Танеев и Е. Ф. Поплавская, «искусная и живая», по отзыву рецензента, подписавшегося псевдонимом Tristan Klingsor (См.: Tristan Klingsor. La soirée à la mémoire d’Anna Pavlova // La Semaine à Paris. 1933. N 558. 3 – 10 févr. P. 55). О Танееве мало что известно — в 1930-е гг. его называли премьером Рижской оперы. Их дуэт с Поплавской сложился не позднее конца 1920-х гг.: известно, что они выступали в «Пахите» в зале Олимпия (можно предположить, что постановщиком также был Н. Г. Сергеев).
585 ДИСПУТ О ПУТЯХ СОВЕТСКОГО БАЛЕТА
19 апреля
1932 г.
Публикация, вступительная статья
и комментарии С. Б. Потемкиной
Среди документов из истории хореографического искусства 1930-х гг. «Диспут о путях советского балета» занимает особое место. До сих пор к нему не обращались исследователи. Кроме того, сложно вспомнить другое такое событие, где о балете высказывались бы люди столь различных специальностей — журналисты, идеологи, писатели и практики диаметрально противоположных хореографических направлений. Пестрый состав участников отражал сформировавшуюся в те годы в советском обществе практику обсуждения профессиональных вопросов непрофессионалами. Каким быть балету? На этот вопрос должна была ответить широкая общественность.
Сохранившаяся машинописная копия стенограммы «Диспута о путях советского балета. (В связи с конкурсом к XV годовщине Октябрьской революции)» (РГАЛИ Ф. 648. Оп. 2. Ед. хр. 842) зафиксировала такое событие. 19 апреля 1932 г. в Бетховенском зале Большого театра о балете говорили театральные критики П. И. Новицкий1, И. И. Бачелис2, Г. И. Геронский3, разведчик Р. П. Абих4, поэт Н. Н. Асеев5, композитор Н. К. Чемберджи6, один из идеологов эпохи П. Ф. Юдин7, актер-чтец Э. И. Каминка8, исполнительница свободного танца С. Чен9 и заместитель заведующего балетной труппой Большого театра М. М. Габович10.
Эпоха 1920 – 1930-х гг. была не только переходным периодом от хореографических экспериментов к единому стилю. Она стала периодом создания новой пластической реальности.
К 1932 г. большая часть студий, в которых велись поиски современной пластики, была закрыта, новшества на академической сцене отразил балет Л. А. Лащилина и В. Д. Тихомирова «Красный мак»11, где актуальная революционная тематика была втиснута в каноны классической формы.
Потенциально авторами новых форм на большой сцене могли стать К. Я. Голейзовский12, постановки которого были отвергнуты как упаднические, т. е. полностью не соответствующие новому содержанию, и представитель молодого поколения И. А. Моисеев13 — автор балета «Футболист», удачно осваивавший бытовой жанр. Именно «Футболиста» — не слишком удачную, но состоявшуюся попытку новой формы — участники диспута противопоставляют классическим балетам. При этом в обсуждении не упоминается ни один из балетов, который был новым для своего времени с точки зрения исторической перспективы: ни революционный «Смерч» К. Я. Голейзовского, выдержавший единственный показ на генеральной репетиции, ни отвлеченно-танцевальные опыты Ф. В. Лопухова — балет «Красный вихрь», танцсимфония «Величие мироздания»14.
586 Разнообразные мнения, высказанные в тот день о предназначении балета, целесообразности его сохранения и способах обновления, сходились в одном: необходим «человек, танцующий за себя, за свой человеческий образ, за всю гамму своих человеческих мыслей, чувств, эмоций» (И. И. Бачелис). Потребности, витавшие в воздухе, перекликались с советской идеологической установкой: отразить новое мировоззрение, стать содержательным искусством массового воздействия, «частью общей советской системы, которая охватила всю страну» (П. И. Новицкий).
По-прежнему казалось, что изменить положение может новая тематика. За месяц до проведения диспута «Комсомольская правда» с Большим театром вслед за коллегами из других областей искусства объявили конкурс-соревнование на создание оперы, балета и симфонии к 15-летию Октябрьской революции и 10-летию со дня основания СССР15. Подобное мероприятие тремя годами раньше, в 1929 г. уже проводил ЛенГОТОБ (Театр им. Кирова)16. Но тогда поверхностные требования сводились к современной тематике и построению спектаклей «на движениях масс».
Новая программа, опубликованная на 1/3 печатного листа «Комсомольской правды», являлась для композиторов и литераторов-драматургов развернутым руководством к действию17. В соответствии с ним произведение должно было отражать, во-первых, «революционную борьбу и грандиозные успехи рабочего класса в социалистическом строительстве»; во-вторых, сочетать «высокий идейный уровень содержания с высоким художественными достоинствами»; в-третьих, передавать «идеи диктатуры пролетариата и построения социалистического общества».
Среди предложенных, весьма абстрактных тем, фигурировали социалистическая индустриализация страны, социалистическая реконструкция сельского хозяйства, техническая революция, социалистический труд, национально-культурное строительство и, наконец, СССР — бригада мирового пролетариата. Еще ряд тем выглядел более конкретизированно, но не менее антибалетно: переделка человека, его сознания и быта, комсомол и его борьба на всех фронтах социалистической стройки, Красная армия и оборона страны, история революционной борьбы.
Перечисляя эти темы на диспуте, один из докладчиков, чтец Э. И. Каминка, обратил внимание, что с их содержательностью «не могут пойти ни в какое сравнение отдельные темы или мотивы индивидуальной душевной жизни, т. е. те темы, которые служили извечным вдохновением для старых произведений искусства». Двусмысленность формулировки не оставляет сомнений в истинной сути сказанного. Конечно же, темы индивидуальной душевной жизни вечны, но сейчас важно другое — балетное искусство не должно «отвлекать нас от реальной действительности» (см. наст. публ.).
В результате большинство либретто, представленных на конкурс, грешило подменой действия идеологическими формулировками, а интерес авторов сфокусировался на крупнейших исторических революционных событиях. Разрыв между теоретиками и практиками продемонстрировало либретто балета «Спартак», воплощенное на сцене только в 1956 г., то есть через 20 лет после создания18.
Немного отступить от современности позволяло авторам разве что примечание к программе конкурса, где говорилось о том, что «либретто могут являться переделками лучших произведений современной советской и мировой революционной литературы»19. В дальнейшем именно спектакли, созданные по произведениям 587 писателей-классиков — «Бахчисарайскому фонтану» А. С. Пушкина, «Ромео и Джульетте» У. Шекспира, значительно расширили возможности балетного театра, сближая его с театром драматическим.
Таким образом, было предопределено и развитие балета в сторону литературного сюжета. Не случайно музыка, предоставлявшая возможности новаторства прежде всего на уровне формы, оставалась на втором плане. «Я не верю в то, чтобы талантливые, но музыкально отсталые композиторы ваши могли действительно дать новую основу для подлинно нового балета», — цитировал С. П. Дягилева нарком просвещения А. В. Луначарский, публикуя свои диалоги с импресарио в «Вечерней Москве» летом 1927 г.20
Луначарский парировал, что и новая французская музыка «представляет собою нечто в высшей степени спорное»21. Диалог, таким образом, зашел в тупик, но на диспуте о путях советского балета эта тема возникла вновь. «Чрезвычайно характерен разрыв, который существует между музыкой и балетным движением на сценах современных балетных театров <…>, — обращал внимание присутствующих театральный критик и редактор “Комсомольской правды” И. И. Бачелис. — Балет давно перестал слушать музыку, перестал ощущать музыкальные образы, перестал принимать музыку и в музыке берет лишь ее ритмическую, принудительную основу» (см. наст. публ.). О музыке как важнейшей составляющей нового спектакля критик неоднократно говорил и в своих статьях, и во время дискуссий, заявляя: «Большой театр не сдвинется с места, если будет ставить только старых композиторов»22. Но эксперименты с новой музыкой естественно повели бы к экспериментам с пластической формой, которая сама по себе вне содержания никакого интереса в советскую эпоху не вызывала. Поэтому вполне закономерно, что основой отечественного балета в следующие десятилетия оставалась не музыка, а именно литературное произведение, что и дало название новому направлению — драмбалет или хореодрама.
Забегая вперед, нужно сказать, что найти, а уж тем более объединить усилия современно мыслящего сценариста и современно мыслящего композитора организаторам конкурса не удалось.
Присутствие на диспуте единственного композитора Николая Чемберджи, к тому же заведомо не принадлежавшего к числу авангардистов, само по себе свидетельствовало об отношении к идее музыкантов. Что касается писателей, то именно Николай Асеев высказал одну из важных мыслей: идея новой пластической реальности должна созреть у самих практиков, и родится она из их нового ощущения реальности: «Эта традиция и условность в балете не могут быть созданы трах-тарарах, только по вашему желанию, по вашей воле, по действию одного сознания. До сих пор бытовые и материальные условия вызывают в данном случае искусство балета». В отношении новых тем Асеев заметил, что надо «начинать с самых примитивных вещей, которые понятны, доступны и необходимы каждому. Чтобы человек, сидящий в зале, знал, что о нем заботятся» (см. наст. публ.).
Показательна эта всеобщая забота о новом человеке, о новом сознании, о новом чувствовании. Совершенно неважно, что все эти рассуждения пропадут даром, что из этих прений не родится ни одно либретто и ни один новый балет. Сегодня при чтении публикуемых докладов важен сам тогдашний ход мыслей, само чувствование ситуации, само осознание происходящего.
588 Логика балетной истории развивалась независимо от диспутов. Незаметно и исподволь, пока в Москве обсуждали новые пути развития жанра, пока вызревал собственный стиль, из Ленинграда на сцену Большого театра перешли драмбалеты: сначала «Пламя Парижа» — в июле 1933 г., затем «Бахчисарайский фонтан» — в июне 1936 г. и после войны — «Ромео и Джульетта», 1946.
Такая стратегия переноса на сцену Большого театра апробированных постановок объяснялась прежде всего охранительной политикой Е. К. Малиновской. Все эти годы (а она возглавляла театр дважды: с 1920 по 1924 г. и с 1930 по 1935 г.) Малиновская вела борьбу за сохранение Большого театра. Принципиальность ее позиции заключалась именно в том, что «сцена ГАБТ не арена для опытов». «Опыты» для Малиновской (как, впрочем, и остальных ее современников) были неразрывно связаны с именем Касьяна Голейзовского, против которого она выступала все эти годы.
По сути дела, после смерти А. А. Горского в 1924 г. и отстранения Голейзовского московский балет лишился лидера — балетмейстера, который возглавил бы процесс перехода от экспериментов к новым формам с учетом московских традиций.
Казалось бы, отсутствие лидера, ставшее очевидным на собрании балетной труппы в октябре 1933 г., заставляло пересмотреть состав руководства балетом23. Стенограмма этого мероприятия воссоздает критическую ситуацию в труппе, которая, безусловно, была главным препятствием для создания качественно новой постановки.
Артист балета и постановщик И. А. Моисеев так пояснял происходящее: «Главная причина плохого качества спектаклей кроется в полном отсутствии художественного руководства, в неумении планировать работу, художественно воспитывать актерский молодняк, объединять разрозненные группировки среди актеров. Вопросы художественного руководства подменяются голым администрированием. Коллектив балета в своем современном состоянии перерос своих руководителей»24. Дополняя коллегу, балетмейстер и педагог А. М. Монахов обращал внимание на то, что «спектакли готовятся наспех, расходуется много энергии, что потом приводит к исчезновению интереса к репертуару. Большое количество больных естественной и “дипломатической” болезнью расстраивает составы и производит крупные перемещения, в результате которых приходится балетмейстеру приноравливаться. <…> Необходимо разгрузить балет от большого количества спектаклей и увеличить число репетиций»25.
Подводя итоги собрания, Малиновская констатировала: «Из прений выяснилось, что руководство балетной труппой в текущем сезоне не было заметно, что подтвердил и сам заведующий балетом»26. Однако этот факт отнюдь не навел ее на мысль сменить заведующих балетной труппой И. В. Смольцова27 и М. М. Габовича. Наоборот, свое выступление она завершила вполне лояльным резюме: «пора прекратить говорить о художественном руководстве, необходимо руководить, то есть всем художественным руководителям дружно приняться за работу»28.
Консерватизм Малиновской вызывал пристальное внимание идеологов. Тогда же, в октябре 1933 г., в Большом театре проходила «генеральная проверка дел и людей, политического центра театра — его партийного коллектива»29. В конце месяца 589 газета «Советское искусство», следившая за развитием событий в Большом театре, подвела итоги: «Чистка т. Малиновской показала отсутствие какой-либо продуманной работы над составлением репертуара, случайность, вкусовщину в выборе новых постановок текущего года, полную неавторитетность художественного совета, отсутствие серьезной работы с молодыми силами творческих коллективов театра. Выступавшие тт. Чарноцкая, Устинова, Красин, Юдин, Габович, Скопцов, Голованов иллюстрировали примерами серьезные недостатки и ошибки в работе дирекции»30. Казалось бы, эти устрашающие выводы не могли не отразиться на судьбе директора театра. Но смены руководства не произошло. Через несколько лет В. И. Мутных31, следующий директор Большого театра, будет обвинен в создании троцкистской группы и за это расстрелян.
19 апреля 1932 диспут о путях советского балета завершится призывом создать ассоциацию пролетарского балета, а 23 апреля 1932 г. призыв потеряет актуальность в связи с известным постановлением ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Диспут был организован явно наспех — ни анонса, ни последующей рецензии о нем в газетах не последовало, да и состав участников, среди которых фигурировали исключительно москвичи, не выглядел продуманным. Можно предположить, что цель самого мероприятия была не только социальная, но и личная — председатель Новицкий32, только что публично раскаявшийся в «грубейших принципиальных ошибках против марксистско-ленинской теории», должен был немедленно представить доказательства «последовательной борьбы за марксистско-ленинскую теорию в искусстве, за подлинное пролетарское искусство»33. Идеологическая отсталость балетного искусства оказалась здесь как нельзя кстати. «Хореография — искусство танца является самым отсталым из всех областей советской художественной культуры», — таким рефреном неизменно начинались все газетные публикации 1932 – 1933 гг.
Через год, в июне 1933-го, пути советского балета будут обсуждаться снова, уже в формате специальной конференции34. Читая очередное вступительное слово Новицкого (варьирующее основные положения упоминавшегося доклада А. В. Луначарского35), в первый момент можно подумать, что газета с запозданием решила осветить диспут, состоявшийся годом раньше. Но на этот раз состав участников расширится, а речь пойдет о более широком круге проблем: о развитии массовой самодеятельности, о создании высшего хореографического образования и института художественного движения, о развитии национального танца. Недочеты организации новой встречи останутся теми же — отсутствие ленинградцев, малочисленность балетных практиков. О балетном искусстве как таковом будут говорить только два участника, да и темы для своих выступлений выберут проверенные: Игорь Моисеев коснется важности сохранения классического наследия, Николай Волков призовет «к шекспиризации балета, к философскому осмыслению хореоискусства». «Несмотря на обилие выступавших, большинство из них не подняло важнейших вопросов реконструкции хореоискусства, не дало оценки существующим течениям в хореографии, а лишь вносило подчас ценные и нужные пожелания», — подвела итоги события газета «Советское искусство». «К сожалению, на конференции не прозвучал и голос ряда крупнейших мастеров балета Большого театра. Полное недоумение вызвало также и отсутствие композиторов»36. По этим 590 немногочисленным фактам, упомянутым рецензентом, можно составить представление не только об ужесточившихся в обществе идеологических установках, но и об интроверсии балетного искусства, направившего все силы на свое сохранение и выживание.
Ценность прений и монологов, прозвучавших в Бетховенском зале Большого театра годом раньше, на апрельском диспуте 1932 г., заключалась именно в неоднозначности оценок, хотя, безусловно, состав участников также нельзя назвать представительным.
Накануне завершения первой советской пятилетки, в разгар борьбы за единство творческих программ в различных сферах искусства, выяснилось, что балет по-прежнему остается «областью “чистого искусства”, наиболее далекого от идеологических битв нашей эпохи» (см. наст. публ.).
Ко времени проведения диспута битва эпохи уже началась. С января 1932 г. созданию репертуара к 15-летию Октября было посвящено уже несколько мероприятий: по этому поводу в Ленинграде прошло всесоюзное совещание драматургов, композиторов и авторов малых форм37, в Москве Союзкино и киносекция Всероскомдрам объявили конкурс на сценарий художественного фильма, состоялось специальное совещание сектора искусств Наркомпроса по поводу путей создания советской оперы38.
Если для представителей смежных искусств важно было осмыслить само предназначение балета, целесообразность его сохранения и способы его обновления, то для деятелей балета (а их, судя по ремаркам докладчиков, в зале присутствовало большинство) одним из принципиальных моментов стало разногласие между представительницей свободного танца Сильвией Чен и Михаилом Габовичем, убежденным в преимуществе классической школы. На его взгляд, проблема обновления балета заключалась только в новых темах и методах, притом что классическая подготовка якобы позволит артисту «танцевать любое». В исторической перспективе это противоречие не получит разрешения и в начале следующего века. Но само присутствие представителей разных течений свидетельствовало о демократичности диспута. Показательно в этом смысле выступление Сильвии Чен, категорично утверждавшей, что «в Советском Союзе балет очень отстал, потому что <…> когда Айседора Дункан пыталась внести в балет что-то новое, в довольно большом масштабе, она была встречена с пренебрежением и окружена недостаточным вниманием» (см. наст. публ.).
Человек, «танцующий за себя, за свой человеческий облик» появится в балетах уже в первой половине XX века, но в конце столетия, когда эпоха драмбалета будет далеко позади, и в России возникнут не только фестивали, но и балетмейстеры и школы свободного танца, не потеряет актуальности следующее высказывание И. И. Бачелиса: «Мы не можем оторваться от человека еще и потому, что материалом балетного искусства является человеческое тело. Здесь оторваться от тела значит ничего не понимать в самой специфике балетного искусства» (см. наст. публ.).
Подтвердить его слова могли бы многие практики балета, и именно об этом писал в своей книге А. М. Мессерер, объясняя противоречие между установкой теоретиков и положением практиков: «… настойчиво звучал призыв — приблизить 591 танец к некоему бытовому реализму, придавая забвению особую, совершенно специфическую природу реализма балетного театра. Не только композитор, но и балетмейстер должен был отныне “хорошо пересказать” то или иное событие. <…> И эта смена хореографических эпох, которая происходила у меня на глазах, отзывалась впрямую на исполнителях, на моей собственной судьбе, которая складывалась как-то парадоксально. Я с каждым годом чувствовал, что набираю технику, а в новых балетах мне нечего было танцевать»39.
Пропасть между теоретиками, рассуждавшими в большей степени не о балете, а об образе балета в новом времени, и практиками, находившимися в поиске конкретных способов его развития, осознал и попытался преодолеть, как это ни странно, композитор — И. О. Дунаевский40. Один из наиболее востребованных деятелей советской эпохи, он сотрудничал с Голейзовским в период своего руководства ленинградским «Мюзик-холлом». Преклоняясь перед талантом балетмейстера, он призывал его взяться за постановку качественно нового балета, хотя бы и советского.
«Танец ведь это именно отражение эпохи, отражение нравов, отражение всех внутренних эмоций, обуревающих людей на известных стадиях их материально-технического и духовного существования <…>, — писал композитор балетмейстеру в приватном письме. — Религия советской страны — индустриализация, социализм, классовая борьба. Вот теперь, вот сейчас. От нас требуют, чтобы мы были служителями этого культа. В этом правы они. Потому что иначе Вы будете проповедовать свою религию. Это очень трудно, то, что от нас требуют. Ведь те, кто требует, не умеют даже выразить словами, чего они хотят. И вот тут наше слово. Потому что мы спецы, мы знаем, мы должны знать, что нужно <…> На Вас с надеждой смотрят и от Вас много требуют, потому что Вы многое можете дать, но не даете, скрывая в себе колоссальные возможности для советского танца. Увяжите изумительную красоту Вашего танца с требованием современности, и Вы получите колоссальное, невиданное произведение»41.
Но так или иначе, этапным для отечественного балета по разным причинам стало не произведение Голейзовского. Подводя в 1950 г. итоги постреволюционным поискам балетного искусства, Ю. И. Слонимский писал в монографии «Советский балет»: «Балет “Пламя Парижа”, на котором благотворно сказалось осуществление партийных указаний, открыл новую главу в истории советского хореографического искусства»42.
Был ли в действительности этот официально признанный балет той постановкой, которая открывала новую главу, где «человек говорил за себя, за свой человеческий образ», как многим мечталось? Недостаточно продуманный по части сценария, этот спектакль был качественно новым по хореографической драматургии, по динамичному синтезу характерного и классического танца, представленному балетмейстером в психологически точных мизансценах. Кульминация достигалась каждый раз, когда из глубины сцены медленной и решительной шеренгой на рампу, к зрителям устремлялась революционная толпа. Каждый раз в ответ на это партер поднимался, аплодируя стоя. И в этом неуклонном сближении лицом к лицу сцены и зрительного зала отчетливо возникала новая, будоражащая сознание сценическая реальность.
592 СТЕНОГРАММА ДИСПУТА О
ПУТЯХ СОВЕТСКОГО БАЛЕТА
(В
связи с конкурсом к XV годовщине
Октябрьской революции)
19 апреля 1932 г.
Председатель И. И. Бачелис
П. И. Новицкий (Вступительное слово):
Товарищи, я должен сделать вступительное слово по очень большому вопросу, по вопросу, который до сих пор, к 15 году Октябрьской революции, серьезно и глубоко не поставлен и не развернут — по вопросу о социалистической реконструкции балетного театра. Я не собираюсь предлагать вам развернутую программу реформ, не предлагаю вам никаких рецептов, но я выдвигаю целый ряд принципов, принципов необходимой революционной реформы балетного театра. Я должен, прежде всего, заявить, что из всех других участков идеологического фронта на этом участке мы имеем наиболее зияющий огромный идеологический прорыв. Чтобы доказать это, разрешите охарактеризовать положение на этом участке идеологического фронта.
Во-первых, ни в одной другой области искусства мы не имеем такого господства гурманского эстетизма и формализма, как в области балета. Когда говорят о балете, никогда не говорят о мировоззрении, никогда не говорят о творческом методе, никогда не говорят о содержании образа, а говорят исключительно только о балетной технике, говорят исключительно только о форме и оттенках пируэтов, о красивых линиях, о пуантах и т. д. Когда дают анализ какой-нибудь балетной партии, то большей частью останавливаются на узкотехнических и формальных вопросах. Можно сказать, что балетный театр — это область «чистого искусства», наиболее далекого от идеологических битв нашей эпохи. Это область, где самодовлеющие приемы до сих пор еще являются всем, приемы сами по себе и для себя, где виртуозничество и чистота мастерства носит наиболее абстрактный и самодовлеющий характер. Это, во-первых. Итак, это область гурманского эстетизма и формализма по преимуществу.
Во-вторых, балет долгое время был до революции и после Октябрьской революции в некоторых отношениях остался сексуальным, эротическим жанром. До сих пор еще подходят, я не говорю, что все, но подходят к балетному театру как к средству отвлечения от действительности, как к чистому развлечению, зрелищу, не имеющему идеологических функций. Балет до сих пор является… наслаждением (термин тов. [пропуск], средством отвлечения от действительности, средством чувственного опьянения сродни той атмосфере, в которой находится балет в Западной Европе, в капиталистических странах.
Третье. До сих пор существует несерьезное мещански-ханжеское отношение к балету со стороны широких кругов так называемой интеллигентской публики. До сих пор существуют народнические предрассудки против балета как театрального искусства. До сих пор смотрят на балет как на барскую игрушку, как искусство для немногих, для избранных, как на особую причуду, роскошь. Я помню, один знаток и критик балетного искусства говорил о том, что среде интеллигентов и литераторов свойственно немножко ироническое и настороженное отношение к балету, как искусству для привилегированных и для избранных. Такое отношение к балету как к 593 роскоши, как к искусству для немногих довольно распространено среди пролетарской интеллигенции и среди пролетарской публики. Это третье.
Четвертое. И на самом деле балетный театр больше, чем другие формы и виды театра? сохранил традиционность, замкнутость, известный кастовый характер, консерватизм и рутину, наибольшую застарелость, консерватизм формы и системы. Действительно, в значительной степени мы имеем дело с искусством, которое представляет из себя достояние небольшого круга лиц, между тем как по самой своей природе это искусство предназначено для воздействия на самые широкие массы.
Затем, в-пятых, наряду с такой замкнутостью и кастовостью формально — художественной застарелостью балетного театра, мы имеем целый ряд течений, целый ряд систем, которые являются изобретением кустарей-одиночек, если можно так выразиться, т. е. мы имеем дело с целым рядом изобретателей балетных систем, дилетантов и любителей хореографического искусства, которые в противовес замкнутости и застылости балетного театра выступают с целым рядом своих систем реформы танца. Во всех других областях нашего советского искусства мы имеем дело не только с формой профессионального искусства, но имеем дело с массовой формой движения. Не балетом, а танцами занимаются все. И танцы — это прежде всего то, что характеризует национальную культуру каждого народа. Между тем, у нас этого массового самодеятельного движения совершенно нет. Мы можем говорить о массовом литературном движении, о движении в области театрального искусства, в области пространственного искусства и т. д., но мы ничего не можем говорить о массовом движении в области хореографического искусства, хотя самодеятельное искусство охватывает 8 миллионов человек в нашей стране.
Затем, наконец, в-шестых, мы сталкиваемся с полным отсутствием определенной политической линии, определенной политики в области балетного театра и в области балетного искусства. Мы не имеем никаких теоретических работ, кроме отдельных высказываний критиков-формалистов и эстетов; кроме старых книг идеалистов и формалистов, мы не имеем по существу и в зародыше современной марксистской научной оценки балета, не имеем ни одного приличного анализа в этой области43. А анализ и оценка существующих школ и систем — конечно, с этого нужно начать исследование. Как будто искусство танца и балета не является частью общей советской системы, как будто оно не является частью громадного художественного движения, которое охватило всю страну. Вот все это позволяет мне говорить о том, что из всех других искусств балетное искусство является таким участком идеологического фронта, где мы наблюдаем наиболее зияющий, наиболее громадный идеологический прорыв.
Э. Каминка:
Балет, конечно, не искусство танца, а драматическое действие, осуществляемое средствами музыки и художественно-выразительного движения. Балет, как всякое искусство, представляет из себя объективно-творческое отражение объективной действительности в живом действии, как и театра. Когда мы говорим о балете, мы говорим о системе эмоционально-танцевального и динамического образа, отражающего объективную действительность. Каждое искусство объективно, оно объективно-творчески отражает действительность, причем своими специфическими 594 средствами. Когда мы говорим о балете, мы говорим о спектакле, который имеет единый творческий замысел, имеет тему, а помимо фабулы должен иметь и мировоззрение. Таким образом, мы в настоящее время должны говорить не о танце вообще, а должны говорить о балетном театре, о балетном искусстве.
Я не буду говорить о происхождении балета, это ни к чему. Я не буду говорить, как возник балет, должен только подчеркнуть, что балет как музыкальный балет возник из масс. Не случайно мы говорим о балетном театре как исторической форме. Конечно, балет как историческая форма возник из придворных празднеств и торжеств. Тут мы имеем дело с формой интермедии в Италии, Германии, Франции, аллегорическим представлением, широкими парадными выходами, музыкальными представлениями, арлекинадой, маскарадами, придворными балами. Из этих интермедий и придворных праздников характера, связанного с аристократической придворной культурой, и выросла форма оперно-балетного театра. Таким образом, балетный театр до сих пор во всех капиталистических формах и по наследству капиталистической культуры — в нашей стране сохранил черты придворного стиля, т. к. помпезность, сусальность, декоративность, всегда тривиальность замысла, скованность движений, преднамеренная напыщенность и фривольная галантность — черты, которые связаны с культурой придворно-аристократического общества. Но, тем не менее, несмотря на такое историческое происхождение оперно-балетного театра и балета вообще, мы ни в коем случае не можем отнестись отрицательно к этому громадному и выразительному искусству. Мы отмечаем, прежде всего, в балетном театре, как и в оперно-балетном, массовость этого вида искусства. Мы подчеркиваем, что тут мы имеем дело с хореографическим инструментально-массовым искусством, то есть мы имеем дело с таким качеством балетного искусства, как зрелище божественности, торжественности праздничности, показной выразительности, которые способны дать наиболее эмоциональную зарядку. Мы имеем дело с видом искусства, которое может организовать в максимальной степени энтузиазм масс, массовый пафос. Мы имеем здесь высшую форму организованного движения. И с этой точки зрения балетное искусство представляет собой незаменимое средство воздействия, незаменимое средство организации эмоционально-идейной жизни человека. Но я подчеркиваю, в балетном искусстве ни в коем случае мы не имеем дело просто с эмоционально-насыщенным образом, а мы имеем дело с системой образов, как и во всяком другом большом искусстве, системой образов идеологического наполнения. Искусство является специфической формой мышления. Это всем известно. Это основное положение марксистской теории искусства. Балет как искусство также представляет из себя специфические формы мышления. Актер балета, как и всякий художник, обязан быть мыслителем, а не просто техником-эквилибристом. Актер балета обязан выражать свое идейное отношение к действительности динамическими средствами своего искусства, динамическими образами, мимическим действием и музыкальным ритмом. Если этими средствами музыкального ритма и выразительного движения, а также мимического действия актер выражает только эмоции, только переживания, то мы говорим, что он дает нам недостаточно содержательное искусство. Поэтому мы относимся критически и с осуждением к искусству Айседоры Дункан44, которая дала в своем стихийном танце только непосредственное самоисступление, неистовство и которая смотрела 595 на искусство танца как на искусство, в котором проявляется интуиция художника, как на божественное наитие, вдохновение, как на средство эмоционального возбуждения и отрицала идейный замысел, идейные моменты в искусстве танца. Дункан танцевала музыку, пытаясь раскрыть в своем танце эмоционально-тоническую сущность музыки. И т. к. она обращала внимание на идейные моменты в искусстве танца и в балете, поэтому она и не имела системы, поэтому она и не имела, в сущности, метода. А надо танцевать не музыку, а надо танцевать жизнь и свое к ней отношение. Надо танцевать борьбу и победу. Надо иметь тему и надо уметь эту тему раскрыть. Надо изучить и знать объективно жизнь, знать ту объективную действительность, которая отражается в танце, как и во всяком другом виде искусства. Надо уметь развить тему и раскрыть идею в образе балетного искусства, в системе образов. Одним словом, надо создать образ, надо уметь работать над образом. Для этого нужно иметь художественный метод, для этого нужно иметь мировоззрение, потому что работа над образом требует определенной точки зрения, определенного мировоззрения. Кто не имеет мировоззрения, тот не умеет работать над образом и в образе отражает свою беспринципность, свою идейную безличность, свою идейную пустоту. Он еще может эмоционально наполнить образ, а выразить свое отношение к объективной действительности, к жизни не может, то есть не может дать полноценного образа. И вот, по-моему, это основное.
Когда мы говорим о реформе балетного театра, о реформе балетного искусства, то нужно начинать не с техники, не с технических приемов, не с технических систем, которые традиционно установились в балетном театре, а нужно начинать с формирования образа, стало быть, нужно начинать с мировоззрения и прежде всего — значит, нужно начинать с тематики. Нужно знать объект и нужно знать и уметь выразить идею. Нужно отыскивать темы, а темы неисчерпаемы. Никакое воображение самого гениального художника не может быть столь богатым, сколь богата тематика нашей действительности, нашей жизни. Я не собираюсь останавливаться на этом вопросе, не собираюсь произносить агитационные речи, но темы, которые выдвинуты не художником, не литератором, не поэтом, а, несомненно, жизнью, такие темы, как, например, рост нового классового человека, такая тема, как соцстроительство, как творческая инициатива миллионов, пробуждающихся для новой жизни, такая тема, как бесклассовое общество, такая тема, как отношение к труду, как тема пионерии, как патетика комсомола, новый тип человека, рост личности, оборона и т. д. — вся эта тематика настолько содержательна, настолько волнующа, что по сравнению с содержательностью этой тематики не могут пойти ни в какое сравнение отдельные темы или мотивы индивидуальной душевной жизни, т. е. те темы, которые служили извечным вдохновением для старых произведений искусства.
Если это так, то в таком случае мы должны совершенно отрицательно отнестись к абстрактному, отвлеченному, формалистскому «чистому» самодовлеющему танцу, абстрактному танцу, не выражающему никакой идеи, не выражающему никакого миросозерцания. Абстрактный танец, который только демонстрирует чистую технику и виртуозничество ради него самого, и даже танец психологический, беспредметный, такой танец, с нашей точки зрения, должен встретить безусловное осуждение. Мы не можем возражать против определенных систем технических приемов, мы не будем возражать и против абстрактного танца как средства 596 тренировки, мы не будем возражать против высокой техники как средства, а не цели. Но мы будем возражать, чтобы искусство балета превращалось в неограниченное господство чистого техницизма и формалистского искусства.
Другими словами, прежде всего необходимо выдвинуть тезис по тематике танца о танце, имеющем идейную установку и выражающем миросозерцание. Перед балетным театром стоят задачи общие для всех видов нашего искусства. И задача балетного театра и балетного искусства, как задача всякого искусства, организовать энтузиазм, зарядить, дать пищу сознанию вокруг конкретных задач соцстроительства, но своими средствами, своими формальными техническими средствами, своими выразительными средствами. Отсюда глубина в порядке постановки вопроса, отсюда глубина тематики и работы над образом, работы над образом, т. е. метод, т. е. мировоззрение. С этой точки зрения как мы можем относиться к существующим системам? Какие системы? Я не собираюсь давать никакого глубокого анализа и оценки существующих систем. Очень бегло могу в порядке вступительного слова коснуться этого вопроса. Это можно сделать в особом докладе, но я бы сказал, что мы имеем и в балетном театре, и в балетном искусстве целый ряд систем. Я не имею в виду целый ряд школок и системок, которые изобретают разные дилетанты и специалисты хореографического искусства. Я говорю о самых главных, установившихся системах. Прежде всего следует говорить о системе классического танца. Затем следует говорить о так называемом новом балете. Под новым балетом следует разуметь не целый ряд школ направления последнего времени, а довольно могущественное течение — с одной стороны, попытки реформировать балет, в частности наш русский балетный театр. Реформа, произведенная Фокиным, хотя он и оставался в пределах классического балета. С другой стороны — течение, связанное с творческой практикой Айседоры Дункан, которая родственна той реформе, которую пытался произвести Фокин. Все это отдельные школы и системы, но вполне реальные, и с ними надо считаться, когда мы говорим о балетном театре. Мы, стоящие на точке зрения революционного марксизма, не собираемся ничего ни идеалистически, ни анархически отрицать, а пытаемся все ценное, что создала человеческая культура, собираемся полностью использовать все то, что следует использовать. И мы учимся даже у врагов, учимся и берем у врагов все наиболее выдержанные, наиболее испытанные средства и приемы, средства и приемы обороны и воздействия. Совершенно недопустимо, конечно, упрощенное отрицание системы классического балета. В чем основные черты этой системы. Прежде всего, мы имеем дело тут с сюжетами сказочными, аллегорическими, вообще с фантастическими сюжетами в образах. Мы имеем дело с искусством, которое принципиально, сознательно отрешается от конкретных мотивов, от конкретной жестикуляции, т. е. это искусство принципиально абстрактно, отвлеченно и фантастично. Именно этим объясняется то, что основные действующие лица, т. е. генеральные основные образы классического балета, живут призрачной, потусторонней жизнью. Балетное искусство является последней областью искусства, которая отвлекает нас от реальной действительности и предлагает уйти в область потустороннюю. С этой точки зрения балет является наиболее идеалистическим из искусств. В самом деле, действующие лица живут призрачной жизнью. Поэтому часто действие развивается не в реальном мире, а где-то на небесах, во всяком случае не в земной 597 действительности. Поэтому Баядерка предлагает жить в царстве теней, Жизель превращается в русалку, Раймонда появляется сама перед собой в виде сонного видения. В «Щелкунчике»45 имеем дело с куклами, жизнью кукол, т. е. имеем дело не с отражением действительности, а с изображением призрачной, воображаемой действительности. Поэтому психология кукол как одного из господствующих образов необходима как средство, уводя от реальной действительности. Итак, это первая черта классического балетного искусства — абстрактность, отвлеченность этого искусства, фантастичность сюжета, сказочность, историчность и аллегоричность. Отсюда и форма.
Форма слагается из классического танца и пантомимы, а также использования национально-характерных танцев. Отсюда — техника, не искусственные движения, а абстрактно-искусственные движения, которые не должны напоминать ничего конкретного, которые не должны напоминать действительности. Артист поднимается на пуантах, на кончики выпрямленных пальцев. Это особая форма движения над землей, в воздухе. Получается как бы над земной жизнью, над земной действительностью. Это система наиболее каноническая, наиболее традиционная. Мы имеем дело с некими условиями, формами балета, а поэтому система, которую имеет школа и педагогика, связана с типом.
Не буду говорить о музыкальном сопровождении классического типа, не буду говорить о ремесленном характере музыкального сопровождения, но следует сказать, что, давая такую характеристику, не надо забывать положительных сторон классического балета, следует все же подчеркнуть, что классический балет дает все возможности движения, дает необычайную культуру движения, бесконечный диапазон форм, сочетание движений и положений. Классический балет дает особую легкость, преодоление тяжести, силу, не знающую усталости, единство стиля и интересную дисциплину. Одним словом, школа технико-классического балета это то, что мы должны усвоить, чем мы должны овладеть. Мы должны овладеть этим для того, чтобы пересмотреть эту систему. Во всяком случае, высокое мастерство и техника ни в коем случае не являются для нас самоцелью. Этой техникой мы должны полностью овладеть для того, чтобы заставить эту технику служить нашим идеологическим целям.
Реформа, которую произвел Фокин, по существу шла в направлении всякого буржуазного искусства. Я уже сказал, что в системе Фокина были попытки реформировать старый аристократический балет. Это, по существу, оформление буржуазной системы в балетном искусстве. В самом деле, Фокин потребовал возвращения к сценически-психологическому движению, он потребовал конкретной мотивировки каждого движения. Но естественно, искусство движения тогда не могло этого дать. Каждое данное искусство, каждое данное зрелище, он считал, должно быть эмоционально насыщено. Но Фокин, как и всякий художник капиталистического класса, интересовался душевными движениями отдельных лиц, индивидуалистов, поэтому он наполнил каждое движение главным образом эротическими целями, конкретными переживаниями, отсюда — пряная эротика и восточная сладострастность. Целый ряд его балетов, как «Шехеразада», «Клеопатра» и др., имеют эти черты. Для того, чтобы получить конкретный материал, он особенно широко и глубоко использовал характерный танец. Он даже обратился к системе исторических плясок, ритуалов, национальных танцев и впал в археологизм. Он пытался 598 использовать ансамбли, этнографические танцы. Но основное стремление его было к конкретной мотивировке движения, к эмоциональной насыщенности движения, к эмоциональной содержательности и передаче индивидуальных переживаний, большой частью связанных с сексуальной психологией. Это роднит его с основой той реформы хореографического искусства, которую в своей практике применяла Дункан. Не буду говорить о пластической бедности Дункан, но в основном сила ее — это непосредственно мимическая передача переживаний, создание миметического изобразительного танца, который передает сильные страсти, сильные переживания. Она дает импрессионистический танец. Свои переживания Дункан черпает из впечатлений музыки. Она танцует различные музыкальные произведения. Отсюда музыкальная впечатляемость, [которая] является основой ее искусства. Это есть типичный психологизм, типичный импрессионизм. По существу, это попытки реформировать старое балетное хореографическое искусство и не является ничем иным, как влиянием буржуазной культуры на старые традиционные танцы, и на балет в частности.
Итак, как мы относимся к старой системе балетного искусства? Мы относимся к нему так, как ко всякому культурному наследству, как ко всякому старому искусству, как к классике вообще. Мы берем в старом искусстве мастерство, технику и не только технику саму по себе, не только систему технических приемов, не только формальное техническое мастерство, мы берем его критически как определенную систему образов и работу над образом. Мы все это просматриваем критически и творчески перерабатываем. Мы отбрасываем все вредное идеологически, все ненужное нам, все то, что является отрицательным для нашей жизни и борьбы. Мы учимся создавать свое новое искусство. Поэтому в области реформы балетного искусства мы отвергаем всякое механическое приспособленчество к новой тематике и новой фабуле. Но в области балетного искусства нужна революционная реформа, т. е. конкретно нужна борьба за кадры, за метод и т. п. Нужно серьезно поставить вопрос об особенности буржуазного и пролетарского балета, так же серьезно и глубоко, как ставится этот вопрос по отношению к литературе.
Так, как серьезно и глубоко этот вопрос ставится по отношению к литературе, по отношению к музыке, по отношению к пространственному искусству, по отношению к театру. Происходит борьба против буржуазных влияний в театре, происходит борьба за пролетарский театр. Это не значит, что создалась, откристаллизовалась, оформилась система пролетарского театра. Система пролетарского театра создается и формируется в процессе идеологической борьбы. То же самое и в области балета — необходимо серьезно поставить вопрос об анализе и оценке существующих систем балетного искусства. Вопрос о жанрах — чрезвычайно важный вопрос — но это все-таки дело второе. Это вытекает из основных задач, которые стоят перед пролетарским искусством и в настоящее время, если мы наметим основные задачи, если мы серьезно будем говорить о творческом методе пролетарского и буржуазного балета, только тогда мы правильно можем поставить вопрос о жанрах, о классическом балете, о патетическом и т. д.
Итак, основное. Во-первых, основное — это кадры. Основное — это школа, реформа методики, умелое методическое использование старой школы 599 и в то же время изъятие всех вредных идеологически и физически элементов старой школы, т. е. вредных для здоровья учащихся и артистов — которые дают перегрузку для дыхания и проч., это преодоление вредных элементов старой системы.
Необходимо поставить и развернуть дискуссию, которая прошла во всех других областях искусства, дискуссию о пролетарском и буржуазном балете. Необходим анализ существующих систем и школ в балетном искусстве. Необходимо организовать массовое самодеятельное движение. Только тогда, когда начинается массовое хореографическое самодеятельное искусство, только тогда серьезно будет поставлен вопрос о реформе балетного искусства. Нужно волноваться, бить себя в грудь не по вопросу о формах, жанрах и технике, а нужно волноваться и серьезно ставить вопрос о балетном образе, об образе в балете, т. е. о мировоззрении, т. е. о творческом методе. Это — основное — ставим вопрос о тематике и о творческом методе, потому что пролетарский балет ничего общего не имеет с абстрактным, отвлеченным, фантастическим, самодовлеющим искусством и самодовлеющей техникой, потому что пролетарское искусство — это искусство эмоциональное и идейно насыщенное, это искусство полноценных хореографических образов, образов динамических и тонических, музыкально-тонических. Когда мы говорим о создании образа в балете, то мы говорим об отражении средствами балетного искусства объективной действительности. Мы требуем, чтобы художник знал жизнь, знал современную борьбу, чтобы художник мог изобразить, мог отражать пафос этой борьбы, ее содержание, ее размах, ее громадные размеры и ее напряженность, т. е. мы требуем, чтобы художник изучил и чтобы художник знал объективную действительность, т. е. то, что является содержанием образа. Но этого мало, так как образ представляет собой единство объективной, субъективной действительности, единство абстрактного и конкретного, единство частного и общего. Поэтому нужно не только изучать, не только знать объективную действительность, но нужно уметь показывать эту действительность активно, творчески, т. е. нужно уметь показывать эту действительность с определенной точки зрения, с точки зрения определенного миросозерцания. Это субъективный момент в образе, как во всяком художественном образе. И вот средствами балетного искусства, средствами выразительного художественного движения, средствами мимического действия и средствами музыкального ритма, средствами балетного искусства необходимо создать такой художественный образ, который бы отражал действительность, которая нас волнует, процессы, происходящие в этой самой действительности, и который бы показал идейное активное отношение к этой действительности. Это есть главное. Главное — это наша жизнь и борьба, содержание величайшего творчества и величайших битв и методов, при помощи которых мы можем эту действительность показать, отразить и организовать.
Сильвия Чен (говорит на английском языке)
Переводчица:
Она не готовилась к этому выступлению, поэтому, может быть, что-нибудь пропустит. Но она долго ждала случая сказать о состоянии балета в Советском Союзе.
Не стоит говорить о реакционной роли балета, потому что на этом достаточно остановился тов. Новицкий, но ясно всем, что танец в Советском Союзе очень отстал, потому что классический балет в течение долгого периода имел сильное 600 влияние на танцевальное искусство. По крайней мере, до сих пор она замечала, что все, кто пытались внести в область танца что-то новое, были подавлены той непреодолимой тяжестью, которая довлеет над классическим балетом. Когда Айседора Дункан пыталась внести в балет что-то новое в довольно большом масштабе, она была встречена с пренебрежением и окружена недостаточным вниманием. Она не знает, за чей счет это отнести, но она всюду встречала недостаточную поддержку новаторов. Чен считает, что все-таки кое-чему Айседора Дункан могла нас научить. Она имела свою систему, и у нее было чему поучиться. Она считает, что те, кто хочет заняться балетом, должны прежде всего научиться танцевать, двигаться. А этому наш балет научить не может. А Айседора Дункан это давала. Она вспоминает вечер школы Айседоры Дункан, который происходил в Большом зале консерватории и который доставил ей большое наслаждение с точки зрения танцевальности. Эти ученики Дункан действительно могут танцевать, а из всех артистов Большого театра она знает всего двух человек, которые действительно могут танцевать, но это недостаточно для такого большого престижа, который имеет Большой театр. Фамилии этих двух лиц она может назвать — Татьяна и Вера Васильева46. То, что они так танцуют, не является заслугой балетного техникума, а объясняется тем, что эти люди от природы талантливы и танцевальны. Конечно, очень печально, что у нас нет балетных мастеров. Единственным был Голейзовский, которого мы имели и которого, как она считает, мы уже не имеем. Печально то, что Дягилев увез с собой 5 или 6 хороших балетмейстеров. Она видела работу труппы Дягилева за границей и считает, что они сделали многое в смысле продвижения современного танца. Конечно, это искусство носит капиталистический характер, совершенно нам чуждый, но, может быть, в других условиях, в другой обстановке они могли бы нам что-нибудь дать. Она говорит, почему мы, интересующиеся танцем, ничего не делаем и не получаем никакой поддержки ни от каких организаций, ни от танцовщиков самих, ни от музыкантов и вынуждены работать сами. Этот недостаток должен быть устранен. Должна быть известная поддержка, и всякая поддержка танцевального искусства не должна быть направлена в сторону классического искусства, отмирающего, а в сторону нового танцевального искусства.
Она говорит, что не знает, что нужно, и не будет говорить о том, какой танец нам нужен. Она говорит, что она показала на своих концертах, как она думает о том, какие танцы нам нужны.
Она вполне солидаризируется со всем тем, что сказал тов. Новицкий, и считает, что танец должен служить строительству социализма, должен отражать все актуальные моменты, должен отражать массы вокруг актуальных вопросов, вокруг строительства социализма, вокруг мировой революции. Она говорит, что когда, например, она слышит о деле Скоттсборо47, когда она слышит о революции в Китае48, то она вся горит протестом, ей хочется этот протест выразить, и так как она не оратор, то она выражает его танцем. Но она одна, один человек, и нет никакой организованности, и она одна мало что может сделать.
В отношении танца индивидуального нужного проводить пропаганду определенных идей, определенной идеологии.
В отношении массовых танцев она считает, что определенно такой системы не выработано. Но считает, что массовое движение должно разрабатываться в сторону 601 нахождения движений гармонических, движений для обыденного человека, движений, которые научат его гармонично двигаться. Кроме того, [массовые танцы] могут быть употреблены при демонстрациях, и наши демонстрации вместо отдельных марширований могли бы превратиться в прекрасное танцевальное шествие. Вот наш Парк культуры и отдыха очень слаб, а наши танцевальные силы могли бы превратить его в сильную организацию49. В отношении массового движения она считает, что нужно найти здоровые и правильные движения для здорового общества, но что к этому нужно идти не через физкультуру, как к этому есть тенденция, а через танцы.
М. М. Габович:
Этот диспут, который сегодня устраивается, очень сильно интересует балетный театр, потому что, в самом деле, у нас заметно очень большое отставание на нашем фронте балетного искусства, которое заметно не только со стороны, как заметил тов. Новицкий, но заметно и для самих участников, творцов этой работы. Это сказывалось и прорывалось несколько раз, но каких-нибудь точных твердых путей в этом деле мы не имеем. Если сейчас в литературе и театре есть уже достаточно конкретные пути для развития пролетарского искусства, если там уже есть какой-то подход к созданию творческого метода, если там вопрос стоит на достаточно принципиальной высоте, если это период классовой борьбы, которая происходит при установлении творческого метода, — у нас этим не пахнет, все идет самотеком. И еще ошибка заключается в том, что все попытки, которые были со стороны наших творцов создать новое искусство, которое просится, производятся эмпирически, ползуче эмпирически, без всякой подготовки. Это сказалось в постановке всех вопросов, которые мы имеем с Октября до наших дней, потому что на балете сказывалось влияние того, что было, что происходило, несмотря на его оторванность. Поэтому я считаю, что вопросы, затронутые тов. Новицким, во-первых, затронуты столь принципиально и крепко, что являются для нас очень интересными и требуют от нас ближайшего в них участия.
Если говорить о самом главном, что сейчас нас волнует, это содержание нашего балета и школ балета в Москве, Ленинграде и т. д. И об этом мне хочется сказать несколько слов.
Мне кажется, что танец вообще и все развитие танца в исторической перспективе как бы круто делится на два этапа. Во-первых, когда танец просто развивался, отображая объективную действительность, может быть, несознательно. Так он развивался до XVII – XVIII столетия. В конце концов, все первые танцы были определенным отображением в определенной специфической форме производственных движений людей. Ведь все танцы, и народные, и первобытные, в дальнейшем более усложненные танцы греческие и римские и, наконец, средневековые были точным выражением идеологии данного общества и известного рода преломлением специфических танцевальных форм, производственных навыков людей. Танец, безусловно, произошел от труда и производственных движений людей. Затем был известного рода скачок, и заметно, что довольно значительное развитие и формальное развитие до XVIII столетия остановилось. Оно, естественно, двигалось, ибо мы знаем, были кустари-одиночки, школы и школки, которые не стояли на месте, но все это происходило чрезвычайно туго, не так, как другого рода искусства. 602 И что же мы видим. Сейчас этот танец, который родился у придворной аристократии во Франции, был чужд психо-душевным переживаниям людей, и этот танец в таком же почти виде в основном дошел до нашего времени, без каких бы то ни было коренных изменений. Во всяком случае нельзя сравнивать с литературой того времени, которая полностью отображала социальное положение людей и т. д. А танец почти стоял на месте, и мы можем это проследить по Большому театру, где балет идет как осколок аристократической феодальной культуры.
Почему этот балет у нас идет и не вызывает бурных протестов. Потому что эта идеология там страшно затушевана. Она на нас не действует, нас не волнует, но она там есть — это факт. Мы имеем блестящие образцы того классического балета, который создал большую культуру в прошлые года. Начиная с Людовика балет не имел ничего ценного, что он имеет сейчас. Это был просто танец улыбок, реверансов, поклонов и т. д. Там не было той техники, того ценного, которое мы имеем сейчас. Это пришло потом. И в этом своеобразное выражение идеологии развития того общества. Потом, после Французской революции, этот танец ушел с приемов, с парадов и попал в руки профессионалов. За него взялись профессионалы-актеры, которые стали выступать с ним и зарабатывать на этом деньги. Эти профессиональные мастера внесли в балет новое развитие того технического мастерства, которое отчасти к нам же перешло. Конечно, нельзя сказать, чтобы танец буквально остановился, был вне развития. Ведь те же самые пуанты, неизменные прыжки, о которых говорил Новицкий, та же техника — все это было определенным выражением, определенной общественной формацией и романтизма. Недаром лучшие романтические произведения, «Жизель» и «Сильфида», оказали необычайное влияние на балет, что балет сохранил и сейчас. «Жизель» и «Сильфида» — типичнейшее выражение хореографического танца. Так что танец, безусловно, изменялся.
Наконец, дельнейшее развитие танца связано с именем Дункан, с импрессионизмом. Это влияние общей идеологии развивающегося тогда класса и движущегося к упадку в капиталистическом мире.
Затем появление Фокина50. Оно тоже симптоматично. Здесь сказывается влияние буржуазной культуры.
Дальше Касьян Голейзовский, который явился у нас новатором и который также отображал идеологию той прослойки, к который он принадлежал, особенно в те годы, когда у него было наиболее характерное и типичное в его искусстве — эротизм, уход от простоты, гротеск, излом и т. д. Это свойственно было Дягилеву, кубистам, футуристам и т. д., танец, безусловно, двигался и движется. Сейчас мы подошли к вопросу о том, как поставить дело так, чтобы у нас совершенно сознательно, а не стихийно импрессионистический танец принял те формы, которые могут служить тем целям, каковым служит всякое искусство. Но тут получается маленькая неясность. Тов. Новицкий говорил относительно творческого метода балета. Это верно. Нам необходимо разработать и поднять на высшую ступень творческий метод балета. Почему это необходимо. Возьмите те постановки, которые у нас идут после Октябрьской революции. Например, «Красный мак». Это называется революционной постановкой. Но благодаря тому, что та постановка не имеет под собой достаточной творческой базы, что люди, делавшие ее, не могли понять [задачи], которые стоят перед театром, получилась как бы эклектика, совершенно неразрешенная, а 603 смешение всех и вся. Может быть, это этап в развитии нашего балета, но нельзя «Красный мак» считать балетом, с которым можно войти в новую танцевальную систему. Там целый ряд танцев не оправдывается содержанием, вложенным в этот балет. Характерное явление и с «Футболистом». В «Футболисте» заставляют Метельщицу становиться на пальцы и заметать пол, танцуя. Это легкий, воздушный танец. И что же получается. Получается, что новое содержание стараются вклинить в старые формы и возникает разрыв, который неприятно действует и на публику, и, по-моему, конечно, и на самих исполнителей. Поэтому здесь вопрос надо поставить значительно более детально и более глубоко, а главное — не таким эмпирическим образом, как у нас проходило. Дело не в том, что тут виноваты сами артисты, сами постановщики и т. д. Дело в том, что либретто, которые даются для постановки, необычайно неподходящи. Они являются перепеванием всего старого, и [создаются] без учета возможностей, которые имеются в самом балете. Я могу привести прямо анекдотический случай, какие либретто нам представлялись. Такие либретто могут только испортить балетный театр, а не помочь ему встать на должную высоту. Так, например, создают такое либретто — стоит советский пароход в Одессе и там советский матрос, спускаясь на морское дно (с места: советское), спускаясь на советское морское дно, встречает русалку (с места: советскую), советскую русалку. Происходит бунт в русалочьем царстве против русалочьего царя. Поэтому матрос, конечно, не может пройти мимо этого бунта равнодушно и помогает свергнуть русалочьего царя. Это просто анекдотический случай, но таких либретто у нас много.
Теперь относительно того, что Новицкий говорит, что мы должны отображать нашу действительность, пафос и ряд тем сегодняшнего дня. Мы можем отображать не только нашу действительность. Правда, это было бы самое интересное — отражать действительность сегодняшнего дня. Но все же, нужно поставить вопрос таким образом, что нужно поставить балет так, чтобы он мог отразить и прошлое наше, и будущее, чтобы это было на уровне мировоззрения наших художников и с точки зрения наших теперешних художников. Не будет верно то, что мы будем ставить только сегодняшнюю тематику. Если избавимся от [наносного] и отразим прошлое с точки зрения сегодняшнего — это будет шагом вперед.
Тов. Новицкий называет балет абстрактным. Это слово не точное, потому что классический танец отражает целиком идеологию своего времени. Он сказал, что мы должны заставить классическую технику служить нашим интересам. Это правильно, но как это сделать? Вопрос осложняется тем, что в том виде, в котором он сейчас есть, он связан с чуждым нам содержанием. Но вопрос о том, как освоить эту классическую технику, заставив ее служить сегодняшнему дню, — это важный вопрос, потому что классическая техника является синтетикой всего, что было до сих пор. Классический танец несет в себе целый ряд наносных элементов, и мы должны его освоить, отбросив все ненужное. Я говорю относительно условностей, жеманностей, всего, что мешает даже мастерству. Нужно опростить, облагородить даже, вернуть к той действительности, из которой он произошел.
Сильвия Чен затронула ряд вопросов. Она обвинила в том, что балетная труппа Большого театра не умеет танцевать. Это неверно. Но она, наверное, думала сказать, что балетная труппа танцует не то, что она должна и что она умеет танцевать. Мне думается, что как раз школа классическая и все, что он нее исходит, дает все 604 возможности человеку, который из нее выходит, танцевать любое. В этом отношении как раз преимущество классической школы (Чен: Нет). Все можно сделать через посредство классической школы. Это как раз громадное орудие для создания нового балета.
Я бы хотел сказать, что-то, что Новицкий сказал относительно того, что мы должны проанализировать сейчас идущие постановки, проанализировать вещи, которые сейчас есть, течение, которое сейчас существует, для того, чтобы оттолкнуться от этого дальше. Это вопрос необычайно важный, и здесь нужна помощь, конечно, и наших научных сил, и тех критиков, и той общественности, тех людей, которые этим занимаются, которые должны серьезно заняться балетом.
И. А. Чарноцкая51:
Товарищи, я только сделаю вступление, не относящееся к тому, что я хочу сказать, потом перейду к делу. Все теории, все интересное, что создавалось людьми раньше, обсуждалось за чашкой чая и т. д. Мы в наше время должны высказывать мысли для того, чтобы люди обменивались какими-то интересными мыслями и ими обогащались на диспутах. Поэтому нужно, чтобы люди высказывали свои мысли, чтобы это было интересно. Поэтому, если в диспуте будут какие-нибудь спорные моменты, нужно чтобы разрешалось выступать и второй раз.
Я согласна почти со всем, что сказано тов. Новицким, за исключением одного. Он говорит, что классический балет — это просто эстетическое искусство, что в нем нет ничего, кроме техники танца. Искусство это я считаю очень сильным агитационным зрелищем за идею в данном случае феодального общества, за идею общества абсолютной монархии. Если мы посмотрим зрелища, которые идут последнее время — это, конечно, «Конек-Горбунок»52, и «Раймонда»53. Зритель смотрит эти вещи и не чувствует даже, как его агитируют, а между тем поддается агитации. В «Коньке-Горбунке» яркое торжество русского самодержавия. В последнем акте все народы приветствуют русского царя, приветствуют его, победившего глупого хана. Причем, смотрите, ханское царство высмеяно. Хан показан смешным, и никогда зритель не смеется над глупостью Иванушки-дурачка, а над теми штуками, которые Иванушка-дурачок проделывает над ханом. Мы видим, и сейчас этого нет, как Иванушка-дурачок проносится со щитом через всю сцену, и зритель бурно аплодировал. Это объясняется тем, что прекрасно построен кульминационный пункт балета.
Возьмите «Раймонду». Там показаны сарацины и крестоносцы. Крестоносцы показаны ангелами, а сарацины варварами. А мы знаем, что, наоборот, крестоносцы были варварами, которые могли вырезать целую семью за нитку жемчуга, а сарацины в средние века разносили культуру, что именно последнюю нужно жалеть. Однако балет «Раймонда» преподносит совсем другое.
Теперь о балетном образе. Говорят, что во всех балетах сюжет одинаков, но один называется «Спящая красавица», другой — «Конек-Горбунок» и т. д. Во всех балетах действие разворачивается вокруг 2-3 фигур: он — рыцарь, она — нежная девушка, она — знатная дама. Может быть, это жизненный закон. В балете это особенно ярко выпирает. Что это значит? Это большое горе балета, это не отвлеченные фигуры, это не эстетичные танцовщики, это — идея чистой красоты в представлении аристократии XVIII – XIX веков.
605 Почему плохи «Красный мак» и «Футболист»? Потому что эти люди так, как они есть, вошли в новый балет. Плохо не то, что Метельщицу ставят на пальцы, а то, что эта самая Метельщица в «Футболисте», Тао Хоа в «Красном маке» и т. д. Всюду угнетают этих нежных женщин. Дело не в пальцах.
Балет главным образом уцелел в России, потому что это была идеологическая надстройка общества абсолютной монархии. В западных странах балет так не сохранился. Он не имеет такого большого значения, как у нас. Что мы там видим? «Варьете». Я не согласна, что наш балет сродни капиталистическому балету. Нет. Там другие люди, другой жанр танца. Это не феодальная принцесса, которая сидит в замке и ждет смелого рыцаря. Это уже наглая, но не умная, не такая, как нам нужна, женщина (смех).
Что же нужно новому балету? Прежде всего, нужно создать свой новый идеал красоты, свой образ, который мы должны показать. Поэтому, может быть, нечего идеализировать Метельщицу, а показать советскую женщину такой, какой она должна быть. Ведь Метельщица не такой идеал, к которому должны стремиться все женщины.
Теперь о музыке в балете. В балете я бы пошла немного дальше. Кроме классического балета, придворного, который перешел к нам от XVIII столетий, мы имели большую фигуру Новерра54. Это было на рубеже XVIII – XIX столетий, когда Новерр работал при дворе и потом ушел к французской буржуазии. Но он первый провозгласил идейный танец, который, по его запискам, пользовался большим успехом. Мы это знаем и по другим источникам. Но очевидно, этот идейный танец не получил большого распространения у буржуазии. Буржуазия лучше воспринимала классический танец. Если говорить о новом пролетарском балете, нужно просмотреть этого Новерра и, может быть, кое-что у него взять. Мне кажется, что в новом балете, прежде всего, нужно поставить вопрос об идейном танце, о танце, в основе которого лежит действие. Вот у Горского и Голейзовского не просто танец, а всегда есть какой-то смысл. Возьмите любой технический рисунок, движение построено с небольшим смыслом. Возьмите в «Баядерке» танец Ману. Дети просят пить, она им не дает. В этом есть определенный смысл. А наряду с этим есть какая-нибудь простая вариация, где по диагонали делается одно движение, потом скачем — другое движение несколько туров и — конец. Здесь просто показ технического движения. Нужно разработать вопрос действенного танца. Нужно, чтобы те писатели, которые принимают участие в конкурсе, поработали над таким танцем, который имеет действие. У нас был «Рот-Фронт»55, но он несколько примитивен. Какие могут быть еще танцы? У нас не было хорошего большого номера — снятия паранджи. Это трагедия, там из-за этого бывают жертвы, и какие жертвы. А ведь можно было бы бросить на Восток какую-нибудь группу, которая, таким образом, показала бы посредством танца, как снять паранджу, чтобы люди действительно стали это делать.
В «Красном маке» есть единственное место — разгрузка парохода. Что в нем хорошего? То, что правильно построено действие. Может быть, в старое время стали бы показывать, что далеко где-то разгружают пароход, а тут вы видите правильно развертывающееся действие, как при разгрузке завязалась драка с кули. Нужно так строить действие, чтобы одно место вытекало из другого и чтобы не было места для условных жестов.
606 И еще что скверно в приносимых либретто — там идеология, которую никакими жестами не расскажешь.
В «Футболисте» тоже есть чему поучиться. Во втором акте очень интересен момент борьбы из-за ключа. В старом балете это место тоже не так танцевалось, а опять танцевалось как-нибудь условными жестами. Но в «Футболисте» и «Красном маке» надо учиться и тому, как не нужно делать. Тут тоже условное построение действия — она, он, оно. Плохо не то, что Метельщицу поставили на пальцы, а то, как поставили на пальцы. Она не по-новому стоит на пальцах. Это все составлено из кусочков старого балета. У Голейзовского танцуют на пальцах, но не по-феодальному. Это хорошо применено.
Теперь что, по моему мнению, должно быть. Я считаю, что балет — это большое искусство, искусство, которое должно идти большими мазками. Почему я говорю, что это определенная идея, идея о современной женщине, о современных людях. Мы должны агитировать. У нас же есть идеи, какими должны быть люди, и мы должны за них агитировать со сцены. Дальше, мы должны агитировать за социалистическое общество. Разве мы не можем в какой-нибудь прекрасной утопии развернуть будущее общество? Затем, тема обороны. Нужно развернуть сцену Большого театра во всю ширь, нужно показать классовую борьбу, причем не надо показывать обязательно толпу в каких-то хитонах, но можно показать классовую борьбу и через одного человека, если он делает надлежащие движения.
Тут встает еще вопрос, что именно показать, встает вопрос, как это оформить. Об этом тоже очень много нужно говорить. Нужно говорить о том, как оформить сцену. У нас бывают декорации конструктивные и декорации тряпочные. Вспомните «Иосифа Прекрасного»56, где было все прекрасно согласовано — конструкция, сцена и действие. Есть вещи, например «Комедианты»57, где этой согласованности нет. Есть вещи, где все ограничено полом, хочется, чтобы люди вышли из этой условной площадки, вышли со сцены.
Теперь относительно музыки. Говорят, что музыка — ремесленность. Говорят, что танцевальная музыка — это какие-то мотивы с определенным ритмом. Но есть музыка, под которую можно танцевать, но она написана не для танцев. Поэтому, когда пишут музыку, не надо думать, что это пишется для балета.
О кадрах. Нужно, чтобы писатели и композиторы обратили внимание на школу. Почему школа поставила «Щелкунчика»58? Может быть, потому, что нечего было поставить. Нужно, чтобы Всероскомдрам59 этим заинтересовался, надо идти работать с кадрами в балетную школу. Надо создавать культурного актера. С этим призывом надо обращаться не только к нам, но и самим идти работать с кадрами.
О массовом танце. Надо идти и работать в области массового танца. Потому что то, что сейчас делается, очень неудовлетворительно. Когда я говорила о действенном танце, я забыла сказать о том, что есть разные течения. Есть танец машин. Когда это фрагмент — это хорошо. Но зачем эта механизация человека? Нам нужно показать человека через человека, но мы не должны агитировать за машину.
Физкультурный танец очень примитивен. Затем, Габович говорил, что развитие танца было очень медленное. Но, может быть, он сделал в течение 150 лет очень большое движение. В живописи, которая очень быстро двигается вперед, мы видим все те же семь красок. В балете мы имеем те же движения. Может быть, из тех же 607 движений мы должны выбрать и составить разные комбинации. Из тех же прыжков, этих надземных прыжков, надо дать сильные прыжки, создать образ сильной женщины, которая не нуждается в защите романтического «его» от всяких «оно».
Н. Н. Асеев:
Товарищи, мне очень трудно говорить, так как я был в балете всего два раза в жизни. Теоретизировать по поводу балета мне просто непристойно было бы, это было бы самонадеянностью, особенно в присутствии таких энтузиастов, как, например, тов. Чарноцкая.
Когда я, в некоторые минуты своей жизни, думал о балете, то мне представлялась такая вещь. И вот я пришел на диспут, чтобы уяснить себе в речах более опытных в этом отношении товарищей вопрос, как увязать существование таких товарищей, как тов. Чарноцкая в балете. Вот она со страшным энтузиазмом говорит, она, очевидно, много прорабатывала этот вопрос, много работает и, наверное, прекрасная танцовщица. Но как она увязывает — вот балет существовал как агитационное зрелище, как наука движения для помещиц, купчих, которые двигались очень неуклюже, ломали мебель, когда садились, задевали рукавами. И вот, по примеру Версаля при императорском дворе, в имениях помещиков, при маленьких их дворах были организованы такие домашние, а иногда придворные труппы наиболее подвижных, наиболее хорошо двигающихся людей, которые постепенно приучали общество, учили его, во-первых, как держать себя, как не быть таким неуклюжим, как свободно со своим телом обращаться, а во-вторых, для других прикладных целей. Как перенести это в существование бесклассового общества, к которому мы идем? Как освоить и осознать — я не умею. Мне кажется, что музейная ценность балета очень велика и очень интересна, и на экспорт очень валютна. Ведь и пролетариат не прочь посмотреть, как хорошо двигаются, и сам я был очарован этими детьми, действительно прекрасными, изящными, прекрасно двигающимися на сцене.
Но целесообразность существования этого, агитационная польза его в таком плане, как говорили Чарноцкая, мне мыслится просто идейно-утопическим или делом далекого будущего. Перенести это на большое полотно — трудно так же, как и в литературе. Здесь требуется переход к определенной стилизации такого рода приемов и методов, которые создала культура 300-летнего существования буржуазии. Это напоминает мне прекрасный газон, который подстригался в Англии в течение 300 лет. Эта традиция и условность в балете не могут быть созданы трах-тарарах, только по вашему желанию, по вашей воле, по действию одного сознания. До сих пор бытовые и материальные условия влияют на искусство балета. Если отвлечься от очень широких проблем, которые совершенно законно ставятся энтузиастами балета, то я бы предложил просто маленькую идеечку, чтобы на таких широких собраниях и более широких собраниях обсуждать этот вопрос, но, кроме того, тех, которые интересуются этим и хотят двинуть это дело, созвать на производственное совещание в количестве 20 – 15 – 10 человек, где прорабатывать этот вопрос.
Тов. Габович говорил о том, что эволюционное развитие балета, постепенное продвижение его вперед шло от часа к часу, от шага к шагу, проторивая себе дорогу. Конечно, ни о каком революционизировании балета не может быть и речи. Был модернизированный путь Айседоры Дункан, Голейзовского, которые пытались 608 видоизменить точку зрения на балет, краски и т. д., но это далеко не пошло. Говоря о роли балета, нужно брать всевозможные проблемы. Конечно, снятие паранджи чрезвычайно интересно и фантастично. Но дело в том, что снятие паранджи для рабочих «Серпа и молота» не такая уж актуальная вещь. Ее можно сделать в национальном стиле, но это будет стилизация. Это будет косвенный показ далекой окраины, где будут использованы национальные танцы. Это опять-таки кусочек, то есть мы будем опять-таки собирать мозаику из старых паркетных полов и пытаться сделать нашу советскую инкрустацию. Возможно, что я все это говорю чепуху и сейчас же при первом нажиме на меня откажусь от своих слов. Но вызывая на соцсоревнование тех молодых товарищей, которые выступали, нужно подумать о том, что для нашего района действия нужно, чтобы воспитать через балет наши массы. Сидя здесь, я придумал такую вещь — показывать не купчих московских с их большими боками, которые, садясь, ломали стулья и т. д., а наиболее интересные проблемы движения. Показать умение двигаться по улице с тех пор, как в Москве прекратили существование конки, извозчики, увеличилось население и т. д. Можно показать, как люди висят на трамваях. Мне кажется, на такую тему написать балет было бы интересно. Тут и сюжет есть. Здесь какие-то люди, которые опаздывают, какие-то люди, которые терпят от этого неприятности. Можно показать, как научиться садиться в трамвай (с места: а как танцевать?). Танец — условное движение, я знаю. Ведь когда идет машина, вы уже не глазами ее видите, а слышите и чувствуете. Я извиняюсь, что очень дерзко вступаю в область мне незнакомого искусства. Об этом должны сказать свое слово люди компетентные.
Когда Габович сказал о том, что поставили на носки Метельщицу и заставили ее мести пол, то я подумал, а если бы ее заставили мести потолок, от этого ничего не изменилось бы. Система этих движений должна быть передана в руки опытных людей. В самом методе и традициях возможен подход к революционной выдумке и так далее. Но энтузиазм, который я здесь слышал и который прозвучал в голосах молодежи, выступавшей на эту тему, обязывает меня внести ответные предложения, т. е. выдумать такое, чем был бы заинтересован весь зал. Возможно, что с большого полотна не следовало бы начинать, а начинать с самых примитивных вещей, которые понятны, доступны и необходимы каждому. Чтобы человек, сидящий в зале, знал, что о нем заботятся, а не о парандже, которая может быть интересна Грузии60, которая сама должна развивать свой балет. Мне кажется, что в свете такого обмена мнений можно кое-что выявить. При этом не только большие собрания, но и маленькие производственные совещания сыграют в этом большую роль. Я думаю, что это заинтересовало бы и тех писателей, которые были призваны сюда и которые не пришли, и тех участников балетного искусства, которые находятся здесь.
Н. К. Чемберджи:
Товарищи, я, к сожалению, тоже не являюсь в достаточной степени компетентным в области балета, чтобы говорить особенно смело и умело, но, тем не менее, я считаю необходимым остановиться на некоторых высказываниях предыдущих товарищей.
В первую очередь хочу немного возразить тов. Асееву и думаю, что этим возражением отражу мнение балетных работников, здесь собравшихся. Я понимаю 609 законное желание тов. Асеева видеть в балетном искусстве нашу сегодняшнюю действительность. Но в тех путях, которые Асеев рекомендует, я слышу некоторые нотки ликвидаторства по отношению к балетному искусству. В чем я это вижу?
Вот когда Асеев говорил, что надеяться на то, что в большой балетной форме можно увидеть то, что мы хотим увидеть, — это утопия, то это туда-сюда. Я тоже склонен думать, что надо начинать с малых форм. Но когда Асеев говорит, что малые формы нужно отражать через балетное искусство, это уже примитив, это уже снижение значения балетного искусства как средства художественного воздействия. Трамвайное движение, давка и т. д. вряд ли является поводом для создания художественного произведения. Когда он говорит, что нужно агитировать, — это правильно, что мы должны агитировать. Но зачем же агитировать примитивом? Мы должны агитировать настоящим художественным произведением. А та форма, которую вы предлагаете, снижает задачи балетного искусства как средства художественного воздействия. Художник и композитор должны поставить задачу реконструкции большой балетной формы. Они должны взяться за это, не снижая значения этой огромной формы художественного воздействия.
Здесь выступала Сильвия Чен, выступление которой было исключительно характерно61. Сильвия Чен, многие из нас знают, и я, в частности, считаю, что многое из того, что ей сделано, чрезвычайно удачно. Но интересен путь, которым идет Сильвия Чен. Это путь человека чрезвычайно талантливого интеллекта. Но она работает самотеком. Учеба ее это отрицание нигилистическое, без учебы новому, без учебы на основе марксистского знания, методики диалектического материализма. Поэтому у нее нет находок. Что-нибудь найдет, потом провал. Поэтому, отрицая все огулом, не имея базы настоящей учебы, плохо работая над собой, над своим мировоззрением, она попадает отчасти в плен той самой буржуазной культуры, которую она огульно отрицает.
Другую тенденцию я вижу в выступлении Габовича. С одной стороны, его выступление было отрадным, потому что оно показывало, что руководящие работники балетного мира по-настоящему крепко и весьма серьезно призадумались над задачей реконструкции балетного искусства. Но у него была другая ошибка. Все-таки я считаю, что положение, выдвинутое Габовичем, о том, что классическая школа балета дает все средства для того, чтобы выразить любой стиль, любую тематику нашего времени, конечно, ошибочное положение. Я считаю, что в системе классической школы балета нужно пересматривать основные установки, а не какие-то наплывы. А многие товарищи до сих пор боятся это сделать. В частности, меня поражает в этом смысле стойкость, если можно так сказать, если не больше, если не упрямство Чарноцкой. Габович приходит к этому от знания, а Чарноцкая приходит к этому от незнания. Она говорит, что дело не в пальцах. Значит, дело в позе. Но ведь она отражает определенное содержание, определенную идеологию. Или когда Чарноцкая говорит, что балет — это отображение идей, а не людей, — очень странное высказывание.
Вот мне пишут — скажите хоть вы о музыке. Вот мое мнение на этот счет. Действительно, трудно говорить на этот счет, вопрос действительно очень трудный. Что мы видим на практике? Мы видим, что когда мы имеем образы в балете, скажем, танцы, в которых больше действия, ну, скажем, какие-то реальные образы, например, 610 образ Метельщицы в «Футболисте», то мы имеем выхолащивание танца. Когда мы имеем танец, то мы имеем выхолащивание образа. Сплошь и рядом видим это противоречие и не можем найти выхода. Мне кажется, что обстоятельство доказывает, что это искусство в большей степени условно, чем другие виды искусства, которые мы имеем. Из этого следует (это мое личное мнение), что в крупных балетных формах нужно, может быть, смелее все-таки идти по пути синтетики, т. е., скажем, не ограничиваться одним движением в продолжение 3 – 4 актов. Скажем, такая область, как область актерской мимики, — я считаю в области балета совершенно не разработана, потому что мимика актерская отвратительна. Я считаю, что в этой области можно еще очень много работать. Все-таки мне кажется, что это в значительной степени облегчит эти формы.
Я вполне присоединяюсь к тов. Асееву, что основную работу нужно начинать с малых форм, правда, не с таких, как он предлагает.
И вот я скажу о режиссерах. Я знаю некоторых режиссеров и знаю, что у каждого из них в отдельности есть отдельные удачи, а контакта между ними, общения между ними ни на грош нет, насколько я знаю. Плохо или хорошо, мы, музыканты, на своем музыкальном фронте, писатели на своем фронте и т. д. как-то общаемся, делимся опытом. Я не вижу, чтобы балетчики как-то общались между собой. Даже больше. Я вижу часто антагонизм, я не знаю, откуда он идет. Поэтому плодотворная работа возможна, если Холфин62 будет брать какой-то опыт у Мэй63, если Сильвия Чен будет делиться с ними опытом и т. д.
В моей практике мне приходилось очень часто сталкиваться с таким явлением, когда тт. говорили, что это очень здорово, хорошая музыка, но, понимаете ли, не танцевальна. И вот на эту самую штуку не столько я, сколько мои товарищи очень часто напарывались. Я отнюдь не отрицаю, что есть какая-то специфика танцевальной музыки, я считаю, что та специфика в танцевальной музыке, как она представляется многим нашим работникам, очень ограниченная специфика. На самом деле возможности отанцовывания музыки гораздо больше, чем думают некоторые товарищи. И если бы в этой области люди подходили смелей и с большей инициативой, мне кажется, что эта преграда между танцевальной музыкой и нетанцевальной музыкой была бы перейдена.
Я хочу в заключение сказать, что, действительно, такая область, как область танца на службе наших митингов, демонстраций, клубов, совершенно игнорируется нашими работниками. Я бы сказал, что здесь музыканты идут впереди. Я знаю не менее десяти новых массовых танцев, довольно хорошо написанных, и совершенно не понимаю, почему до сих пор ни один из танцев здесь не поставлен. Стыдно видеть, что у нас танцуют в клубах. Я присоединяюсь к Сильвии Чен и законно спрашиваю, почему никто из вас до сих пор ничего не делает. Вопрос о социалистической реконструкции балета — вопрос важный, за который нужно взяться вплотную, не боясь трудностей, которые в связи с этим могут встать. Нельзя заниматься ликвидаторством по отношению к балету, а нужно стараться всячески перестроить эту форму. Тот конкурс, который объявлен, настойчиво выдвигает это требование. Я думаю, что советские балетные художники найдут в себе достаточно умения критически подойти к богатейшему наследству прошлого и марксистско-ленинскому мировоззрению, чтобы с честью выполнить эту задачу.
611 П. Ф. Юдин:
Я не возражаю против того, что нас ограничивают во времени, но приходится возражать против того, что данное собеседование идет мимо темы, которая поставлена в этом билете. Здесь написано: «Диспут о путях советского балета в связи с конкурсом». Значит, ясно, и докладчик, и выступающие здесь должны были сказать, каково положение с нашим балетом в настоящее время, а также сказать, каковы условия работы по конкурсу, кто привлекается, кто эти люди, на какие моменты обращать в первую очередь внимание и т. д. Это был бы первый диспут, который открыл бы серию диспутов, потому что, привлекая целый ряд новых авторов, нужно ознакомить их со спецификой балета, с тем, с чем они встретятся на практике. У нас есть много различных областей искусства: кино, театр, музыка, где конкурсы также практиковались, и получилось, что никакого ясного, твердого задания те, кто конкурс организуют, не могут дать. По отношению к балету, разумеется, задание будет еще более туманным. Вот — практика. Для того, чтобы ее избежать, чтобы провести лучшим образом этот конкурс, нужно говорить об этих вещах. Поскольку об этом не говорили, поскольку это упущение нашего вечера, то ничего не сделаешь. К сожалению, здесь нет и той аудитории, которая кровно в этом заинтересована. Здесь нет представителей масс и тех людей, которые будут делать это новое искусство и которые в первую голову захотят что-то сделать.
О чем говорили здесь балетные работники? Они мимоходом, вскользь говорили о том, что наши 2-3 новые советские постановки, «Красный мак», «Футболист» и т. д., не удовлетворяют, потому что они плохо сделаны. Где же в выступлениях специалистов этого дела дан развернутый анализ, почему плохо сделано?
Тов. Новицкий очень обстоятельно коснулся классического балета, но ни в какой степени не коснулся творческой практики, хотя можно было говорить о сюжетах балетов, о тех сюжетах, которые вырабатываются в практике подачи творческих заявок и либретто.
Каковы основные ошибки, которые делают авторы, пытаясь работать в области драматической части балета, в области либретто? Об этом никто не знает. Почему об этом ничего не сказано?
Точно так же и музыканты, в частности, Чемберджи мог достаточно ясно и обстоятельно проанализировать, в чем он понимает музыку нашего времени, как он собирается передать ее в ритмическом смысле. Однако от этого уклонились, и приходится пожелать, чтобы устроители диспута не ограничились этим вечером, а привлекли бы сюда на следующие вечера всю творческую массу и дали бы ряд развернутых положений, теоретически и идеологически подкованных, иначе мы нового балета не создадим.
И последнее. Желательно знать, какими тайными покрывалами будет покрыта механика этого конкурса, потому что, поскольку я слышал одним ухом, дело происходит так, что либретто нужно давать в сочетании с музыкой. Спаривать автора либретто с музыкантом — совершенно немыслимая вещь. Я знаю, что в подобных конкурсах не практикуется давать политический и специальный отзыв, которым руководствовались бы авторы и руководители конкурса. Все эти вопросы нуждаются в освещении, и потому если мы хотим, чтобы завтра пришли люди творить, то они должны знать, куда они идут, зачем они идут, с чем они встретятся и какую получат помощь.
612 Председатель:
Я вынужден дать ответ в порядке ведения нынешнего диспута. Совершенно неправильно представлять организацию конкурса с таким грубым ползучим эмпиризмом, как это кажется т. Юдину. Для того чтобы организовать заседание либреттистов, композиторов, нужно прежде всего осмыслить, в каком направлении балет будет развиваться. На этом основании мы решили в порядке подготовки и проведения нашего конкурса взять коренной вопрос реконструкции нашего балета. Наш диспут — первый и единственный в течение последних лет о балете вообще. Он не может сыграть своей роли в ориентации тех творческих работников, которые возьмутся за это дело, ибо нам нужен всякий балет, который будет идти по линии социалистической реконструкции. О путях этой социалистической реконструкции балета мы сегодня и говорим.
Г. И. Геронский:
Я также считаю, что выступавший передо мной товарищ не совсем прав, требуя сегодня обстоятельного доклада на специфические балетные темы. Значение сегодняшнего диспута именно в его инициативе, и я тоже не собираюсь давать развернутую характеристику существующим сейчас балетным направлениям и отдельным творческим методам, но постараюсь вкратце и бегло наметить корень зла, обрисовать, почему мы получили то положение в балете, которое мы сейчас имеем. И в самых кратких чертах наметить выход из этого положения.
Мне кажется, что выступавшая здесь Сильвия Чен не совсем права, всецело адресуя свои упреки классическому балету. Не в классическом балете дело, и не с него нам нужно спрашивать. Нам нужно адресовать упреки в свою сторону потому, что в течение последних 6-7 лет наша общественная мысль проявляла к вопросам танца, к вопросам балетного искусства поразительное равнодушие. Мы не давали почти никакой поддержки новым балетным течениям, направлениям. Мы не создали теории пролетарской музыки и пренебрегли теорией пролетарского балета. Сейчас ни одна организация балетом не занимается. Если 2-3 года назад была робкая попытка создать общество друзей балета, то эта попытка не пошла дальше двух заседаний. Больше всего о балете пишут в «Известиях» и обычно поддерживают ту рутину, которая свила здесь гнездо. Я сегодня попытался просмотреть, какие наши теоретические установки в области балетного искусства, какие книги в этой области есть. Последняя книга, которая есть, помечена 23 – 24 годом. В этих книгах мы встречаем ярко идеалистические утверждения (читает)64.
Серьезно трактуется вопрос, не является ли балет иллюстрирующим музыку. О балете, кроме небольших газетных заметок и то, когда один из директоров Большого театра объявил мобилизацию на 2 недели, ничего не было. И вместе с этим хочется противопоставить, как много внимания балетному искусству как отражающему свою идеологию уделяет Запад, как много написано о балете, который можно исполнять даже без музыки, что является загибом в данном смысле. У нас не было более обстоятельного анализа соотношения музыки и танца, и я считаю себя призванным этот анализ давать. Но у нас все время тоже делаются попытки давать хореографические иллюстрации музыки. Здесь один из коренных вопросов, перед которым марксистская исследовательская мысль встает. Музыка и танцы должны 613 выполнять идеологические функции, тем более, что идеологические функции танец выполнял и в буржуазном обществе. А у нас вместо этого они размагничивают и размягчают классовую борьбу. И если есть из этого исключения, то эти исключения не надо искать в Москве. Эти исключения наблюдаются в наших национальных республиках. А в Москве движение балета шло вперед в 1923 – 24 годах, а затем пошло вспять. Тов. Новицкий говорил о проблемах культурного наследства в балете. Мне кажется, что проблема кукольности [показана] односторонне. Здесь очень характерно прозвучал возглас: как же танцевать? Вот именно на этот вопрос мы должны на ближайших диспутах дать ответ аудитории. Но если мы говорим, что к буржуазному наследству балета нужно подходить во всем критически, не указывая, каковы же те немногие элементы, которые необходимо брать, это значит затуманивать вопрос, замалчивать его. В классическом балете нам, конечно, более ценно не то искусство прыжков и то искусство овладевать своим телом, нам в классическом балете, как это ни парадоксально звучит, мы можем много заимствовать в отношении организации массовых действий, организации толпы, что очень часто и до современного зрителя доходит.
Но у нас есть еще одно наследство — тоже буржуазное наследство, хотя оно по времени ближе, которое, казалось бы иногда, создано нашей средой. У нас были достижения раньше, в ранний период, в 21, 22 году, достижения в области формалистского искусства. Это не значит, что мы должны культивировать это искусство как само собой разумеющееся, но в отдельных местах, даже в этих танцах машин, даже в тех композициях мастеров, которые прекратили свою работу, мы не можем найти утверждение танцев, которого классический балет чрезвычайно долго избегал.
Я считаю, что нам необходимо поставить танец, и балетный танец и танец самодеятельный, в совершенно такие же условия, в которые мы ставим иные виды искусства. Нам нужно создать вокруг них обстановку научной дисциплины. У нас, например, совершенно не начата запись танцев, хотя запись танцев существовала еще в Египте. Сейчас, прибегая к кино, к звуковому кино, мы можем дать хореотеку, которая сократит нашим учащимся балетных школ пользование целыми библиотеками.
Кстати, о самих балетных школах. Это не соответствует установкам «Комсомольской правды» — организатора этого диспута. Но мне кажется, что поставить вопрос о комсомольском обновлении балетных школ чрезвычайно своевременно. Это влило бы новую кровь в устаревшее рахитичное тело балетных техникумов. Оно создаст как раз то движение, которого раньше не было, когда наших композиторов начнут подталкивать снизу, а не сверху будут подсказывать, исходя из здоровой интуиции. Тогда, может быть, мы будем снимать паранджу не только в отдельных номерах, но снимем паранджу со всего балетного искусства.
Р. П. Абих:
Я хочу сначала ответить тов. Асееву относительно агитационного значения балетного искусства. Это не спорный вопрос, и мы можем совершенно просто и коротко сказать, что мы рассматриваем танец и должны его рассматривать как одно из средств психо-идеологического воздействия, которое должно быть использовано теми, кто поставил себе задачу в ближайшее время ликвидировать остатки капитализма не только в экономике, но и в сознании людей. Так широко я считаю 614 возможным в «пандан» Н. Н. [Асееву] поставить этот вопрос. Так нужно его ставить и так политически к нему подходить. Очень жаль, что за 15 лет это средство выпало из рук партии и советской власти, которая не могла его освоить в должной мере.
Исходя из этих установок, отправляясь от этой политической цели, я берусь рассматривать то, что происходит здесь. Мне кажется, что та избранность, которая неорганически связана с балетом, доминирует, к сожалению, и здесь. Здесь собрались гурманы, я говорю не в обиду, собрались люди, которые были около балета, профессионалы балета, но я совершенно не вижу представителей того движения, которые должны дать новый толчок в этом отношении. Организационная ошибка «Комсомольской правды» в том, что она собрала это собрание в Бетховенском зале. Не с Большим театром нужно связывать движение за ломку старого. Сюда по газетному объявлению не всякий придет, а если захочет прийти, то его не пропустят. Нужно было бы организовать этот диспут не в этой камерной аудитории, а в более широкой, как умеет ставить и, надеюсь, сумеет поставить этот вопрос «Комсомольская правда».
Отсюда перехожу к другому вопросу: можем ли мы и должны ли мы направить это движение за новый балет, за перестройку танца за эгидой этой феодальной организации — Большого театра. Ни в коем случае. И если «Комсомольская правда» пойдет по этому пути, она сделает большую ошибку. Я считаю, что это движение должно быть массовым. Большой театр должен участвовать в этой перестройке. Эта перестройка должна происходить в Большом театре, но руководить ею и воздействовать на нее должны иные силы — силы со стороны, которые придут с несколько иной зарядкой. Те самые силы, которые летом с большой активностью приходят в Парк культуры и отдыха и под пение ребят в клетчатых рубашках с гармошкой стараются воспринять новые формы движения. Я говорю о тех силах, которые должны быть привлечены к этому. Это комсомольская молодежь с фабрик и заводов. Где она сегодня представлена? Ее нет. На нее нужно опираться. Тут двоякая задача: с одной стороны, нужно поднимать массы на то, что танец есть одно из орудий, которым мы можем пользоваться, а с другой стороны — стараться получить от этой массы новые задачи, которые будут поставлены по-большевистски. Только так, а не иначе можно мыслить себе это дело.
Если вы пойдете даже в вуз, я не говорю уже о низовой ячейке, то вы увидите пренебрежительное отношение к балету. Одно время ведь говорили, вот, например, Чарноцкая, комсомолка из балета Большого театра, что — это ужас. И комсомольская ячейка относилась не поощрительно к товарищам, которые занимались балетом или танцами. А сейчас в этом году в театральном вузе вы найдете другое положение вещей — товарищи, которые занимаются балетом, танцами и которые ставят вопрос по-новому, так как не получают никакой поддержки. В свое время была написана на эту тему соответствующая статья и принесена т. Бачелису в «Комсомольскую правду», который, кстати сказать, не напечатал ее, потому что у него был другой материал. Редакция не пошла навстречу и не помогла этому молодняку. Я считаю, что это движение должна возглавить «Комсомольская правда», сама возглавленная соответствующей организацией.
Перехожу к вопросу об оценке, которую дал Новицкий. Он, взявши классиков нового балета Фокина и Дункан, недооценил тех слов, которые я подал в порядке 615 реплики, а это у нас, безусловно, есть. Появление статьи, о которой я говорил, помогло бы сорганизовать соответствующие силы, которые получили хорошую идейно-психологическую зарядку и марксистскую идеологию в наших вузах, которые думают над тем, как бы перестроить балет по-новому. Но неорганизованно они не могут выступить. Эти силы нужно организовать, и, ставя здесь сегодня вопрос о реконструкции балета, я удивлен, что Новицкий не выдвинул вопрос об организационном оформлении этого движения. Я не представляю себе, как можно ставить политически вопрос, не подкрепивши его организационно, и считаю, что выводы на этот счет нужно сегодня сделать. Поскольку «Комсомольская правда» взяла на себя инициативу поставить эту дискуссию, она должна взять на себя инициативу и в этом отношении. Нужно организовать деятелей балета в одну какую-то организацию и этой организации дать политическое руководство.
Второй вопрос, который Новицкий выдвинул относительно учебы. Он упирается в те силы, которые так умеют двигать ногами и совершенно не умеют шевелить мозгами. В этом нужно им помочь, так, как помогали им вправлять мозги в других направлениях.
Третий момент: о включении танца в систему планируемых искусств. Ведь та кустарщина, о которой идет речь, о которой говорил тов. Новицкий, — это следствие того, что им не дают базы, не дают возможности работать. Вот возьмите Московский драматический балет65, возьмите группу Шаповалова66. Ведь они побираются, на гроши существуют и, конечно, без базы, без денег, без помещения не могут работать. Им это надо дать, надо планировать. И, наконец, последнее, о чем говорили, — об организации массового самодеятельного искусства. И тут, конечно, Сильвия Чен права, когда говорит о демонстрациях. Если у нас сейчас уже оформление демонстрацией поставлено крепко, если на «Динамо» привлечен ИЗОРАМ67, то тут мы можем тоже поставить вопрос о массовом танце.
Один частный вопрос в порядке возражения тов. Новицкому. Ясно, что эта организация должна будет поставить творческие вопросы, т. е. должна будет подойти к разработке своей платформы, и тут будет одна из частностей, к которой я подхожу. Это вопрос о классическом наследстве. Мне кажется, что Новицкий делает ошибку такого порядка, что он все-таки переоценивает старый балет, когда он говорит и предлагает освоить, творчески преодолеть классическое наследство в части техники. Вы забываете одно маленькое обстоятельство, что эта техника несет на себе груз идеологии. Стало быть, от старого классического наследства, связанного с хореографическим балетом, с искусством движения, мы берем технику, но только в ее части, в которой она не несет никаких признаков той психоидеологической социальной структуры, которая эту технику породила. Если мы эту оговорку примем, то тогда с товарищем Новицким согласимся (с места: Он так и сказал). Я тогда согласен, тогда я готов отмежеваться и подать письменное заявление. И еще — все это должно принять организованную форму.
И. И. Бачелис:
Разрешите в порядке прений сказать и мне несколько слов. То, что наш диспут протекает все-таки в атмосфере столкновений очень серьезных мнений, показывает, насколько назрели те вопросы балета, которыми мы занялись. Я напомню 616 вам, что последний идеалистический апостол классического балета Волынский в 23 году выступил с истерической книжонкой68, в которой доказывал, что искусство балета пропадет в революции. И то, что мы с вами сейчас очень горячо обсуждаем пути, революционные пути классического балета, социалистическая реконструкция балета показывает, насколько эти идеологические пророки были близоруки. Балет в революции не умер, по-видимому, слухи о его смерти были несколько преждевременны. Наоборот, то, что мы с вами обсуждаем, является свидетельством того, что балет не умер, будет еще жив, несмотря на то что ему очень отказывали во внимании, принимая во внимание его придворное происхождение.
Мне кажется, что говорить о придворном происхождении балета это значит в значительной степени заблуждаться. Происхождение можно вести значительно дальше в глубь истории. В том искусстве балета, которое мы имеем сейчас, очень мало осталось от придворного балета. Но мы должны очень точно осознать, что классический балет, свидетелями которого мы являемся, отнюдь не похож на тот классический балет XVII века, к которому пытаются свести некоторые работники балета. Это большое заблуждение думать, что балет в течение 2,5 веков не жил, что балет не развивался, что он закостенел, несмотря на то что он является одной из самых закостенелых форм. И тут надо прямо сказать, что классический балет, понимаемый как балет феодальный, как остаток, осколок феодального общества, — это одна из вреднейших иллюзий, которые мешают дальнейшему движению балета. Предполагать, что мы сейчас на сцене смотрим настоящий классический балет XVII в., — это значит думать, что преодолеть эту классику балета нельзя было в течение веков. Между тем классика менялась, резко менялась, и тот, кто знаком с историей балета хотя бы поверхностно, не может не видеть, что в эту классику вводилось столько напластований, она дошла к нам настолько в измененном виде, что мы можем говорить о нем только как об условной форме развития, но не как о канонизированной форме, которую мы понимаем часто как нерушимую форму балета. Это одна из самых страшных тяготеющих над балетом мыслей, что балет имеет свои твердые нерушимые каноны, которые в течение веков не нарушались, которые только использовались различными классами и различными общественными формациями. Ничего подобного. Классический балет искажен. Все несчастье его состояло в том, что он не развивался, а искажался, он вырождался. Не видеть в современном классическом балете вырождения классического танца, это значит ничего не понимать в состоянии современного классического балета.
Здесь нужно еще отметить, что одна из важнейших черт такого феодального балета, которое несет еще до сих пор балет на себе, — это его аллегоричность. И Чарноцкая, например, ищет выхода из феодальных форм балета в создании своей советской аллегоричности. Рассматривать балет как аллегорию, как выражение идей, как символ, как выражение идей человека и человеческих отношений — это было бы совершенно неправильно. Это значило бы сводить весь балет, все его многообразие как искусства, к очень узкому, очень пошлому жанру. Мы можем прямо сказать, что балет не был бы искусством, если бы в его средствах не было бы такой системы отношения к миру, которое позволяло бы выразить всю объективную действительность. Ограниченных искусств не бывает. То искусство, которое ограничивает себя в каких-то возможностях передачи явлений действительности, умирает 617 как искусство, и искусство начинает жить тогда, когда оно приобретает эту возможность самостоятельного мышления в образах, в специфических образах, в которых оно может мыслить обо всем мире, обо всех явлениях действительности. Балет может мыслить обо всех явлениях действительности, и здесь совсем незачем прибегать к новым формам аллегории, к новым формам советской утопии, сказки и т. п., и т. д. Здесь лежит одна из самых типичных иллюзий, которые бы мне хотелось отметить. Идейный смысл сказок обычно расшифровывался в смысле этих аллегорий. Между тем идейный смысл балета состоит в том, чтобы не выражать идею о людях, а выражать идею живых людей. И здесь совершенно очевидно, что образ, который дается в балете, есть прежде всего образ человека. Мы не можем здесь оторваться от человека еще и потому, что материалом балетного искусства является человеческое тело. Здесь оторваться от человека значит ничего не понимать в самой специфике балетного искусства. И те, кто думает через балет выражать абстрактные идеи о человеке, те отрываются от балета как от искусства и подменяют его иллюзорной формой, ведут его к той прошлой форме, которая приводила к деградированию, вымиранию балета. Ведь идея может быть выражена в людях и в отношениях между людьми.
Когда-то Гейне очень зло и ядовито издевался над той немецкой публикой, которая смотрит танец Фанни Эльслер69 в момент, когда во Франции грохочет революция. Он говорил: посмотрите на этих обывателей, которые смотрят на сцену. Вы думаете, они смотрят — пируэты, — ничего подобного. Это Европа танцует на вулкане70. Вот что смотрит немецкий обыватель в танце Фанни Эльслер. Это было саркастическое замечание, в которое Гейне вложил очень много смысла. Конечно, обыватель не видел Европу, танцующую на вулкане, но танец во все времена, во все общественные формации передавал идеи этого общества и передавал, прежде всего, через живые человеческие образы.
Вот здесь один из моментов, по которому, по-видимому, будет идти реконструкция балета. Этот момент — драматизация балета. Это отношение к балету не как к выражению абстрактных идей классической или неклассической красоты, идей о человеке или о вещи, а как к балету, к выражению, прежде всего, человеческих образов.
Посмотрите всю программу оперно-балетного театра. Все балеты построены так, что человека в балете не существует. Существуют лешие, феи, русалки, существует выражение лирики, гномы и проч., но людей на сцене балетного театра нет. И вот когда в балете появится человек, танцующий за себя, за свой человеческий образ, за всю гамму своих человеческих мыслей, чувств, эмоций и т. д., когда этот человек заживет в балете не абстрактными идеями, а конкретным отношением к тому, что делается в действительности, тогда этот человек станет основным и ведущим на пути дальнейшего развития балета. Вот откуда и возникает вопрос о взаимотворчестве, о взаимоотношениях, о взаимовлиянии между классической техникой балета, искаженной, деградирующей техникой, и техникой массовых танцев, национальных танцев, физкультурных танцев и т. д. Это чрезвычайно важно. Но балетные проблемы тянут нас в область физкультурных пантомим не для того, чтобы освежать классическую технику, а для того, чтобы люди зажили в области балета. А нужно показать, как они оживают в области танца, в быту, и тут балет может многое дать. 618 В своей классической технике, когда он начинает черпать из источников национальных народностей из физкультурного танца, — он может многое дать.
Чрезвычайно характерен разрыв, который существует между музыкой и балетным движением на сценах современных балетных театров. Возьмите такой простой случай, глубоко запавший, остро выраженный, где имеется буквально выпуклая характеристика в музыке вещи, как «Петрушка» Стравинского71. Ведь в «Петрушке» Стравинского все образы очень выразительны. Когда слушаешь, все себе представляешь. Но когда смотришь на сцену Большого театра, ощущаешь невероятный разрыв между тем представлением, которое создает музыка, и между тем, как эти образцы претворяются в танце. Этот разрыв между музыкой и танцами не случаен. Может быть, я скажу большую ересь, которую выдвигаю в дискуссионном порядке, но считаю ее в значительной мере основной, — это то, что хореографический балет давно перестал слушать музыку, перестал ощущать музыкальные образы, перестал принимать музыку и в музыке берет лишь ее ритмическую, принудительную основу. С этой стороны, воспринимая музыку, балет делает все, чтобы порвать с музыкой. Недаром всегда музыка была капельмейстерской музыкой, ремесленно-композиторской музыкой. Объясняется это тем, что музыканты на практике видели, что большие идеи, вложенные в произведения музыкантов, не всегда воспринимаются хореографами. Здесь, в причине разрыва между музыкой и балетом, нужно искать путь для дальнейшего развития балета.
И, наконец, последний вопрос: балет и литература. К сожалению, литературы в этой области так же мало, как и композиторов. Но роль литературы в дальнейшем движении балета может повыситься именно с того времени, как только балет перестанет быть царством «Лебединого озера» и «Спящей красавицы» и станет миром тех людей, которые привыкли работать, писать о нашей современной действительности. Ведь писателю, чтобы написать балет, сейчас нужно быть или заранее сбежавшим от действительности или убегающим от нее.
Тот, кто хотел бы писать для балета в его традиционной форме, тот бы совершил несомненное бегство от действительности. У нас писатели, к счастью, настолько выросли и настолько привлечены к действительности, что не имеют ни малейшего желания бежать от нее. Но если они не желают бежать от нее, то они могут принести в балет только то, с чем они привыкли иметь дело, — конкретные образы и то, с чем приходится иметь дело миру. И если балет хочет привлечь крупных художников слова, то балет должен озаботиться, чтобы эти образы воплотить. И если мы эти вопросы ставим, ставим в аудитории, в значительной мере наполненной производственниками балета, работниками балета, в отсутствие в значительной части литераторов и композиторов, мы считаем, что мы делаем все же большое дело, и производственники балета должны подготовиться к тому, чтобы новый балет воплотить в себе, в работе.
Тут вызвал печальное недоразумение у некоторых товарищей вопрос о взаимоотношениях Большого театра и «Комсомольской правды». Я должен дать в порядке последнего слова несколько разъяснений. Мы считаем, что профессиональное искусство не может быть противопоставляемо самостоятельному искусству, что приведи мы или не приведи сюда массу, мы бы еще не сделали того дела, которое ожидал тов. Абих. Мы считаем, что профессиональное искусство должно идти 619 определенным путем, и если здесь не существует массы, то здесь есть представители пролетарского мировоззрения этой массы, которые способны бороться в этой аудитории без этой массы за интересы этой массы. Поэтому эта грубо-демагогическая постановка вопроса совершенно отпадает.
Мы собрали собрание творческих работников в области этого искусства и работников смежных искусств, чтобы обсудить профессиональные вопросы балетного искусства. Мы подчеркиваем, что вопросы самодеятельного искусства, взаимодействия этих искусств играет большую роль, но это подчеркивание не может привести к немедленному общению работников Большого театра и работников Парка Культуры и Отдыха для решения вопросов, которые мы сегодня ставим.
П. И. Новицкий (Заключительное слово):
Я сделал не доклад, а говорил вступительное слово к диспуту. Поэтому если бы я делал доклад, то я, может быть, был бы более конкретным и поставил бы перед собой несколько основных вопросов, которые постарался бы исчерпать. А всякий человек, который делает вступительное слово, он только ставит вопросы, а по существу им не ведется исследовательская работа по отдельным конкретным вопросам. Тем не менее, я считаю, что указания со стороны некоторых товарищей на некоторые мои «ошибочные» положения не являются правильными. Так я вовсе не говорил, к сведению Габовича, что искусство и, в частности, балетное искусство должно отражать только сегодняшний день, а я говорил об отражении объективной действительности. Здесь можно ставить вопрос и о прошлой, и о будущей действительности. Те, кто занимается построением утопий будущего, не связывая их с сегодняшней практикой производственной борьбы, тот занимается ненужным делом. Нужно увязывать будущее с показом сегодняшней борьбы. Это азбучное положение марксистской методологии искусства.
Затем моя задача была дать некоторые теоретические обоснования постановки вопроса. Я подчеркивал, что я говорю не об искусстве танцев вообще, говорю не о характерных национальных танцах, меня интересует даже не область индивидуального танца, меня интересует проблема балета. Под этим следует разуметь единство мимического действия, музыки, ритма. Когда мы говорим об образе балета, мы говорим об образе музыкальном, ритмическом, драматическом. Я подчеркивал, что балет следует рассматривать как театральную форму, что балет связан с театром. Ту характеристику балетного искусства, которую дал т. Бачелис, я вполне разделяю. Балетное искусство, конечно, имеет объектом живого, движущегося в пространстве и мыслящего человека. В этом отношении балетное искусство является наиболее выразительным, обладающим чрезвычайно могущественными средствами эмоционального и другого воздействия. И напрасно т. Асеев пытался в этом отношении ограничить понимание и балетного искусства, и вообще искусства. Характерно для Асеева, что он тут повторил свою старую ошибку с таким направлением, к которому примыкает, когда он выводил искусство вообще из бытовых функций, когда он недооценивал идеологические функции искусства. Для него балет и балетное искусство развивается как искусство, которое учит двигаться, в то время как балет является самым могущественным средством идейного воздействия. И танцы, и балет всегда потрясают массы, потрясают и знатоков, и людей 620 искушенных, обладающих известными навыками художественной культуры, и потрясают зрительские массы. Таково воздействие и эмоциональное, и идеологическое воздействие танца хотя бы Айседоры Дункан. Таково же воздействие всякого национального танца. Национальная культура всегда получала максимально глубокое выражение в характерных национальных танцах, которые потрясают не потому, что представляют из себя систему бытовых движений, а потому, что выражают идеологию, миросозерцание тех или иных социальных слоев, той или иной эпохи, той или иной национальности. Поэтому здесь Асеев впал по существу в принципиальную идеологическую ошибку.
Не буду перечислять ошибки других товарищей, ошибки Сильвии Чен, которая недостаточно принципиально относится к различным системам, которая восторгается системой Айседоры Дункан, к которой нужно относиться критически, или когда она советует учиться у Дягилева, К. Голейзовского. У Голейзовского следует учиться, его следует привлечь в систему балетного театра, но в то же время следует знать, чему не следует у него учиться.
И в то же время следует знать, что Голейзовский — яркий представитель декадентского, упаднического хореографического искусства. Он является самым ярким представителем буржуазной упадочной системы в области хореографии.
Можно было бы остановиться и на обширных положениях, которые развернула т. Чарноцкая, когда говорила о своем идеале красоты, о том, что мы в балете имеем дело с идеями, а не с самими людьми, о том, что на самом деле это не так. От этих идеалистических убеждений т. Чарноцкая, я уверен, откажется через некоторое время.
Что касается выступления тов. Абиха о том, что якобы т. Новицкий переоценил классический балет и недооценил революционное движение, которое пытается расшатать старый балет и найти выход для хореографического искусства, то я считаю, что он сделал принципиальную ошибку, говоря, что следует опираться на самодеятельное искусство.
Тов. Чемберджи, по-моему, тоже неправильно утверждает, что реформа хореографического искусства должна начаться с малых форм. Я говорю — с малых и с больших форм. Если ставить вопрос только о малых формах, то это принципиально и политически неправильная установка. Нужно говорить и о существующих громадных системах, с которыми мы должны считаться на нынешнем этапе нашего балета, и с нынешними вариантами сохранившегося классического балета, которые не являются системой классического балета, а лишь классическим балетом начала XX века.
Почему я на этом сосредоточил свое внимание? Потому что это большая величина, потому что это балетный театр. Когда я давал характеристику, я никакой переоценки не сделал. Наоборот, я говорил о сюжете искусства, тематике его. Я делал фактически информацию и не мог дать специально исчерпывающего анализа в своем вступительном слове. Но по существу я сказал, что мы должны взять и от чего должны отказаться. Моя установка была правильна. Когда я говорил о технике, то главным образом имел в виду классический балет. Я говорил о том, что техника должна иметь связь с определенной тематикой, с определенным мировоззрением. Это было подчеркнуто.
621 Единственное упущение, которое я сделал — это то, что недооценил ценный ряд революционных течений, которые возникли в современном балете. Я просто не остановился на этом в своем докладе. Это действительно упущение.
Я думаю, что необходимо сделать и соответствующие выводы организационного характера. По существу такое предложение организационного характера я имел в виду, когда характеризовал состояние этого участка идеологического фронта. Еще раз подтверждаю, что это самый отсталый участок идеологического фронта. Здесь мы имеем дело с громадным идеологически прорывом. Поэтому меры ликвидации этого прорыва должны быть мерами чрезвычайного характера в том смысле, что темпы должны быть взяты гораздо более быстрые, чем на всех других участках идеологического фронта. Здесь необходимо открыть большую дискуссию. Те организации, которые должны за это взяться, должны это сделать. Нужно установить особенность пролетарского и буржуазного балета в современных условиях, в чем она выражается, какова ее идеология, тематика, сюжет, техника, в частности отношение музыкального образа к зрительному или динамически драматическому образу. Это необходимо поставить и технологически, и драматически. Необходимо об этом повести дискуссию в печати с тем, чтобы она окончилась такой большой конференцией. Необходимо, чтобы в этом приняли живое участие и другие организации, и самодеятельное искусство. Наряду с профессионалами должны быть и самодеятели. Это совершенно необходимо. Такую конференцию нужно созвать и на этой конференции поставить все интересующие нас вопросы.
Необходимо созвать такую конференцию и на этой конференции после дискуссии, после выяснения целого ряда вопросов проработать план, план своего рода реформы балетного искусства, так, как поставлен вопрос о реформе циркового искусства. Надо организовать диспут с привлечением рабочего актива, организовать дискуссию в печати. Затем конференция. Материалы конференции прорабатываются методически и превращаются в конкретные указания и директивы в плане реформы, которая проводится театром и учреждениями. Так было проведено в отношении циркового искусства и так необходимо взяться и за балетное искусство в целом.
Необходимо организовать и общественность. Необходимо создать Ассоциацию революционного балета и, когда создастся Ассоциация революционного балета, на этой почве создать Ассоциацию пролетарского балета, и я уверен, что Ассоциация пролетарского балета будет действовать и драться за партийность балета. (Аплодисменты.)
622 Комментарии
Вступительная статья
1 Новицкий Павел Иванович (1888 – 1971) — театровед, театральный критик, театральный деятель. В 1925 – 1929 гг. являлся заведующим художественным отделом Главнауки Наркомпроса, в 1932 – 1936 гг. заместитель начальника главы управления театрами, в 1941 – 1942 гг. заведующий литературной частью Театра им. Моссовета, с 1945 г. — Театра им. Вахтангова. Преподавал в ГИТИСе и др. Основные работы посвящены проблемам отечественного театра: «Современные театральные системы» (1933), «Образы актеров» (1941), «Борис Щукин. Жизнь и творчество» (1948), «Хмелев» (1964).
2 Бачелис Илья Израилевич (1902 – 1951) — театральный критик, кинодраматург. Лауреат Сталинской премии второй степени (1948) за сценарий фильма «Москва — столица СССР» (1947). Учился на литературном факультете Киевского университета, в 1926 г. окончил Институт внешних сношений в Киеве. С 1936 г. работал в кино как сценарист. Его высказывания о балете носили случайный характер.
3 Геронский (наст. фам. Янов) Геннадий Исаевич (1900 – не ранее 1965) — московский журналист, критик, автор первой брошюры-монографии «Алиса Коонен» (1927). В 1921 – 1922 гг. регулярно писал о балете. Среди статей: Балет декаданса // Экран. М., 1922. № 21. С. 8; Мастерская Н. Фореггера // Экран. М., 1922. № 23. С. 7; Балетные спектакли «Камерного балета» // Экран. М., 1922. № 31. С. 6; Балет исчезающий и возникающий // Новый зритель. 1925. № 18. 5 мая. С. 8 – 9.
4 Абих (псевд. А. Б.) Рудольф Петрович (1901 – 1940) — иранист, советский военный разведчик. Принимал участие в революционных событиях и в Гражданской войне в России. После войны продолжил службу в Красной армии на различных командных должностях и политработником. В середине 1920-х гг. окончил Восточное отделение Военной академии РККА. Находился на военно-дипломатической работе в Иране (в резидентуре военной разведки). Затем был отозван на работу в центральный аппарат Разведуправления Штаба Красной Армии. С 1931 г. редактор, старший редактор, заместитель главного редактора Государственного издательства социально-экономической литературы. Автор комментариев к поэме Хлебникова «Труба Гуль-Муллы» в 1-м томе его Собрания произведений (Л., 1931). В течение многих лет собирал материалы для книги «Хлебников и Тиран без Т». В 1933 г. обвинен журналом «Революционный Восток» в «блистательной слепоте» — издании под ред. Абиха «политически вредной» книги У. Рославлева (Р. А. Ульяновского) «Гандизм». Арестован в декабре 1934 г. как бывший оппозиционер, окончательно исключен из партии (1935); расстрелян в начале ноября 1940 г. Реабилитирован посмертно.
5 Асеев (наст. фам. Штальбаум) Николай Николаевич (1889 – 1963) — поэт, сценарист. Лауреат Сталинской премии первой степени (1941).
6 Чемберджи Николай Карпович (1903 – 1948) — композитор. Заслуженный деятель искусств Башкирской АССР (1944). Лауреат Сталинской премии второй степени (1946). В 1928 – 1932 гг. — заведующий музыкальной частью Московского центрального театра рабочей молодежи (ТРАМ). В 1931 – 1932 гг. вел класс композиции в Московской консерватории. Автор балета для МХУ «Елка Деда Мороза» и второй редакции «Сон Дремович» (1943, Москва, оба — балетмейстер К. Я. Голейзовский); первой башкирской оперы «Карлугас» («Ласточка», 1941, Уфа); симфонии-кантаты «Дело доблести» (1933), симфонии-поэмы «Армения» (1944); симфониетты, симфонии, сюит и др.
7 623 Юдин Павел Федорович (1899 – 1968) — референт Сталина и один из идеологов сталинизма, советский философ и общественный деятель, академик АН СССР (1953; член-корреспондент с 1939 г.). С 1932 по 1938 г. — директор Института красной профессуры, с 1934 по 1937 г. — заместитель заведующего агитпропом и заместитель заведующего отделом печати ЦК ВКП (б). С 1933 по 1937 г. — главный редактор журнала «Литературный критик».
8 Каминка Эммануил Исаакович (1902 – 1972) — артист, мастер художественного слова. На эстраде с 1920-х гг. выступал с чтением фельетонов, юморесок, рассказов. В репертуаре: «Вечера советской сатиры», произведения А. П. Чехова, М. Твена, Шолом-Алейхема, М. Е. Салтыкова-Щедрина, В. В. Маяковского и др. Заслуженный артист России (1947).
9 Чен Сильвия (Si-Lan Chen) (1909 – ?) — дочь видного китайского политического деятеля, жена американского киноведа и кинорежиссера Джея Лейды, ученика С. М. Эйзенштейна. С 1927 по 1937 г. жила в СССР, где окончила операторский факультет ВГИКа (1935), выступала на эстраде, активно сотрудничала с балетмейстерами К. Я. Голейзовским, В. Майя. Как отмечает в своей книге Н. Е. Шереметьевская, концерт «Театра танца В. Майя» с участием Сильвии Чен стал событием для московских любителей танца. (Танец на эстраде. М., 1985. С. 110). С 1937 г. работала в Америке, где воспринималась как танцовщица, сумевшая соединить в своем творчестве национальный китайский танец с советским.
10 Габович Михаил Маркович (1905 – 1965) — артист балета, педагог, автор статей по истории балета. В 1932 – 1934 гг. помощник заведующего балетом ГАБТ СССР. В 1932 – 1934 гг. председатель актива балета в экспертной комиссии по либретто Всесоюзного конкурса на оперу и балет.
11 Премьера балета «Красный мак» состоялась 14 июня 1927 г. в Большом театре. 100-е представление балета было показано 23 декабря 1928 г., что во много раз опережало самые репертуарные балеты, которые шли 15 – 20 раз в течение сезона.
12 Голейзовский Касьян Ярославич (1892 – 1970) — балетмейстер. С 1919 по 1925 г. руководил студией «Камерный балет», с артистами которой поставил одноактные постановки и концертные номера. В 1925 г. поставил на сцене Большого театра балеты «Иосиф Прекрасный» С. Н. Василенко и «Теолинду» на муз. Ф. Шуберта. В 1927 г. поставил балет «Смерч» Б. Б. Бера — один из первых опытов хореографического воплощения революционной темы в балете.
13 Моисеев Игорь Александрович (1906 – 2007) — артист балета, балетмейстер. Постановщик танцев в сказке комедии «Красавица с острова Лю-Лю» С. С. Заяицкого (1928, Театр-студия под руководством Рубена Симонова, режиссер Р. Н. Симонов); «Ромео и Джульетта» (Театр Революции, 1935, режиссер А. Д. Попов). Поставил в Большом театре балеты: «Футболист» В. А. Оранского, 1930; «Саламбо» А. Ф. Арендса, 1932; «Три толстяка» В. А. Оранского, 1935; танцы в операх Большого театра: «Загмук» А. А. Крейна, реж. Н. В. Смолич, 1930; «Турандот» Дж. Пуччини, 1931, реж. Л. В. Баратов; «Демон» А. Г. Рубинштейна, 1932, реж. Т. Е. Шарашидзе; «Кармен» Ж. Бизе, 1936, реж. Н. С. Домбровский, М. Г. Квалиашвили.
Новизну балета «Футболист» критики видели в том, что на сцене Большого театра впервые показаны персонажи, примелькавшиеся на частных сценах: наглые франты, кривляющиеся модницы, газетчики, беспатентные торговцы, моссельпромщицы. «Положительно блестяще сделана сцена футбола, где зритель испытывает подлинный захват, словно следя за настоящим состязанием», хвалили танец полотеров, «метко 624 передающий отдельные моменты работы, и танцы, имеющие целью изобразить различные бытовые движения (примерка костюмов, драка между футболистом и франтом, борьба метельщицы с франтом», — писал в своей рецензии Виктор Ивинг. Несомненным достоинством постановки считалось то, что она «убедительно доказала, что артисты классического балета могут быть прекрасными исполнителями не только старого репертуара, но и нового, советского, и что в Большом театре есть прекрасные постановщики, могущие поставить пьесы на современную тему». (Ивинг В. «Футболист» // Рабочий и искусство. 1930. № 19. С. 3).
14 «Смерч» — балет Б. Б. Бера, поставленный К. Я. Голейзовским в Большом театре. Показан 5 ноября 1927 г. единственный раз — на генеральной репетиции. «Красный вихрь» В. М. Дешевова — балет, поставленный в ленинградском ГАТОБ Ф. В. Лопуховым. Премьера — 29 октября 1924 г. «Величие мироздания» на муз. 4-й симфонии Л. Бетховена, балетмейстер Лопухов. Премьера — 7 марта 1923 г. Большой театр.
15 Конкурс на оперу, симфонию, балет // Советское искусство. 1932. № 7. 9 февр. С. 1.
16 Советский балет // Красная газета. 1929. № 2. 7 янв. С. 3.
17 Конкурс на оперу, балет и симфонию. Задачи конкурса — в центр внимания творческих организаций // Комсомольская правда. 1932. № 63. 16 марта. С. 3.
18 Подробнее об этом в статье: Потемкина С. «Спартак»: У истоков создания либретто // Театр. Живопись. Кино. Музыка: Ежеквартальный альманах. М., 2009. № 3. С. 154 – 165.
19 Конкурс на оперу, балет и симфонию. Задачи конкурса — в центр внимания творческих организаций // Комсомольская правда. 1932. № 63. 16 марта. С. 3.
20 Луначарский А. В. Новинки дягилевского сезона // Вечерняя Москва. 1927. № 143. 28 июня. С. 2.
21 Там же.
22 А. В. В плену у собственных вещей // Современный театр. 1929. № 41. С. 55.
23 Протоколы худсовета. Протокол № 6. [Б. д.]. Маш. копия. — РГАЛИ. Ф. 648. Оп. 2. Ед. хр. 768. Л. 208.
24 Там же.
25 Там же.
26 Там же.
27 Смольцов Иван Васильевич (1892 – 1968) — артист, педагог, балетмейстер. В 1910 г. окончил Московское театральное училище (педагог Н. П. Домашёв). С 1910 по 1953 г. в ГАБТ (до 1931 г. артист балета). Исполнял характерные танцы и ведущие классические партии: Зигфрид («Лебединое озеро»), Дезире («Спящая красавица»), Колен («Тщетная предосторожность»), Конрад («Корсар»), Альберт («Жизель») и другие. С 1920 г. преподавал в МХУ (ученики: И. А. Моисеев, М. М. Габович, А. М. Мессерер), затем в Московском театральном техникуме им. А. В. Луначарского, вел тренировочные классы и с 1937 г. работал балетмейстером-репетитором в Большом театр. Вместе с В. В. Кудрявцевой поставил балет «Жизель» (1939, театр «Остров танца»), в 1941 – 1945 гг. восстанавливал на сцене филиала ГАБТа многие балетные спектакли.
28 Протоколы худсовета. Протокол № 6. [Б. д.]. Маш. копия. — РГАЛИ. Ф. 648. Оп. 2. Ед. хр. 768. Л. 208.
29 В. З. На чистке в Большом театре // Советское искусство. 1933. № 46 (153). 8 окт. С. 4.
30 Там, где нет самокритики: Что показала чистка в Большом театре // Советское искусство. 1933. № 49 (156). 26 окт. С. 4.
31 625 Мутных Владимир Иванович (1895 – 1937) — директор Большого театра. В 1917 г. — юнкер Петергофской школы прапорщиков (Петергоф). С 1915 по 1928 г. — административный работник на руководящих постах сменил 11 должностей. С 1928 по 1935 г. — начальник Центрального дома Красной Армии в Москве. С 1935 по 1937 г. — директор ГАБТа. Арестован 20 апреля 1937 г. как один из членов троцкистской группы, готовившей взрыв правительственной ложи. Расстрелян 25 ноября 1937 г., реабилитирован 15 августа 1956 г.
32 Назначенный сектором Наркомпроса членом комиссии (вместе с О. С. Литовским и Б. В. Пшибышевским) по организации вечеров-встреч с представителями художественной общественности (писателями, художниками, актерами и т. д.), Новицкий тут же проводит диспут (В секторе искусств Наркомпроса // Советское искусство. 1932. № 16. 3 апр. С. 3).
33 Новицкий П. Мои ошибки: (Письмо в редакцию) // Советское искусство. 1932. № 7. 9 февр. С. 7.
34 М. Д. Танец — на пути к перестройке. Почему не привлечены лучшие мастера? // Комсомольская правда. 1933. № 137. 15 июня. С. 3.
Более подробно: Долгополов М. Реконструкция балета на конференции по вопросам хореографического искусства // Советское искусство. 1933. № 28 (135). 20 июня. С. 4.
35 Луначарский А. В. Новые пути оперы и балета // Пролетарский музыкант. 1930. № 5. С. 4 – 11. № 6. С. 2 – 8.
36 Долгополов М. Реконструкция балета на конференции по вопросам хореографического искусства // Советское искусство. 1933. № 28 (135). 20 июня. С. 4.
37 Амаглобели С. Смотр творческих сил // Советское искусство. 1932. № 3. 14 января. С. 1.
38 Реконструкция музыкального театра. Путь создания советской оперы // Советское искусство. 1932. № 4 (142). 20 января. С. 2.
39 Мессерер А. М. Танец. Мысль. Время. М., 1979. С. 86 – 87.
40 Дунаевский Исаак Осипович (1900 – 1955) — композитор. С 1920 г. — композитор и дирижер в Харьковском русском драматическом театре, дебютировал как театральный композитор музыкой к спектаклю «Женитьба Фигаро» там же. В 1924 – 1926 гг. — музыкальный руководитель театра «Эрмитаж». В 1926 – 1929 гг. — Театра сатиры. С 1929 по 1934 г. музыкальный руководитель и главный дирижер ленинградского «Мюзик-холла».
41 И. О. Дунаевский — К. Я. Голейзовскому. 14 января 1930 г. // Касьян Голейзовский: Жизнь и творчество: Статьи, воспоминания, документы / Под ред. В. П. Васильевой, Н. Ю. Черновой. М., 1984. С. 194.
42 Слонимский Ю. И. Советский балет. М.; Л., 1950. С. 117.
Стенограмма диспута о путях советского балета
43 Среди монографий, изданных в эти годы: Волынский А. Л. Проблема русского балета. П., 1923; Волынский А. Л. Книга ликований. П., 1925; Лопухов Ф. В. Пути балетмейстера. Берлин, 1925; Слонимский Ю. И. «Жизель». Л., 1926; Слонимский Ю. И. «Сильфида». Л., 1927; Соллертинский И. И. Музыкальный театр на пороге Октября и проблема оперно-балетного наследия в эпоху военного коммунизма // История советского театра. Л., 1933. С. 293 – 357.
44 Дункан Айседора (1878 – 1927) — американская танцовщица, основоположница свободного танца. Оказала большое влияние на творчество М. М. Фокина, А. А. Горского и других отечественных деятелей театра. В 1921 – 1924 гг. выступала в Москве с концертами. В 1922 г. приняла советское гражданство и основала в Москве студию танца, 626 которая просуществовала до 1949 г., много лет после того, как студийное движение прекратило существование.
45 Упоминаются балеты XIX в.: «Жизель» А. Адана, хореография Ж. Перро, 1841; «Раймонда» А. К. Глазунова, хореография М. И. Петипа, 1898; «Щелкунчик» П. И. Чайковского, хореография Л. И. Иванова, 1892.
46 Васильева Вера Петровна (1909 – 2009) — артистка балета, педагог. Окончила Московское хореографическое училище (МХУ) в 1926 г. (выпуск педагога В. Д. Тихомирова) и была принята в труппу Большого театра, в котором танцевала до 1950 г. Была первой исполнительницей партии Марии в «Бахчисарайском фонтане». Обладая талантом лирической актрисы, она с успехом выступала в классических и характерных партиях.
Васильева Татьяна Васильевна (1906 – 1980) — артистка балета. Первоначально училась танцу в детской группе при студии под руководством К. Я. Голейзовского. Будучи выпускницей МХУ, стала первой исполнительницей партии Амура в спектакле Большого театра «Иосиф Прекрасный» (1925, балетм. Голейзовский). По окончании училища (педагог В. Д. Тихомиров) в Большом театре (1925 – 1948). Первая исполнительница партий в миниатюрах К. Голейзовского на музыку Ф. Листа: «Consolation» (№ 2), «Sonetto del Petrarca» («Сонет Петрарки», № 104), «Valse Oubliee» (все — 1927, все — «Вечер постановок балетмейстера К. Голейзовского»), а также партии Солистки в балетах «Шопен», «Дионис», «Чарда», все — того же балетмейстера. Исполнила многие партии классического и современного репертуара.
47 Скоттсборо (Scottsboro case) — судебный процесс в Скоттсборо (США) в 1931 г. над девятью чернокожими подростками, обвиненными в групповом изнасиловании двух белых девушек в поезде недалеко от Скоттсборо (Алабама). Их признали виновными и приговорили одних к смерти, других — к длительному тюремному заключению. Сенсационное дело приковало внимание общественности к расовым отношениям в Алабаме и во всей стране. В результате вмешательства Верховного суда и новых слушаний был вынесен вердикт о недоказанности преступления, и все подростки, проходившие по этому делу, были освобождены в 1937 – 1950 гг.
48 Начиная с 1917 г. Китай вступил в полосу непрекращающихся больших и малых гражданских войн, непрерывно продолжавшихся вплоть до конца 1936 г.
49 … Парк культуры и отдыха очень слаб, а наши танцевальные силы могли бы превратить его в сильную организацию. — Уже в 1933 г. в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького откроется танцевальная школа «Остров танца», которая соединит хореодраматическое, ритмопластическое отделения, курсы акробатики, хореографическую лабораторию и мастерскую цирка. Среди руководителей — А. В. Шатин, Н. Позняков. Педагоги — А. А. Джури, О. В. Некрасова.
50 Фокин Михаил Михайлович (1880 – 1942) — артист балета, балетмейстер. Один из выдающихся балетмейстеров-реформаторов начала XX в. С 1909 по 1912 г. — балетмейстер трупы С. П. Дягилева. С 1919 г. жил в Америке.
51 Чарноцкая Ирина Александровна (1908 – конец 1980-х) — артистка балета. В 1927 г. окончила Московское хореографическое училище (МХУ). В 1927 – 1948 гг. артистка балета ГАБТ СССР. В 1940 г. окончила театроведческий факультет ГИТИСа. В 1940-е гг. — педагог ГИТИСа. С 1948 г. — директор МХУ.
52 «Конек-Горбунок» — балет Ц. Пуни. Хореография А. А. Горского. Премьера — 25 ноября 1901 г. Большой театр.
53 627 «Раймонда» — балет А. К. Глазунова. Хореография А. А. Горского. Премьера — 30 ноября 1908 г. Большой театр.
54 Новерр (Noverre) Жан-Жорж (1727 – 1810) — французский балетный артист, хореограф, теоретик и реформатор балета. Считается основоположником современного балета. Пришел к созданию отдельного большого танцевального спектакля, независимого от оперы (в состав которой балет ранее входил). Ратовал за приобщение балета к серьезной тематике, создание спектакля с развивающимся действием и конкретными характерами, обосновал идею балета-пьесы, воплощаемого средствами действенной пантомимы и танца, разработал принципы героического балета и балета-трагедии. Свои воззрения Новерр сформулировал в труде «Письма о танце и балетах», изданном в Лионе и Штутгарте (1760). Позднее этот труд вышел в 4 т. в Петербурге (1803 – 1804).
55 В 1931 г. композитор А. Н. Цфасман написал балетную сюиту для оркестра «Рот-Фронт» в честь открывшейся кондитерской фабрики), которая исполнялась на эстраде. Сведений о постановке найти не удалось.
56 «Иосиф Прекрасный» — балет С. Н. Василенко. Хореография К. Я. Голейзовского. Премьера — 3 марта 1925 г. Большой театр.
57 «Комедианты» — балет Р. М. Глиэра на сюжет драмы Лопе де Вега «Фуэнте Овехуна». Хореография А. И. Чекрыгин. Премьера — апреля 1931 г. Большой театр.
58 «Щелкунчик» — балет П. И. Чайковского в двух актах на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Премьера спектакля Хореографического техникума в постановке А. И. Чекрыгина и А. М. Монахова состоялась 18 апреля 1931 г. в Большом театре.
59 Всероскомдрам (Всероссийское общество драматургов и композиторов) — творческое объединение советских драматургов и композиторов. Существовало с 1930 по 1933 г. Организовано путем слияния Московского и Ленинградского (Петербургского) обществ драматических писателей и оперных композиторов: МОДПИК (Московское общество драматических писателей и композиторов) и Драмсоюз.
60 Вероятно, это оговорка, так как в Грузии женщины никогда паранджи не носили.
61 Официальное отношение к Сильвии Чен сформулировал автор статьи «За реконструкцию балета»: «Эта талантливая балерина, обладающая большой экспрессией, богатством мимических и пластических данных, чувствующая внутреннюю сущность танца и его форму, — эта балерина, к сожалению, скатывается к показу упаднических хореографических силуэтов европейского ревю с их подчеркнутой эротичностью» (Нежданов Л. За реконструкцию балета // Рабис. М., 1930. № 19. С. 5).
62 Холфин Николай Сергеевич (1903 – 1979) — артист, балетмейстер. В 1932 – 1938 гг. артист и главный балетмейстер Московского художественного балета. Предпочитал сюжетные спектакли, сотрудничая с драматическими режиссерами.
63 Мэй (наст. фам. Гольденбер) Эмиль Исаакович (1903 – 1965) — балетмейстер, режиссер. В 1960-е гг. художественный руководитель Московского театра Теней. Свое представление о реформе хореографического театра выразил в одной из своих статей, где писал: «Для того чтобы направить творчество молодых дарований в соответствующее русло, необходимо создать новый балетно-пантомимный театр. Там в основу обучения должно лечь всестороннее развитие тела. Конечно, классика необходима, но только лишь в процессе обучения <…> Техника танца должна переключиться в ритмически-построенное движение, отображающее жизнь, которое было бы внутренне оправдано. Этот 628 принцип танца должен быть противопоставлен балету Большого театра, не только не отражающему современность, но и ни в какой мере не перекликающемуся с жизнью» (Мэй Э. Балетная школа на распутье // Современный театр. 1928. № 36. С. 52).
64 Вероятно, речь идет об одной из упоминавшихся книг А. Л. Волынского.
65 Московский драматический балет — «Драмбалет» Н. С. Греминой и Н. Н. Рахманова — одна из хореографических студий, существовавшая в Москве с 1918 г. В 1931 г. на ее основе возник Московский государственный театр драматического балета.
66 группа Шаповалова — хореографическая студия, которая существовала в 1920-е гг. в Москве.
67 ИЗОРАМ — «Изобразительное искусство рабочей молодежи», массовая художественная самодеятельная организация комсомола. Зарождение ИЗОРАМ относится к 1925 г., в Ленинграде, однако организационно ИЗОРАМ оформился лишь к 1928 г. Первая выставка в Ленинграде состоялась в 1928 г., в Москве — в 1929 г. ИЗОРАМ представляет собою своеобразную, промежуточную между самодеятельным и профессиональным искусством организацию художников. ИЗОРАМ оформил Парк культуры и отдыха в Ленинграде (1932), а также осуществил ряд других работ.
68 … Волынский в 23 году выступил с истерической книжонкой… — Речь идет о книге А. Л. Волынского «Проблема русского балета» (П., 1923), в которой автор защищал классический балет как явление высокой культуры.
69 Эльслер Фанни (1810 – 1884) — одна из выдающихся танцовщиц эпохи романтизма.
70 Когда-то Гейне очень зло и ядовито издевался над той немецкой публикой, которая смотрит танец Фанни Эльслер <…> Это Европа танцует на вулкане. — Источник, на который опирался И. И. Бачелис, не установлен.
71 «Петрушка» И. Ф. Стравинского. Хореография М. М. Фокина, балетмейстер В. И. Рябцев. Премьера — 6 февраля 1921 г. Большой театр.
629 ЗАБЫТЫЕ СПЕКТАКЛИ
Переписка
Л. В. Якобсона и его сотрудников с Б. В. Асафьевым
(1935 – 1946)
Публикация, вступительная статья
и комментарии Н. А. Коршуновой
В последнее время вновь проявился интерес к творчеству одного из самых известных отечественных хореографов середины XX века — Леонида Вениаминовича Якобсона (1904 – 1975). В свет выходят книги: в 2007 г. появилась монография В. А. Звездочкина, посвященная творчеству хореографа, в 2010 г. — сборник статей и воспоминаний «Театр Леонида Якобсона» о его работе в труппе «Хореографические миниатюры» в 1970-х гг.1 В Мариинском театре возобновили балеты «Шурале» Ф. З. Яруллина и «Спартак» А. И. Хачатуряна2. Попытки сохранить или восстановить утраченные миниатюры и спектакли Якобсона предпринимали и в коллективе, который он когда-то возглавлял3. Однако каждый раз выяснялось, что возобновленные произведения лишь отдаленно напоминали первые постановки. Современные версии и танец занятых в них исполнителей не вызывают в зрителях тех бурных, красочных впечатлений, о которых до сих пор рассказывают очевидцы премьер.
Сегодня уже ясно, что спектакли Якобсона вместе с его оригинальной хореографией постепенно истаивают, растворяются в новых трактовках и, возможно, вскоре исчезнут совсем. В подобной ситуации исследователям балетного театра нужно тщательно собирать, анализировать и переосмыслять немногочисленные источники информации о творчестве хореографа. Это тем более трудно, потому что некоторые периоды его жизни в балетоведческой литературе почти не освещены. Так, из истории практически «выпали» 1930 – 1940-е гг. Сам Якобсон о них почти ничего рассказывал. Созданные тогда постановки давно сошли со сцены, некоторые были показаны всего по одному разу. Практически не осталось в живых их очевидцев и участников. Но именно в те два десятилетия формировался творческий почерк Якобсона, поэтому необходимо реконструировать происходящие события и утраченные спектакли.
Якобсон дебютировал ярко как хореограф. В 1930 г. он поставил танцы в балете «Золотой век» Д. Д. Шостаковича. Изобретательные, наполненные акробатическими поддержками, с использованием кинематографических приемов — эти номера принесли Якобсону известность в театральных кругах4. Одновременно он выступил в печати с собственной программой дальнейшего развития хореографического искусства. В статье «На повестке — балетный театр»5 Якобсон заявлял о необходимости упразднить классический танец и изъять из репертуара «дребедень» (все балеты, кроме «Лебединого озера» и «Спящей красавицы»), потому что она «воспитывает мещанские вкусы и пропагандирует отвлеченное эстетство». С горячностью он обличал 630 и «аполитичное искусство» М. М. Фокина, и «несовременные» реконструкции классических балетов, сделанных Ф. В. Лопуховым, и даже эксперименты с формой в балете «Золотой век». По мнению Якобсона, необходимо было заменить старую танцевальную систему пантомимой, «которая не допускала бы ни одного лишнего жеста, которая должна настолько органически вытекать из содержания, чтобы жесты как таковые не были замечаемы»6. Следовало достичь сочетания трех слагаемых: драматургически веского либретто, нужного для построения образа движением; музыки, органично сливающейся с пантомимой; исполнителей, владеющих искусством выразительных движений. Все это ради показа в балете новой, остро стоящей проблемы — отношений человека и общества.
Якобсон принялся за работу. На тот момент он уже несколько лет являлся балетмейстером-стажером в Ленинградском государственном хореографическом техникуме. Пригласила его А. Я. Ваганова — ее заинтересовали номера, созданные молодым постановщиком. Постепенно вокруг Якобсона образовалась «бригада» учащихся. «Однажды Якобсон собрал учеников средних и старших классов и стал темпераментно излагать свои планы новых, невиданных доселе постановок, где все будет осмысленно, где танец начнет поднимать серьезные темы, раскрывать яркие реалистические характеры», — вспоминала Н. Е. Шереметьевская7. Кроме того, хореограф планировал «культурно воспитывать» своих подопечных, водил их на интересные гастрольные представления (в частности, на выступления китайского танцовщика Мэй Лань-фана8 и на спектакль «Последний решительный» в постановке Вс. Э. Мейерхольда9). Вместе с «бригадой» Якобсон готовил музыкальную пантомиму «Пионерия» к вечеру техникума на сцене Малого оперного театра10. Помимо «Пионерии», были показаны и другие, уже знакомые зрителям номера. Однако более важное значение для дальнейшей судьбы хореографа имела завершившая вечер дискуссия.
«Посередине пустой сцены стоял стол, за которым сидел Якобсон, одетый в затрапезные штаны и футболку, что свидетельствовало о его нарочитом пренебрежении к условностям. Столь же вызывающими были его доклад и ответы на выступление оппонентов, которые сидели в зрительном зале»11. Ваганова сказала, что ничего не поняла в «Пионерии». На это хореограф небрежно бросил: «А Вам, Агриппина Яковлевна, этого и не понять!» Так Якобсон продемонстрировал свой на редкость неуступчивый и нетерпимый характер, о котором впоследствии ходили легенды.
«Бравада» молодого экспериментатора на первый взгляд прошла без последствий. В прессе промелькнул весьма нелестный отзыв о показе и диспуте. Рецензент обвинял хореографа в том, что он, «маскируясь многочисленными революционными фразами, утверждает необходимость ветеринарно-хирургической реконструкции балетного театра», требует упразднить классический балет, а на деле ничего нового предложить не может. «Схема, штамп, примитив, упрощенная безыдейная розовенькая халтура», — писал критик о танцевальной пантомиме «Чаплин, или Кино в эпоху империализма»12.
Несмотря на эти события, Якобсон продолжал работать в училище и в 1933 г. поставил новый спектакль — «Тиль Эйленшпигель» Р. Штрауса13. Но в том же году он был вынужден покинуть Ленинград: «Тиля» показали всего один раз, и больше работы не предлагали14.
631 Между тем надвигалась новая эпоха. Окончилось время новаторства и смелых экспериментов. Все чаще и настойчивее звучали слова о необходимости отражать революционную, социалистическую действительность, отвечать на «запросы масс», создавать «идеологически верные» произведения. Лозунги постепенно превратились в требования, следовать которым должны были и литература, и театр, и кинематограф. Хореографическое искусство оказалось в очень непростой ситуации: с одной стороны, классический балет с его аристократическим духом и фантастическими персонажами считали самым отсталым и обветшалым; с другой стороны, под запретом находились разнообразные поиски 1920-х гг., объявленные формализмом. Критике подвергали деятельность сторонников академического балета, старавшихся сохранить традиционный репертуар, и хореографов, стремившихся соответствовать предписанному соцреалистическому канону. «Балетный театр, к стыду своему, не сделал до сих пор никаких попыток к классовой консолидации и размежовке своих рядов, к критическому пересмотру своих творческих позиций», — заявляли на страницах газет15.
В жизни многих деятелей театра начался сложный период. В их числе были, и хореографы К. Я. Голейзовский и Якобсон. Воспитанные в атмосфере смелых исканий, бунтари по натуре, к 1930-м гг. они уже сформировали собственные эстетические взгляды, имели репутацию неблагонадежных новаторов и нарочито игнорировали принятые условности. Оба балетмейстера провели несколько лет в путешествиях по стране. Голейзовский много работал в Узбекистане, во Львове, ездил с Московским хореографическим училищем в эвакуацию в Васильсурск. Якобсон работал в Москве, Свердловске, Ашхабаде, Казани, затем вернулся в Ленинградское училище и был с ним в эвакуации в Молотове, ставил номера для самодеятельных коллективов (в Доме культуры «Трудовые резервы» и в Доме культуры железнодорожников), для труппы «Острова танца» и студии Айседоры Дункан.
Якобсон называл 1930 – 1940-е годы «темными». К чему же относились эти слова? В списке его постановок за два десятилетия крупные спектакли («Утраченные иллюзии» и «Шурале»), четыре мини-балета для учащихся Ленинградского техникума («Тиль Эйленшпигель», «Ромео и Джульетта»16, «Испанское каприччио»17, «Каменный гость») и масса номеров, созданных для учащихся различных балетных школ, самодеятельных коллективов и артистов Большого театра и Театра им. С. М. Кирова. Конечно, карьера его коллег-современников, Р. В. Захарова, Л. М. Лавровского, В. И. Вайнонена, была более успешной: они выпускали спектакли на лучших сценах, в их распоряжении находились замечательные артистические силы. На фоне подобных результатов работа самого Якобсона выглядела весьма скромной. Однако «темный период» не прошел для него бесследно и сыграл свою роль: за это время выкристаллизовался индивидуальный узнаваемый творческий метод хореографа.
В 1930 – 1940-х гг. Якобсон вел поиски собственного пластического языка — выразительного «сплава» пантомимы и танца (позднее балетмейстер назовет его «хореопластикой»). Идеи, которые Якобсон декларировал в первой статье, во многом еще оставались в теории. Избранная Якобсоном формулировка понятия пантомимы не вполне отвечала его устремлениям и, кроме того, привела к слишком буквальному и поверхностному пониманию его программы. Предложенные радикальные 632 перемены восприняли негативно: отказ от классического танца вызвал протест, а новый жанр пантомимы посчитали неверным и несерьезным. Таким образом, хореографу предстояло совершенствовать свой метод.
Задача была трудной. Даже спустя годы, будучи зрелым мастером, Якобсон порой тратил много времени на поиски нужного пластического решения. Большое количество репетиций, постоянно меняющиеся рисунок и движения танца, напряженная эмоциональная обстановка — вот что сопровождало постановки спектаклей и номеров Якобсона. «Он добивался абсолютно точного исполнения его заданий, не терпел ни малейших отклонений, останавливал репетиции каждую минуту. Это сердило нас, труппа нервничала, но мы повторяли все десятки раз», — писала М. М. Плисецкая о работе с Якобсоном над «Шурале» в филиале Большого театра18.
Однако танцовщики терпели, ведь взамен они получали уникальные, созданные для их индивидуальностей, полные нюансов миниатюры и партии. Начало же пути было еще более «драматичным». По воле судьбы первыми исполнителями многих постановок Якобсона оказывались ученики. Новшества не слишком их увлекали, энтузиазм довольно быстро иссякал. Смущала и настойчивость хореографа, требовавшего от них полной отдачи, как от настоящих, взрослых актеров.
Тем не менее, несмотря на трудности, Якобсон продолжал поиски. Особое внимание он уделял взаимосвязи хореографии и музыки. Диапазон привлекаемого им к работе музыкального материала был очень широк. Он использовал произведения композиторов разных эпох, стилей и стран: И. Баха, В. Моцарта и Ф. Шуберта, Н. А. Римского-Корсакова и П. И. Чайковского, М. Равеля и К. Дебюсси, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, И. Ф. Стравинского, А. И. Хачатуряна, Б. И. Тищенко, С. С. Слонимского, В. И. Цитовича, Г. И. Фиртича.
«Меня удивляло еще в раннем Якобсоне тонкое понимание музыки», — говорил Шостакович19. Такого же мнения придерживался и другой композитор, И. И. Шварц, который утверждал, что слитность музыки и танца была одной из наиболее характерных и примечательных черт творчества Якобсона20. В то же время некоторые современники считали его методы работы спорными21.
Для балетмейстера музыка имела большое значение. В ней он черпал необходимую для создания выразительного пластического образа общую эмоциональную атмосферу. «Что требовал Якобсон? Образности, образности и еще раз образности, конечно, учитывая хронометраж. <…> Самое обидное было то, что он совсем не знал музыку, ни одной ноты», — вспоминал Т. И. Коган, пять лет проработавший музыкальным консультантом в коллективе хореографа22. Следуя своей цели, Якобсон нередко настаивал на необходимых ему переменах, даже в тех случаях, когда авторы или консультант находили их невозможными. Сказывался здесь и взрывной темперамент Якобсона, не желавшего идти на уступки. Каждый раз его работа с композитором могла обернуться как плодотворным сотрудничеством, так и крупной размолвкой23.
В 1930 – 1940-х гг. Якобсон дважды ставил балеты на музыку Б. В. Асафьева24. В 1936 г. на сцене Свердловского театра оперы и балета им. А. В. Луначарского хореограф осуществил постановку спектакля «Утраченные иллюзии»25. А спустя десять лет, в 1946 г., на выпускном вечере учеников Ленинградского государственного хореографического училища состоялась премьера спектакля «Каменный гость»26.
633 Оба балета были утрачены, информация о них очень скудна. Нам удалось обнаружить материалы, частично проливающие свет на историю этих спектаклей, — письма Якобсона Асафьеву и три ответных письма композитора, телеграммы и письма Асафьеву от деятелей театра Н. П. Ивановского27, Д. И. Похитонова28, В. В. Великанова29, принимавших участие в создании балетов, план «Каменного гостя», приложенный Якобсоном к одному из писем Асафьеву.
Переписка хореографа и композитора началась в 1935 г. и затем, после продолжительного перерыва, велась на протяжении полугода, в 1946 г. К сожалению, сохранившейся ответной корреспонденции Асафьева недостаточно, чтобы восстановить полную картину общения между двумя соавторами. Немного также деталей, раскрывающих подробности работы Якобсона над «Утраченными иллюзиями» и «Каменным гостем». Но с помощью дополнительных источников можно представить, как проходила постановка обоих балетов.
Якобсон приехал в свердловский театр в 1934 г. в качестве солиста балета. Артистам он казался очень серьезным молодым человеком, даже слегка высокомерным, замкнутым, малообщительным, сосредоточенным30. Почти сразу же ему предложили поставить спектакль. «Утраченные иллюзии» были первым крупным хореографическим произведением Якобсона и первой встречей с музыкой Асафьева. На тот момент Асафьев являлся одним из самых известных композиторов, писавших музыку к балетным спектаклям. Признание ему принесли «Пламя Парижа» и «Бахчисарайский фонтан», ставшие шедеврами эпохи драмбалета.
1930 – 1940-е годы были для Асафьева очень плодотворными: за это время он создал большинство своих произведений. Но вместе с популярностью к Асафьеву пришли и горести. «Часть балетмейстеров и дирижеров принимала его сочинения. Другие требовали переделок и перемен в уже отточенных партитурах, где автор рассчитал все пропорции и драматургические акценты, а подчас и сами что-то меняли в произведении. Асафьев не мог решительно бороться с театральным произволом и очень страдал от вторжения чужих рук в свою музыку. Порой он прямо заболевал, на него был страшно смотреть», — вспоминал ученик и друг композитора А. Н. Дмитриев31.
Вносить коррективы в сочиненную музыку Асафьеву было весьма сложно. Написанию любого балета предшествовала длительная исследовательская работа: автор изучал исторические особенности выбранной эпохи, ситуацию в обществе и культуре, анализировал, каким образом они отразились на интонационно-выразительных формах музыки, затем приступал к разработке музыкальной драматургии. Балеты Асафьева, по выражению Дмитриева, были построены «как целостные, органически развивающиеся симфонии. Каждый эпизод спектакля неразрывно связан с формой целого и выполняет определенную функцию общего концепционного замысла»32. Именно поэтому переставлять или убирать отдельные номера без ущерба для всей композиции в балетах Асафьева было нельзя, а коррективы требовали от него титанического труда.
Постепенно композитор выработал собственный метод — записывал музыку в виде «рабочего клавира», своего рода «памятной книжки», и прибегал к ней, когда надо было вызвать в памяти интонации партитуры. «В виду “злой” привычки наших театров заставлять композиторов уже в период репетиций делать все новые 634 и новые варианты, а иногда и новые редакции (до трех, до пяти) данного произведения, мой метод предоставлял мне возможность откладывать запись партитуры до крайнего момента и тем сберегать свои силы», — признавался Асафьев33. Этот способ был придуман им в середине 1940-х гг. С ним пришлось столкнуться Якобсону при постановке «Каменного гостя», когда он за два месяца до премьеры не мог получить от Асафьева партитуру для того, чтобы расписать оркестровые партии. До того времени композитор вынужден был затрачивать силы на переделки. Так было и при постановке «Утраченных иллюзий».
Якобсон приступил к постановке балета летом 1935 г. Но «Утраченные иллюзии» уже готовили в Государственном академическом театре оперы и балета им. С. М. Кирова. У хореографа ленинградской редакции, Р. В. Захарова, были преимущества — хорошая сценическая площадка, достаточное время для репетиций, первоклассные исполнители34. Якобсона же ожидали серьезные трудности: требовалось много времени для работы с артистами, задерживалась пересылка музыкального материала.
Асафьев не успевал работать над двумя постановками сразу. Присланные Якобсону музыкальные фрагменты явно были написаны второпях: композитор выписывал из партии инструмента буквально по такту, на обычной бумаге, иногда без знаков, ноты едва можно распознать. «Простите за спешный почерк — это от нервов», — извинялся Асафьев. По небольшим фрагментам он предлагал дирижеру Великанову «восстановить и продолжить замысел», ведь сам абсолютно не имел времени. Незадолго до ленинградской премьеры Н. Д. Волков35 в одном из писем упрекал Асафьева: «Как бы вы были ни заняты с “Иллюзиями”, но можно было бы мне на телеграмму ответить телеграммой. <…> Нехорошо это и невнимательно! Но, зная, как Вы сейчас вероятно “болеете” каждой нотой в “Иллюзиях” — я не сержусь и искренно хочу, чтобы Вы вышли и на этот раз полным победителем, как в “Фонтане”»36.
Переделки музыкального материала для свердловского спектакля проводились даже за две недели до показа. Но, следует отметить, они не были кардинальными. Якобсону хотелось изменить темпы, придать динамику действию. Кроме того, он убеждал Асафьева оркестровать некоторые номера нужным ему образом. «Мне очень неудобно Вас об этом просить, но картина настолько хорошо выглядит и производит такое впечатление, что мне очень обидно ее переставлять, так как боюсь ее испортить», — говорилось в письме о соло Люсьена в первом акте (в нем главный герой-композитор играл на рояле свои сочинения перед «взыскательной» публикой — балетными артистами и влиятельными банкирами-покровителями). Хореограф постоянно советовался с Асафьевым, а просьбы высказывал с осторожностью и пиететом. Читая письма Якобсона, где он детально, по тактам, прописывает необходимые ему перемены в темпоритме и динамических оттенках, трудно представить, что постановщик «совсем не знал нот», как утверждал Коган. Должно быть, теоретические познания в музыкальной грамоте Якобсону заменяли интуиция и длительная, кропотливая работа.
Премьерные показы двух версий «Утраченных иллюзий» состоялись с разницей чуть меньше двух месяцев: 3 января 1936 г.37 в Ленинграде и 24 февраля 1936 г. в Свердловске. Якобсон сумел выпустить спектакль в поставленный дирекцией срок. Хореограф неоднократно приглашал Асафьева на премьеру, но тот приехать не смог.
635 Что представлял собой спектакль в Свердловске? Репортер молодежной газеты «На смену» отметил, что задачу создать советский балет труппа выполнила прекрасно, и получился «спектакль большого творческого напряжения»38. Однако не все рецензенты были настроены столь благодушно. «Трудно представить себе более нелепые извращения “мотивов” великого реалиста Бальзака, чем те, что сделал театр в “Утраченных иллюзиях”», — писал театральный критик и фельетонист Ю. А. Попрядухин39. Якобсона обвиняли в том, что он изменил либретто В. В. Дмитриева, исказил замысел композитора (изъял несколько музыкальных фрагментов — большое adagio и вариации) и «ухитрился поставить Бальзака с ног на голову».
Вот как хореограф объяснял свою цель в программе балета — «показать эпоху, ее стиль, показать живых людей, мыслящих, любящих, во всех их противоречиях, влияние общественных группировок на их поступки»40. Акцент в спектакле переместился на образ Люсьена. Участники спектакля вспоминали, что «Утраченные иллюзии» в первую очередь были «романом» о Люсьене, его драме, переживаниях и поступках, приведших к духовному краху. Молодому композитору противостояла парижская театральная «богема», которую Якобсон показал в массовых сценах.
Метод работы Якобсона, особенно с кордебалетом, поразил свердловских артистов, привычных к традиционному классическому репертуару. Хореограф делил их на группы и, перебегая от одной к другой, перед каждой ставил определенные задачи, сочинял мизансцены и позы, требовал выполнять их строго на предлагаемый счет. «Непрерывная смена движений, поз, жестов, пластики, выполняемая всеми исполнителями массовых эпизодов на точно отмеченные постановщиком доли музыки, создавала красочную полифоническую картину человеческих эмоций. Из совокупности отдельных танцевальных реплик, хореографических фраз складывался пластический образ ситуации»41.
К сожалению, от первого крупного спектакля Якобсона почти ничего не осталось. Сохранились несколько черно-белых фотографий не очень хорошего качества. На них запечатлены «спектакль» с участием классических танцовщиц и гротескных сатиров и массовые сцены бала у Флорины. Помимо этого, на одном из снимков крупным планом снят О. Н. Сталинский42 в роли Люсьена — франтоватый, в расшитом камзоле, с маленькими усиками, с лицом, напоминавшим условную комическую маску. Очевидно, артиста сфотографировали в костюме и гриме для третьего акта. В этот момент Люсьена увлекает светское общество во главе с танцовщицей Флориной и ее покровителем герцогом. Следовавшую далее сцену триумфа Флорины — кстати, единственную, запечатлевшуюся в ее памяти, — вспомнила и пересказала исполнительница этой партии Л. И. Андреева43.
К Люсьену приходил солидный выигрыш. Флорина с помощью скрытой от глаз зрителя табуретки буквально взлетала на покрытый деньгами стол, за которым шла игра, кокетливо болтала ногами. Деньги ворохом разлетались в воздухе. Прямо со стола она падала Люсьену на руки («в рыбку») и затем начинала зажигательную «Качучу». Этот танец, поставленный в характере болеро и «очень с ноги», по словам Андреевой, требовал «аристократического» вкуса, большого темперамента, глубокой экспрессии.
Сценическая жизнь спектакля «Утраченные иллюзии» была очень недолгой: он продержался в репертуаре свердловского театра до конца сезона 1935/1936 гг. 636 и прошел всего десять раз. В следующем сезоне артисты, занятые в главных партиях, разъехались по другим городам. Уехал из Свердловска и сам Якобсон.
После «Утраченных иллюзий» Якобсон и Асафьев вновь смогли встретиться при постановке балета только в 1946 г. Ленинградское государственное хореографическое училище планировало поставить спектакль «Каменный гость» для выпускного концерта учеников. В качестве балетмейстера был приглашен Якобсон, а музыкальным оформлением пушкинской повести занимался Асафьев.
Серию камерных балетов по произведениям А. С. Пушкина Асафьев задумал незадолго до начала Великой Отечественной войны. Он даже начал разрабатывать сценарий спектакля «Граф Нулин» с молодым хореографом В. А. Варковицким44. Но война оборвала эти планы. «И только с переездом с семьей в Москву в 1943 г. я получил возможность продолжить “[Графа] Нулина” и досказать цикл пушкинских балетов “лаконичного строя пластики”, с содержанием, включавшим и трагедию, и драму, и повести, а именно “Каменный гость”, “Гробовщик”, “Домик в Коломне”, наконец, уже в 1945 г. “Барышню-крестьянку”», — писал композитор об истории сочинения собственных балетов45.
В «Каменном госте» Асафьев использовал и развил напевы испанских песен и танцев, записанных М. И. Глинкой в 1869 г. Балет получился камерным по масштабу, многие эпизоды написаны, по выражению Дмитриева, «тонким пером», но в основе его — глубоко разработанная система художественных образов. У каждого из главных героев — Дон Жуана, Доны Анны и Командора — своя музыкальная тема-характеристика, по ходу спектакля они раскрывались, взаимодействовали и в конце достигали высоты «подлинной трагедии». Действие балета развивалось стремительно, «без лишних подробностей, с великолепной концентрацией эмоциональных состояний на кульминационных эпизодах»46.
В «Каменном госте» перед хореографом стояли непростые задачи: воплотить в танце все перипетии пушкинского сюжета, помочь юным исполнителям справиться с «великолепными, скупо обрисованными, но необъятными образами»47, преодолеть сложности музыкального материала. Якобсон вновь попытался прибегнуть к «пантомимическому танцу», в котором, по словам хореографа, «каждая поза и каждое движение должны говорить о характере и ситуации»48.
Балетмейстер задумал поставить спектакль в духе ярмарочного театра: историю о Дон Жуане разыгрывали перед зрителями многочисленные актеры бродячей труппы во главе с директором. Сохранилось два документа, проясняющих первоначальный замысел Якобсона. Один из них — либретто, посланное Асафьеву, в котором в подробностях, с характеристиками героев, с музыкальными акцентами, с переменами света и декораций, представлено действие49. Другой документ — публикуемый нами план, где выходы и танцы персонажей расписаны буквально по секундам. Оба документа свидетельствуют о том, что эта концепция была четко, в деталях продумана и вполне могла бы трансформироваться в балетный спектакль.
6 марта 1946 г. Якобсон писал композитору: «Версия о балаганном театре еще не отпала, но у руководства школы тенденция к собственно пушкинской редакции». В итоге пришлось поставить более традиционный вариант — без «театра в театре» и связанной с ним буйной, комедийной стихии гротеска, с классическими сюжетом и персонажами, в стиле хореодрамы.
637 Однако и тут Якобсон сумел привнести пластические эксперименты. Хореография, по словам исполнителя роли Дон Жуана, Х. Ф. Мустаева50, была интересной и необычайно сложной. «Якобсон очень долго ставил, на каждую ноту. Спасал Юра Дружинин51, который обладал феноменальной памятью и запоминал то, что показывал балетмейстер»52. Хореографический текст был насыщен трудными для юных артистов и порой неожиданными поддержками. «Якобсон заставлял уже висящую у меня на шее исполнительницу Доны Анны, Олю Петрову, прокрутиться еще несколько раз!» — говорил Мустаев. Репетиции проходили в накаленной обстановке: Якобсон бывал деспотичным, жестким и мог сделать больно. В самые напряженные моменты вмешивался иногда присутствовавший в зале художественный руководитель училища, Н. П. Ивановский, и защищал выпускников. Казалось, что работа им «не по возрасту». Создать многогранный образ, овладеть прихотливым, своеобразным пластическим языком Якобсона, выдержать мучительный постановочный процесс — все это было бы непросто и для опытных, бывалых танцовщиков. Но даже спустя десятилетия первые исполнители, Мустаев и Ю. Н. Мячин, говорят о «Каменном госте» и о Якобсоне с восторгом53.
По воспоминаниям Мустаева можно даже частично представить то, что происходило на сцене. Например, во второй картине балета. «Помню, как была обставлена комната у Лауры: направо, за занавесками, виднелся альков. В комнате был “барьер”: нужно было большим прыжком перепрыгнуть через него прямо к Лауре в альков. Шла генеральная репетиция в Кировском театре. У меня никак не получалось. Якобсон кричал: “Почему не перепрыгнул? Не смог? Значит, не захотел!”» — рассказывал танцовщик. Картину завершало адажио Лауры и Дон Жуана, в конце которого звучали колокола. По поводу этого эпизода в письме Якобсон консультировался с Асафьевым. По замыслу балетмейстера, «здесь все спокойно, все тихо, эмоции сильные, но сдержанные. Здесь нет борьбы, все ясно с первого взгляда». Тогда как в музыке должны были на fortissimo бить колокола.
Сцена у Лауры, очевидно, вызвала сомнения у некоторых зрителей-профессионалов. В рецензии на спектакль Якобсону ставили в укор неприятный «сгущенный эротизм в хореографическом исполнении пушкинских образов»54. После премьеры Ивановский написал Асафьеву, не видевшему ее, краткий «отчет». Перечисляя достоинства интересной, свежей и «сочной» постановки, он пояснял: «Есть некоторая скользкость во второй картине — у Лауры, но нужно быть ханжой, чтобы из-за этого снижать значение всего спектакля в целом».
Помимо второй картины, можно реконструировать также финал балета. В заключительной сцене гремел гром, слышались громкие шаги Командора. Выход Командора был феноменальным: гулко раздавались шаги, и при каждом из них бряцали доспехи. Он появлялся — высокий, в доспехах, его играл артист миманса — и клал свою тяжелую руку на плечо Дон Жуану. По свидетельству Мустаева, «в конце спектакля в полу открывался люк, и Дон Жуан с Доной Анной и “полсцены” проваливались туда»55.
В работе над «Каменным гостем» Якобсон не избежал спешки и неурядиц. Следуя уже упоминаемому принципу, Асафьев ждал окончательного варианта балета и затягивал высылку партитуры. Не раз Ивановский и Якобсон просили композитора поторопиться. В письме Асафьеву художественный руководитель 638 училища говорил и о других трудностях: «Оркестр не очень серьезно относился к этой “внеплановой” для них работе, и только мастерство и опыт Д. И. Похитонова позволили в очень короткий срок провести эту большую работу». Похитонов, как и Ивановский, оказывал немалую поддержку и в какой-то момент даже выступил в роли «посредника» между хореографом и композитором. Вникнув в замысел Якобсона, дирижер направил Асафьеву предложения по переменам в музыкальном материале и пытался объяснить их.
«Каменный гость» был показан на сцене Кировского театра вместе с концертными номерами. По словам Ивановского, он прошел «при повышенном внимании и явном разделении зрителей на два спорящих лагеря». Рецензируя новую постановку в газете «За советское искусство», В. М. Красовская нашла ее неудачной для выпускного спектакля. Основной недостаток заключался в том, что хореограф отошел от «чистого» классического танца. «Было время, когда отказ от классики считался модным. Сейчас такое “новаторство” кажется попросту смешным», — писала Красовская56. Но были и зрители, которые положительно отнеслись к показанному балету. Актриса Е. И. Тиме отмечала, что он поставлен «вдумчиво и интересно» и отлично исполнен молодыми артистами57.
Как видно из письма Ивановского Асафьеву, 2 июля 1946 г. «Каменного гостя» обсуждали на художественном совете в училище. «Абсолютно у большинства, начиная с А. Я. Вагановой, очень и очень высока оценка всего спектакля в целом», — заключал Ивановский. Но, несмотря на столь положительные мнения, балет Якобсона больше показан не был и в репертуаре училища не задержался.
«Утраченные иллюзии» и «Каменный гость» дали возможность Якобсону поработать с Асафьевым — маститым композитором и ученым-музыковедом. Они ставились на заранее написанную музыку, и необходимые перемены приходилось согласовывать с автором. Особый метод сочинения музыки, присущий Асафьеву, обязательный соцреалистический канон и стремление, вопреки ему, соблюдая внешние условности, продолжать собственные поиски, постоянная нехватка времени, малоопытные исполнители, — все эти трудности, конечно же, привели к творческим компромиссам. Постановки Якобсона 1930 – 1940-х гг. можно назвать ранними, «переходными». Но уже в них, если судить по публикуемым ниже документам, складывался индивидуальный почерк хореографа: сложная, многогранная, затейливая «хореопластика», где каждое движение, поза и жест, точно выверенные и уложенные на определенные ноты в музыке, несли выразительный, рельефный, запоминающийся хореографический образ.
639 1
Л. В. Якобсон — Б. В. Асафьеву
24 мая 1935 г.
Спешное
24 мая 1935 г.
Москва 34
Гагаринский пер., 29, кв. 1
Л. В. Якобсон
Ленинград
Площадь Труда, д. 6, кв. 23
Б. В. Асафьеву
Уважаемый Борис Владимирович!
Директор Свердловского театра т. Ходес58 заказал в нотной конторе т. Мамуна59 переписать клавир Вашего балета «Утраченные иллюзии».
У меня к Вам большая просьба: сделать на клавире пометки действия, чтобы мне легче было разобраться, и поторопить переписку, чтобы я имел возможность получить клавир в кратчайший срок. Если будут переписывать два клавира, то пометки Ваши нужны только на одном, который будет переслан непосредственно мне в Москву.
Кроме того, прошу Вас, если Вас не затруднит, прислать мне в письме дополнительные разъяснения, изменения в музыкальном материале и Ваши пожелания на этот счет.
Ваша музыка произвела на меня большое впечатление, и, если Свердловский театр утвердит мою инициативу, то приложу все старания, чтобы спектакль был достоин музыкального материала.
Пишите по адресу: Москва 34, Гагаринский пер., 29, кв. 1. Л. В. Якобсону.
Сезон в Большом театре закрывается 15 июня, и мне хочется иметь все материалы значительно ранее этого срока, чтобы с ними детально ознакомиться.
В ожидании Вашего ответа.
С уважением,
Л. Якобсон
Автограф.
РГАЛИ. Ф. 2658. Оп. 1. Ед. хр. 758. Л. 1 – 1 об.
2
Л. В. Якобсон — Б. В. Асафьеву
[Дата по штемпелю: 11 сентября 1935 г.]
Свердловск, Оперный театр
Балетмейстер Якобсон
Ленинград, Площадь Труда, 6, кв. 23
Бор. Вл. Асафьеву
Уважаемый Борис Владимирович!
Я получил от т. Мамуны письмо, в котором он меня извещает о некоторых музыкальных переменах, которые будут даны во втором клавире. Моя большая 640 просьба к Вам этот клавир детально разметить, указав сцены и выходы, танцы и все, что возможно. Меня интересует окончательная разработка спектакля, который еще, как пишет тов. Мамуна, не готов. Если бы Вы мне оказали большую услугу и прислали мне все перемены в либретто, все ваши мысли и пожелания на этот счет, я был бы Вам очень благодарен. Сейчас я пишу экспозицию, которую скоро закончу, а потому мне очень нужны именно сейчас все изменения и указания.
Клавир мне выслан, но он еще не пришел. Жду каждый день. Надеюсь от Вас получить в скором времени письмо. О ходе работ над Вашим балетом буду писать и сообщу о премьере, на которой надеюсь Вас видеть.
Уважающий Вас,
Л. Якобсон
Пишите по обратному адресу: Свердловск, Оперный театр, балетмейстеру Якобсону.
Автограф.
Музей ГАБТ. КП Р — 3500/2471. Л. 1 – 2.
3
Б. В. Асафьев — Л. В. Якобсону
27 ноября 1935 г.
Спешная почта
Свердловск, Городской Оперный Театр
Балетмейстеру т. Якобсону
Ленинград, Площадь Труда, 6, кв. 23
От Б. Асафьева
Уважаемый т. Якобсон!
Писал Вам из Кисловодска, где лечился после сердечного припадка. Т. к. оказалось, что многие письма пропали — боюсь, что то же случилось и с письмом к Вам. Сейчас я в Ленинграде. Сообщите, как дела с «Иллюзиями». Здесь репетиции идут вовсю. Слушал музыку в оркестре. Очень хорошо звучит, но исполнять трудно в смысле ритма и темпов, которые должны быть очень гибкими. В нотах много ошибок. Привет.
Ваш Б. Асафьев
P. S. Захаров очень интересно разработал сценарий60.
Автограф.
ГЦТМ РО. Ф. 548. Ед. хр. 152. Л. 1.
4
Л. В. Якобсон — Б. В. Асафьеву
19 декабря 1935 г.
[приписано: читать первым]
Уважаемый Борис Владимирович!
Письмо, которое я Вам сейчас посылаю, послано Вам мною еще 11 декабря, но по рассеянности на конверте вместо «Ленинград», я написал «Москва», и сегодня 641 неожиданно оно вернулось ко мне, как раз в то время, как я с большим нетерпением ждал от Вас ответа. Места, зачеркнутые в письме, мною поставлены уже так, как задуманы они у Вас, поэтому вопрос о них отпадает. Вчера послал Вам телеграмму с просьбой дооркестровать 4-ю картину (1-ю комнату Коралли), так как для меня большой неожиданностью оказались соло-рояли, а картина поставлена давно и вышла самой лучшей. На всякий случай объясняю еще, что мне там нужно; 1-е соло рояль All-o molto: в этом куске, если Люсьен должен играть на сцене в то время, когда к роялю прибавляется оркестр, то прошу оркестровать только этот кусочек в 8 тактов перед полным оркестром, если же он может от рояля отойти, когда после соло-рояль к нему прибавляется оркестр, то здесь делать ничего не нужно; второе соло-рояль allegro на 2/4 – 57 тактов, если возможно, очень прошу оркестровать полностью, и также очень важно для меня в третьем соло рояль в Valse-finale — оркестровать vivo 16 тактов, которые повторяются (этот кусочек у меня вышел просто наилучшим) и дальше после него 15 тактов (где к роялю прибавляется оркестр). Но этот последний кусочек прошу оркестровать только в том случае, если Люсьен во время этой музыки не может отойти от рояля (так же как в первом соло). Мне очень неудобно Вас об этом просить, но картина настолько хорошо выглядит и производит такое впечатление, что мне очень обидно ее переставлять, так как боюсь ее испортить.
Кроме того, прошу Вас прислать прокорректированные Вами все соло Люсьена, и особенно соло из репетиционного зала, оно нам отдельно вообще не прислано. Очень хочу слышать Ваши ответы относительно второго балета (Флорины), о его стиле и построении, о «вампуке», «содержании» и т. д., а также о стиле «качучи» из сцены у Флорины на балу.
Затем интересует Ваше мнение о классовых лагерях этого спектакля и приверженцах нового и старого в искусстве.
Я гоню спектакль здорово, потому что премьеру перенесли на середину февраля. Когда директор Свердловского радио-центра узнал о возможности сюда Вашего приезда, он обрадовался и намерен Вас пригласить выступить у них несколько раз.
Мы будем ждать Вашего приезда; когда развернутся оркестровые репетиции, я Вам об этом сообщу.
Надеюсь, что Вы выберетесь сюда, во всяком случае, очень Вас об этом прошу. Вы сможете многому своим присутствием помочь. Очень прошу Вас ответить мне просто срочно, так как мне нужно идти вперед очень быстрыми темпами. Когда премьера в Ленинграде? Боюсь, что мне не удастся выбраться.
Желаю Вам здоровья, берегите его, оно нужно и Вам, и окружающим.
В ожидании скорого ответа,
Уважающий Вас
Л. Якобсон
Люсьена я не боюсь. Все остальные персонажи тоже не блещут данными, кроме того, здесь не привыкли к такой серьезной и напряженной работе. Однако увлечение есть, и это помогает делу. Надеюсь, что спектакль удастся. Я думаю оставить название «Утраченные иллюзии» — оно больше всего отвечает сценическому 642 замыслу. Очень прошу Вас, если у Вас хватит времени написать Ваш взгляд на драматургическую и хореографическую часть спектакля, так, как Вы его себе представляете, и сделать маленький исторический экскурс в далекую эпоху, заострив также стилистические особенности эпохи.
Может быть, Вам не трудно попросить Ю. Слонимского61 от Вашего и моего имени написать все необходимые сведения, касающиеся данного спектакля. К сожалению, я не знаю его адреса. Свердловский театр может предложить ему оплату его труда; мне это поможет избежать ошибок исторического и стилистического порядка, а материалов здесь в Свердловске нет никаких, и найти невозможно. Буду очень Вам благодарен, если Вы это сделать сможете. Работаю я с утра до ночи. Думаем премьеру показать в середине февраля, и для Свердловска, конечно, это будет большое событие. Весь театр ожидает этого спектакля. Из-за ролей тоже идет грызня, каждый хочет вести спектакль. Сообщу, когда начнутся оркестровые репетиции.
Новые написанные Вами куски музыки еще сюда не присланы, несмотря на неоднократные запросы. Зная Вашу занятость, все же буду просить Вас ответить мне так скоро, как позволит Вам Ваше время, ввиду большой важности для меня всех этих вопросов. Очень интересует работа Захарова и его трактовка спектакля62, и вообще как там продвигаются дела с «Люсьеном».
Благодарю Вас за внимание и чуткое отношение.
Уважающий Вас
Л. Якобсон
Автограф.
Музей ГАБТ. КП Р — 3500/2472. Л. 1 – 3.
5
Л. В. Якобсон — Б. В. Асафьеву
11 декабря [1935 г.]
Свердловск
[приписано: читайте вторым]
Уважаемый Борис Владимирович!
Ваше письмо из Кисловодска я не получил и очень об этом жалею, вероятно, для меня там было много интересного. Все время ждал от Вас новостей. Благодарю за согласие оркестровать и дополнить картину в мансарде. Вы мне еще не ответили на запрос относительно adagio 3-го акта (вставил adagio в балете), можно ли его оркестровать так, чтобы оно постепенно удалялось и затихало и к концу сводилось к трем piano. Это имеет для меня очень большое значение.
Я трактую спектакль немного иначе, чем в либретто, но об этом сейчас Вам не пишу, потому что это займет много времени, и напишу Вам о моей трактовке в специальном письме в ближайшем будущем. Сейчас только перечислю места в музыке, где бы мне нужно Ваше согласие на иную трактовку.
Первое: это adagio, о котором я писал выше, — оно у меня выделено в самостоятельный эпизод, о котором я напишу, когда буду писать о спектакле. [Второе: можно ли самое начало 1-й картины (лейтмотив репетиционного зала) — играть 643 быстрее, потому что у меня здесь идет сцена перед уроком ребят и нужно дать динамику движения, третье: вариацию Сильфиды (из балета) я сделал на быстром ритме, можно ли ее играть быстро; четвертое: после первого балета у меня действие сразу переносится за кулисы, а в музыке есть тема озлобления Флорины, могу ли я этот кусочек музыки отдать под другое действие, или Вам хотелось бы здесь подчеркнуть зависть Флорины — зачеркнуто], пятое: можно ли Valse lento в начале 4-й картины брать немного быстрее, шестое: после ухода Камюзо — в этой же картине у Коралли (первая комната) идет веселая музыка, где у Вас помечены поздравители; этот кусок музыки, кончая маршем, до allegro на 2/4, я выделил тоже в совершенно самостоятельный эпизод, идущий в начале 3-го акта. Мне это чрезвычайно важно по нарастанию спектакля, кроме того, уже сделан макет по моему плану, и если Вы с этим не согласны, то придется многое в спектакле менять. 4-я картина в своей цельности не проиграла, а по моему замыслу — счастливого дуэта Коралли и Люсьена — вышла очень удачной, веселой и выразительной. Очень прошу Вас с этим согласиться. Седьмое: после второго спектакля у Вас идет торжественная музыка (allegro maestoso); у меня же по ходу действия должен быть кусок большой динамичности и бурного действия; могу ли я [нрзб.] действия сделать под эту музыку и дать ее быстрее. Вот все моменты, о которых я Вас очень прошу.
Забыл еще один момент: новое intermezzo перед спектаклем Флорины идет без всякого сценического действия или что-то задумано? Из поставленных мною кусков удачно вышли три вариации в первой картине, адажио из «Сильфиды», вариация Сильфиды, мансарда Люсьена, 4-я картина и ряд других кусочков (поставлено мною немного больше 1/2 спектакля), но, к сожалению, у меня не высокого качества актерский материал, в этом отношении мне не повезло… Танцовщицы, которая хорошо бы могла провести партию Коралли, — нет, и я мучаюсь, стараюсь выжать из актеров максимум выразительности. На партию Люсьена есть хороший актер, с хорошей фигурой, красивый и очень способный63.
Автограф.
Музей ГАБТ. КП Р — 3500/2473. Л. 1 – 3.
6
Л. В. Якобсон — Б. В. Асафьеву
Телеграмма
[1935 г.]
[Свердловск]
Ленинград, пл. Труда, 6/23 Асафьеву
Дирижер Великанов послал телеграмму запросом метронома адажио Сильфиды очень прошу указать метроном максимально медленной трактовки жду вашего приезда привет Якобсон
РГАЛИ. Ф. 2658. Оп. 1. Ед. хр. 758. Л. 3.
644 7
В. В. Великанов — Б. В. Асафьеву
Телеграмма
Ленинград, Площадь Труда, 6/23 Асафьеву
Прошу указать телеграфом метрономы адажио сильфиды одной восьмой начиная первого такта и всех основных изменений темпа протяжении всего адажио необходимо немедленно знать связи расхождением этом вопросе постановщиком спектакля дирижер Великанов
РГАЛИ. Ф. 2658. Оп. 1. Ед. хр. 758. Л. 4.
8
Л. В. Якобсон — Б. В. Асафьеву
17 января 1936 г.
Уважаемый Борис Владимирович!
От имени Дирекции прошу Вас приехать в Свердловск. Ваше присутствие поднимет творческий энтузиазм и поможет сдать крепко спектакль. Дирекция гарантирует Вам дорогу и гостиницу и предлагает Вам прочесть ряд лекций. Я не компетентен в материальных вопросах и думаю, что по этим вопросам Вы договоритесь лично. Кроме того, на Вас сильно рассчитывает радио-центр и ждет Вашего приезда. Мы «Иллюзии» посвящаем Х Всесоюзному съезду комсомола64 и приурочиваем премьеру к съезду, т. е. к последней декаде февраля.
Сейчас работа стоит из-за возобновления текущего балетного репертуара, но крепко нажму в конце месяца. Работать придется сверх-ударно и за короткий срок его сработать. Вот почему Ваше присутствие необходимо, и я Вас очень прошу приехать.
Нам до сих пор не прислана оркестровка pas de quatre, танца бандитов и adagio, которое я Вас просил переоркестровать на большое удаление и затихание. Кроме того, жду от Вас исполнения своей просьбы относительно первой комнаты Коралли. Поздравляю Вас с Ленинградской премьерой, очень интересуют подробности.
Если Вам не трудно, пришлите, пожалуйста, парочку рецензий. Благодарю Вас за переговоры со Слонимским, я получил от него письмо и книжку65.
Вам просьба: мы, вероятно, здесь выпустим брошюру перед спектаклем, где, надеюсь, Вы дадите свои высказывания, или, может быть, Вы передадите Вашу статью из Ленинградской брошюры?66
Надеюсь от Вас получить скорый ответ относительно Вашего приезда и всех интересующих меня моментов. До сих пор также не прислана партия рояльного соло Люсьена из 1 акта, а она чрезвычайно нужна. Также прошу прислать, если есть, какие-нибудь новые вставные вариации и кусочки.
Буду ждать от Вас ответа на это и предыдущее письмо (с подробным изложением своих просьб), присылки недостающих материалов, а главное, Вашего приезда.
Желаю здоровья.
Уважающий Вас
Л. Якобсон
Автограф.
Музей ГАБТ. КП Р — 3500/2474. Л. 1 – 3.
645 9
Л. В. Якобсон — Б. В. Асафьеву
5 февраля 1936 г.
Свердловск, Шаррашская, д. 9, кв. 20
Якобсон
Авиа-почта Спешное
Ленинград, Пл. Труда, 6, кв. 23
Б. В. Асафьеву
Уважаемый Борис Владимирович!
От имени Дирекции театра приглашаю Вас на премьеру «Иллюзий». Если можете, приезжайте раньше. Спектакль мы готовим в подарок Х Всесоюзному Комсомольскому Съезду и даем премьеру в день Областной Комсомольской конференции 24 февраля67. Надеюсь Вас видеть здесь.
С уважением,
Л. Якобсон
Автограф.
РГАЛИ. Ф. 2658. Оп. 1. Ед. хр. 758. Л. 5.
10
Б. В. Асафьев — Л. В. Якобсону
6 февраля 1936 г.
Ленинград, Площадь Труда, 6, кв. 23.
от Б. Асафьева
Спешное
Свердловск, Государственный Театр оперы и Балета
Балетмейстеру Л. В. Якобсону
Дорогой Леонид Вениаминович!
Шлю вслед второе письмо. Если затеряется одно, авось дойдет это. Если уж Вам очень необходима оркестровка g dur’ной вариации в комнате Коралли, шлю наметку партитуры, по которой легко будет доделать все. Что касается потерянной партитуры начала сцены в мансарде, то восстановить ее мне очень трудно. Сообщу Вам сжатый план: все начало играет рояль, с andante вступает clarinetto (см. партитуру, два такта), далее ges dur’ную фразку играют альты, затем подхватывают violini I и весь эпизод poco a poco piu mosso играют только струнные (V.I и II, viole, celli без bassi).
[фрагмент 1] Andante ges dur мелодию играет кларнет solo, аккомп[анемент]у струнных.
[фрагмент 2] Второй раз ges dur после фраз кларнета.
[фрагмент 3] мелодию принимают V-ni I.
В dur piu mosso Flauto solo, в конце подхватывает Fagotto I.
[фрагмент 4] «всплеск арфы» и струнные [фрагмент 5].
Аккорд des, f, a, d = струнные.
646 Далее кларнет (ges dur и Fis moll) и A dur только струнные.
Последнюю каденцу начинает кларнет и кончает (подхватывает Flauto). Вот и все.
Крепко жму руку. Передайте сердечный привет дирижеру и пожелания всего доброго всем исполнителям. Простите за спешный почерк — это от нервов.
Ваш Б. Асафьев
[фрагмент 6]
По этой наметке легко восстановить и продолжить замысел, о чем я очень прошу дирижера, т. к. сам абсолютно не имею времени. Можно даже Clar. I удвоить corno ingl., а гобой флейтой. Это даст рельеф. Cadenza может начать Fl., потом передать кларнету до нижнего Mi, а потом фагот, т. е.
[фрагмент 7]
и далее как начали.
Автограф.
ГЦТМ РО. Ф. 548. Ед. хр. 153. Л. 1 – 2.
11
Б. В. Асафьев — Л. В. Якобсону
24 февраля 1946 г.
Ленинград, Улица Зодчего Росси, 2
Хореографическое училище
Леониду Вениаминовичу Якобсону
или Н. П. Ивановскому для передачи Якобсону
от Академика68 Б. В. Асафьева
Дорогой Леонид Вениаминович!
Любезность писателя Ильи Александровича Груздева69 дает мне возможность переслать Вам только что законченную финальную интермедию70.
Ад получился терпкий, суровый, а для заключительного танца я скомпоновал мотивы, помеченные вашими «птичками» (V, VV, VVV), хотя они сильно отдают испанским XVIII веком!.. Кончаю напевом о «жизни — смерти» как ведущим сквозь все действо. Привет вам, Николаю Павловичу и т. д., и т. д.
Очень беспокоюсь о темпах и характере, вообще об интонации всей музыки — ведь я не успел, да и не мог Вам сыграть. Впрочем, надеюсь на Вашу чуткость. Даже в быстрых темпах торопни не должно быть. Каждая мелкая доля должна быть четкой — вот опора для определения скоростей! В медленной музыке все напевно, веско и важно, несмотря на гротесковый характер. Ну, а в части самого «Каменного гостя» Вы сами все знаете, ибо слышали от меня71. Теперь буду ждать свою рукопись обратно для инструментовки. Полагаю, все сойдется с Вашими пожеланиями (т. е. что план интермедии следует точно Вашей записке).
Желаю Вам удач. Пишите. Не забудьте про Шорнштейн72.
Б. Асафьев
Чувствую себя последние три дня сносно, если бы не беспокойство за мои глаза и за спектакль «Барышня-крестьянка»73. Правда ли, что в Кировском театре 647 идет речь о возобновлении «Бахчисарайского фонтана»74? Для меня это было бы большой радостью!..
Автограф.
ГЦТМ РО. Ф. 548. Ед. хр. 154. Л. 1.
12
Л. В. Якобсон — Б. В. Асафьеву
6 марта 1946 г.
Дорогой Борис Владимирович!
Пользуюсь случаем послать Вам еще несколько слов, в добавление к письму, которое Вы, надеюсь, уже получили. Волнует меня теперь одно. Если пойдет собственно «Каменный гость», то как выйти из положения с переменами картин. Дам задание художнику делать все так, чтобы перемены были буквально секундные, и, когда будет найдена композиция, об этом Вам сообщу немедленно.
Неверно пояснил я свою мысль о концовке у Лауры. Она кончается на piano, но мне хотелось бы постепенного и более длительного спада. Очень Вас прошу написать мне и либо подкрепить мою уверенность в том, что «Каменный гость» может идти в задуманной редакции бродячего театра, либо и у Вас есть сомнения. Я лично уверен в этом варианте, хотя не отрицаю возможность дискуссии. Но мне хотелось бы слышать от Вас более развернутую теоретическую позицию, так как все же подробности Ваших соображений Вы мне не высказывали.
Вчера в беседе с Цыгановым он мне сказал, что Лопухов75 в скором времени уезжает на несколько месяцев в Киев ставить «Лебединое озеро» и что он его отпустил. Это еще не объявлено, но это факт. Как сказал Цыганов, он согласился дать подработать Лопухову 20.000 руб. Мне кажется, это Вам на руку, хотя, возможно, Вам этого и не скажут, чтобы на всякий случай Лопухов имел музыкальный материал.
Этот случай даст Вам возможность спокойнее заниматься оркестровкой. Уже работаю, начал первую картину. Как только закончу выход Дона Жуана — Вам напишу. Пока я вполне доволен, и начало получилось такое, как хотел. Хотелось бы от Вас слышать Ваши соображения об оформлении. Версия о балаганном театре еще не отпала, но у руководства школы тенденция к собственно Пушкинской редакции. Но позиций я еще не сдаю.
Привет Вашим и мои наилучшие пожелания Вам.
Жду от Вас Ваших пожеланий на затронутые темы.
С уважением,
Л. Якобсон
Автограф.
Музей ГАБТ. КП Р — 3500/2475. Л. 1 – 2.
13
Л. В. Якобсон — Б. В. Асафьеву
12 марта 1946 г.
Дорогой Борис Владимирович!
Уже решено, что идет собственно «Каменный гость», без всего окружения, и я уже поставил первую картину. Соответственно этому делается и оформление спектакля, 648 [нрзб.], и в полном объеме театра. Художник — некий Борискович76. Это неизвестный, но талантливый человек, и можно рассчитывать, что это будет хорошо. Композиции и прием оформления мы с ним уже проработали, и он показал первые эскизы, которые вызвали общее одобрение. Первая картина маленькая. К сожалению, там нет ничего, что бы можно было повторить. Но самое главное в картине открыть занавес, тогда его нужно слишком долго тянуть, это не хорошо. Я сделал так: открывается занавес. Зритель видит — ворота Мадрида, и сбоку фигуры Дона Жуана и Лепорелло, застывших в позах усталых путников. Это коротенькая живая картина. Важно, чтобы зритель успел посмотреть место действия и их, после чего начинается действие. Возможно ли написать коротенькое вступление, на котором открывается занавес и несколько времени (секунд 10) видна картина? И конец — нет музыки для их непосредственного входа в Мадрид. Хочется еще прибавить несколько тактов — их вход в ворота, после чего выключается свет и идет очень быстрая перемена картины. По моим расчетам, все перемены должны быть не более 15 – 20 секунд. Может быть, их сделать на барабанчике? Ведь его можно держать сколько угодно и когда угодно снять. Это было бы очень удобно. Только как это будет выглядеть с музыкальной точки зрения. Мне кажется, что этот прием был бы здесь вполне уместным. И еще вопрос. Возможно ли в серединку картины, вернее, в самом начале, где за темой Дона Жуана идут мелодии более широкие, вставить кусок для прохода пьяного идальго, распевающего серенаду (конечно, без голоса), и эпизодик какой-нибудь встречи двух влюбленных, или прохода ночного дозора? Эту вставку хотелось бы сделать между двумя широкими темами (одной коротенькой, другой побольше), идущими в самом начале, за выходом и темой Дона Жуана. Тогда картина была бы вполне зрелая и интересная.
Кроме «Каменного гостя» идет большой концерт из двух отделений. Так что в центре внимания стоит наш спектакль77. Начинаю вторую картину. Когда ее намечу, напишу. Мне очень неудобно, что я все время Вас беспокою с мелочами. Но они имеют очень большое значение. Богданов-Березовский78 мне передал, что Вы скоро оканчиваете оркестровку. Это очень приятно. Шлите нам ее для расписки партий.
Желаю Вам и Вашей семье здоровья.
Всем большой привет.
Л. Якобсон
Автограф.
Музей ГАБТ. КП Р — 3500/2476. Л. 1.
14
Л. В. Якобсон — Б. В. Асафьеву
1 апреля 1946 г.
Москва, ул. Горького, Гостиница «Националь»
Л. В. Якобсон
Академику Б. В. Асафьеву
Ленинград, Ул. Росси, 2, Хореограф. училище
649 Дорогой Борис Владимирович!
Приношу свои извинения за задержку нот [нрзб.]. Это было вызвано тем, что не скоро был решен вопрос об объеме спектакля, а ведь их высылка должна была быть срочной — для оркестровки. Когда же выяснилось, что идет собственно «Каменный гость», я не думал, что Вы их ждете. Вышлю при первой же оказии. Они в целости и сохранности.
Работа по «Каменному гостю» идет полным ходом. У меня поставлены уже 2 картины (первая и вторая). Думаю недели через две поставить все. Первая картина композиционно не цельна. Я Вам писал уже о своих просьбах, если они возможны. Хотелось бы маленького введения (для поднятия занавеса и вступления к сцене) и более длительного ухода Дона Жуана. Без этого хореографически первая картина сильно проиграет. К тому же она очень коротенькая, и жаль, если Вы ее не разовьете еще двумя коротенькими сценками, о которых я Вам писал (пьяный идальго и патруль). 2-я картина самая большая, и в ней хотелось только свести на pianissimo конец и сделать его немножко подлиннее. Я решил оканчивать картину на том, что Дон Жуан остается у Лауры. Очень Вас прошу, Борис Владимирович, дать Ваши указания о последнем номере 2-й картины (адажио Дона Жуана с Лаурой), где звучат колокола. Как он будет звучать оркестрово; как будет слышаться колокольный звон и какова его эмоциональная структура. Сейчас принимаюсь за третью картину, где опять-таки никак не развить конец — уход Дона Жуана и Лепорелло. Объясните мне, пожалуйста, как Вы мыслите драматургическую интерпретацию места в 3-й картине, где Дон Жуан сбрасывает сутану и пытается тронуть ее сердце, а в 4-й картине — серенаду.
Ждем партитуру для переписки партий. Привет Вам от Николая Павловича Ивановского. Жду Ваших указаний по неясным для меня вышеуказанным музыкальным номерам. Мы с Вами проигрывали один раз, и я, конечно, не смог запомнить всех Ваших указаний.
Привет Вашей семье. Вам желаю здоровья и поздравляю с премьерой «Барышни-крестьянки»79.
С уважением
Л. Якобсон
P. S. Еще о номере Лауры и Дона Жуана в финале второй картины: в противовес адажио Лауры с Доном Карлосом (странно, что дефис у Дона Карлоса, а у Дона Жуана нет) это адажио звучит сдержанно, более спокойно (и хотелось бы, чтобы мощной звучности здесь не было). Не знаю, правильно ли я его понял. Но в последней части у Вас стоит f, а последние колокола звучат, кажется, как fortissimo. Мне же представляется, что после бурного и очень страстного дуэта Лауры с Доном Карлосом здесь все спокойно, все тихо, эмоции сильные, но сдержанные. Здесь нет борьбы, все ясно с первого взгляда. Если же есть мощное развитие перед заключением, это несколько разрушает мое представление об этом дуэте.
Очень Вас прошу, Борис Владимирович, мне объяснить, как это нужно понимать, а можно ли, если Вы сочтете нужным, внести сюда Ваши корректуры, согласно моему представлению этой сцены.
Л. Я.
Автограф.
РГАЛИ. Ф. 2658. Оп. 1. Ед. хр. 758. Л. 7 – 7 об.
650 15
План
I. Все комедийно-гротескно.
1. Выход. Сооружение сцены (танец-марш) — 30 – 40 секунд.
2. Сарабанда (или другой, но веселый танец) — 1 мин.
3. Представления актеров. 1) Директор.
2) Дон Жуан.
3) Дона Анна.
4) Дон Карлос.
5) Лаура.
6) Гости.
7) Монах.
8) Лепорелло.
9) Командор.
1 – 1 1/2 мин.
4. Лоа80
1) Дон Жуан и женщины.
2) Дон Жуан и Лаура.
3) Дон Жуан и Командор. Дуэль.
4) Дон Жуан и Дон Карлос.
5) Король. Изгнание.
6) Прощание с Лепорелло. Уход.
Лаура. Прощание. Окончательный уход.
7) Дона Анна. Похороны.
8) Статуя. Рыдания Доны Анны.
2 1/2 – 3 1/2 мин.
5. Веселый танец 1 – 2 мин. (постепенные входы и постепенные уходы)
от p. до ff. и обратно.
6 – 8 1/2 мин.
II.
1. Мадрид.
2. У Лауры.
3. В склепе.
3. У Доны Анны.
III. Все комедийно-гротескно.
1. Поклоны — 1/2 мин.
2. Сбор денег директором — 1 мин.
3. Мохиганга81 1) знак директора и сооружение ада.
2) Дон Жуан и Дона Анна.
3) Лаура и женщины в аду.
4) Уничтожение ада.
5) Выход из ада и погоня за Доном Жуаном.
651 6) Смех Лепорелло.
2 – 2 1/2 мин.
4. Чакона (или другой буйно-веселый танец) — 1 1/2 – 2 мин.
5. Расплата директора с актерами — 15 – 20 секунд.
6. Сборы, уход — 30 – 40 секунд.
6 – 7 мин.
Автограф.
РГАЛИ. Ф. 2658. Оп. 1. Ед. хр. 758. Л. 8 – 9.
16
Н. П. Ивановский и Л. В. Якобсон —
Б. В. Асафьеву
Телеграмма
5 апреля 1946 г.
Москва, гостиница «Националь» Асафьеву
Просим возможно скорей выслать партитуру для расписки партий привет Ивановский Якобсон
РГАЛИ. Ф. 2658. Оп. 1. Ед. хр. 758. Л. 11.
17
Л. В. Якобсон — Б. В. Асафьеву
23 мая 1946 г.
[На бланке:]
Комитет по делам искусств при СНК СССР
Ленинградское Государственное Ордена Трудового Красного Знамени
Хореографическое училище
Художественный руководитель
Ленинград, ул. Зодчего Росси, 2
23 мая 1946 г.
Уважаемый Борис Владимирович!
Если Вы сочтете возможным удовлетворить мои просьбы о концовках 1-й и 3-й картин, буду Вам очень благодарен. Их удлинение необходимо, так как нет хореографических концовок. Вариант концовки 1-й картины Вам посылает Похитонов, а как быть с 3-й картиной, не знаю.
С уважением
Л. Якобсон
Авторизованная маш.
РГАЛИ. Ф. 2658. Оп. 1. Ед. хр. 758. Л. 10.
652 18
Д. И. Похитонов — Б. В. Асафьеву
23 мая 1946 г.
Глубокоуважаемый Борис Владимирович!
Балетмейстер Якобсон в прилагаемом куске из 8-ми тактов нуждается в сильных акцентах на третьей четверти. Так у него поставлены танцы. Считая, что инструментовка третьих четвертей окажется слабой по силе звучания для желаемых балетмейстером акцентов, я взял на себя смелость несколько усилить эти моменты. В прилагаемой партитуре 8-ми тактов Вы увидите те прибавки, которые я внес в Вашу редакцию куска, а именно: прибавлен I-й Фагот в октаву со II-м. В восьмом такте II и IV Corni играют четвертями, с акцентом на 3-й четверти.
Прибавлены трубы для пополнения аккордов с валторнами. В 6, 7 и 8 тактах прибавлены удары литавр. Арфы должны быть две. Остальное — все как у Вас.
Кроме того, балетмейстер просит удлинить конец первой картины. По моему мнению, без особенного нарушения формы можно повторить первые 4 такта из последних 10-ти в конце первой картины [фрагмент партитуры].
Думается, что это единственное, что можно сделать. Впрочем — все на Ваше усмотрение. Благоволите срочно ответить. Мой адрес: Ленинград 68, просп. Римского-Корсакова, д. 2, кв. 34.
Искренно преданный
Д. Похитонов
[Фрагменты партитуры с исправлениями]
Автограф, карандаш, нотная бумага.
РГАЛИ. Ф. 2658. Оп. 1. Ед. хр. 666. Л. 1 – 2.
19
Н. П. Ивановский — Б. В. Асафьеву
Телеграмма
1946 г.
Москва «Националь» Академику Асафьеву
Глубоко признательны за творческую помощь Хаскина82.
Ивановский
РГАЛИ. Ф. 2658. Оп. 1. Ед. хр. 567. Л. 1.
653 20
Н. П. Ивановский — Б. В. Асафьеву
4 июля 1946 г.
Ленинград, ул. Росси, 2, Хореографическое училище
Заказное
Москва, Гостиница «Националь»
Лауреату Сталинской премии Народному артисту СССР
Академику Борису Владимировичу Асафьеву
Глубокоуважаемый Борис Владимирович!
2 июля Вам послали обширную телеграмму о премьере нашего спектакля. Сегодня я имею Вашу телеграмму, запрашивающую о судьбе спектакля. Думаю, что Вы все же нашу телеграмму позже, но получили. Перед премьерой, которая состоялась 26/VI, я имел сведения от А. В. Гаука83, что Вы сами не сможете быть и просили его послушать Вашего «Каменного гостя». После премьеры спектакли прошли еще 28 и 30 июня, при повышенном внимании и явном разделении зрителей на два спорящих (уже хорошо!) лагеря. Причем хвалит большинство (и постановку, и музыку), ругает меньшинство (постановку). Во всем этом помог разобраться Художественный совет училища, который состоялся 2 июля. Абсолютно у большинства, начиная с А. Я. Вагановой, очень и очень высока оценка всего спектакля в целом. Мне кажется, правда я пристрастен, что это один из лучших спектаклей Училища, и мы обязаны его сохранить в будущем.
Оркестр не очень серьезно относился к этой «внеплановой» для них работе, и только мастерство и опыт Д. И. Похитонова позволили в очень короткий срок провести эту большую работу. Музыка кристально чиста, выразительна и трогательна (простите мои дилетантские определения), а финал звучит грандиозно — потрясающе.
Постановка Якобсона очень сочная, свежая и, пожалуй, одна из лучших за последнее время в балете. Есть некоторая скользкость во второй картине — у Лауры, но нужно быть ханжой, чтобы из-за этого снижать значение всего спектакля в целом. Повторяю — спектакль прекрасный.
Художник В. Г. Борискович чрезвычайно ярко и интересно разрешил все 4 картины, и пушкинский дух явно был во всем спектакле. До сегодняшнего дня идут еще разговоры в балетной труппе о нашем спектакле, это доказательство значимости и свежести «Каменного гостя».
Уважаемый Борис Владимирович, посылаю Вам договор на авторский гонорар, который требует Вашего утверждения. Я пользуюсь еще раз случаем выразить Вам от имени училища, от имени молодых наших артистов, которые только что окончили наше Училище и являлись исполнителями Вашего «Каменного гостя», громадную и горячую благодарность за Вашу исключительную творческую помощь.
Бесконечно благодарный и глубоко признательный,
Ивановский Н. П.
Партитура будет выслана Вам немедленно, как только ее перепишут. Авторизованная маш.
РГАЛИ. Ф. 2658. Оп. 1. Ед. хр. 567. Л. 2 – 3.
654 Комментарии
Вступительная статья
1 Звездочкин В. А. Творчество Леонида Якобсона. СПб., 2007; Театр Леонида Якобсона: Статьи. Воспоминания. Фотоматериалы / Ред.-сост. Н. Зозулина. СПб., 2010.
2 В 1941 г. Якобсон работал над балетом «Шурале» в Татарском государственном оперном театре. В постановке участвовали артисты московской труппы ЦПКиО «Остров танца», приглашенные в Казань (подробнее об этом см.: Суриц Е. Я. «Остров танца» // Мир искусств: Альманах. СПб., 2004. Вып. 5. С. 198 – 243). Война прервала работу: декаду татарского искусства, к которой готовили «Шурале», отменили, спектакль до зрителя не дошел. Премьера балета «Шурале» («Али Батыр») состоялась в Театре им. С. М. Кирова 28 мая 1950 г. Возобновили спектакль в Мариинском театре 29 сентября 2009 г.
Премьера балета «Спартак» в постановке Якобсона состоялась в Театре им. С. М. Кирова 27 декабря 1956 г., спектакль был возобновлен в Мариинском театре 1 июля 2010 г.
3 В труппе «Хореографические миниатюры», которую в 1971 – 1975 гг. возглавлял Л. В. Якобсон, после смерти хореографа сохраняли некоторые поставленные им номера. За время своего существования коллектив неоднократно менял названия и руководителей. В начале 2000-х гг., под руководством Ю. Н. Петухова в труппе были предприняты попытки возобновить спектакли Якобсона: «Спартак» (в сокращенной версии), «Клоп», «Свадебный кортеж», «Экзерсис XX», циклы миниатюр «Роден», «Классицизм — Романтизм», «Гайдн — Моцарт» и отдельные миниатюры.
4 Над балетом «Золотой век» работали три хореографа — В. И. Вайнонен, В. П. Чеснаков и Л. В. Якобсон. Якобсон поставил «Танец Золотой молодежи», сцену «Рука Москвы» и Вальс в первом акте и почти весь второй акт, где действие происходило на стадионе (танцевальная картина «Футбол» принадлежала Вайнонену, заключительный спортивный танец — Чеснакову). В «Спортивных играх» хореограф придумал номер «Лупа времени» — «быстрое движение спортсменов-танцовщиков неожиданно обрывалось и продолжалось затем в нарочито замедленном темпе, как при замедленном кинопроектировании» (см.: Добровольская Г. Н. Балетмейстер Леонид Якобсон. Л., 1968. С. 13).
5 Якобсон Л. На повестке — балетный театр: (Пути советской хореографии) // Рабочий и театр. 1931. № 26. 8 окт. С. 6 – 7.
6 Там же. С. 7.
7 Шереметьевская Н. Е. Длинные тени: (О времени, о танце, о себе) // Шереметьевская Н. Е. Записки историка балета и балетного критика. М., 2007. С. 35.
8 Мэй Лань-фан (1894 – 1961) — китайский танцовщик, актер, театральный деятель, педагог. Начинал свою карьеру как исполнитель женских ролей в традиционном китайском театре. Гастролировал в СССР в 1932, 1935, 1952 и 1957 гг.
9 Гастроли Государственного театра им. Вс. Э. Мейерхольда в Ленинграде проходили в октябре и ноябре 1932 г. на сцене Выборгского дома культуры. В репертуаре значились спектакли «Последний решительный», «Рычи, Китай!», «Список благодеяний», «Лес», «Великодушный рогоносец».
10 Вечер Ленинградского государственного хореографического техникума (с участием артистов Ленинградского государственного театра оперы и балета) прошел 29 марта и 4 апреля 1932 г.
655 «Пионерия» («Чавдарчо») — музыкальная пантомима на музыку В. В. Волошинова и М. И. Чулаки. Постановщик Л. В. Якобсон. На вечере были показаны интермедия, картины «Тюремный коридор», «Контора тюрьмы», «Мастерская», «Школа». Полностью балет закончить не удалось.
11 Шереметьевская Н. Е. Указ. соч. С. 40.
12 «Большая тема разрешается детской игрой в пародирование кино, подменой сложнейшего образа Чаплина примитивной маской Глупышкина и довольно неудачной беготней остальных персонажей по сцене», — делал выводы рецензент об этой танцевальной пантомиме (Гершуни Евг. Минута славы — годы стыда // Рабочий и театр. 1931. № 11. С. 12).
13 «Тиль Эйленшпигель» — танцевально-пантомимические сцены. Режиссер-балетмейстер Л. В. Якобсон, музыка Р. Штрауса, либретто Е. А. Мравинского, художник Н. Н. Никифоров. Премьера — 18 мая 1933 г. Ленинградский государственный театр оперы и балета. В спектакле участвовали В. В. Фидлер (Тиль), И. Л. Каплан (Девушка), Н. Е. Шереметьевская (Мать), Б. Я. Фенстер (Отец), В. А. Варковицкий (Богослов).
14 Некоторые исследователи объясняют уход Якобсона из техникума и его отъезд из Ленинграда конфликтом с А. Я. Вагановой (См.: Звездочкин В. А. Указ. соч. С. 33). Авторитет Вагановой в те годы был очень высок. В 1931 г. она стала художественным руководителем балетной труппы Ленинградского государственного театра оперы и балета, сменив на этом посту Ф. В. Лопухова. Возможно, на решение Вагановой, поначалу с симпатией относившейся к экспериментам Якобсона, повлияла уже упомянутая бурная дискуссия, завершившая Вечер техникума. Своими дерзкими ответами и поведением Якобсон словно бросал вызов художественному руководителю. Очевидцы происшедшего вспоминали: «На нас, ребят, его “смелость” произвела впечатление — кто еще мог так ответить Вагановой, перед которой все трепетали?» (Шереметьевская Н. Е. Указ. соч. С. 40).
15 Бродерсен Ю. Ответ тов. Л. Якобсону // Рабочий и театр. 1931. № 26. 8 окт. С. 8.
16 «Ромео и Джульетта» — хореографическая фантазия. Балетмейстер Л. В. Якобсон, музыка П. И. Чайковского, художник Т. Г. Бруни. Премьера — 4 декабря 1944 г. Ленинградское государственное хореографическое училище (выпускной спектакль).
17 «Испанское каприччио» — фантазия на музыку Н. А. Римского-Корсакова. Балетмейстер Л. В. Якобсон, художник Т. Г. Бруни. Премьера — 4 декабря 1944 г. Ленинградское государственное хореографическое училище (выпускной спектакль).
18 Плисецкая М. Наши творческие встречи с Леонидом Якобсоном // Леонид Якобсон: Творческий путь балетмейстера, его балеты, миниатюры, исполнители / Сост. Г. Н. Добровольская. Л.; М., 1965. С. 13.
19 Шостакович Д. Наши творческие встречи с Леонидом Якобсоном // Там же. С. 11.
20 Шварц И. Балетмейстер и музыка // Там же. С. 33.
21 К ним относился, например, В. М. Богданов-Березовский. Он писал: «Я бы назвал дискуссионными и некоторые стороны балетмейстерского метода Якобсона, например, его работу с музыкой и над музыкой. И в тех случаях, когда он заказывает композитору партитуру соответственно собственному авторскому замыслу будущего спектакля, и тогда, когда обращается к музыке, созданной, инструментуемой или же компонуемой по его заданию». При этом Богданов-Березовский оставил достаточно подробное, детальное описание работы хореографа: «Сначала он активно вслушивается в музыкальный материал, проникается его эмоциональным и образным содержанием, 656 делает для себя “структурные” записи музыки. А затем, опираясь, на полученное общее впечатление, но, еще не имея разработанного хореографического плана приступает к сочинению “пластического текста”. И постепенно из разрозненных приемов — движений, жестов, поворотов, прыжков, поз — вылепляет большие, протяженные линии, сводя пластические узоры в сложные полифонические комплексы» (Богданов-Березовский В. [Б. н.] // Леонид Якобсон: Творческий путь балетмейстера, его балеты, миниатюры, исполнители. С. 31).
22 Коган Т. Великий подарок судьбы // Театр Леонида Якобсона: Статьи. Воспоминания. Фотоматериалы. С. 191 – 192.
Т. И. Коган с 1970 по 1975 г. работал музыкальным консультантом коллектива «Хореографические миниатюры», который возглавлял Якобсон.
23 Примером подобной размолвки может служить ссора между Якобсоном и композитором О. Н. Каравайчуком при постановке балета «Клоп» в Театре им. Кирова в 1962 г. В результате Каравайчук, не завершив работы над спектаклем, ушел и снял свое имя с афиши — на ней он значился под фамилией Ф. Отказов. Оркестровать и «доделывать» музыкальный материал пришлось Г. И. Фиртичу.
24 Асафьев Борис Владимирович (1884 – 1949) — советский композитор и музыковед, автор музыки к 28 балетным спектаклям (в том числе к двум популярным спектаклям эпохи драмбалета — «Пламени Парижа» и «Бахчисарайскому фонтану»), академик РАН СССР.
25 Премьера хореографического романа в 3 действиях 14 картинах «Утраченные иллюзии» по одноименному роману О. де Бальзака на музыку Б. В. Асафьева состоялась 24 февраля 1936 г.
26 Спектакль выпускников Ленинградского государственного хореографического училища «Каменный гость», названный в программе «Хореографические сцены по А. С. Пушкину», с музыкой, написанной Б. В. Асафьевым по мотивам мелодий М. И. Глинки, состоялся 26, 28 и 30 июня 1946 г. на сцене Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова.
27 Ивановский (наст. фам. Иванов) Николай Павлович (1893 – 1961) — артист балета, педагог, с 1940 по 1952 г. и с 1954 по 1961 г. художественный руководитель Ленинградского хореографического училища.
28 Похитонов Даниил Ильич (1878 – 1957) — дирижер, педагог, с 1939 г. профессор Ленинградской консерватории, с 1909 по 1956 г. дирижер Мариинского театра (затем — Государственный театр оперы и балета им. С. М. Кирова), одновременно с 1918 по 1932 г. — Малого оперного театра.
29 Великанов Виктор Васильевич — дирижер, ученик Э. А. Купера, в 1920-х гг. преподаватель музыкального техникума в Харбине, в 1930 – 1950-х дирижер в Свердловском театре оперы и балета им. А. В. Луначарского.
30 Так вспоминала о появлении в труппе Якобсона балерина Л. И. Андреева (см.: Бобков Л. «Утраченные иллюзии» на уральской сцене // Балет. 1992. № 1. С. 56).
31 Дмитриев А. Мой дорогой учитель // Воспоминания о Б. В. Асафьеве / Сост. А. Крюков. Л., 1974. С. 125 – 126.
32 Дмитриев А. Н. Балетное творчество Б. В. Асафьева // Музыка и хореография современного балета: Сб. статей. Л., 1974. С. 111.
33 Асафьев Б. В. Мысли и думы. Ч. 1: О себе. Воспоминания. Гл. 1 – 6. Маш. копия. 24 декабря 1941 – 19 января 1942 г. — РГАЛИ. Ф. 2658. Оп. 1. Ед. хр. 349. Л. 151.
34 657 Главные партии в спектакле Захарова исполняли Г. С. Уланова и Н. М. Дудинская (Коралли), К. М. Сергеев и Б. В. Шавров (Люсьен), Т. М. Вечеслова и О. Г. Иордан (Флорина), Л. С. Леонтьев (Камюзо), В. М. Чабукиани (Балетный премьер).
35 Волков Николай Дмитриевич (1894 – 1965) — театральный критик, историк театра, либреттист. В 1930 – 1940-х гг. был постоянным сотрудником и корреспондентом Асафьева, работал вместе с ним в качестве сценариста над балетами «Бахчисарайский фонтан», «Пламя Парижа», «Барышня-крестьянка».
36 Н. Д. Волков — Б. В. Асафьеву от 25 декабря 1935 г. Копия рукой И. С. Асафьевой. — РГАЛИ. Ф. 2658. Оп. 1. Ед. хр. 517. Л. 10 об.
37 Официальной датой ленинградской премьеры является 3 февраля 1936 г. Предварительный показ проходил 31 декабря 1935 г. Асафьев в мемуарах писал: «Балет-роман “Утраченные иллюзии” встретил в ленинградской общественности очень живой отклик и обмен мнений, хотя театральной администрацией было выполнено все полагающееся, чтобы не помогать успеху. Премьера была дана 31 декабря 1935 г. без программы и пояснений, в театральной газете имя композитора не упоминалось. Балет был недоучен, и потому каждый следующий спектакль доделывался и переделывался» (Асафьев Б. В. Мысли и думы. Ч. 1: О себе. Воспоминания. Гл. 9, 10 и послесловие. 24 декабря 1941 – 19 января 1942. Маш. копия. — РГАЛИ. Ф. 2658. Оп. 1. Ед. хр. 351. Л. 321).
38 Балет «Утраченные иллюзии» // На смену. 1936. № 29. 26 февр. С. 2.
39 Зритель [Попрядухин Ю. А.]. Безграмотные переделки // Уральский рабочий. 1936. № 61. 5 марта. С. 3.
40 Якобсон Л. Постановщик о своей работе // Программа балета «Утраченные иллюзии». Свердловск, 1936. С. 14.
41 Бобков Л. «Утраченные иллюзии» на уральской сцене // Балет. 1992. № 1. С. 57.
42 Сталинский Олег Николаевич (1906 – 1990) — артист балета, с 1935 по 1936 г. работал в Свердловском театре, с 1946 г. — в Львовском государственном театре оперы и балета (с 1956 г. — Львовский государственный театр оперы и балета им. И. Франко). Первый исполнитель партии Люсьена в спектакле Якобсона.
43 Воспоминания Л. И. Андреевой записал Л. Бобков и использовал в своей статье об «Утраченных иллюзиях» в Свердловске (см.: Бобков Л. Указ. соч. С. 57).
44 «Граф Нулин» Б. В. Асафьева в хореографии В. А. Варковицкого стал первым телебалетом, снятым на Центральном телевидении в 1959 г. (сценарий Варковицкого, оператор Д. О. Зайцев, художники К. Н. Ефимов и С. А. Петерсон). Главные партии исполняли О. В. Лепешинская, С. Г. Корень, А. И. Радунский, Я. Г. Сангович.
45 Асафьев Б. В. Статьи об истории сочинения балетов «Бахчисарайский фонтан» и «Барышня-крестьянка» [1947]. Маш. копия. — РГАЛИ. Ф. 2658. Оп. 1. Ед. хр. 424. Л. 6.
46 Дмитриев А. Н. Балетное творчество Б. В. Асафьева // Музыка и хореография современного балета. С. 134.
47 Якобсон Л. [Б. н.] // Программа балета «Каменный гость». Выпускной спектакль ЛГХУ. Л., 1946. С. 3.
48 Там же. С. 3.
49 Асафьев Б. В. «Каменный гость»: Либретто балета по трагедии А. С. Пушкина. Партитура. 25 февраля — 10 марта 1946 г. — РГАЛИ. Ф. 2658. Оп. 1. Ед. хр. 66. Л. 6 – 8 об.
50 Мустаев Хашим Фатыхович (р. 1918) — артист балета, балетмейстер, педагог. Окончил Ленинградское государственное хореографическое училище (ЛГХУ) в 658 1946 г., с 1946 г. артист балета Ленинградского государственного театра оперы и балета им. С. М. Кирова, с 1970 г. — художественный руководитель Башкирского ансамбля народного танца, с 1995 г. — балетмейстер-консультант ансамбля (ныне — Башкирский государственный академический ансамбль народного танца им. Ф. Гаскарова).
51 Дружинин Юрий Яковлевич (1925 – 1989) — артист балета. Окончил ЛГХУ в 1944 г., с 1944 по 1952 г. — артист балета Ленинградского государственного театра оперы и балета им. С. М. Кирова, с 1944 по 1955 г. и с 1958 по 1963 г. — репетитор.
Дружинин обладал уникальной памятью на хореографические тексты. С Якобсоном он работал и после «Каменного гостя», при постановке его балетов в Кировском театре. Ю. Н. Мячин, придя после окончания училища работать в театр, вновь встретился с Якобсоном и так описал постановочные репетиции в своих мемуарах: «Продолжение репетиций могло пойти в другом ключе, и предыдущие, уже поставленные моменты ускользали, поэтому рядом с постановщиком постоянно находилось “запоминающее устройство” — репетитор Ю. Дружинин» (Мячин Ю. Н. Сон и явь балета. СПб., 2003. С. 92).
52 Сообщено Х. Ф. Мустаевым в личной беседе в декабре 2011 г.
53 Мячин Юрий Николаевич (р. 1926) — артист балета, балетмейстер, педагог. С 1946 по 1969 г. артист балета Ленинградского государственного театра оперы и балета им. С. М. Кирова, с 1974 по 1979 г. — главный балетмейстер Ленинградского театра музыкальной комедии, постановщик танцев в фильмах: «Труффальдино из Бергамо» (реж. В. Е. Воробьев, 1976), «Снегурочку вызывали?» (реж. В. А. Морозов, 1985), «Пиковая дама» (реж. И. Ф. Масленников, 1982), «Скорбное бесчувствие» (реж. . Н. Сокуров, 1986).
54 Красовская В. М. «Каменный гость»: На выпускном спектакле хореографического училища // За советское искусство. 1946. № 12. 20 июня. С. 2.
55 Сообщено Х. Ф. Мустаевым в личной беседе в декабре 2011 г.
56 Красовская В. М. «Каменный гость»: На выпускном спектакле хореографического училища // За советское искусство. 1946. № 12. 20 июня. С. 2.
Вот как Красовская далее поясняла свою мысль: «Классика, пройдя через горнило всяческих испытаний, стала более упругой и гибкой, научилась выражать незнакомые ей раньше чувства и переживания и этим только доказала свою жизненную силу». С одной стороны, такое объяснение отражает установки эпохи — на традиционное, классическое искусство. Но в то же время, за 1930 – 1940-е гг. классический танец действительно претерпел изменения и приобрел героические черты. К этому стремилась, в частности, А. Я. Ваганова. Разрабатывая свою систему обучения танцовщиков, она усилила техническую сторону их подготовки, отбросила некоторые элементы дореволюционной школы (например, постепенно были упразднены три уровня исполнения движений на полупальцах).
57 Тиме Е. Аттестат зрелости: На выпускном спектакле хореографического училища // Вечерний Ленинград. 1946. № 152. 30 июня. С. 3.
Тиме Елизавета Ивановна (1884 – 1968) — актриса театра, эстрады, оперетты, с 1908 г. — артистка Александринского театра (затем — Академический театр драмы им. А. С. Пушкина), педагог, преподавала в Институте живого слова, в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кино (с 1951 г. — профессор).
659 1
58 Ходес Савелий Григорьевич (1902 – 1983) — театральный деятель. В 1930-х гг. директор Свердловского государственного театра оперы и балета им. А. В. Луначарского, с 1944 по 1973 г. — директор Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.
59 Мамуна Николай Владимирович (1904 – 1944) — музыковед. В 1931 г. окончил теоретико-композиторский факультет Ленинградской консерватории. С 1931 по 1941 г. работал в Центральной музыкальной библиотеке академических театров в Ленинграде (с 1935 г. — Центральная музыкальная библиотека Государственного академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова). До 1937 г. Мамуна работал там вместе с Б. В. Асафьевым, занимавшим должность заведующего библиотекой. С 1938 по 1939 г. преподавал в Ленинградской консерватории.
3
60 Захаров Ростислав Владимирович (1907 – 1984) — балетмейстер, режиссер, педагог.
4
61 Слонимский Юрий Иосифович (Осипович) (1902 – 1978) — театральный критик, критик и историк балета, драматург-сценарист, педагог.
Слонимский на протяжении многих лет был постоянным соавтором Асафьева в работе над балетными спектаклями. Вспоминая о своей молодости и о влиянии Асафьева, критик писал: «Он покорил нас тем, в чем мы больше всего нуждались. Разъяснением мучительных загадок искусства. Защитой близких нам позиций. Силой литературного таланта. Исключительной эрудированностью (такая нам и не снилась!) во всех отраслях культуры. Даром убеждения, в котором богатство аргументации сочеталось с непосредственным воздействием образного мышления». Личное знакомство состоялось в 1923 г., когда Слонимский представил на суд Асафьеву первый вариант своей рукописи о балете «Жизель». Затем оно было прервано и возобновилось в 1930-х гг. «Дом Асафьева в это время сделался местом обсуждения ленинградского балета, его жизни, текущей практики. При мне рождались “Пламя Парижа”, “Бахчисарайский фонтан”, “Утраченные иллюзии”, “Кавказский пленник”, “Партизанские дни”. <…> Параллельно я углубился в историю балета, общаясь и на этой почве с Борисом Владимировичем. Целую зиму по нескольку раз в неделю мы отдавали вечера знакомству со старинными балетами», — рассказывал Слонимский (Слонимский Ю. Для балета, о балете // Воспоминания о Б. В. Асафьеве. С. 147).
62 Обе версии балета «Утраченные иллюзии» создавались хореографами по одному сценарию, принадлежащему В. В. Дмитриеву, поэтому сюжетные коллизии совпадают. Как удалось выяснить, спектакли разнились по структуре: Якобсон сделал свою версию более «дробной», разделив ее на 3 действия и 14 картин, тогда как у Захарова было 3 действия и 8 картин. Судя по публикуемым письмам, были отличия и в музыкальном материале: находясь вдали от композитора, Якобсон испытывал трудности с пересылкой фрагментов партитуры и добивался от Асафьева необходимых ему перемен. Но основные различия, очевидно, коренились в пластике, в хореографическом решении образов. В спектакле Захарова преобладали пантомимные сцены. «В “Утраченных иллюзиях” много осталось в декларациях, в либретто для публики, многого зритель 660 совсем не понял. Сложная интрига против Люсьена терялась в мимических “разговорах” актеров. Нужно было блуждать по печатному тексту программы, чтобы понять отдельные положения», — писал Ю. О. Слонимский (см.: Слонимский Ю. Советский балет. М.; Л., 1950. С. 147). Исполнители балета Якобсона вспоминали о детальной проработке пластики всех персонажей, о сложном «рисунке» партий, где движения поставлены буквально на каждую ноту. Из танцевальных реплик персонажей выстраивалась полифоническая картина человеческих эмоций, складывался образ ситуации в целом. Якобсон на первый план вывел Люсьена, хореографа интересовал внутренний мир героя, его переживания. В спектакле Захарова, как отмечали современники, образ главного героя остался нераскрытым. «Образ талантливого композитора Люсьена, гибнущего в условиях капиталистической системы, построен и либреттистом, и композитором, и режиссером от начала до конца вне специфики балетного театра», — писал в рецензии критик Ю. Бродерсен. По его словам, в балете герой играл на рояле, бездействовал, разыгрывал скучнейшую мимодраму и только в одном действии немного танцевал. Из-за этого, несмотря на все старания исполнителей, он «затерялся в пышной декоративной оправе спектакля». (См.: Бродерсен Ю. Актеры и танцовщики // Рабочий и театр. 1936. № 2. С. 10 – 11).
5
63 На партию Люсьена есть хороший актер, с хорошей фигурой, красивый и очень способный. — Очевидно, Якобсон имел в виду О. Н. Сталинского.
8
64 Х съезд ВЛКСМ проходил в Москве с 11 по 21 апреля 1936 г.
65 … получил от него письмо и книжку. — Письмо Ю. И. Слонимского и посланную им Якобсону книгу обнаружить не удалось.
66 В брошюре к ленинградской премьере помещены статьи Ю. И. Слонимского («Театральный Париж 30-х годов»), В. В. Дмитриева («Автор о либретто»), Р. В. Захарова («К постановке спектакля») и Б. В. Асафьева («Музыкальная драматургия спектакля» — См.: «Утраченные иллюзии». Хореографический роман. Л., 1936). Брошюра к премьере спектакля в Свердловске была выпущена без вступительной статьи Асафьева, о которой упоминал в письме Якобсон.
9
67 В конце февраля 1936 г. проходила I Свердловская областная комсомольская конференция. Как сообщала газета «На смену», на премьере балета «Утраченные иллюзии» 24 февраля присутствовали «комсомольцы и молодые стахановцы Уралмаша» ([Б. п.] Балет «Утраченные иллюзии» // На смену. 1936. № 29. 26 февр. С. 2).
11
68 Звание академика РАН Асафьеву было присвоено в 1943 г.
69 Груздев Илья Александрович (1892 – 1960) — литературовед, литературный критик, драматург, писатель, биограф М. Горького.
70 В рукопись вложен лист со вставкой к странице 35 клавира балета «Каменный гость» с повторным Andante.
71 661 Незадолго до начала работы над балетом Якобсон ездил в Москву и беседовал с Асафьевым. Сохранился клавир балета «Каменный гость» с дарственной надписью Асафьева: «Дорогому Леониду Вениаминовичу Якобсону на память о доброй московской встрече и в знак искреннего расположения и дружеской симпатии. Б. Асафьев. 27 января 1946 г. Москва» (Б. Асафьев. «Каменный гость». Балет в четырех сценах (по А. С. Пушкину). Клавир. — ГЦТМ РО. Ф. 548. Ед. хр. 487. Л. 3.)
72 Шорнштейн Алла Петровна (1925 – ?) — артистка балета. В 1944 г. окончила Ленинградское хореографическое училище, с 1944 по 1952 г. — артистка балета Театра оперы и балета им. Кирова.
Алла Шорнштейн и ее родители, по-видимому, были близкими друзьями семьи Асафьевых. В архиве композитора сохранились письма Шорнштейн Асафьевым, написанные из эвакуации в Молотове в 1943 и из Ленинграда в 1947 – 1948 гг. (см.: Письма А. П. Шорнштейн Б. В. Асафьеву. — РГАЛИ. Ф. 2658. Оп. 1. Ед. хр. 745).
73 В это время балет «Барышня-крестьянка» на музыку Б. В. Асафьева ставил в Большом театре хореограф Р. В. Захаров. Сохранилось письмо Асафьева дирижеру С. С. Сахарову, написанное уже после премьеры, 23 мая 1946 г. В нем композитор упоминал о своем недовольстве работой над спектаклем: «Поскольку в создании “Барышни-крестьянки” я больше всего обязан самому себе, а в исполнении балета товарищескому отношению артистов оркестра и Вашему таланту, наконец, Вашей тщательнейшей беззаветной работе над партитурой — то приношу Вам и оркестру сердечную признательность» (Письмо Б. В. Асафьева С. С. Сахарову. Автограф. — РГАЛИ. Ф. 2658. Оп. 1. Ед. хр. 471. Л. 1.).
74 «Бахчисарайский фонтан» был возобновлен в Театре оперы и балета им. С. М. Кирова в 1946 г. хореографом П. А. Гусевым (по Р. В. Захарову).
12
75 Цыганов Николай Алексеевич (1898 – 1958) — директор Театра оперы и балета им. С. М. Кирова с 1944 по 1950 г. Был неординарной личностью: знал четыре языка, имел звание капитана 3-го ранга, во время Великой Отечественной войны был советником командующего Балтийским флотом В. Ф. Трибуца. Скульптурный портрет Цыганова работы В. И. Мухиной хранится в ее музее в Феодосии (датирован 1942 – 1943 гг.).
Лопухов Федор Васильевич (1886 – 1973) — балетмейстер, педагог. Очевидно, в письме речь идет о работе над балетом «Весенняя сказка», премьера которого состоялась в Театре оперы и балета им. С. М. Кирова 8 января 1947 г. Замысел балета принадлежал Б. В. Асафьеву и Ю. И. Слонимскому. Балетмейстер Ф. В. Лопухов присоединился к авторскому коллективу позже и внес значительные коррективы в музыку и сценарий. В частности, Лопухова не устроили некоторые музыкальные номера — произведения П. И. Чайковского, отобранные Асафьевым, и финал балета, предложенный Слонимским (см.: Добровольская Г. Н. Федор Лопухов. Л., 1976. С. 291 – 293). Поэтому спектакль создавался в довольно напряженной обстановке.
13
76 Борискович Владимир Георгиевич (1905 – 1987) — художник театра, график. В 1930 – 1940 гг. оформлял драматические и оперные спектакли в Ленинградском областном ТЮЗе и в Оперной студии Ленинградской государственной консерватории.
77 662 Помимо балета «Каменный гость», в выпускной вечер показывали концертное отделение. В газете «За советское искусство» художественный руководитель училища Н. П. Ивановский писал: «Концертное отделение построено, преимущественно, на образцах классического и характерного танца, на требованиях высокого танцевального качества исполнения, например, таких номеров, как классический дуэт (постановка А. Я. Вагановой), большое классическое па из балета “Раймонда” (работа Б. В. Шаврова). В концертном отделении имеется ряд номеров, которые воспитывают у учащихся чувство ансамбля, умение держать линию, стройность, четкость общего танцевального рисунка (вальс из балета “Щелкунчик” — работа педагога Е. В. Ширипиной, “Элегия” Чайковского — постановка М. М. Михайлова)» (Ивановский Н. «Каменный гость»: Перед выпускным спектаклем хореографического училища // За советское искусство. 1946. № 11. 16 июня. С. 2).
78 Богданов-Березовский Валериан Михайлович (1903 – 1971) — музыкальный и балетный критик, музыковед, педагог.
14
79 Премьера «Барышни-крестьянки» состоялась 14 марта 1946 г. на сцене филиала Большого театра.
15
80 Лоа (от лат. laus — похвала) — в испанском театре эпохи Возрождения предваряющий представление пролог, в котором излагаются основные события пьесы.
81 Мохиганга (от исп. mojiganga — маскарад, буффонада) — короткое театральное представление гротескно-шутовского характера с переодеванием и масками, часто с пением и танцами.
19
82 Хаскин Яков Абрамович (1904 – 1968) — композитор, автор популярных песен, музыкант, руководитель Танго-ансамбля. В чем заключалась творческая помощь Хаскина, выяснить не удалось.
20
83 Гаук Александр Васильевич (1893 – 1963) — дирижер, композитор, педагог. С 1939 по 1963 г. — преподаватель Московской консерватории (с 1948 г. — профессор).
Гаук и Асафьев познакомились в 1918 г. В своих воспоминаниях Гаук писал: «До того я несколько раз видел его на репетициях в Мариинском театре, где он работал в качестве балетного пианиста. “А я уже давно слежу за вами”, — сказал он мне при нашем знакомстве. Человек огромных знаний во всех областях культуры, великолепный музыкант и талантливейший аналитик и исследователь, критик, духовный ученик Владимира Стасова, Асафьев обладал удивительным даром применять теорию на практике. Его советы всегда были конкретными, точно помогавшими схватить, развить вопрос и воплотить его в жизни. <…> В моей жизни знакомство с Асафьевым явилось поворотным пунктом. Подметив мою бунтарскую жилку, он развил во мне чувство нового, воспитал желание проникнуть в тайны музыки и вширь, и вглубь с позиций мирового искусства, а не только с узких позиций консерваторского учения» (Гаук А. В. Мемуары. Избранные статьи. Воспоминания современников / Вступ. статья И. Л. Андроникова; сост. и общ. ред. Л. П. Гаук. М., 1975. С. 49).
663 ИЗ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ МИХАИЛА БУТКЕВИЧА
Публикация и вступительные статьи
А. И. Живовой и О. Ф. Липцына, комментарии
А. И. Живовой
К биографии Михаила Михайловича Буткевича
Михаил Михайлович Буткевич появился в нашем доме на Левом берегу осенью 1962 г. Он, как и моя мама, работал в московском Институте культуры. Мама, Зинаида Семеновна Живова, преподавала библиографию на библиотечном факультете, Михаил Михайлович — режиссуру на факультете культурно-просветительной работы. Я не знаю, кто и как познакомил маму с М. М., но скоро он стал частым гостем, тем более что жил по соседству. Знакомство растянулось на тридцать с лишним лет. Он был абсолютно одинок. «Близких родных не имеет», — прочитала я в его военном билете. В наш дом приносил он написанные от руки листы будущей книги и складывал на подоконнике — «на хранение». Когда узнал, что безнадежно болен, завещал мне свой архив, назначив меня «доверенным лицом».
Буткевич родился в Дербенте 10 декабря 1926 г. Мать его, Мария Рафаиловна Буткевич, растила сына одна. По происхождению дворянка, она учила его музыке, возила в Баку слушать оперу, в Ростов-на-Дону смотреть спектакли Завадского и в свой любимый Ленинград, где родилась и выросла. Мать научила его не брать деньги у человека, которого не уважаешь, и не соглашаться с неправдой, даже если это угрожает тебе. Михаилу Михайловичу было десять лет, когда в классе исключали из октябрят девочку, которая не донесла на отца. М. М. не стал голосовать и отказался быть командиром «звездочки». Мать сказала тогда сыну, что гордится им. Шел 1937 год.
Много позже он говорил о себе: «Безрассудный храбрец в общественно-политических делах и жалкий трус в быту». В самом деле — поход за справкой в домоуправление был для него мукой.
10 декабря 1937 г. Михаилу Михайловичу исполнилось 11 лет, а 17 декабря была арестована его мать. Жизнь переломилась. Сутки мать и сын проведут в тюрьме вместе. Утром М. М. заберут из камеры и отправят в спецколонию для детей врагов народа. Больше он никогда ее не увидит. Письмо, которое она написала сыну в камере, он выучит наизусть, а потом порвет на мелкие кусочки. В 1954 г. его вызовут в КГБ (он жил тогда в Ташкенте) и покажут справку, полученную в ответ на его запрос о судьбе родителей. Мать и отец были расстреляны в 1937 г. Сотрудники органов взяли с него подписку о неразглашении этих сведений, а потом посоветовали быстро уволиться из Ташкентского НИИ архитектуры, где он работал техником, и уехать куда-нибудь подальше. Этому совету Михаил Михайлович, конечно, последовал. За 664 полгода он сдал экстерном экзамены за среднюю школу и уехал в Москву поступать в театральный институт.
Он был книжным мальчиком. Лет с семи все, что он читал, преображалось в его воображении в картины с живыми людьми. К 12 годам, признавался М. М., он твердо знал, что хочет быть и будет режиссером.
Начало трудовой деятельности — 1942 год. Но перед этим 5 лет детской колонии. А дальше… Период с 1942-го по 1954 год можно рассматривать, несмотря на сложные внешние обстоятельства, как время глубокой внутренней работы, поисков и юношеских экспериментов. М. М., как и другие детдомовцы был выброшен в жизнь, когда ему было 16 лет. Один на всем свете, денег нет, жить негде. Он устраивается на работу руководителем драмкружка в детском доме. Живет, видимо, там же. Драмкружок в детском доме — маленький театр, где ставят настоящие спектакли.
В армии рядовой Буткевич тоже руководит самодеятельностью, только солдатской. Цитирую справку-характеристику, выданную замполитом части: «Тов. Буткевич создал сплоченный творческий коллектив одаренных солдат и был премирован грамотой, имел неоднократные благодарности».
С 1954 г. М. М. Буткевич учится в ГИТИСе на курсе Алексея Дмитриевича Попова и Марии Осиповны Кнебель. В 1960 г. ставит дипломный спектакль в Московском театре драмы (главный режиссер А. А. Гончаров) «Комедия о Фроле Скобееве» Д. В. Аверкиева.
Спектакль имел успех. Оформляла его замечательная художница Татьяна Алексеевна Маврина, которая не любила театр и поначалу чуть не выгнала Михаила Михайловича из своего дома. Но он умел убеждать и Маврину убедил. Их знакомство потом продолжалось долгие годы.
С 1960 по 1967 г. Буткевич работает старшим преподавателем театрально-режиссерской кафедры в московском Институте культуры. Там ему дали 10-метровую комнату в огромной коммуналке. В этой комнате Михаил Михайлович проживет 20 лет. Свою первую и единственную однокомнатную квартиру он получил в 1985 году, когда ему было 58 лет. В маленькой комнатушке он собирает большую библиотеку, сотни пластинок с шедеврами классической и джазовой музыки, замечательную подборку альбомов китайских и японских художников. В науке это, кажется, называется превращать быт в бытие.
В 1967 г. он уходит из Института культуры, чтобы поставить в ЦТСА два спектакля. Первый — «Элегия» П. И. Павловского. В главных ролях Андрей Попов (Тургенев) и Людмила Касаткина (Савина). Этот спектакль прошел более сотни раз, у публики пользовался огромным успехом. Но сам Михаил Михайлович его не очень любил. Он очень скоро перерос его.
В 1968 г. на малой сцене ЦТСА он поставил «Два товарища». Инсценировку повести В. Н. Войновича сделал сам. В спектакле играли знаменитая Любовь Добржанская и молодые талантливые актеры (Алексей Инжеватов, Наталья Вилькина). Он шел всего три раза, после чего был запрещен цензурой по идеологическим причинам.
Сотрудничество с ЦТСА прервалось на долгие годы.
С 1968 по 1970 г. М. М. Буткевич работает старшим преподавателем кафедры режиссуры в ГИТИСе. Он будет уходить и возвращаться туда в 1977 и 1982 гг. Причина 665 ухода каждый раз одна и та же — неприятие членами кафедры новых педагогических методов и технологий, разрабатываемых Буткевичем.
С 1970 по 1977 г. М. М. Буткевич снова в Институте культуры. Здесь он поставит два своих знаменитых спектакля: «Двенадцать стульев» по роману И. Ильфа и Е. Петрова (1972) и «Власть тьмы» (1976).
Все эти годы Михаил Михайлович надеялся, что ему удастся поставить спектакль в «настоящем» театре с настоящими артистами. Он разрабатывает постановки «Макбета», «Короля Лира» и «Трех сестер», работает над инсценировками произведений современных советских писателей. Но у него устойчивая репутация несговорчивого режиссера, как тогда говорили в «определенных кругах».
В 1973 г. он написал инсценировку романа Ф. В. Гладкова «Цемент». «Это будет современный спектакль о революции, о вечных вопросах любви, долга», — говорил Михаил Михайлович. Инсценировку он принес в ЦТСА и дал читать Л. И. Касаткиной, ведущей актрисе театра. Главная роль предназначалась ей. С ним заключили договор, и начались репетиции. На генеральный прогон пришли работники ПУРа (Политическое управление армии) во главе с начальником отдела культуры генералом Д. А. Волкогоновым. В будущем яростный обличитель советской власти, в ту пору он столь же яростно ей служил.
Спектакль был сразу же запрещен. Подробности этой истории М. М. Буткевич описал в эссе, посвященном своему близкому другу Елизавете Людвиговне Маевской, в молодости актрисе МХАТа. Эссе напечатано во II томе книги Буткевича «К игровому театру». На обсуждении «Цемента» ни один из актеров, участвовавших в постановке, не выступил в защиту режиссера. М. М. не взял гонорар, который следовало получить по договору, и окончательно расстался с мечтой о собственной постановке («Не бери деньги у того, кого ты не уважаешь»).
В 1982 г. Буткевич третий раз вернется в любимый ГИТИС. Андрей Александрович Гончаров, заведующий кафедрой, предложит ему написать новую программу обучения режиссеров. Программа, смелая, неординарная, в каком-то смысле революционная, вроде бы понравилась Гончарову и в то же время испугала. Он не решился представить ее кафедре. Сама программа пропала, в архиве Буткевича остались ее отдельные фрагменты, философские и нравственные обоснования кардинальных изменений в подготовке режиссеров.
Михаил Михайлович работал на кафедре режиссуры до 1985 г. Все это время он вынашивал идею книги, составил подробный план трех ее частей. Первые два варианта он уничтожил, как, видимо, уничтожил и некоторые личные документы, когда узнал о неизлечимой болезни. Он стремился привести свой архив в порядок, чтобы, как он говорил, «вам не пришлось разбирать этот ворох бумаг».
Последние десять лет своей жизни М. М. работал над книгой. Но надо было на что-то жить. О нем заботились сотрудники ВТО и СТД: посылали в командировки смотреть новые спектакли провинциальных театров, приглашали на семинары режиссеров, которые проходили в Москве. В мае 1990 г. А. А. Васильев предложил М. М. стать руководителем артистического семинара при «Школе драматического искусства», по словам Буткевича, «на условиях полной автономии и полной свободы по линии творчества». Семинар назывался «Десять времен года». Ради него он прервал работу над книгой, чтобы проверить в сценической практике «свои 666 завиральные педагогико-режиссерские идеи». В 1991 г. семинар был закрыт. За это время было показано шесть спектаклей-экзаменов.
Последний — «Чеховский семинар» (сентябрь 1991 г.) — был попыткой возобновления работы с артистами по театральной методике М. А. Чехова. Единственная трехнедельная сессия была посвящена творчеству Лоуренса Стерна и завершилась показом импровизационных этюдов.
Лирический трактат «К игровому театру» М. М. Буткевич завершил цитатой из Г. Сковороды: «Мир ловил меня, но не поймал».
А. И. Живова
Театральная
педагогика М. М. Буткевича:
поражение и победа
Теория игрового театра М. М. Буткевича в новых исторических, социальных и психологических обстоятельствах продолжает ту традицию театральной рефлексии, которая восходит к трактатам и манифестам Серебряного века. Книга А. Я. Таирова, которая в России вышла под нейтральным заглавием «Записки режиссера», в Германии была издана под названием, передающим суть не только трактата, но и самих художественных процессов в России первой четверти XX в. — «Раскрепощенный театр». Раскрепощению игровой природы театра служили и теории, и практики Мейерхольда, Таирова, Вахтангова и мн. др.
Михаил Чехов в лекции, прочитанной в Голливуде в начале 1950-х гг., убеждал: «И опять хочется повторить — свобода! <…> И не надо говорить: “Я принимаю Станиславского, я не принимаю Мейерхольда”. Это величайшее, досаднейшее недоразумение! <…> Это “или-или” — просто болезнь! Никакого “или-или”! Все возможно! <…> И нет никаких запретов! И не должно быть! Я твердо верю, что придет время, и это будет понято. Все актеры и режиссеры мира поймут эту замечательную истину — все возможно! Все совместимо и сочетаемо! Смелость! Свобода! Так воспитали нас Станиславский, Мейерхольд, Таиров и другие»1. Опыт художественной свободы рождался в обстоятельствах 1920-х годов, когда освобождение творческих сил искусства сопровождалось попытками набросить на него узду, подчинить идеологическим задачам. Но в последующее десятилетие театр ожидали более суровые испытания.
Ничто так трудно не находится и ничто так легко не теряется, как творческая свобода, которая напрямую не связана с политическими свободами.
Примером тому может служить постсоветский театр. Освобожденный от цензурных и прочих внешних ограничений, он не расцвел. Дело в отсутствии не столько новых художественных идей, сколько предпосылок — творческой свободы.
Теория игрового театра возникла как ответ на вызов времени и направлена именно на обретение творческой свободы, имеет своего рода терапевтический характер. Ведь механическое перенесение концепций и практик прошлого в современность проблематично уже потому, что слишком многое (от «идеологической среды» вплоть до антропологии) изменилось и требует творческого развития идей игрового театра, учитывающего реалии нового времени.
667 1
Чеховский семинар — пожалуй, последнее усилие, последняя серьезная попытка Михаила Михайловича Буткевича осуществить прорыв и создать новый театральный коллектив, новую группу актеров, воспитанных на принципах игрового театра. После этого эксперимента, который уже к концу 1992 – началу 1993 г. сошел на нет, Буткевич больше не возвращался ни к постановочной, ни к педагогической практике, а сосредоточил все свои усилия, вплоть до кончины в октябре 1995 г., на книге «К игровому театру».
Книга и оказалась главным итогом творческой деятельности выдающегося театрального педагога. Впервые опубликованная в 2003 г.2, она стала одним из самых крупных и неожиданных откровений в современной театральной мысли. Предложенная Буткевичем игровая методика не только теоретически описала и выдвинула игровую природу на ключевые позиции в формировании нового театра, но также сформулировала практическую технологию постановочной работы и подготовки актеров с помощью игрового подхода.
Безусловно, публикуемая здесь программа Чеховского семинара может рассматриваться как дополнение и пример практического применения игровой методики к воспитанию современных актеров и режиссеров, но не только. Материал уникален еще и потому, что представляет собой оригинальную методологию создания актерского ансамбля, подготовки творческой личности и коллектива в целом к прорыву в новую театральную эстетику.
В творческой биографии М. М. Буткевича было несколько опытов создания актерского ансамбля, каждый из них оставлял впечатляющий след в сердцах и умах тех, кто был к нему причастен, даже если просто наблюдал за процессом. Наиболее яркие из таких попыток — актерские ансамбли, возникшие при работе над спектаклями в Театре Советской Армии (ныне Театр Российской Армии)3, выпуск режиссеров народных театров в Институте культуры (нынешний Университет культуры) с дипломными спектаклями «Двенадцать стульев» по И. Ильфу и Е. Петрову (1972) и «Власть тьмы» Л. Н. Толстого (1976), а также последний гитисовский курс Буткевича, прославившийся экзаменом по «Королю Лиру» и дипломным спектаклем «Шесть персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло в постановке А. А. Васильева. Собственно, этот последний актерский ансамбль, воспитанный Буткевичем, и стал основой труппы знаменитого театра «Школа драматического искусства» под руководством А. А. Васильева4.
К большому сожалению, под руководством самого Михаила Михайловича ни один из перечисленных эпизодов не вышел за формат спектакля или экзаменационного показа, не перерос в опыт длительной творческой жизни нового театрального коллектива, на что в большинстве случаев вполне имел право претендовать. Судьба не была благосклонна к Буткевичу-режиссеру, так и не предоставив ему возможность самому довести свой творческий поиск нового театра до полноценного и логичного завершения. Причины тому разные, как внешние, так и внутренние, в них порой много субъективного, мимолетного, даже настроенческого, но, по большому счету, есть и общая черта.
Михаил Михайлович очень боялся жизненных искушений, боялся незаметно для самого себя утерять трезвость взгляда, поддаться собственным слабостям и 668 угодить в «сети мира». Поэтому был он так строг и несговорчив с самим собой, так требователен и щепетилен в отношениях с другими. Часто это оборачивалось неожиданными и, как могло казаться со стороны, неоправданными поступками и решениями.
Примеров тому немало. Из наиболее впечатляющих: демонстративный возврат режиссерского гонорара с требованием снять свое имя с афиши спектакля «Цемент» (1973) в театре Советской Армии в знак протеста против бесконечных цензурных переделок; неожиданный уход из ГИТИСа на пенсию в конце 1985 г., как раз тогда, когда воспитанный им курс уже был готов предъявить качественно новый художественный результат и вызвать сенсацию (что и случилось, но уже без Буткевича, под руководством нового худрука курса — Анатолия Васильева).
Не стал исключением и опыт актерской лаборатории-семинара Буткевича под названием «Десять времен года» в «Школе драматического искусства»5. Начавшийся ярким и многообещающим вступительным экзаменом6, продолженный блестящим ленинградским показом7, семинар этот пережил триумф и провал на совместной с итальянцами работе по «Чевенгуру» А. Платонова в Модене8 и впоследствии был распущен Васильевым.
Буткевичу было присуще обостренное, а по нынешним меркам даже максималистское восприятие этических и моральных норм поведения. В этом смысле он принадлежал к людям еще старых, досоветских понятий о человеческом достоинстве, о морали и порядочности. Разумеется, когда эти понятия сталкивались с поздней советской и особенно постсоветской реальностью, предугадать исход было не сложно: «Я собрал свои вещи и уехал на Левый берег. Больше мы не виделись — я поставил на нем крест»9.
Сразу после роспуска лаборатории «Десять времен года» некоторые из бывших студийцев предприняли усилие по сохранению начатого дела и обратились к мастеру с инициативой продолжить работу уже в новых организационных условиях. В результате, к осени 1992 г. под эгидой ГИТИСа, журнала «Московский наблюдатель» и при поддержке товарищества «Континент» сформировался новый семинар, получивший название Чеховский.
Всякий, кто знал Михаил Михайловича, легко представит, что он никогда бы не стал формально переносить задачи прошлого, пусть даже и прерванного проекта на новую почву. В результате появляется замысел Чеховского семинара. Вначале был написан проспект10, после чего создана программа и разработан тренинг, а осенью 1992 г. состоялась первая сессия. Как и было задумано, она прошла в стенах Дома-музея К. С. Станиславского, в работе семинара приняли участие как многие из «забракованной» лаборатории ШДИ, так и вновь набранные студийцы.
Но, как оказалось, этому начинанию не суждена была долгая жизнь. Хорошо помню одну из своих встреч с Буткевичем как раз в период подготовки второй сессии, когда и происходил распад проекта. Михаил Михайлович с какой-то преувеличенной, как мне тогда представилось, обидчивостью рассказывал о том, как долго молчат его студенты по поводу сроков и подготовки следующей сессии, не звонят и ничего ему не сообщают, с раздражением замечал, что следует выполнять то, о чем договариваешься, или хотя бы звонить и предупреждать, если что-то меняется…
669 Действительно, многое менялось тогда, в 1993 году. Стремительно изменялась страна, но в первую очередь, менялся каждый отдельный человек. Жизнь очень быстро обучала людей новым правилам отношений друг с другом. Чувство общности и взаимной любви, которое мастер растил в учениках, еще какое-то время сохранялось в пределах пространства сцены или класса, но уже не выдерживало встречи с реальной действительностью. Игровой ансамбль все больше становился игрой в ансамбль.
Вскоре, так и не собравшись вновь, Чеховский семинар прекратил свое существование. Семинаристы не нашли в себе сил и веры в возможность осуществления задуманных мастером планов в рамках столь нестабильной структуры, как самоорганизованный и самофинансируемый творческий семинар. Энтузиазм и горячее желание банально рассосались в ежедневных делах и жизненных проблемах. Знакомая ситуация для тех, кто когда-либо пытался осуществлять длительный творческий процесс, не опираясь на устойчивый организационный механизм, на, так сказать, материальную базу. Михаил Михайлович не дождался обещанных звонков и приглашений на следующую сессию.
2
Создание актерского ансамбля — одна из самых сложных и амбициозных задач в деле воспитания театральных актеров. Это под силу только выдающимся художникам-практикам театра, наделенным к тому же редчайшим талантом той действенной любви к своим ученикам, которую Михаил Александрович Чехов назвал любовью, понимаемой «как дело, поступок, действие, а не чувство»11. В искусстве создания атмосферы доверия и восхищения своими партнерами, любви и трепета перед автором, удовольствия от интенсивной работы и высочайшей требовательности к себе, Михаил Михайлович был блестящим специалистом и мастером.
Думается, это мастерство Буткевич постоянно и осознанно оттачивал, во многом ориентируясь на творческий и этический опыт Михаила Александровича Чехова, художественное родство с которым было очевидно и доходило до поразительных проникновений в саму суть чеховского метода. Не случайно же Чеховский семинар назван в честь великого русского актера, которого Буткевич считал своим кумиром, идеями которого вдохновлялся и развивал на пространстве собственной модели игрового театра.
Пожалуй, главное, что Буткевич глубоко и творчески воспринял у Чехова, это последовательно импровизационный подход к работе актера. Опираясь на чеховскую импровизацию как на один из основных способов репетирования, Буткевич делает следующий шаг и разрабатывает принципы структурирования импровизации как главного способа актерского исполнения спектакля. Таким образом, исполнительская функция в работе актера возвышается до творчески-исполнительской, набирает живую художественную силу непосредственно в процессе игры на сцене, а не только в период репетиций. Такой подход выводит современного актера на ведущие позиции в создании спектакля.
Внутренняя связь художественных методов Чехова и Буткевича прослеживается особенно ясно в приверженности принципу непрямого обращения к актерской 670 эмоции. Этот принцип непосредственно вытекает из ключевой задачи системы Станиславского — создания «жизни человеческого духа на сцене», служит водоразделом в понимании сущности актерского творчества и путей его организации. Вслед за Станиславским, Михаил Чехов тоже искал способов непрямого подхода к чувству, к актерской эмоции. Большинство его открытий и приемов направлено именно на решение этой задачи. В этом же русле движется и творческий поиск Буткевича, когда он предлагает воспользоваться игровыми механизмами для вызова подлинных эмоций на сцене. По большому счету, речь идет об адаптации вечных формул Станиславского к современной эстетической реальности, к продолжению и развитию русской театральной традиции.
Если одним из основных изобретений Михаила Чехова было использование воображения и тела актера в механизме вызова и организации актерской эмоции, то Буткевич пытается для тех же целей приспособить элементы и механизмы игры, лежащие вне пределов отдельно взятого человека, а на соотношениях и взаимодействиях актеров между собой, со зрителем, с социумом.
Несколько выше уже отмечалась близость этического подхода к творческому процессу у Буткевича и Чехова. В вопросах этики художественные явления наиболее близко соприкасаются с реальной действительностью, на них и проверяется истинность намерений и подлинность мировоззрения художника. И хотя на первый взгляд этические проблемы представляются второстепенными по отношению к узкопрофессиональным вопросам, именно к теме этики возвращаются крупнейшие художники как к определяющей в творчестве.
Чеховский подход к проблемам современного актерского искусства, его художественное мировоззрение и метод имели наиболее сильное влияние на формирование Буткевича-педагога. Сам дух чеховского творчества, система взглядов и практических приемов, открытая и прямая манера объяснять и описывать свою работу и, что очень важно, высокая этическая культура, — все это было особенно близко и внутренне органично Буткевичу.
Среди сохранившихся в архиве Буткевича материалов можно обнаружить целый ряд аккуратно перепечатанных на машинке чеховских текстов, от руки скопированных рисунков психологичского жеста (ПЖ), размышлений и комментариев по этому поводу. Совершенно очевидно, что произошедшая где-то в период гитисовской учебы встреча с методом Михаила Чехова, с его тогда еще подпольно распространявшейся книгой, произвела решительный поворот в творчестве, а возможно, и в жизни Михаил Михайловича. Поворот такой же силы, как потом производили встречи уже с Буткевичем на многих из нас, его студентов и учеников.
3
Восемь предполагаемых сессий Чеховского семинара размещены по годовому кругу и начиная с первой осенней сессии образуют два годовых цикла. Такое природное, «почвенное» распределение периодов работы по временам года, видимо, очень импонировало Михаилу Михайловичу, помогало наметить эмоциональные особенности каждой из сессий, их настроение и внутренний ритм. В этом повторяющемся 671 круговороте времени, заложенном в структуру семинара, проявляется один из принципов игрового подхода — ритуалистичность игры, «пятая игровая ситуация», как называет ее Буткевич. «Ритуал — это единственный практический способ включения отдельного человека в так называемую вечную жизнь человечества»12, — вот какие задачи ставит перед собой мастер. Таким образом, закладывается основа, на которой и строится все последующее обучение самым сложным и новым методам актерской работы, вплоть до игрового театра, — внутренняя сущностная связь с тем местом, с духом той земли, где возникает новый театр.
Пейзаж, состояние и настроение природы постоянно привлекаются Буткевичем в качестве формирования и тренажа выразительных средств актера. Перенося традиции русского реализма из литературы, музыки и живописи на театральную почву, он создает так называемый ландшафтный тренинг, помогающий актеру выразиться через пейзаж (см. План тренинга на первую сессию семинара). Как говорилось выше, предыдущий семинар в «Школе драматического искусства» носил название «Десять времен года»13 — смена природных циклов становится композиционно-образующей парадигмой в долгосрочных программах Буткевича.
Если природа и ландшафт средней полосы России являются ритмической и духовной основой работы будущего семинара, то эстетическим, технологическим корнем программы выступает метод Михаила Чехова. План каждой из восьми сессий открывается перечислением и конкретизацией тех чеховских тем и приемов, которые должны стоять в центре практической работы планируемой сессии. Таким образом, в основу работы семинара закладывается тщательное изучение чеховского метода, чеховских «способов репетирования», которые постепенно и органично перерастают уже в новые понятия и элементы, предлагаемые Буткевичем.
Потом к ним добавляется перечень «нечеховских» тем, из которых становятся более понятны идеи уже самого Буткевича, его педагогическая концепция, стратегия и тактика построения сессионной работы. На наш взгляд, именно эта часть плана содержит наиболее полную и «революционную» информацию о намерениях. Здесь во всем тактическом блеске проявляется не только широчайшая эрудиция составителя, но и его структурный, нелинейный подход к театральной технологии и педагогике.
Наконец, замыкает каждый сессионный план определение стиля сессии, ее главного автора, лозунга или основного идейного компонента, которому будет посвящена работа, а также теоретической базы, т. е., существующих теоретических разработок как в различных областях художественного творчества, так и в научных и даже технических сферах знаний.
За планом каждой сессии следует приложение с комментариями к заданиям участникам семинара для самостоятельной подготовки, список привлекаемых по каждой теме лекций, параллельных занятий со специалистами по основным видам театральных искусств, а также учеными, философами, культурологами, архитекторами, кинематографистами, скульпторами, искусствоведами, ведущими преподавателями иностранных языков, музыкального и вокального искусства, танца, эстетики и т. д., и т. п.
В приложениях ясно прослеживается сам дух работы Буткевича, на что был постоянно направлен его педагогический пафос: уходить от общих тем и понятий, 672 переводя любое знание на конкретный индивидуальный человеческий язык, а художественные идеи — на уровень личного творческого опыта студентов.
Вот, к примеру, самое, казалось бы, формальное задание для подготовки к первой сессии: «Приготовить короткое выступление на 5 – 7 минут о Михаиле Александровиче Чехове». И тут же в скобках следует разъяснение: «не биографию, не доклад, не реферат, а самые интимные впечатления от чтения его книг и рассматривания фотографий, — откровение о М. А. Чехове»14. Сразу же сухое изучение биографии превращается в живое творческое постижение сути человека и его художественных мыслей.
По замыслу автора, плану каждой сессии должен был соответствовать детально разработанный план тренинга, т. е. подробно расписанная тактика ведения практической работы с участниками, специально придуманные для освоения каждой темы упражнения, комментарии к ним.
В целом, Буткевич осторожно относился к актерскому тренингу, побаивался формализации, которая порой вносится в творческий процесс. Но специально разработанный тренинг для решения возникающих перед актерами художественных задач очень ценил и постоянно сам придумывал. Михаил Михайлович утверждал, что тренинг должен создаваться с учетом творческой индивидуальности и профессионального уровня актеров, быть не механическим и формальным, а захватывающим, парадоксальным, игровым, «в нем главное — побочный “продукт”, сопутствующий результат»15.
Неслучайно, именно План тренинга для первых двух сессий семинара занимает главную часть настоящей публикации, в нем подробным образом разрабатываются и сами упражнения, и то, на каком художественном материале их лучше применять. Выбор литературного материала для тренинга интересен сам по себе и во многом отражает не только вкусовые, но и мировоззренческие взгляды Буткевича.
Для занятий на первой же сессии выбирается один их сложнейших по композиции текстов мировой литературы — «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» Лоренса Стерна. Знаменитый роман Стерна изысканно структурирован, предлагает многослойные игровые соотношения со временем, смыслами, характерами, темами, языком, сюжетом и т. д.
На тексте Стерна, на упражнениях, импровизациях и этюдах по нему предлагается осваивать всю разнообразную палитру композиционных и других художественных приемов, разработанных в литературе, в ее лучших, наиболее сложных в композиционном отношении произведениях. С помощью предлагаемого тренинга литературные приемы осваиваются в контексте сценических художественных процессов, театральных средств выразительности.
В таком подходе определенно проявилось синергетическое понимание М. М. Буткевичем современного, нового театра, который все больше должен строиться на принципах и процессах самоорганизации, проходящих по приблизительно одним законам как в физических, так и в социальных и даже художественных системах. Потому такое пристальное внимание уделяется композиции и структуре, ведь именно изучение структуры как состояния, возникающего в результате многовариантного и неоднозначного поведения элементов системы (в нашем случае — в первую очередь актерского ансамбля), характеризует основной синергетический принцип.
673 Если в романе Стерна Михаила Михайловича могла увлекать разнообразнейшая, чуть ли не эксцентрическая композиционность, то в выборе литературного материала для второй сессии ведущую роль сыграла метафоричность, признанным мастером которой считается Юрий Олеша.
Таким образом, роман Олеши «Зависть» выбирается главным литературным материалом для работы на второй сессии, но, как очень часто у Буткевича, выбирается не только для освоения на уровне актерской игры мощнейшего художественного приема — метафоры, но и для последующего шага — отказа от метафоры в пользу метонимии.
Вслед за подробным освоением метафоричности следует целый набор упражнений на тренинг метонимических качеств актера, на понимание и овладение преимуществами метонимического тропа в театре, где практически всегда целое представлено своей частью и каким-то чудесным образом, здесь и сейчас, вдруг вскрывает всю полноту и суть представляемого явления.
Педагогический ход часто вел именно таким путем: сначала убедить в чем-то, увлечь, помочь освоить и полюбить, а потом показать обратную сторону того же явления и заставить отказаться от него в пользу чего-то другого, нового, следующего. В этом ходе мне всегда слышался какой-то элемент предательства, что ли, похожего на то, как порой ощущается действие жизни по отношению к нам. Но одновременно в этом коварном «психологическом жесте» учителя передавалась какая-то почти неуловимая истина, диалектика, в которой и заключалась главная суть. Суть эта была неприятна для восприятия, жестка и несправедлива по отношению к воспринимающему, но у нее было главное качество — нравилось это или нет, она была безоговорочно правдива.
Как и каким неожиданным образом мог бы развиваться тренинг Буткевича в последующих сессиях, остается только догадываться по выбору литературного материала и тем для работы. Сама траектория литературных произведений и авторов, которую несложно выделить из планов каждой сессии, уже дает представление о художественной и тематической планке, задаваемой семинаром. Так, за Стерном и Олешей следует Варлам Шаламов, потом — чеховская (Антона Павловича) традиция в современной мировой литературе на произведениях Шукшина, Вампилова, Белля и Шервуда Андерсона, на следующей, пятой сессии — японцы Сайкаку, Тикамацу, Акутагава, затем планировалось работать над Шекспиром, Элиотом и Йейтсом, седьмая сессия — Достоевский, Гоголь, Жарри и в заключительной сессии, когда предполагалось сочинять саморазворачивающийся спектакль, главным материалом становится архитектура, а из литературных текстов — «Слово о полку Игореве».
Как уже было замечено, основным элементом, на который направлен пафос тренинговой работы для подготовки актеров нового, или «иного», как называет его Буткевич, театра, становится композиция. Обычно вопросы композиции относятся к области режиссуры, но в Чеховском семинаре изучение и освоение композиционного мышления переносится на область актерского творчества. В этом проявляется одна из главных тенденций «иного» театра Буткевича — устремленность к художественной полноте актерского процесса, к формированию саморежиссирующего актера. При таком переносе акцентов привычку композиционно мыслить 674 и действовать необходимо заложить в подсознание актера, поскольку она должна проявляться мгновенно в процессе импровизационного существования на сцене.
В создании тренинга по освоению композиции Буткевич опирается на одного из крупнейших специалистов в области динамики композиции — Сергея Михайловича Эйзенштейна. Если изучение и развитие чеховских приемов главным образом направлено на внутреннюю актерскую технику, то вопросы композиции больше отвечают за внешнюю сторону художественного высказывания. И тот, и другой аспекты творчески воспринимаются Буткевичем, обрабатываются и преобразуются в новую технологию подготовки актеров. Новому актеру у Буткевича, как и кинорежиссеру у Эйзенштейна, предлагается с особым вниманием сконцентрироваться «не только на композиционной (как раньше), но и на композиторской деятельности»16. Таким образом, два крупнейших художника театра и кино — Михаил Чехов и Сергей Эйзенштейн, взаимодополняя друг друга, продолжают участвовать в воспитании современного артиста-творца XXI века, в формировании новейших театральных тенденций.
В рамках Чеховского семинара предполагалось изучение не только возможных типов композиции, но и связей между структурами изображаемых явлений и композициями сценических высказываний о них. Здесь осваиваются парадоксальные, контрапунктные и полифонические принципы формирования композиций, вырабатываются свои собственные термины и мини-тропы. И что особенно важно, весь композиционный тренинг переводится в импровизационную среду, переносится на уровень ансамблевой импровизации: «Тренинг по Чехову — это спонтанность, озорная “безответственность”, полная непредсказуемость для других и для себя»17.
Как обычно у Буткевича, подготовительный материал значительно шире, чем сама тема, он включает в себя порой и наброски на будущее, и случайные мысли для последующих разработок, различные выписки и цитаты. Нельзя не учитывать, что публикуемый материал не был завершен, да и не предназначался для печати. Это кухня педагога-творца, тем она и наиболее интересна.
В Плане тренинга читатель обнаружит множество новых, неожиданных, а порой и достаточно очевидных идей, которые, тем не менее, до сих пор не ставились в контекст профессиональной подготовки актера. Думается, что многие из этих мыслей смогут вдохновить и пробудить творческое воображение профессионалов, занимающихся театром и театральной педагогикой. Чего стоят хотя бы концепция тренинга со зрителями, перенесение элементов танца на композиционный тренинг актера, принципов архитектуры — на структурирование актерской импровизации, живописи — на сценическое движение и мн. др.
К сожалению, в архиве сохранились записи планов тренинга лишь к первым двум сессиям семинара. Скорее всего, для остальных сессий тренинг просто еще не был сочинен и записан, поскольку, как мы уже знаем, Чеховский семинар довольно быстро прекратил свое существование. Тем не менее, даже первых разработок достаточно, чтобы представить себе масштаб охватываемого и привлекаемого к работе материала, оценить творческий и педагогический подход, само художественное намерение мастера при создании семинара.
Многое можно будет почерпнуть нынешним и будущим практикам и педагогам театра из сохранившихся и публикуемых здесь подготовительных текстов к 675 Чеховскому семинару. Но, разумеется, если кому-то захочется попробовать воспользоваться этими материалами для осуществления собственных профессиональных задач, отсутствующих разработок будет очень не хватать.
4
По аналогии с изобретенными Михаилом Чеховым новыми способами репетирования роли и спектакля, Буткевич тоже создает новый способ работы над пьесой, а кроме того, и новый алгоритм обучения актерскому искусству. Этот алгоритм современен, свеж, значительно более эффективен и экономичен, чем традиционные образовательные программы. При этом нужно учитывать, что семинар был рассчитан в основном на профессиональных актеров и режиссеров, имеющих достаточный опыт работы в театре.
Это важно понимать тем, кто захочет применить идеи Буткевича на практике. Идеи эти наиболее продуктивны тогда, когда уже освоен базовый уровень знаний системы Станиславского и его последователей, особенно в области метода действенного анализа и этюдного метода. Следующий за этим опыт практической работы может привести тонкую и художественно одаренную натуру актера к определенной творческой неудовлетворенности и, как результат, к поиску новых путей развития. Вот тут и самое место идеям, заложенным в программе Чеховского семинара. В рамках университетского театрального образования это больше соответствует уровню магистратуры.
Программа семинара также вносит существенную ясность в созданную Буткевичем теорию игрового театра. Тот решительный акцент в актерском творчестве, который переносится с анализа событий пьесы на «hic et nunc», на «здесь и сейчас» существования актера на сцене, очень определенно вписывает всю игровую методику в общую систему координат театральной работы.
Особенно хочется отметить, что благодаря методологическим разработкам Чеховского семинара становятся более очевидными структурирующие возможности, которые открывает игровой подход. Механизм игры позволяет не только по-новому, в современных формах и ритмах организовать существование актера в роли, но и кардинально обновить способ формирования общей композиции спектакля, предоставляет актерам и режиссерам новые степени творческой свободы, позволяет ставить и решать художественные задачи более сложного порядка.
Используя механизм игры, Буткевич обнаруживает возможность передать важнейшие функции организации общей композиции спектакля от режиссера к актеру. Не все, конечно, но те, которые способствуют переносу в «здесь и сейчас» самого процесса формирования-сочинения театрального высказывания. Таким образом, игра становится опорой нового художественного мышления, позволяет отойти от нарративного подхода к нелинейному театральному сочинению, открывает дверь в современное понимание природы явлений и ход к применению этого понимания.
Ни в коей мере не отменяя тщательный действенно-событийный и тематический анализ, предлагается сосредоточиться еще и на проблемах структурирования импровизационного поведения на сцене в значительно более широком спектре, 676 чем это предполагает этюдный метод. Если в этюде актера предоставляется свобода импровизационно-интуитивного поведения внутри предложенной ситуации, то в игровой модели Буткевича само это поведение структурируется, детально изучается и осваивается, выводится на уровень ансамблевого творчества.
Делается это не просто так, а для подготовки нового типа театрального спектакля — произведения, которое может и должно создаваться самими актерами непосредственно в присутствии и во взаимодействии со зрителями. Это задача колоссальной сложности, но и невероятной притягательной силы! Разумеется, Михаил Михайлович понимал чуть ли не утопический масштаб подобного замысла, но, видимо, настолько верил в творческие возможности человека и, что еще важнее, сплоченного актерского ансамбля, что ставил на эту карту не только остававшееся ему совсем небольшое время жизни, но и то будущее, которое должно наступить уже после него.
О. Ф. Липцын
Сокращения, которыми пользовался М. М. Буткевич:
АДП — Алексей Дмитриевич Попов
АПЧ — Антон Павлович Чехов
КСС — Константин Сергеевич Станиславский
МАЧ — Михаил Александрович Чехов
МБ — Михаил Михайлович Буткевич
Модель ДС — модель драматической сцены
Модель СДС — модель современной драматической сцены
Память ФД — память физических действий — один из элементов системы Станиславского
ПЖ — психологический жест, одно из центральных понятий в учении о технике актера М. А. Чехова
677 Михаил Буткевич
НАБРОСОК УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕХОВСКОГО СЕМИНАРА
(восемь
сессий с приложениями и подробным планом тренинга для первых двух сессий)
1. Первая октябрьская сессия под названием «Осенние причуды».
Чеховские темы сессии.
— Главная тема — тело актера как материал и инструмент его творчества (под словом «тело» здесь имеется в виду мое тело, голос, душа и они воспринимаются на данном этапе как предметы, находящиеся вне меня: я играю на них, я играю ими как субъект творчества, как художник).
— Побочные темы — «репетировать в воображении» (внимание к рождающимся образам); воображение и внимание; власть над образами; «активно ждать»; предварительное ощущение целого; предощущение целого как секрет импровизации.
— Методическая задача: четыре качества — легкость.
— Параллельная работа на тему «четыре этапа творчества актера».
— Первый этап: первые впечатления, предвкушение и ожидания.
Все это на материале А. П. Чехова (образы из рассказов, повестей и больших пьес); чтение по первому разу и коллективное восприятие (без проб). Актерский анализ.
— Чеховский (Мих. Александр.) сериал «Три сознания»18. Серия первая — акцент на материале творчества. Плюс прелюдии к изучению трех сознаний.
Нечеховские (общие) темы сессии.
— Актер и композиция. Композиция, рождаемая изнутри. Метатеатр актера: актер как комментатор своей работы, как «разоблачитель» своих секретов, как человек, требующий сочувствия, как мастер, продающий свое изделие, актер как игрок. Внутренняя жизнь актера в адрес импровизируемого опуса.
— Пародийность в творчестве актера и подробности душевного мира.
Остранение у автора и актера. Квантование сценического действия и связанное с этим замедление процессов. Актерские мистификации.
— Неразрывность лирики и юмора.
В начале занятия — «Лекция» обо всем, что будет делаться первые четыре сезона.
Стиль сессии — сентиментализм.
Автор сессии — Лоренс Стерн.
Лозунг сессии — материал как переживание.
Теоретическая база сессии — теория театра и теория литературы.
Приложение к первой сессии.
1. Задание участникам семинара.
а) Прочесть всего Л. Стерна и о нем, что сможете.
б) Прочесть все большие пьесы А. П. Чехова и по выбору несколько любимых рассказов и повестей; выучить наизусть 10 строчек чеховского текста — самых понравившихся и полюбившихся.
678 в) Приготовить короткое выступление на 5 – 7 минут о Михаиле Александровиче Чехове (не биографию, не доклад, не реферат, а самые интимные впечатления от чтения его книг и рассматривания фотографий) — откровение о М. А. Чехове.
г) Послушать, сколько сумеете, музыку Перселла и Бриттена.
д) Посмотреть хорошие репродукции Хогарта, Рейнольдса и Гейнсборо.
е) Выучить один абзац стерновского текста на английском языке.
2. Ученые и педагоги, привлекаемые для работы на семинаре.
а) Большая лекция на тему «Феномен Лоренса Стерна в европейской и русской литературе» — крупный специалист — 4 часа (2 лекции по 2 часа).
б) Малая лекция на тему «Дэвид Гаррик и театр его времени» — крупный театровед, специалист по английскому театру — 2 часа.
в) Большая лекция с музыкальными иллюстрациями — 4 часа (2 лекции по 2 часа) — «Музыкальный мир Г. Перселла».
г) Малая лекция по эстетике «Что такое остранение в искусстве?» — 2 часа.
д) Комплексное («симультанное») изучение четырех европейских языков (английского, французского, немецкого и итальянского — четыре специалиста по разным языкам или один педагог-полиглот) — 30 часов в сессию (по 2 часа ежедневно).
е) Занятия по танцу (общий тренинг и, особо, бальные танцы XVIII века) — 12 часов (по 1 часу в день — лучше с самого утра).
ж) Просмотр фильма Т. Ричардсона «Том Джонс».
з) Три большие лекции по философии (Локк, Беркли, Юм) — 9 часов.
2. Первая зимняя сессия: «Снежинки на ресницах».
Чеховские темы сессии.
— Главная тема — тело персонажа («воображаемое тело», «тело как фантазия») в качестве модели актерского творчества — «я» и «он». Последняя оппозиция выражает очень важное положение М. А. Чехова, утверждающее объективность образов, воображаемых актером: «образы, фантазии живут самостоятельной жизнью».
Технология вопрошания образов.
— Побочные темы — репетировать в воображении (воображаемые спектакли накопленных актерами образов); воображение и чувство; воображение и ритм; воображение и импровизация; М. А. Чехов об ощущениях и работа актера на уровне ощущений; два вида воображаемых картин — «как кусок жизни» и «как будущий спектакль».
— Методическая задача: четыре качества — форма.
— Параллельная работа над А. П. Чеховым — второй этап: допросы образов, уточнение и уяснение видений; коллективные обмены опытом общения с образами великого писателя; коллективные просмотры воображаемых картин чеховского мира и объединение их в общую структуру — «лото» образов. Выработка правил чеховской игры.
— Чеховский (Мих. Ал-др.) сериал «Три сознания», акцент на обыденном «я». Серия вторая — «Обыденное сознание следит за формой».
679 Общие темы сессии.
Актер и ритм. Два источника ритмических структур на сцене: внутренний генератор ритма — воображаемые чувства актера, с одной стороны, и «предлагаемые обстоятельства» как порождающая модель ритма, с другой. Рождение танца в душе актера. Танцующая душа и танцующее тело. Танцевальные импровизации. Структура танца и структура импровизации. Танец и психологический театр. Все пять вышеперечисленных проблем объединяются в большой теме: балет драматического актера. Специфика и особенности танцевальной образности. Цепочки образов (как раньше цепочки действий). Ритмическая акцентуация цепочек.
Стиль сессии: социалистический сентиментализм.
Автор сессии: Юрий Олеша.
Лозунг сессии: материал как ощущение.
Теоретическая база сессии: теория танца.
Приложение ко второй сессии
1. Задание участникам семинара.
а) Прочесть всего Олешу Ю. К. — роман, повесть, пьесы, сценарии, статьи, рецензии, эссе и записи «Ни дня без строчки».
б) Прочесть статьи и книги Ю. Белинкова об Олеше.
в) Заново перечесть произведения А. П. Чехова, прочитанные в предыдущей сессии.
г) Приготовить короткое выступление с актерскими иллюстрациями на тему «Я и образность Юрия Олеши».
д) Приготовить ритмическую (стуко-шумовую) композицию на тему «Ритмы Олеши». Демонстрировать на сессии.
е) Нарисовать цветную композицию «Колорит Олеши».
ж) Разучить дома и исполнить на сессии одну из массовых песен 20 – 30-х годов.
2. Ученые и педагоги, привлекаемые для работы на семинаре.
а) Большая лекция «Творчество Юрия Олеши» — 6 часов (2 лекции по 2 часа и 2 часа семинара).
б) Малая лекция на тему «Олеша и МХАТ» — 2 часа (театровед).
в) Большая лекция с музыкальными иллюстрациями «Музыкальная среда, окружавшая первый роман Олеши (“Зависть”) во время его появления на свет» — 4 часа (2 лекции по 2 часа).
г) Малая лекция по эстетике «Что такое образ в искусстве» — 2 часа.
д) Параллельное продолжение занятий по комплексному изучению европейских языков — 30 часов в сессию (по 2 часа в день).
е) Занятия по танцу (общий тренинг и, особо, современный бальный банец) — 12 часов.
ж) Короткий курс занятий с хорошим ритмистом, если таковые еще сохранились, — 6 часов (по 1 часу в день). Три большие лекции по философии (Флоренский, Богданов, Бердяев) — 9 часов (3 лекции по 2 – 3 часа).
680 3. Первая весенняя сессия: «Воскрешение лиственницы».
Чеховские темы сессии.
— Главная тема — атмосфера (второй способ репетирования). Атмосфера в повседневной жизни; атмосфера и игра; атмосфера связывает актера со зрителем; объективные атмосфера и субъективные чувства; атмосфера и содержание спектакля; атмосфера как источник творческой активности артиста; миссия атмосферы; атмосфера как «невидимый режиссер».
— Побочные темы — спектакль как живое существо; интуиция актера; чувство правды как путь к созданию атмосферы; этика и атмосфера.
— Методическая задача: четыре качества — целостность (завершенность, полнота).
— Параллельная работа на материале А. П. Чехова — третий этап: «одевание»; влезание в шкуру чеховских персонажей, увиденных в воображении во время двух предыдущих сессий; «показы мод» (демонстрация своего нового наряда, чеховского персонажа); первые попытки общения в новых «костюмах» и последующая корректура этих костюмов.
— Чеховский (Мих. Ал-др.) сериал «Три сознания» (акцент на высшем «я»). Серия третья — «Над собой и своим опусом».
Общие темы сессии.
Актерское мастерство как музыка. Музыкальность как структурный принцип актерских импровизаций и актерского творчества в целом. Унисон. Контрапункт. Вариации. Сонатные аллегро. Гармония и диссонанс. Концепция аккорда. Лейтмотивность. Инструментовка и тембры. Джаз как модель актерского творческого акта. Музыкальные параметры сценической атмосферы. Возвышенное и низменное в творчестве современного актера: современная героика, современный благородный стиль, пафос на сегодняшней сцене, необходимость заземления высоких слов и высоких поступков, поиск подвижничества и высшего смысла в примитивных кошмарах бытового конфликта.
Стиль сессии (по контрасту с предшествующей сессией) — романтизм.
Авторы сессии — Варлам Шаламов, Солженицын.
Лозунг сессии — отрыв от материально-телесного — к духовности.
Теоретическая база сессии — теория музыки.
Приложение к третьей сессии
1. Задание участникам семинара.
а) Перечесть всего Варлама Шаламова (стихи и прозу) и «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына.
б) Просмотреть картины или репродукции с картин покойного П. Белова, — внимательно и проникновенно.
в) Прочесть Новый Завет, выбрать один-два стиха, которые произведут на вас наибольшее впечатление, и выучить их на церковнославянском и русском языках.
г) Прочесть книгу Н. Я. Берковского «Романтизм в Германии».
д) Сделать трагическую маску древнегреческого театра, шматий19 и котурны. Примерить на себя и научиться их носить.
681 е) Прочесть книгу О. М. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра» 1936 года, не смущаясь сложностью этого научного труда.
2. Ученые и педагоги, привлекаемые для работы на семинаре.
а) Большая лекция крупного ученого «Романтизм как большой стиль в литературе, искусстве и театре» — 4 часа (2 лекции).
б) Цикл лекций по элементарной теории музыки «Музыкальная форма» — 10 часов (по 2 часа в день).
в) Большая лекция крупного ученого «Древнегреческие трагики — Эсхил, Софокл, Еврипид — и течение трагического спектакля» — 6 часов (2 лекции по 2 часа и семинар 2 часа).
г) Продолжение комплексного освоения европейских языков — 30 часов.
д) Встреча с народным артистом Жженовым (воспоминания артиста о лагерной жизни и лагерном театре) — 2 – 3 часа.
е) Встреча с Бакатиным (свежий взгляд на ГБ честного человека)20 — 2 – 3 часа.
ж) Просмотр фильмов Дрейера «Страсти Жанны д’ Арк» и «День гнева».
з) Три большие лекции по философии (Кант, Фихте, Шеллинг) — 9 часов.
4. Первая летняя сессия: «Летние купания».
Чеховские темы сессии
— Главная тема — индивидуальные чувства и действия с определенной окраской (третий способ репетирования). Нюансы «окрасок». Случайный разброс, жеребьевочный выбор «окрасок» как надежный путь к свежему непосредственному переживанию. Современный эффект окрасок, лишенный иллюстративности и тавтологичности. Психофизическая природа действий с окраской, взаимосвязь тела и духа.
— Побочные темы: наивность и легковерие актера на сложнейшем современном психологическом уровне; фантазия актера и иносказание; «отказываться от первых созданных вами образов» — создать образ, отбросить его и начать сначала.
— Методические задачи: четыре качества — красота (прямо и по парадоксу: искать красоту в обыденности, в уродствах натурализма — настоящая грязь, настоящая вода, еда и беда); красота дождя, бабьего лета с осенней листвой, шуршащей под ногами, утренних туманов, летящей паутины, грибных запахов осени, великого молчания природы.
— чеховский (А. П.) мир в полную силу (завершение работ трех сессий) в изучении четвертого этапа актерской работы над образом; слияние с образом — этап вдохновения и чуда.
— чеховский (М. А.) сериал «Три сознания» с акцентом на «я» персонажа. Серия четвертая — «Мир чудаков» (А. П. Чехов и его последователи: Ю. Казаков, В. М. Шукшин, Вампилов, Трифонов, Грекова, Шервуд Андерсон, Генрих Белль). Основа всех актерских импровизаций — поэтика странности.
Общие темы сессии.
Актерский пуантилизм (отдельные чувства, разложенные на мелкие и мельчайшие ощущения, отдельные слова, междометия, отдельные буквы и звуки, 682 движения пальцев, век, уголков губ и глаз и т. д., и т. п. — от целых «ноток» к половинкам, затем к четвертям, восьмушкам, шестнадцатым и до тридцать вторых — без этого нет виртуозности). Здесь — микромир актерского анализа. И соответствующая форма — освоение опыта кино: приемы монтажа, крупные планы, ракурсы, панорамирование, глубина кадра, световой и звуковой объем.
Стилистический поиск сессии — поэзия натуральности.
Автор сессии — Антон Павлович Чехов.
Лозунг сессии — соединение тела и духа.
Теоретическая база сессии — теория кино.
Приложение к четвертой сессии.
1. Задание участникам семинара.
а) Прочитать как следует прекрасных и тонких писателей: Юрия Казакова, Василия Шукшина, Александра Вампилова, Юрия Трифонова, Виктора Конецкого, Ирину Грекову, а также близкого им немца Генриха Белля и выдающегося «американского Чехова» Шервуда Андерсона; сравнить их с общим для них учителем Антоном Павловичем Чеховым, выбрать у каждого из перечисленных писателей любимый образ, любимый отрывок, любимый лейтмотив, выделить самого милого и самого странного чудака из толпы писательских героев, примерить его на себя, как нелепый, но любопытный костюм. Сдать в первый день сессии список прочитанного.
б) Перечитать записные книжки и письма обоих Чеховых (дяди и племянника). Выписать понравившиеся остроты, анекдоты, обороты речи, — вообще блестки чеховского юмора. Составить каждому один диалог из выбранного.
в) Прочесть книгу Д. Данина «Неизбежность странного мира».
г) Прочесть книгу О. М. Фрейденберг «Миф и театр» (издание ГИТИС, 1988 г.)
2. Ученые и педагоги, привлекаемые для работы на семинаре.
а) Большая обзорная лекция крупного киноведа или кинорежиссера на тему «Теория кино. Выразительные средства в кино» — 6 часов (3 лекции по 2 часа).
б) Большая лекция крупного ученого «Античная комедия. Дионисии, элевзинские мистерии, коммос21» — 6 часов (3 лекции по 2 часа).
в) Лекция по эстетике «Натурализм в искусстве» — 2 часа.
г) Продолжение комплексного изучения четырех европейских языков — 30 часов.
д) Занятия по танцу: общий тренинг и, особо, салонный танец на рубеже XIX и XX веков. Дополнительно: пластические особенности хореографического языка первой четверти XX века (Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Михаил Фокин, Голейзовский) — 16 часов (12+4).
е) Просмотр фильма «Механическое пианино» Н. Михалкова и встреча с самим режиссером (дубль лекции о теории кино — разговор о теории кино с практиком: экранизация А. П. Чехова).
ж) Три большие лекции по философии (Шопенгауэр, Бокль, Спенсер) — 9 часов.
(Конец первого года.)
683 5. Вторая осенняя сессия: «Ваби-саби22 и русский разгул».
Чеховские темы сессии.
— Главная тема — психологический жест (четвертый способ репетирования); жест и слово; жест и образ; бытовой и условный жест; жест и чувство (движение как переживание, внешнее как выражение внутреннего и внутреннее как неотторжимая причина внешнего — перевернутая М. А. Чеховым формула Станиславского: от психологического к физическому, изнутри — наружу). ПЖ и рисунки ПЖ.
— Побочные темы — пять руководящих принципов, уясняющих смысл, назначение и способы выполнения всех предлагаемых упражнений; ПЖ и Н. В. Гоголь; первый прессинг-повтор учения М. А. Чехова тоже на литературном материале Гоголя — четыре этапа: ожидание, вопрошание, «одевание» и слияние; сценическое пространство и сценическое время (М. А. Чехов и Н. В. Гоголь).
Общие темы сессии.
— Связаны с жестом, пониманием со всей возможной полнотой: как пластическая выразительность, как волевой импульс, как движение-действие и как мизансцена. Наиболее подходящим материалом для этого является практика восточного театра, китайского, персидского, индийского и, главным образом, японского. Уроки Японии: икэбана и канон японского сухого сада — актерский тренинг в сфере композиции; сочинение танка и хокку — школа краткости и полноты выражения себя; «тя-но-ю» (чайная церемония);
— Освоение этикета общения актеров между собой и со зрителями; состояние «сатори» и «белый дракон» как исходные элементы творческого процесса23; экзерсисы в стиле театра Но: зеленая комната, одевание и переодевание артистов, работа в маске, работа в оркестре и хоре, комментарий гидаю24, ритмические триады «медленно — быстро — еще медленнее» или «быстро — медленнее — еще быстрее» и т. п. Овладение стилистикой и духовными богатствами театра Кабуки: представление публике и приветствие ею любимых артистов, игра на ханамити25, основные «обязательные сцены» (мисэба26, нурэба27, коросиба28 и митиюки29), позы миэ30, работа курого31. Создание кабукианского спектакля на материале японской классической литературы.
Первая попытка создания самоорганизующегося и самонастраивающегося спектакля — развертывание и реализация описания театральной игры в «Записках из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского.
Особенность сессии — делегирование части режиссерских полномочий актерам.
Стилистический поиск — экспрессионизм.
Авторы сессии: Сайкаку, Тикамацу, Акутагава.
Лозунг сессии: выразительность.
Теоретическая база сессии: теория театральной игры.
Приложение к пятой сессии (второй год)
1. Задание участникам семинара.
а) Прочесть все, что сможете достать, о японском театре (Но, Кабуки, Кёгэн32, Бунраку33), о японском искусстве и о японской литературе.
684 б) прочесть все, что сможете достать, из японской художественной литературы (классическая драма, классическая поэзия и классическая проза).
в) Изготовить по репродукциям маску театра Но, сшить красивое кимоно и красивый веер. Или достать настоящее японское кимоно, веер и зонтик.
г) Изучить эстетику и технологию японского грима (кумадори34) и в первые дни сессии наложить на себя один из видов этого грима.
2. Ученые и педагоги, привлекаемые для работы на семинаре.
а) Четыре больших лекции (по 3 часа каждая) четырех наших крупных специалистов по японской культуре: эстетика Японии, театр Японии, литература Японии, изобразительное искусство Японии — всего 12 часов.
б) Серия практических занятий с изложением теоретических основ, посвященных музыкальному и вокальному искусству Японии (желательно японский специалист) — 10 часов (по 2 часа в день).
в) Серия практических занятий с изложением теоретических основ, посвященных танцам Японии (желательно японский специалист) — 10 часов (по 2 часа в день).
г) Серия практических занятий с изложением теоретических основ, посвященных чайной церемонии, искусству составления букетов, бытовой эстетике и этикету Японии (желательно японский специалист) — 10 часов (по 2 часа в день).
д) Малая лекция по эстетике: «Восток и Запад» — 2 часа.
е) Просмотры кинофильмов Мидзогути и Куросавы (с комментариями хорошего лектора).
ж) Знакомство с японским языком (фонетика и элементарный разговор) — 10 часов.
з) Три большие лекции по философии (Лао-цзы, шестой патриарх Хой-нэн, философия книги Чжуан-цзы) — 9 часов.
6. Вторая зимняя сессия: «Мистические маски метели».
Чеховские темы сессии.
— Главная тема — пятый способ репетирования: воплощение образа и характерность. Внешняя и внутренняя характерность (первое как символ, второе — как символизируемое). Многоплановость актерского бытия в образе. Воображаемый центр. Маска — путь к самовыражению.
— Побочные темы: четыре простых и довольно занятных способа создания сценического характера; две тенденции — усложнить роль и примитизировать, делать ее однозначной, и как средство против последнего — игра в «три измерения». «Излучения» и «поля» актера. Телепатическое воздействие, идущее от актера к зрителю (и обратно) в качестве параллельного канала передачи информации.
— Второй прессинг-повтор чеховского учения на материале Н. В. Гоголя: четыре качества (легкость Гоголя, форма Гоголя, целостность Гоголя и гоголевская красота).
Общие темы сессии.
«Маска в творчестве актера» и «символика и магия маски». История маски. Теория маски. Практика маски: изготовление масок, рассматривание маски, изготовленной другим артистом, действия в разных масках. Маска и костюм. Маска материальная и маска воображаемая. Концепция русской народно-праздничной 685 маски и русское ряжение. Концепция маски Шарля Дюллена. Маска у Брехта. У. Б. Йейтс о маске (теория и «Четыре пьесы для танцовщиков»). Тема маски у Александра Блока. Принцип «маски» в творчестве М. А. Чехова (Кобус, Калеб, Фрэзер, Мальволио, Эрик, Хлестаков, Гамлет, Аблеухов, Муромский, Дон Кихот).
Игра актера воображаемыми масками: вереница масок на лице актера-мастера. Символика на сцене и символика сцены. Символизм как театральный стиль: сейчас такого понятия нет — тут будут специальные исследования и пробы участников семинара. Этюды и импровизации на темы картин Пюви де Шаванна, Бёклина, Ходлера, Петрова-Водкина, Борисова-Мусатова, Чюрлениса (последний включается в работу вместе с его музыкой). Этюды и импровизации на музыку Дебюсси, Рихарда Штрауса, Скрябина, Ребикова и Черепнина. Символический спектакль «Убийство в соборе» Т. С. Элиота.
Стилистический поиск сессии — символизм.
Авторы сессии — Шекспир, Йейтс, Элиот.
Лозунг сессии — выражение себя напрямую, без внешнего, — телепатически.
Теоретическая база сессии — теория живописи.
Приложение к шестой сессии
1. Задание участникам семинара:
а) Достать и прочесть «Убийство в соборе» Т. С. Элиота, в переводе И. Бродского.
б) Перечесть книгу П. Брука «Пустое пространство» и законспектировать главу «Священный театр» из этой книги.
в) Перечесть книгу М. А. Чехова «Путь актера» и работу Б. В. Алперса «Творческий путь МХАТ Второго».
г) Хорошо полистать репродукции художников-символистов.
д) Хорошо послушать музыку композиторов-символистов.
е) Прочесть книги В. Э. Мейерхольда «О театре», Т. И. Бачелис «Шекспир и Крэг», воспоминания В. Веригиной, А. Дейча, В. Бебутова, А. Смирновой, А. Грипича (все в сборнике «Встречи с Мейерхольдом») и реконструировать для себя манеру игры в символическом спектакле. В первый день сессии продемонстрировать семинару практические результаты своей реконструкции.
2. Ученые и педагоги, привлекаемые для работы на семинаре:
а) Большая лекция крупного литературоведа на тему «Блок и русский символизм» — 4 часа (2 лекции по 2 часа).
б) Большая лекция крупного театроведа на тему «Символизм и театр» — 4 часа (2 лекции по 2 часа).
в) Малая лекция по эстетике «Символ в искусстве» — 2 часа.
г) Малая лекция крупного ученого на тему «Явление Чюрлениса: краски и звуки» — 2 часа.
д) Встреча с Васильевым и Максимовой «Разговор о Касьяне Голейзовском». Объяснения и пробы (конечно, на уровне драматического актера) — 3 – 4 встречи — 6 – 8 часов (сколько смогут и захотят).
е) Возобновление комплексных занятий по изучению четырех европейских языков с упором на английский (на материале пьесы Элиота) — 24 часа.
ж) Три большие лекции по философии (Шпенглер, Бергсон, Швейцер) — 9 часов.
686 7. Вторая весенняя сессия под названием «Нелепости ранней весны».
Чеховская тема сессии — главная и единственная — Импровизация (шестой способ репетирования).
«Усвоить психологию импровизирующего актера — значит найти себя как художника»35 (М. А. Чехов).
«Все, что в игре актера принимает застывшую, неподвижную форму, уводит его от самой сущности его профессии — импровизации.
Импровизирующий актер пользуется темой, текстом, характером действующего лица, данными ему автором, как предлогом для свободного проявления своей творческой индивидуальности»36 (М. А. Чехов).
Поэтому мы возьмем для работы самый свободный от смысловой нагрузки, самый «бессмысленный» материал — пьесы театра абсурда — и будем интерпретировать их, как нам захочется, ибо емкость этого драматургического текста сколь угодно велика, может быть — беспредельна. Так же, как и мощь импровизации, способной наделить смыслом любое количество идиотского, даже кретинического словесного материала. Сделаем десятки, сотни, может быть даже тысячи актерских проб на каждую пару реплик, на каждую сценку и на пьесу в целом, пока сами не поймем и не сделаем понятным для зрителя духовный мир этих бесчеловечных пьес. И ни разу не повторимся, ибо, как сказал М. А. Чехов, «импровизирующий актер чувствует себя гораздо независимее. Сколько бы раз он ни исполнял одну и ту же роль, он всегда находит новые нюансы для своей игры в каждый момент своего пребывания на сцене»37.
А потом, устав от бессмыслицы и бесцельности нашей жизни и наших пьес, возьмем нереализованный замысел Ф. М. Достоевского, полный глубочайшего значения, и развернем его, превратим в спектакль, полный благородства и самоотречения. Пусть он потрясет своим откровением и нас самих и наших гостей.
— развитие темы: Н. В. Гоголь и М. А. Чехов: третий прессинг: три сознания — «я» и Гоголь; абсурды Николая Васильевича; живое актерское исследование — народные корни Гоголя; скоморошество и юродство великого писателя, и отсюда — к Достоевскому («мы все вышли из “Шинели”»).
Стилистика сессии: абсурдизм.
Авторы сессии: Альфред Жарри («Король Убю»), Гийом Аполлинер («Груди Тирезия»), Ф. М. Достоевский и Н. В. Гоголь.
Лозунг сессии: освобождение актера от кандалов рассудка.
Теоретическая база сессии: теория скульптуры.
Приложение к седьмой сессии
1. Задание участникам семинара:
а) Прочесть «Улисса» Джеймса Джойса.
б) Перечитать драматургию абсурдистов.
в) Прочесть, сколько хватит терпения, записные книжки и черновики с замыслами Ф. М. Достоевского.
г) Полистать репродукции Малевича, Кандинского, Мондриана, Модильяни, Брака, Шагала, Дали, Дельво, Эрнста, Клее, Леже, Магритта, Миро, Генри 687 Мура, Пикассо (после кубизма), Босха, Брейгеля (старшего), Энсора, Кирико, Карра, Гросса, Барлаха, Сола Стейнберга и альбом одесского художника Ладыженского.
д) Прочесть и пережить книгу М. М. Бахтина о Рабле.
2. Ученые и педагоги, привлекаемые для работы на семинаре:
а) Большая лекция крупного театроведа «Театр и драматургия абсурда» — 6 часов (3 лекции по 2 часа).
б) Большая лекция крупного философа «Киники и Диоген» — 4 часа (2 лекции по 2 часа).
в) Большая лекция крупного историка театра «Античная комика: пьеса, спектакль, актеры, маски и костюмы, реквизит, музыка, пение и танец» — 6 часов (3 лекции по 2 часа).
г) Танцевальный тренинг и, особо, попытка реконструкции античного театрального танца — 12 часов (по 1 часу в день).
д) Встреча с известным скульптором: разговор об искусстве скульптуры, об ее выразительных средствах и ее восприятие — 3 часа.
е) Рабочие консультации скульптора (лучше того же, который будет говорить с участниками семинара) по лепке глиняной основы маски — для греческой комедии и комедии абсурда — 6 часов (2 занятия по 3 часа или 3 занятия по 2 часа).
ж) Разучивание с хормейстером религиозной музыки — 16 часов.
з) Комплексное изучение европейских языков — 24 часа.
и) Просмотр фильмов Чаплина («Золотая лихорадка», «Огни большого города», «Новые времена») с комментарием киноведа.
к) Три большие лекции по философии (Кьеркегор, Хайдеггер, Камю) — 9 часов.
8. Вторая летняя сессия под названием «Собор северного лета».
Итоговая, последняя сессия возвращает семинар к его началу — к сплочению, к восхищению друг другом, к вопросам композиции, к русской теме.
Чеховская (М. А.) проблематика сессии — чувство ансамбля, чуткий актерский коллектив, в котором собраны творческие индивидуальности. Индивидуальное присутствие. Вместо «общего представления: “мы”, сказать себе: “ОН, и ОН, и ОН, и Я”. <…> открыться своим партнерам. Это значит: быть готовым воспринять впечатление, даже самое тонкое, от каждого присутствующего в каждый данный момент и быть в состоянии гармоничено реагировать на него»38 (М. А. Чехов).
Общие — нечеховские — проблемы будут связаны с постройкой нового театра, поэтому мы периодически будем заглядывать «к соседям» — к архитекторам, к выдающимся архитекторам: Константину Мельникову, братьям Весниным, к Татлину и Лисицкому, Бурову и Фомину, к Ладовскому и Жолтовскому, к Салливену, Райту, Кану, Корбюзье, Хуго Херингу, к японцам во главе с Кэндзо Танге и, главным образом, к представителям «Нового брутализма»39. У них мы приобщимся к высочайшей культуре и величайшей творческой смелости, а потом, применив их опыты 688 к практике театра, начнем строить свой необычный и сугубо человечный театр — «иной театр» (как «иная» архитектура).
На прощанье с семинаром мы подарим ему последний свой спектакль, создаваемый от начала до конца на глазах у зрителей, наших друзей, — на открытых репетициях. Это будет спектакль, рождающийся с началом публичного представления и умирающий с его окончанием, спектакль, сделанный буквально «на раз», уникальный, как жизнь каждого из нас, каждого человека, спектакль о нашей стране — России и о нашем народе, таком прекрасном и таком невезучем.
Стиль сессии — сверхреализм (суперреализм, сюрреализм и т. п.)
Автор сессии — самый свежий или самый старый писатель.
Лозунг сессии — соединение свободных актеров.
Теоретическая база — теория архитектуры.
Приложение к восьмой сессии.
1. Задание участникам семинара:
а) Прочесть книгу, посвященную выдающемуся русскому архитектору: «Константин Степанович Мельников. Мир художника» (М., 1995).
б) Побродить по Москве и полюбоваться ее архитектурными шедеврами (Собор Василия Блаженного, Собор в Коломенском, Петровский замок, дом Рябушинского, Ярославский вокзал, жилой дом Жолтовского на Смоленской площади, мавзолей Ленина, метро «Красные ворота», клуб им. Зуева, клуб им. Русакова, Дом на набережной, Театр Советской Армии, Большой театр, Дом Центросоюза Корбюзье и т. д., и т. п. — по выбору и по вкусу). Постоять, посмотреть на здание, постараться понять его душу и его характер и приготовиться сыграть выбранный памятник архитектуры.
в) Перечесть «Слово о полку Игореве», погрузиться в мир его образов и приготовить несколько проб актерских иносказаний, выражающих настроение, стиль, образность старинной русской поэмы.
г) Приготовить короткое сообщение на тему «Что для меня является правдой на театре».
2. Ученые и педагоги, привлекаемые для работы на семинаре:
а) Педагог-балетмейстер для постановки танцев в выпускном спектакле (русский народный танец).
б) Педагог-хормейстер для разучивания вокальных номеров в выпускном спектакле (русский фольклор, русский религиозный хор, сольное и ансамблевое пение).
в) Преподаватель древнерусского языка (+ церковнославянский).
г) Педагог-пантомимист для постановки номеров в спектакле.
д) Крупный художник-модельер для одевания спектакля.
е) Крупный архитектор или теоретик архитектуры для прочтения большой лекции о современных архитектурных концепциях и тенденциях.
ж) Три большие лекции по философии (Епифаний Премудрый, Аввакум Петрович, Гр. Сковорода) — 9 часов.
Составитель М. М. Буткевич
689 Март 1992 года.
Москва.
План тренинга на две первые сессии Чеховского семинара (тренинг посвящен вопросам композиции как средства выразительности драматического артиста).
(Это не повторение того, что делалось на первой сессии «Десяти времен года»40, тут композиция изучается в динамике — композиция во времени).
Первая сессия: Лоренс Стерн «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»; сентиментализм; тело актера как его инструмент (теоретическая база — литературоведение).
Многоголосие и противосложение:
— спонтанная групповая импровизация: все и сразу — первая попытка;
— групповая импровизация с заданием: согласовать свое с чужим — вторая попытка;
— (невозможность согласия потребует учебы, поэтому: разговор о закономерностях композиции);
— снова спонтанная импровизация (1 чел., 2 или 3) на несложную тему;
— потом подключение шумов и звуков — повторяют импровизацию другие «солисты»;
— потом подключение музыки с новыми «солистами» (контрастно);
— потом с подключением комментатора: эмоционально и с доигрыванием того, что недоиграли «артисты» — как дополнительная «роль» (модуляция);
— и в конце урока — добавление параллельного пластического мотива: в развитие — зеркально — и наоборот по смыслу (ловить кайф от совпадений и расхождений);
— на другой день: прессинг пройденного и переход к Стерну — все по новой;
— в конце урока попытка третья: групповая импровизация на тему Стерна: сплетать и расплетать (добиться осязаемости контрапункта).
Прямое и косвенное (метафора и метонимия по первому заходу):
— фабула и сюжет: спонтанная импровизация и варианты ее подачи;
— ускорение и торможение: спонтанная импровизация и варианты темповых решений;
— гипербола и литота (размеры, оценки, тексты (слова));
— синтагма и парадигма (ассоциативные замены в сюжете);
— ландшафтный тренинг: выразиться через пейзаж:
а) персоны русской природы — сначала по одному, а потом парами и тройками;
б) полный пейзаж — на разные темы;
в) пейзаж у Стерна и стернианский человек на стерновской природе: чудик на прогулке + шендирующий пейзаж41;
г) где-то здесь — поездка в Новый Иерусалим: осенние блуждания вокруг монастыря.
Два упражнения «в антракте», чтобы отстроиться:
а) английские монологи с шариками Симолина42;
б) плакать и смеяться под музыку.
690 Структура и композиция (структура явления и композиция моей новеллы о нем):
— структура предмета (например, очки) и композиция импровизации об очках;
— структура игрушки и композиция моего импровизационного опуса о ней;
— структура игры (например, флирт) и композиция импровизации на тему «флирт»;
— структура явления природы (например, гроза, землетрясение) и соответствующая композиция;
— затем переход к Л. Стерну: структура характеров и причуд героев «Тристрама Шенди» и композиция соответствующих импровизаций (например, о «коньках» моего отца, моего дяди Тоби, моей Дженни, о коньке самого Тристрама и т. п.);
— переход от упражнений «в развитие темы» (унисон) к парадоксальным типам композиции, отражающим не отношение между «предметами» в рамках одного явления, а между явлением и отношением к этому явлению со стороны художника (Стерна, М. А. Чехова, тебя самого — автора импровизации; привет от Г. М. Абрамова43 — «я» и «мое»);
— упражнение имени Лоренса Стерна: импровизации и словесные врезки в них, выражающие актерский (личный) анализ творчества великого англичанина, «мои сумбурные ощущения от этого Лоренса», — актерская «картинка» к несделанному докладу: что за люди у Стерна? Как их можно играть? + общая импровизация «Пандемониум Холла-Стивенсона»44; — упражнение имени Мих. А. Чехова: как бы тот или иной стерновский образ сыграл наш гениальный патрон; герои и «прохожие».
Антракт: игра в «чет-и-нечет» — отдохнем и повеселимся.
«Зритель» и «актер» (школа заигрывания и заманивания) — новый тренинг:
— разделившись на две неравные группы (артисты и зрители), тренируемся в общении: сначала спонтанно, затем с импровизациями по билетам на игривую тему, потом — раскрывая наугад книгу Стерна и, наконец, по собственному выбору из «Жизни и мнений Тристрама Шенди, джентльмена», но с «враждебно настроенными» зрителями, — это как бы репетиции к публичным открытым репетициям и спектаклю в конце сессии. Добиться, чтобы работали без дураков — обязательно без фальши уже к концу сессии;
— шаровая и ротационная композиция: замыкание во внутренний, свой мир (или в мир Стерна), отгораживание от зрителя перед спектаклем-показом.
Вторая сессия: Юрий Олеша «Зависть»; соцсентиментализм; тело персонажа (научная база — теория танца).
Дивертисмент:
— танец, импровизируемый тут же (заготовить наборы несложных движений — вспомнить «фру» и «гавот», а потом их импровизационно соединять во фразы (синтагмы) танца, все время заменяя ассоциации (парадигмы). Темы: машина «Офелия»; комбинат пищи «Четвертак»; футбольный матч; сновидения;
— блокируемый танец: осада крепости (ограничение физиологических средств выразительности: отнимаем ноги, руки, плечи, корпус, шею, мимику — постепенно);
691 — блокируемая актерская игра (то же самое, сначала абстрактно, потом на материале Юрия Олеши);
— «нанизывание бус» (образных ассоциаций — медленно);
— «32 фуэте» — кто сколько накрутит разных приспособлений (быстро).
Шассе-круазе (обмен танцевальными фигурами-партнерами):
— обмен одеждами;
— обмен «ролями»;
— карнавализованный обмен «верха» и «низа»;
— «перевертыши» и модель СДС (в современной драматической сцене);
— объединение двух полюсов в одном образе (Бабичев и Кавалеров, колбаса и поэзия, Иван и Володя, Валя и Анечка Прокопович, «Четвертак» и «Офелия», старая культура и новая власть); последовательное наложение (как вершина — наложение на жизнь МАЧ).
Несколько упражнений «в антракте» — Цвет смысла
— техническая игра цветом (набираем колорит игры);
— потом, наигравшись, ищем в цвете смысл (что он значит?);
— определяем цвет автора и его героев;
— потом — современники Олеша и Эйзенштейн (три стадии цветового кино);
+ визит на урок в хореографическое училище Большого театра.
Танцевальность образа (или образность танца):
— танго метафоры;
— оксимороны45 философской сарабанды46;
— пляска травести;
— вальс «Метонимия» (часть вместо целого);
— симфора47 или автология48 (хореография без танцев и без образов) — «ищем речи точной и нагой», отбросив все.
Новый тренинг: превращение лицедея в зрителя, а зрителя — в лицедея:
— провокация человеческой доброты;
— провокация общечеловеческого любопытства;
— провокация присущего всем людям чувства полноты;
— без поддавков: и «зрители» и «лицедеи» бьются «насмерть», употребляя весь комплекс «обороны» и «нападения», пока не будет достигнут «момент истины», тогда наступает примирение: участники обмениваются «комплиментами» («комплимент» — поклон после хорошо выполненной серии трудных, виртуозных «номеров»);
— финальный поклон как резюме роли (умение возвратить зрителя к вершине и сути своей игры);
— зритель выходит играть (ответные комплименты);
— подход к моменту истины — большой экзерсис: пропускание любимых сцен романа, если и когда таковые определятся, через все степени правдоподобия игры, — от наигрыша, через ремесло, школу представления, школу переживания (вы думаете, мы не можем играть, как это принято и привычно? — можем!) — то же самое на потрясении, 692 за пределами подлинности, на «истине страстей». Это «упражнение» — следующий шаг к дерзновенной мечте участника семинара: играть как великий М. А. Чехов Учимся вызывать восторг зрителя, делая ему подарки, очень дорогие подарки. Следующий шаг — современный катарсис, но это уже на следующей сессии.
21 июня 1992 г.
М. Буткевич
Новые упражнения (специально для Чеховского семинара)
! Новая для меня этимология — выдать в первую сессию:
Импровизация — от латинского слова improvisus — неожиданный.
Первая серия — чистый тренинг (все перемешано, не вышло разделения по сессиям):
— фабула и сюжет (Метатеатр) (как это происходило, и как я это показываю):
а) на языке жестов;
б) на языке звуков и шумов;
в) на языке междометий и жестов.
(Или «Немое кино», «Радиоспектакль» и «Звуковое кино»). Школа архитектоники (роман Стерна в целом — см. Иванов, с. 18449) + темы первичных (фабульных) импровизаций: «Жизнь человека» (одиночная), «Первая любовь» (парная), «Борьба за женщину», «Борьба за мужчину» (треугольник).
+ см. «За и против», с. 6650;
— синтагма и парадигма (a propos112*: это как мелодия и гармония в музыке);
+ перечитывать Засорину, с. 72 – 7551;
— синтагма: начало-кульминация-конец; парадигма: варианты начала, варианты конца, варианты кульминации (интонация расчленяет фразы на синтагмы) (параллельно рассматривать синхронию и диахронию52 как частичное понимание вынесенной в заголовок пары + парадигматическое разделение по уровням, с одной стороны, и синтагматическое исследование с точки зрения выделения отдельных частей художественного произведения).
— гипербола и литота53;
серия проб — сидят на полу куклы, и мы так же сидим — магия куколок;
— магия уменьшения + даю маленьких персонажей, чтобы с ними общаться.
Внезапная находка: куколки, как в «Макбете», — это тоже литота. В середине сессии дать задание: теперь вы более-менее видите дядю Тоби, Йорика и т. д. — сделайте к завтрашнему.
Гипербола — это сверхкрупный план — по Эйзенштейну типа гоголевских гипербол и гипербол фольклора, а литота — это ходули и куколки или соромные маски.
— торможение и ускорение (попытаться реализовать в простых упражнениях сложную проблему сценического времени — как?) (+ торможение действия и его 693 ускорение — это форма борьбы с ним, форма его вытеснения, отодвигания с первопланных позиций).
Через «Тома Джонса»54, где это сделано блестяще, — к Филдингу (от фильма к роману): «История моя будет то останавливаться, то лететь» (сосредоточиваясь — т. е. замедляясь — на «светлых», «полных жизни эпохах»).
+ Парадокс тренинга: время движется вспять (материал из группового тренинга «фабула и сюжет») в связи с «Тристрамом Шенди» Стерна.
Врезка: К специфике изучения актерами композиции на Чеховском (пост-Васильевском55) семинаре — прочел где-то в словаре: «В развитии прозы XX в. — как одна из ее тенденций — намечается все более определенное стремление к ослаблению сюжетного, или фабульного, начала и усилению внесюжетных элементов в композиции (лирические, философские, публицистические отступления, психологизм, эмоциональная настроенность и т. д.), поискам новых способов организации художественного материала»56.
+ Очень важная формула: не только композиция (как раньше), но и композиторская деятельность актеров.
— Оксиморон и симфора (травестия и автология, а еще лучше — гротеск и лирика) — на вторую сессию.
— Формула Белинкова по поводу Олеши57 (для второй сессии) — аргументация хореографической базы: «Широко раскрытыми глазами смотрит художник на неожиданности мира, обретающие в его душе гармонию и единство формы классического танца»58.
+ Учитель Раздватрис59 — «интеллигент, пританцовывающий господствующей концепции»60.
Попробую подвести промежуточные итоги:
|
Первая сессия: «Жизнь и мнения» Фабула и сюжет Ускорение и торможение Гипербола и литота (размеры, оценки, слова) Синтагма и парадигма (самое сложное теперь) Гротеск и лирика Тут в основе всех упражнений — сценическое время |
Вторая сессия: «Зависть» Метафора (образ) — одна вещь завидует другой Оксиморон (травестия — гипербола травестируется в литоту и наоборот) Переодевание из зависти Симфора (без образов) Лиризм гротеска или Гротескная лирика |
— Синтагма — это «сюжет» импровизации и еще приблизительнее — ее тема в самом общем виде; она варьируется в процессе импровизирования, но не подлежит коренному изменению: если мы перестаем узнавать тему импровизации, последняя теряет свою строгость и чистоту.
694 — Парадигма — наоборот — свободно изменяется (заменяется, переменяется, допускает подстановки); тут обязательное требование — ассоциативная близость в любом виде (она должна входить в одну из бесконечного числа возможных для нее ассоциативных групп)61:
папа или папа или папа или папа
— мама — лапа — отец — хозяин
— тетя — шляпа — родитель — главарь шайки
— дедушка — у трапа — глава семьи — Сталин
и т. д. и т. д. и т. д. и т. д.
звон или звон или звон или звон
— вечерний — звук — треп — набат
— заутренний — шум — хвастовство — тревога
— благовест — треск — вранье — сбор
и т. д. и т. д. и т. д. и т. д.
Свобода ассоциативного импровизирования и заключается в том, что очередная проба может развиваться в направлении любой из парадигматических групп, а их число огромно, если не бесконечно. Какие из этого выводы и какие практические следствия? Подумать!
— Если рассмотреть «парадигму» еще более свободно, мы получим еще более любопытную картину (по цвету, по звуку, по вкусу, по запахам или по осязательным, тактильным способам, т. е. по ощущениям, по органам чувств):
звон или звон или звон
— серебристый — красный — сиреневый
— кислый — запах дыма, гари — вкус снега
— запах паркетной мастики — горький, соленый — гладкий, шелковый
— гладкий — горячий, обжигающий — запах фиалок
папа или Гамлет или Гамлет
— мягкий — черный — красный
— коричневый — холодный — горячий
— пахнет табаком — запах моря — запах пороха
— вкус кофе со сливками — горечь — вкус жареного мяса
— звук: поет баритон — звук шагов — пьяная песня хора
После таких блиц — проб попробовать найти центр пересечения всех этих ассоциативных рядов, присмотревшись и отобрав наиболее точные ассоциации из всех возможных.
Два упражнения для второй сессии (танцевальной):
а) блокированный танец «Осада крепости»: весь аппарат — без ног — без рук (только кисти) — без туловища — без шеи — только мимика — только глаза — только один глаз; и обратно. Легкость и Форма;
695 б) то же самое, только не танец, а чистая актерская игра. И тоже легкость. Потом — комментарий для зрителей: смотрите, теперь только руки, только кисти, только два пальца, только один. И опять — легкость и форма + продажа: шаманство фокусника вокруг своего фокуса и своего мастерства.
Между этими двумя этапами — теория балета, дивертисмент.
— Эффектное упражнение тоже для второй сессии «Я кручу 32 фуэте».
Демонстрация: блеск профессионализма. Как Плисецкая. Примерные темы: «Я счастлив», «Я тебя люблю», «Я тебя боюсь», «Проклятие», «Да здравствует!», «В атаку!», Сорвать и подарить цветок, Взять и съесть конфетку, и т. д. и т. п.
В пандан к Фуэте:
Нанизывание зрительных образов (зримо воплощаемых ассоциаций). Медленно, неторопливо, лирично, — как раньше у КСС и его последователей нанизывали воображаемые бусы на память ФД. В показ класс-концерта включить перед фуэте (по контрасту ритма и темпа — будет очень эффектно). Комментировать эпатажно: раньше, мол, у КСС нанизывали бусы, а мы будем нанизывать образы и ассоциации — в духе МАЧ. И потом — сразу вертеть блеск мастерства в фуэте.
Важная формула Вяч. Вс. Иванова, которую я выписываю, сам еще не зная, зачем: «<…> ложные цели, в погоне за которыми совершались подлинные открытия»62.
Что тут? Побочность главного, чтобы снять с него акцент, так как сознание важности закрепощает? Или модель действительно «случайного ансамбля»? Красивая фраза? Закономерность? Пропаганда заблуждения? — Думать!
+ Может быть, занимаясь «ложными», якобы ложными, проблемами семинарной программы, вроде проблемы Стерна — Олеши — сентиментализма или символизма, мы будем делать открытия в постижении МАЧ. Как Цветаева «так глубоко (через себя)» проникла «в суть личности и судьбы Пушкина»63. А?
Вторая сессия:
— Экзерсисы на основе «базисной ситуации» (Эйзенштейн), обмен одеждами: сначала буквально (пошли и просто переоделись), потом фигурально (присмотрелись друг к другу, разошлись и тут же сошлись) (потрясая зрителей точностью имитации облика и психики восприятия): ты — мною, я — тобою. Прекрасно. В какую сессию? Скорее всего — во вторую (перевертыши-метафоры).
Потом усложним: вместо обмена одеждами — обмен ролями, и — в спектакль, на зрителя. («Кино — это погоня, а театр — это переодевание» М. А. Булгаков64.)
Очень важно! От этих упражнений перейти к модели ДС и Перевертышам.
Темы для разработки упражнений:
— чет и нечет;
— объединение двух полюсов в одном;
— карнавализованный обмен «верха» и «низа» местами.
696 Туго с упражнениями (новыми, ни разу не деланными еще мною); сейчас, кажется, нашел еще жилу, только будет ли она золотая? Совершенно новым видом тренинга может стать тренинг на тему общения со зрителем (на занятиях «зрителями» будут все участники семинара).
Уточняя тему, введем градации (прямое общение со зрителем, просьба о помощи, вызов «ассистента» из зрительного зала, попытка превратить «ассистента» в «заместителя»: сделайте это за меня, немного, пока, ну хотя бы на минуточку и т. п. Завершается это втягивание «исчезновением» артиста, он садится в зал, превращаясь в зрителя, его нет).
К этому очень интересная мысль великого Нильса Бора (пересказанная у Иванова): «<…> вопрос о возможности превращения самого лицедея в зрителя и зрителя в лицедея, который Нильс Бор считал одной из главных проблем человеческой культуры»65.
В основе втягивания зрителя в сотворчество (чтобы потом обменяться с ним ролями) можно положить систему многих и разнообразных «тонких провокаций», которые я применял ранее, конечно, интуитивно. Первая проба классификации этих «мышеловок»:
— провокация общечеловеческой доброты (мне трудно, пожалейте, посочувствуйте);
— провокация общечеловеческого любопытства (загадывание загадок, задавание задач, конечно, не буквально);
— провокация присущего людям чувства полноты (обрывать мысль, действие, недоговаривать, оставлять незаконченным, чтобы сработало присущее человеку желание завершать).
Из этого делать тренинг.
По поводу синтагматики и парадигматики: из Иванова (пересказ Якобсона): «Господство метафорической установки предполагает выдвижение на первый план парадигматических отношений, тогда как метонимический стиль всегда характеризуется ролью синтагматических отношений по смежности. Помимо парадигматического разделения по уровням, структура художественного произведения может исследоваться синтагматически — с точки зрения выделения отдельных составных частей внутри художественного произведения; каждая из таких частей в свою очередь может рассматриваться как художественный текст (например, эпизод внутри фильма, монтажная фраза внутри эпизода, кадр внутри монтажной фразы)»66.
И еще о парадигме и синтагме: соотношения между разными уровнями (П.) (знаковой структуры) или соотношения внутри одного уровня:
Не слышны в (в углу / в лесу / в саду / в цеху — парадигма)
даже (посвисты / шорохи / молоты — парадигма).
Метафора и метонимия.
«Только метафора может сделать стиль относительно долговечным» (Марсель Пруст)67.
697 Оба тропа ведут к образу, но если в основе метафоры лежит монтажное сопоставление двух «кадров» (видений), то метонимия связана с пластическим пониманием «структуры кадра», то есть пластические изменения и членения внутри одного видения (метонимия — часть вместо части, синекдоха — часть вместо целого).
А что есть метонимического у нас (что может быть метонимического в тренинге и в публичных демонстрациях)?
Темы упражнений — уход в деталь (в крупный план) — вдруг я увлекаюсь случайной деталью: пуговицей (что можно сделать с пуговицей и зачем?), стаканом с водой (лью воду, рассматриваю, пробую, лью себе на голову или поливаю партнеров, прыскаю, — новелла воды — там метонимическая игра с водой была суперобразом), спички (игра с коробком, зажигание спичек, поджигание бумаг, самосожжение — новелла огня, уводящая от начатого сюжета). Развить и разработать!
Перебивки «прохожими» (типажами) начатого сюжета: тот, кого перебивают, в чью импровизацию вторгаются, терпит, пережидает, а потом возвращается к своему сюжету, но его снова перебивают, и так — до конца; это будет продолжение упражнений «издевательства» над сюжетом, продолжения «сюжета и фабулы». Это назвать: «Деталь погубит».
Упражнение на выдумывание и демонстрацию «частей» вместо целого человека: шубы без людей, три цилиндра и три тросточки — этакие полумистические (трюковые) истории: ботинки, комбинации, очки, сумочки (в начале прочесть отрывок из «Пиковой дамы» — см. Иванов, с. 17368).
Тут нащупывается некоторая связь с парадигмой и синтагмой, со слоями и с движением в одном и том же слое: метафора — к парадигме, метонимия — к синтагме.
К проблеме метафоры и метонимии:
— Платонов метонимичен, Олеша метафоричен;
— Мандельштам говорил, что «Определить метафору можно только метафорически!»69 Попробуем: посмотрим Ботичелли («фигуры весны» подобны качающимся растениям или водорослям в аквариуме) или Эль Греко (фигура — пламень). А теперь попробуем примерить на себя эти телесные темпоритмы. Но легче, легче! Легкость тут главное (легкость МАЧ).
— Завадская: «Подобно китайским художникам, Ван Гог, рисуя старое дерево, думает о превратностях человеческой судьбы <…>»70.
— Я: это прекрасно, а мы попробуем наоборот (как Ботичелли): рисуя образ человека, будем думать о растениях, о рыбах и тучах, о землетрясениях и извержениях.
— Из Эйзенштейна: «Ср. у меня в “Старом и новом” — в небе бык, изливающийся потоками молока — в сне Марфы»71. Это — метафора. А вот еще это же: «в облаках сосцы, из сосцов дождь» (из дневника Эйзенштейна)72. Теперь пример метонимии: в фильме этот сон подготовлен кадрами, где наяву сняты рядом беременная женщина и бычок (элементы будущего сна, соединяемые еще только пространственно-метонимически, как сказал бы сам Эйзенштейн, а не метафорой, как во сне). Теперь подумаем!
— Я: метонимия — более прямой и более реалистический путь к возникновению образности, закрытый, не выпяченный; метафора более условна, демонстративна, показушна, наглая она, — кидается в глаза. Метонимия — скорее намек; метафора — 698 обухом по голове. Метонимия всегда тут, в присутствии; метафора, возникающая из сопоставления двух явлений или предметов, может частично отсутствовать (один предмет дан — другой отсутствует, домысливается или сменяет предыдущий предмет), то есть метонимия в пространстве, метафора во времени. Набросал я много первых попавшихся особенностей, но в этом случайном ералаше еще не выкристаллизовалось ни точных формул, ни точных упражнений. Еще думать!
Обобщающая врезка.
Надо связать «метонимию» с отказом от метафоризма (автологией, симфорой), построив ход изучения (и ход показа) с первоначальным освоением сравнений и метафор (увлечение неофитов) и последующим отказом от них и переходом к метонимиям, а затем к безобразному языку (ищем речи точной и нагой, я вас любил и т. п.) на позднем, зрелом этапе. Траектория от перебора образов — к прямому выражению.
— По поводу упражнений и разговоров о пространстве и времени: из Флоренского, который считал неразрешимой для театра задачей инсценировку «Искушения святого Антония» Флобера, где вся суть состоит, по Флоренскому, в «постепенном преобразовании пространства из замкнутого, весьма емкого, насыщенного и цельного — в ширящееся, пустеющее, безразличное, — в постепенном разъедании бытия пустотой, хаосом и смертью. Короче говоря, это есть художественно наглядный образ нового времени. Чтобы показать на сцене такое превращение, надо было бы постепенно уменьшать величину актера, играющего Антония, а равно размеры всей обстановки… Покуда Антоний будет виден как соизмеримый с окружающим пространством, он будет оставаться мерою его и его направлений, и его масштабов; а следовательно, и получится евклидово-кантово-астрономическое пространство, то есть постановка пьесы не удастся»73. Суть упражнения — как изменять размеры и соотношения актерских фигур и предметов. Думать! За счет пустения или заполнения сценической площадки? За счет ходуль? За счет приседаний-пригибаний (подходов-отходов) актеров и за счет вставания партнеров на цыпочки, на ступеньки, на стулья (и за счет соответствующего психологического оправдания вырастанием или уменьшением)? Думать!
— У Эйзенштейна нашел еще один принцип композиции сценического пространства и вращающихся в нем людей (человеческих фигур). Эйзенштейн работал на протяжении многих лет над теорией круговой и «ротационной» композиции, в качестве примера которой приводил «Страшный суд» Микеланджело, где «сочетание» фигур изобретательно представлено парящими в воздухе. … Размещение фигур наверху и внизу картины (или кадра). Я: от плоского (как кольцо Сатурна) к шаровидному круговращению (rotatio и есть круговращение) и к их пропорциям, и далее к возможной психологической (психоаналитической) интерпретации символов (мужского начала — у Эйзенштейна (бык, парящий над стадом коров), символа женственности у Шагала (летающие над мужчиной, над городом, над миром женщины). … Это новое отношение к организации художественного пространства, развивающее «ротационный» принцип, который уже есть у Микеланджело (Я: а танец над яслями в «Рождестве» Ботичелли?74)
699 + (Я: а окружение Венеры, парящее вокруг нее в «Рождении Венеры»75? а три грации в «Примавере»76 с их автономным хороводным движением? а «Коронование Марии со святыми»77?)
— Тут тоже целая школа «ротационной» композиции. А какая школа легкости!!!) (Это очень пойдет к чеховской теме легкости!)
И еще у Эйзенштейна: «Почему можно переворачивать Тициана вверх ногами»78. Эйзенштейн писал о круговой композиции: «На определенной стадии вдохновенности — а мастерство состоит в том, чтобы наиболее полно закреплять в видимых образах видения вдохновенности — зрительный образ достигает в разрезе композиции всесторонней (круговой) устойчивости. Буквальной “внутренней” гармонии — через создание “своего” собственного нового самостоятельного “мира”, подобно планетам и земле, имеющего свой внутренний центр кругового притяжения для всех слагающих его частей. Равно гармоничный и в себе всесторонне законченный»79.
О Тинторетто: «композиционно (иногда) столь завершенном, что картину можно “крутить” во всех положениях, “пятно” равно композиционно уравновешено»80. Такое же «не только круговое, но шаровидное»81 построение Эйзенштейн находит у Караваджо. Через «овалы и круги портретов» Эйзенштейн переходит к «уже чисто ротационно задуманным вещам»82 Пикассо, еще предметным, и к вовсе абстрагированному решению той же задачи у Леже.
В соответствии с общим стилем «Грозного»83 перевернутая фигура на росписи потолка не образует завершенного построения, она смещена относительно центра кадра, занимает большую его часть.
Три этапа тренинга в круговой и шаровидной композиции: 1) чисто технически и механически; 2) потом прибавить музыку (для кайфа и интима); 3) и в конце перейти к материалу Стерна: придумывайте, кто что сможет, — что и вокруг кого вертится (я сейчас: вертятся вокруг дяди Тоби прекрасные и многочисленные вдовы Водмен). Лозунг на второй стадии и особенно на третьей: Мы создаем свой мир, свою замкнутую на нас вселенную! (На третьей стадии нашу вселенную Шендиума или Стернианства).
Расхваливать (мне!) Эйзенштейна на тренинге и отказываться, отмежевываться от него на импровизации и творческих опусах.
2. Вторая сессия: тренинг, переходящий в спектакль.
(Это разделение по сессиям в данных записях не вышло. Сессии перемешались, но мысль о такой особенности каждой из двух сессий (см. начало) верна.)
В первую сессию, а потом — в третью: Теперь о тренинге полифонического ощущения жизни в импровизации. Сначала поговорить о полифонии (полифония в хоре у Люды Новиковой84 в Платонове) и гомофонии, перечитав перед занятиями музыкальный словарь:
— Имитация (с увеличением или уменьшением) с отставанием, в обращении (в зеркальности);
700 — Инвенция (от inventio — изобретение, выдумка) двухголосная небольшая инструментальная пьеса, своего рода экспромт или этюд контрапунктного склада, написанная по принципу свободной имитации;
— Канон.
— Что-то попробовать, а затем перейти к «контрапункту». (К контрапункту — дивное описание контрапункта85.)
Это будет серия упражнений-импровизаций (может быть, точнее — совместных импровизаций), помогающих обогащению импровизационных навыков и предназначенных подготовить участников семинара к большим импровизациям-спектаклям второго года обучения.
Этапы освоения контрапункта: простая спонтанная импровизация с включением звуков и шумов; затем с включением музыки (и песни); после этого — с включением комментария (предельно эмоционального, тоже импровизационного), как бы вторая импровизационная работа, вторая, равная по значению «роль», и, наконец, введение пластической параллельной темы по принципу имитации — в развитие, зеркально и в контрасте, в той же или в другой тональности (другой стиль, жанр, другой цвет) с изменением степени условности во втором и в третьем «голосе».
Очень важно — после спонтанных проб — перейти к выработке взаимодействия между начинающим упражнение и подключающимся позднее: они должны чувствовать друг друга, то есть при вступлении «второго голоса» «первый голос» приглушает себя, прислушивается и, как только поймет прелесть сочетания, включает «сказанное» или «пропетое» «агрессором» в свою мелодию, то уступая, то наседая и навязывая свою линию, — должны работать как часовой механизм, как хорошие часики.
Начинать все упражнения с унисона, затем в усиление и заканчивать в контрасте (причем в последнем случае важно координировать свою «мелодию», например, у меня была грустная мелодия, а второй голос ввел клоунаду, тогда я перехожу в трагедию, исполняемую на фоне фарса, и наоборот (второй голос), введя по контрасту фарс, буффонаду, я, увидев, что первый голос обострил свою печаль до драмы, перехожу в его «тональность» и усиливаю его работу своей трагической мелодией для него, а он затем… может взять на себя мою функцию клоуна (получится что-то вроде стретты86 в фуге)). Но очень важно не назвать, не выдать и не исчерпать заранее предстоящие две темы (не раскрыть за комментатором его японский исток — гидаю и за контрапунктом музыкальную структуру, снимать с теории музыки акценты, перенося их на актерские дела, и — в конце концов — на смешной сентиментализм Стерна).
И еще одно замечание для себя: не связывать со Стерном этот тренинг в первый день, а сделать это так: на второй день этого тренинга в контрапункте повторить все вчерашнее в прессинге и только потом перейти к Стерну. Прекрасно! Я — молодец!
— Цвет и смысл (импровизационная компоновка цвета) — сначала техническая игра цветом — набираем колорит и играем им; потом, наигравшись, ищем смысл (читаем в игре цвета возможные смысловые узлы: тревога — радость — нежность оттенков и т. п.) и в конце концов определяем цвет (и колорит) автора. И тогда начинаем играть цветом для точного выражения мысли, для ее выявления через цвет 701 и для ее уточнения цветом. Это общая концепция. А вот более конкретное приложение к материалу сессии (вторая сессия и Олеша).
Берем модель Эйзенштейна (близкого Олеше по времени и масштабу и по скандальному эстетизму художника). Его рассуждения о цвете в кино и в искусстве вообще87 — и тут выясняется потрясающая зацепка: для Олеши цвет тоже важен (описание футбольного матча, включение в сюжет через синие груши дальтоника и т. п.).
Эйзенштейн устанавливает фазы работы (игры) с цветом (разделяй и властвуй — актеру):
Отделение цвета от эмпирического его существования с предметом.
Получение освобожденной таким образом стихии цветов и игра ими, «бессмысленная и произвольная».
Из беспредметной цветовой игры формируется, конструируется «целенаправленный» замысел. (Это и есть замысел — разноцветные персонажи, ситуации, сцены — как отрывки на Колином88 курсе.)
Это и будут три серии тренинга для работы на подступах к «Зависти». И разминка на показах, одна из разминок, создающих тот хаос, из которого может возникнуть спектакль «Зависть»!
Это все для второй сессии!!!
К разговору о композиции:
— Композиция как средство выражения для актера.
— Рассмотрев самые примитивные случаи композиции (грустная грусть, веселое веселье, марширующий марш — примеры Эйзенштейна), мы увидим, чем питается композиция и откуда она берет свой опыт и материал: композиция берет структурные элементы из самого изображаемого (предмета) явления и из них создает закономерность построения вещи. В первую очередь — из структуры эмоционального поведения человека, связанного с переживанием содержания того или иного изображаемого явления. Эйзенштейн приводит слова И. С. Баха, сказанные ученикам: смотреть на инструментальные голоса как на личности, а на многоголосое инструментальное сочинение как на беседу между этими личностями, и уже от себя добавляет, что композиция фильма тоже строится «на базе взаимной игры человеческих эмоций, человеческого переживания»89. Эйзенштейн приводит пример композиции из «Александра Невского», начало атаки — см. т. 3, с. 3990.
«В этом секрет подлинно эмоционального воздействия истинной композиции. Используя как свой исток строй человеческой эмоции, она безошибочно к эмоции и апеллирует, безошибочно вызывает комплекс тех чувств, которые ее зарождали»91.
Я: Эйзенштейн, конечно же, антипод МАЧ, но именно по контрасту мы их будем ассоциировать, и именно из-за контраста и двойного освещения рассматриваемые проблемы будут обрисованы четче.
Эйзенштейн о композиции: она «обнаженный нерв художественного намерения и идеологии»92.
702 Я: Это для вашего сведения, господа актеры, компонующие свой опус, — компонуя свои импровизации, вы передаете зрителю свои самые дорогие мысли, свою философию, но и свои эмоции. Это — прекрасное выражение режиссера: «работать с обнаженными нервами». Так работал МАЧ.
+ Так работал, старался работать и я. Всегда я выходил на зрителя с закрытым пафосом и с открытым забралом, как «человек» из анатомического атласа, с содранной кожей, с нервами, до которых можно дотронуться. Жить с нервами наружу мучительно, невозможно, и поэтому само собой возникало движение вперед, стремление вырваться (обратите внимание на Стерна: скворец — «Я не вырвусь!» или в другом переводе: «Мне не вырваться!»). И вот так вынужденно, от боли и муки, я становился естественным новатором, я рвался из существующей ситуации (системы). Я выдвигал и выкрикивал лозунг: «Хотя бы на год, хотя бы на месяц, на неделю, на один день раньше, чем другие, узнать и сказать, что будет завтра» (не после выхода постановления ЦК КПСС, а до того — развить). Я стремился преодолеть настоящее — и это рождало динамичный зигзаг открытия. (Я это говорю не из хвастовства, как обычно, а чтобы вы поняли: преодолеть можно все, реально возможно, для обычного, простого, как я, как вы, человека: можно (реально!) преодолеть слабость, лень, даже бездарность, как я!; даже нехватку времени.) Преодоление дает чудо творчества; преодоление — это вечный жест художника.
Композицию «Цемента»93 родило это зерно преодоления в спектакле. (Как это зерно погнало всех артистов на высоту великановских конструкций94; боялись, боялись, боялись лезть на высоту, а когда я убедил их, что это выход, путь к победе, — полетели вверх и буквально и фигурально.)
Все, что сейчас болтают в каждой газете, на каждой трибуне, говорят на улицах, мы, я и мои артисты, показали еще в 1973 году. (Анекдот с Мэм95 и ее вопрос о Леше Инжеватове96: откуда этот мальчик и т. д.) Только так можно работать: преодолевая и предугадывая. Так же я рассказал и показал все о дедовщине и армии (что армия воспитывает не мужчин, а калек и преступников) и сделал это в Центральном театре Советской Армии (в 1968 году)97. Так я в 1960 году заговорил об импровизационном театре и об его русских истоках, вывел на сцену запретных скоморохов России, русский лубок и привел в театр ненавидящую театр Маврину98.
И самое главное, смысл: так я, преодолевая систему Станиславского, начал изучать и внедрять «религию» М. А. Чехова, подпольно, но на открытой практике пробовал его методику и эстетику в деле.
Так же, на преодолении, на противоречии с тем, что есть, будем работать и мы. Я потащу вас в новый «бруталистский» театр, в театр любви в эпоху цинизма и злобы. Он восторжествует через 10 – 15 лет, и мы будем тихо гордиться, что мы это делали раньше всех. Уже многие болтают об этом, а мы это будем делать.
Простите за лирическое отступление, но ведь это сентиментальная сессия, это — Стерн.
И упражнения по овладению композицией как средством выразительности актера; упражнения для постижения эмоциональных возможностей, эмоциональных воздействий структуры опуса.
703 Их место: после упражнений типа «фабула и сюжет» вдруг произнести речь об эмоциональной и идейной основе композиции (см. предыдущие тезисы) и затем попробовать разобраться в упражнениях, как соответствует композиция предмету изображения (структура очков и композиция экспромта об очках, структура игрушки (конкретной, мной принесенной — птицы) и композиция импровизационных новелл об этой игрушке; структура флирта и композиция импровизации на тему «флирт»; структура грозы или землетрясения и композиция соответствующих импровизаций.
Затем продублировать это на «предметах» и «явлениях» стерновского романа: структура «коньков» дяди, отца, Тристрама и самого Стерна (список примерный). Это будут вещи типа «веселая радость» или «марширующий марш» и т. п., унисонные или гармонические композиции, тут «гомофонность».
После этого перейти к парадоксальным типам композиции, отражающим отношение не между «вещами» в рамках одного явления, а между явлением и отношением к этому явлению со стороны художника (привет от Геннадия Михайловича Абрамова — «я» и «мое»). Модель и тут такая: «грустное или безысходное веселье» по Эйзенштейну. «Жизнеутверждающая смерть».
Делать так: разбираем структуру нашего отношения к создаваемому нами миру, к предмету нашей импровизации, нашего эмоционального отклика на него и строим композицию по этой структуре: отношение (твое) к изображаемому (тобой же) дяде Тоби, структура отношения (такое же — твое) к Дженни или лошади Обадии и соответствующая компоновка групповых импровизаций на тему «Слокенбергия». И т. д. и т. п.
— После этих упражнений — «перевертыши» и модель СДС, а затем —
— Чет и нечет, как более легкий и более приятный тренинг — «на закуску». (Разработать серию упражнений «Чет-и-нечет» и вводить их с воспоминаниями о порядке ленинградского показа99, мол, там вам это не объясняли, теперь и объясняем, и потребуем, чтобы это делали сами и сразу.)
Для выступления о перевертышах в СДС — подается так: запишем закон композиции, сформулированный на этот раз Эйзенштейном, антиподом Чехова, тут они сходятся полностью; запишем, чтобы действовать смелее и по-хозяйски.
Первая сессия.
К проблеме тренинга в «чет-и-нечет» — образные ассоциации этой игры, порождаемые чередованием 1, 2, 3, 4, 5 и т. д.: эффект «перезвона», Инь — Ян (чет — нечет), мужское начало — женское начало, иногда в зеркальном обороте, в виде вариаций (когда вместо «за» делают «над»), а мы можем и «над» и «за», и т. п. Назовем эти упражнения «китайские игры имени МАЧ».
Из всего этого можно сделать «плавающие» или «ездящие» картинки, построенные по принципу «чет-нечет», а из них, после абстрактных картинок (просто предметы или люди), перейти к группам стерновских героев с текстом.
704 1. Перезвон акцентов: каждая группа, «приехав» на определенные точки, делает определенные узнаваемые акценты, — они-то и будут перезвоном (показать японскую современную картину с сочинением танки100 дамами у ручья, рассмотреть и иллюстрации к «Гендзи»101: по поводу музыкальности изображения).
2. Потом то же самое — на материале Стерна — с перезвоном одинаковых или похожих реплик; одинаковые — в точках акцента, разные реплики, может быть даже контрастные — по углам.
3. Сделать в группах едущих по маршруту чередования. Это сразу сделает все красивым и осмысленным: например, нечетные мужчины — мужское начало, а четные — женское (инь — темное, косное и т. д.). Потом перемешать половой состав движущихся групп, но усилить мужское начало в нечетных группах (ян — динамика, красота, форма, творчество и т. п.), и женское начало в «четных» группах. Довести до блеска, поговорить о «над» и «за», и добиться «вневременности». Прекрасно!
4. Разложить на полу в зрительном зале каре из «Тристрама»: 1) дядя Тоби курит трубку — 1 чел.; 2) отец и мать в постели о часах — 2 чел.; 3) танец во Франции (пара и флейтист с бубном) — 3 чел.; 4) аббатиса и послушница + 2 мула — 4 чел; 5) потом «поднять» сразу три картинки и превратить в карусель.
5. После «Карусели» как бы невзначай перейти к непрерывному верчению-кручению «потока сознания» и к англоязычному Джойсу, и к американскому инглишу К. Воннегута с их перетекающей линией внутренней темной жизни, с ее ассоциациями, и после шока от этого сопоставления XVIII века с XX вернуться к Стерну на уровне Воннегута, с перетеканием стерновских мотивов: один течет и рисует Стерна, двое других текут и поют Стерна, трое третьих, протекая мимо зрителей, танцуют Стерна, и четверо четвертых, остановившись, проектируют и строят стерновскую архитектонику (архитектуру, которой можно Стерна играть). Молодец!
— Упражнения имени Стерна: актерский (личный) анализ Стерна «Мои сумбурные ощущения от Лоренса» (это где-то поближе к концу первой сессии) и актерская картинка к «докладу»: что за люди у Стерна? как их можно играть? и общая импровизация: «Пандемониум Холла-Стивенсона».
Потом пробы: как бы тот или иной образ сыграл (разделал МАЧ). Это, конечно, не получится, и тогда задание переносится на другой день. Приготовить роль (по своему выбору) в исполнении М. А. Ч. Прекрасно: пусть посмотрят фото МАЧ в ролях, пусть почитают рецензии, пофантазируют.
— Отдельное упражнение: Английские монологи с «шариками» им. Симолина.
— Через тренинг надо попробовать ввести в оборот тему пейзажа (кстати, связанную очень сильно с сезонными настроениями): первой пусть заговорит на уроке английского языка Ася — английский пейзаж, парк, я подхвачу и в тот же день заговорю об отце Тристрама, уходящем гулять к пруду в трудную минуту своей жизни. Потом поедем в Истру (Новый Иерусалим) в один из выходных, — я попрошу, особенно иностранцев, присмотреться к русскому ландшафту из электрички — с тем, чтобы завтра начать играть персоны русской природы: речки, лужайки, кусты и деревья, скромные русские травы и цветы, облака на русском небе, если будет, — 705 дождичек, осенний и мелкий, причем все это не обозначать, а именно играть; потом парами: береза под дождем, куст и ветер, сдувающий листья, ветла над рекой, человек на лужайке, человек над водой, купола, отраженные в реке, ручей и мостик; потом — по трое, вчетвером и полный пейзаж в массовой импровизации (как они живут без людей, без нас?).
Пейзаж связан с музыкой — учесть.
Второй этап: пейзаж у Стерна — поищите в книге до завтра и придумайте тему для групповых импровизаций (в сентиментальном духе, а затем с иронией — чудик на природе, шендирующий пейзаж и т. п.)
Теперь мы изучаем композицию в динамике, точнее в текучести, а в результате обнаруживаем в Стерне нечто чеховское — и МАЧ, и АПЧ.
— Эйзенштейн высказывает очень интересную, хоть и спорную мысль: контрапункт связан с юностью102. У нас юное дело. Займемся контрапунктом, а скорее, многоголосием: гомофонными и полифонными структурами, будем плести — сплетать и расплетать — разные театральные (актерско-режиссерские) вещи: наши голоса, руки, тела (связано с МАЧ, с темой сессии), чувства и мысли, замыслы, вымыслы, наблюдения, выдумки, — переплетать в созвучиях и диссонансах, в разнообразных узорах и аккордах, в гармоничных и режущих слух (глаз) сочетаниях, откликаться, перекликаться, аукаться, переливаться из нежности в резкость, из легато в стаккато, из мягкости в жесткость — будем настраивать инструменты. Постараемся полюбить свой инструмент, извлекать из него «звуки», которые в самом деле будут доставлять нам удовольствие, попробуем составить оркестр: ху из ху — пошли: я в этом оркестре скрипка, а я — литавры или тромбон. Попробовали (только без музыки — это в третьей сессии), потом поменялись местами. Оркестр русских инструментов, симфонический, симфо-джаз, джаз.
Английский домашний ансамбль. Джентльмены! Леди! Шляпы, трости, лорнеты, что еще? Английская тональность — не без чудачества — сели в английской тональности — подошли к своей миссис — отвели ее на свой стул — что еще? А теперь полифонически — все сразу и по-разному, но чтобы строило. Не строит?
Разберемся, вспомним теорию и еще раз попробуем: в английской лавочке, в английской церкви, бал английских привидений. Пока достаточно. Тут надо добиться «осязаемости» контрапункта. Проанализируем многоголосие — это созвучие разных голосов, разных характеров.
Это очень важно для нас — у каждого свой голос. Ищите, какой у вас, непохожий ни на кого из присутствующих, больше ни на кого в мире. Ищите с двух сторон, со стороны маски (внешнее) и со стороны души (изнутри, развивая, открывая себя миру)…
+ полифония «Женщины в белом» Уилки Коллинза103.
Полифония — как средство втягивать зрителя в игру.
Плетение — как замена традиционной композиции (Шервуд Андерсон): плету что плетется104.
/Обрыв и переход к Дюллену105/
706 ГОЛОС МИРА И ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС
Тут тоже полифония, полифония восприятия (мой термин).
— к теме полифонии (возвращение к моменту до Дюллена) (нарвал букет цитат из Эйзенштейна — для настроения):
— «полифония футбола»: «эта игра столь увлекательна, вероятно, потому именно, что в ней особенно остро и великолепно воплощен символ совместной борьбы и сотрудничества, заставляющих вместе с мячом перебрасывать личную инициативу от участника к участнику общего дела»106;
— «впервые ощутил я упоение прелестью движения тел, с разной быстротой снующих по графику расчлененного пространства, игру пересекающихся орбит, непрестанно меняющуюся динамическую форму сочетания этих путей — сбегающихся в мгновенные затейливые узоры, с тем, чтобы снова разбежаться в несводимые ряды»107;
— «прелесть контрапунктического письма еще и в том, что оно формой своего построения отражает и вновь заставляет пережить самый чудесный этап на путях истории мышления. <…> (Эти этапы, бесконечно варьируясь и усложняясь, вновь повторяются и на более высоких ступенях развития <…>)»108;
— из «первичного сочетания игры пространства, времени и звука — в дальнейшем усложняясь — вырастают все принципы звукозрительного монтажа»109;
— «Монтажный же контрапункт как форма кажется перекликающимся с той обаятельной стадией становления сознания, когда преодолены оба предыдущих этапа [познающее мир младенчество и подростковое, полное страхов детство — МБ] и разъятая анализом вселенная вновь воссоздается в единое целое [этого круговорота переживаний, впечатлений и воспоминаний — МБ], оживает связями и взаимодействиями отдельных частностей и являет восторженному [юношескому — по Эйзенштейну — МБ] восприятию полноту синтетически [неудачное слово у Эйзенштейна — МБ] воспринимаемого мира»110 (тут близко где-то и «полнота» М. А. Чехова и Йейтс — внимание! — МБ).
«Подобно тому, как с особой теплотой, с особым увлечением и волнением живы во взрослом человеке первые “откровения” на путях его биографии — первое одоление печатного текста (я могу читать!), первое пробуждение чувств (я могу любить!), первые данные философии, помогающие ему воспринять систему миров (я могу познавать!)…»111. Полнота — это жизнь, философия и искусство, объединенные вместе — МБ.
«Так или иначе, в системе осязаемого контрапунктического начала сохранилось живое ощущение того этапа [момента — МБ], когда сознание <…> впервые устанавливает соотношения между отдельными явлениями действительности одновременно с ощущением ее как единого великого целого»112. Тут философия, важная именно для нас! — МБ.
«В этом, конечно, залог упоительности полифонии и контрапункта и неизбежная обостренность их характерных черт на этапах юности»113. Тут у молодых есть шанс полностью реализовать свое постижение мира через полифонные структуры, а у немолодых — вернуть себе через погружение в полифонию мира жизни и мира театра, заменившего им и заслонившего мир — МБ.
«<…> монтажная композиция “Грозного” находится в любопытной перекличке с тем, что происходило с психологической обрисовкой персонажей в пьесах… Чехова на театре.
707 Разработка тонкой и глубоко музыкальной нюансировки настроения действия в пьесах Чехова создавала впечатление исчезновения театрального начала в том, что подавалось на сцене.
Линии нюансов сплетались в такую слитную ткань, что за этим, казалось, исчезала осязаемая действенность театра»114.
— Как бывает? «В примитивную полифонную схему вступает все большее число голосов, все больше нюансировок, и плоскостные соотношения уступают соотношениям светотени»115.
+ Как лозунг, как девиз сессии: «внутренняя, часто микроскопическая механика построения и композиции произведений»116.
РАЗРАБОТАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ НАБОР УПРАЖНЕНИЙ
— Упражнение (и для спектакля): плакать и смеяться под музыку (джазовые блюзовые номера по «Эху Москвы» 19.06.92) ансамблями и хором, а потом действующими лицами.
«Хорошие артисты меняют характер смеха, смеясь то более тонким и высоким, то более низким, раскатистым смехом на разные лады» (Пропп)117.
Вторые предварительные итоги:
Девиз жесткий и, может быть, суховатый: тренинг всегда перерастает в творческий опус (акт) — он (акт) как перспектива всегда присутствует в тренинге.
Зачем вы делаете тренинг? — Чтобы набрать умения и материал для ваших импровизаций на уроках и на публике.
|
1-я сессия |
2-я сессия |
|
Разговор о композиции — Фабула и сюжет — Ускорение и торможение — Синтагма и парадигма — Гипербола и литота (размеры, оценки, тексты (слова) — Чет и нечет: 1. Тренинг, 2. Стерн, 3. Карре, 4. Перетекание — Полифония и контрапункт (придумать название взамен музыкальных терминов), может быть, с этого начать занятия — простая спонтанная импровизация — потом подключение шумов и звуков (к/п) — потом с подключением музыки (к/п) — потом с подключением комментария — потом с подключением второй пластической темы (к/п) 708 — на другой день — повтор и переход на Стерна. Сплетать и расплетать. Осязаемость каждого пункта |
— Блокированный танец. Осада крепости. — Блокированная актерская игра — «32 фуэте» — «Нанизывание бус» — Обмен одеждами — Обмен ролями — Карнавализованный обмен («верха» и «низа») — «Перевертыши» и модель СДС (тема) — Объединение двух полюсов в одном |
|
— Новый тренинг: «зритель» и «актер» |
— Новый тренинг (продолжение первой сессии) им. Нильса Бора: «Превращение лицедея в зрителя и зрителя в лицедея». |
|
1. Многоголосье и противосложение 2. Структура (явления) и композиция (моей новеллы о нем) 3. Прямое и косвенное 4. «Зритель» и «актер»
+ Мир автора, мир героя (Ротация и шар) |
— провокация человеческой доброты — провокация любопытства — провокация полноты Разделить на 2 сессии: — Метафора — танго — Метонимия — вальс — Оксиморон — сарабанда — Травестия — пляска — Симфора (автология) Все это требует доработки — связывания с теорией танца. Хореография без танцев и без образов. О пространстве сцены (Уточнить акценты в сессиях.) |
|
— Слова о композиции и серия упражнений для постижения композиции как выразительного средства актера: — структура предмета (очки) и композиция импровизации об очках, — структура игрушки и композиция импровизационной новеллы о ней, — структура флирта и композиция импровизации на тему «Флирт», — структура явления природы и композиция соответственно, — затем переход к Стерну: структура и композиция импровизации о «коньках» дяди, отца, Тристрама, — парадоксальные композиции на отношение. — Упражнение им. Стерна. — Упражнение им. Чехова. — Английские монологи с шариками Симолина. — Плакать и смеяться под музыку. — Ландшафтный тренинг — два этапа (абстрактный и Стерн) + пейзаж и музыка. — Голос Мира и внутренний голос (Дюллен и к/п восприятия) |
Танец, импровизируемый тут же (заготовить жесты, вспомнить фугу и гавот, а потом их соединять в танец) — Офелия, Четвертак, футбольный матч, сновидения.
Антракт — Цвет смысла: — сначала техническая игра цветом — набираем колорит, — потом, наигравшись цветом, ищем смысл — читаем возможные цветовые узлы, — потом определяем цвет автора и его колорит, — потом: Олеша и Эйзенштейн (три стадии). 1) Дивертисмент: визит к танцорам. 2) (Обмен фигурами.) Шассе-круазе. 3) Танцевальность образа (или образность танца). 4) Новый тренинг |
709 — Аргументы в пользу хореографической базы сессии (продолжение) из Белинкова об Олеше: «Он [учитель Раздватрис — МБ] не заблуждался по поводу того, что может произойти. Он очень хорошо понимал, что танцы, которые он танцевал, теперь [после вызова и высказанного им отношения в КГБ — МБ] должны будут пережить решительные изменения, и уже придется танцевать прямо в противоположную сторону»118.
— Фантазии Белинкова на тему Олеши об учителе танцев: «Постойте, постойте, — повторил он и сделал носком атласной туфли изящную дугу на пыльной дороге. — Какая же социальная борьба в обществе всеобщего социального равенства? — Учитель танцев Раздватрис застыл в интеллигентской позе неустойчивого равновесия посреди пыльной дороги: левая его нога опиралась на носок, правая на каблук, одна рука была поднята вверх, как будто он преподносил цветок, другая упала вниз, как будто он обронил платок… — Но если будет создано общество всеобщего равенства, то какая же тогда общественная борьба, поскольку таковая есть лишь внешнее проявление социальной борьбы? — Его поза решительно переменилась: правая нога оперлась на носок, левая на каблук, одна рука упала вниз, а другая поднялась вверх, и он вытер ею струящийся со лба пот»119.
«Роман аллегоричен, многозначителен. В нем все время одно уподобляется другому, но в уменьшенном или увеличенном виде. Бытовой факт лишь метонимия истории и социологии»120.
— «Особенность писательской манеры Юрия Олеши заключается в том, что он берет схематический минимум социального явления и наращивает на него плоть (метафоры). При этом социальная схема почти всегда проступает вполне отчетливо, несмотря на густой слой метафор. Все это оказалось не трудно разрешимым противоречием, а естественным свойством творчества писателя. Достаточно традиционный мастер, никогда не посягавший на художественный норматив своего времени, Юрий Олеша неожиданно обращается к одному из характернейших приемов современной живописи: он показывает существование скрытых поверхностью форм. В произведениях Юрия Олеши создается условная комбинация идей, которую разрешают живые, страдающие, мечущиеся, добрые, злые, хорошие и плохие люди. И поэтому ложные конфликты, конфликты-недоразумения его книг это не литературная неудача, а независимые от автора реальные обстоятельства, определяющие замысел»121.
— Очень важно для укрепления моей грандиозной «догадки» на тему «Олеша и МАЧ», — на этапе «Списка благодеяний»:
«Олеша говорит, что “Гамлет” советскому зрителю не нужен, и приводит высказывания советского зрителя по этому поводу. <…>
Критик заявляет, что Олеша, деликатно выражаясь, несколько удалился от истины, ссылается на Маркса и Энгельса, которые думали о “Гамлете” совсем не так, как эти остальные слои населения, и настаивает на том, что спектакль “неослабно смотрится рабочими”.
Происходит нечто необъяснимое.
Олеша заявляет: не вырастут вишневые деревья. А ему авторитетно отвечают: пожалуйста, приезжайте к нам в колхоз. <…>
710 Когда критик Раздватрис-Гурвич122 говорит, что у нас растут замечательные вишневые деревья, то он это и думает: замечательные вишневые деревья. Он искренне удивляется, что это Олеша не видит их.
Но когда Юрий Олеша говорит, что ему некуда посадить вишневую косточку, из которой выросло бы дерево в память его неразделенной любви, то он думает не о дереве, не о вишнях и даже не о варенье, а он думает о том, что гибнет все легко ранимое, тонкое и прекрасное, отмеченное неповторимой индивидуальностью. Гибнут: вишневое дерево, жасмин, невеста, дружба, награда, девственность, слава…
Критик полагает, что между ним и писателем происходит такой разговор:
Писатель: Вишневые деревья не будут расти.
Критик: Нет, будут.
А на самом деле происходит совсем другой разговор:
Писатель: Гибнет поэзия.
Критик: Дадим стране 156 кубометров деловой древесины.
Такого разговора быть не может.
Такой разговор тысячелетиями ведут люди друг с другом, чудовищный разговор, прерывающийся войнами, мятежами, заговорами, убийствами, изменами, предательством и отчаяньем»123.
МБ: У нас в семинаре есть очень много актеров, похожих на МАЧ, и много могущих стать похожими на него.
Разговоры Олеши с людьми, которые его окружают, и особенно разговоры Гончаровой124 — это беседы глухих. Люди не понимают друг друга, не слушают, не слышат. Гончарова говорит, что будет смотреть за границей «знаменитые фильмы, которых мы никогда не увидим здесь», а мы отвечаем: «Наши фильмы, как, например, “Броненосец Потемкин”, “Турксиб”, “Потомок Чингисхана”, завоевали себе полное признание в Европе». Все это совершенно не понятно. Гончарова говорит, что она хочет в Европу, потому что там можно увидеть какие хочешь замечательные фильмы, хочешь западные, хочешь советские, у нас же это немыслимо, а ей отвечают: «Знаем, знаем, сами с усами». Люди не могут понять друг друга и не могут договориться. <…>
«— Не поставят “Гамлета”, — заявляет Олеша.
— Нет, поставят, — заявляют противники.
— Нет, не поставят.
— Нет, поставят.
Ну, поставили бы “Гамлета”. Ну, пошел бы “Гамлет” в разных театрах и даже в разных трактовках. Ну и что же? Разве Гончарова, говоря о “Гамлете”, думает только о знаменитой пьесе (1601) знаменитого драматурга (1564 – 1616)? Ей же отвечают только “Гамлетом”, спектаклем, идущим в [одном! — МБ] театре…»125.
МБ: Как маркируется моя догадка? В то время «Гамлет» действительно не шел нигде, кроме как во МХАТ Втором126.
«Художник пользуется “Гамлетом”, да не “Гамлетом”, а словом, символом индивидуализма, сложного, недоступного, а критик побивает его реальным спектаклем, 711 на который даже в эпоху реконструкции, когда бешеный темп строительства захватил всех и когда больше идти некуда, может иногда пойти человек, купив билет за 15 р. 50 коп.
Художник говорит о гибели индивидуализма, о сдаче интеллигенции, о катастрофах истории, а ему отвечают: — Смотрите, вишня какая сочная! и очереди почти совсем нет»127.
Конкретные, единичные вещи, реальные предметы с метафорой, с образами не соединяются. Получается нечто раздражающее, нелепое. Жизнь превращается в странную фразу, во что-то вроде «шел дождь и два студента». Синтаксис спора между человеком, говорящим, что не будут ставить, и людьми, говорящими, что будут, тождествен организации фразы «шел дождь и два студента»: в обоих случаях говорится о разных вещах, приведенных к мнимому единству словом, выполняющим разные обязанности: шел дождь, шли студенты, шел «Гамлет». <…>
Метафора не только самый любимый, самый лучший троп поэтики Юрия Олеши, но единственный отпущенный ему способ мышления.
Произведения Юрия Олеши славны не только тем, что в них есть много метафор, но и тем, что замысел каждого его произведения — метафоричен.
И поэтому так иносказательно, так многозначительно, схематично, условно искусство Олеши. Это искусство аллегории, притчи. Здесь проблемы, декларации, выяснения взаимоотношений с миром, в котором писатель живет, вопросы, ответы, написанные очень хорошим языком с привлечением сравнений и метафор.
Известны случаи, когда критики, полемизировавшие с Олешей или обожествлявшие его, обладали большим грузом учености и даже некоторой сообразительностью. В связи с этим известны также случаи, когда они понимали, что художественное произведение отличается от самоучителя на гитаре тем, что в нем не все ясно. Эта неясность вызвана мерцанием вариаций смысла и многообразием дополнительных значений, которыми наделено слово-метафора. <…>
«Метафора-слово лишь частный случай, лишь производное метафорического искусства, метафорического мышления Юрия Олеши.
В метафорическом искусстве Юрия Олеши главными были: метафора-понятие, метафора-суждение, связывание сходством разрозненных и разнообразных частей мира. Метафоричность Олеши не ограничена сходствами, схваченными наблюдающим внимательным и настороженным глазом»128.
Такая метафоричность считалась очень похвальной.
Она создала Олеше репутацию безупречного художника, тончайшего поэта, блестящего мастера. Здесь особенно не скупились на похвалы, потому что это были пустяки, форма, которая, конечно, легко укладывалась в спокойное традиционное русло и ни на что не посягала.
Неудовольствие вызывала не какая-то «афишка, помахавшая крыльями», с которой трудно было бороться, да и не чувствовалось особой необходимости в этом.
Гораздо легче и важнее было бороться с метафорой «вишневое дерево» или «Гамлет».
«В метафорическом искусстве Юрия Олеши только говорится “Гамлет”, а подразумевается “свобода”.
712 Героиня заявляет, что в Советском Союзе не ставят “Гамлета”, а думает, что в Советском Союзе — нет свободы. <…>
Это несерьезный конфликт, когда один утверждает, что не будут ставить спектакль, а другой опровергает, тыча в афишу.
Настоящий конфликт начинается, когда становится ясным, что общество хочет отделаться пустячком: на метафору поэта, в которой за единичным значением предмета стоит много значений, общество отвечает единичным значением, конкретным предметом, арифметическим фактом, эмпирической частностью, ничем не являющимися и ничего не выражающими, кроме этого определенного предмета, факта, частности, этого дерева, этого “Гамлета”. Общество прикидывается искренне непонимающим, чего хочет поэт. Герои Олеши хотят не только ставить “Гамлета” в театре им. Азизбекова, но иметь право на свободу, сомнения и выбор. Они хотят, чтобы в проекте была запланирована не только посадка фруктово-ягодных и декоративных деревьев. Они требуют незапланированную индивидуальность и незавизированную лирику»129.
— Оттуда же: Уроки Олеши — рискованное, но зато сильное средство для необходимого обострения и углубления второй сессии (и всего уровня семинара):
«История искусства, то есть история борьбы художника с обществом, страшнее и кровопролитнее, и безнадежней, чем принято думать в академических кругах.
Эта борьба так жестока потому, что общество посильно мешает художнику осуществить его неизменную задачу — сказать обществу, что он о нем думает»130.
Несколько реестров к упражнению «32 фуэте» [реестры в столбики — это я — МБ]:
1) «Он плыл в барже эпохи и не стремился переложить руля. Он катил в омнибусе отечественной словесности и не пытался повлиять на маршрут.
Он понимающе улыбался, когда требовало время, приплясывал, когда вынуждали обстоятельства, кивал, когда диктовал исторический прогресс. И вообще он жил так, как будто его самого, его воли, его власти и не существовало, а существовали только:
эпоха,
обстоятельства,
закономерность,
необходимость,
процесс. Он не понимал, не хотел, боялся понять, что вся эта социологическая империя была заложена, обнесена могучими стенами и окопами, зияющими рвами для того, чтобы не дать вздохнуть, оглядеться, задуматься, посягнуть на священные традиции, сверкающие идеалы, ослепительные вершины и величавое прошлое. И он делал [реестр действий — МБ]:
приятное выражение лица и
делал неприятное выражение лица,
ловил колокольщиков (“петля готова” для Герцена и его друзей),
выскакивал на улицу, приветствуя победы,
кричал,
молчал,
шептал,
свистел,
713 аплодировал,
проявлял энтузиазм,
шаркал ножкой,
сиял от счастья,
гнулся,
барахтался,
умилялся,
рычал,
хохотал,
ликовал,
ползал,
выражал восторг и
негодование,
презрение и
одобрение,
отвращение и
восхищение,
почтение,
огорчение и
умопомрачение»131.
Еще реестр:
«Ничего, кроме болтовни о постепенном и уже ничем не остановимом возврате к так называемым “традициям”, “национальному духу”, “великому прошлому”, “благородным предкам”, к шовинизму, военным захватам, дипломатическим заговорам, ханжеским фразам, монологам о “священном долге”, к полному и безоговорочному подчинению общества государству, к культу сильного, безжалостного, тщеславного, властного, карающего, непомерного государства»132.
2) «<…> предшествующие исторические периоды были характерны тем, что в отдельных случаях оказывалось загажено такое невычисленное число [реестр видений — МБ]
человеческих душ,
памятников духовной
и материальной культуры
языческой и христианской эпох,
такая неисчислимая сумма племен и народов,
погибших
и еще живущих цивилизаций,
сокровищ мудрости,
произведений искусства,
религиозных чаяний,
подвигов
и жертв,
душевной чистоты,
714 гуманности,
отзывчивости
и самоотверженности,
такой пронзительный и густой запах стоял над Планетой, что обляпанному с ног до головы человечеству всю грядущую историческую эпоху предстоит заниматься не теоретической поэтикой, а поиском принципиально новых решений в оснащении ассенизационного парка»133.
3) Как реестр начинает работать на смысл: «Юрий Олеша не пережил самого страшного несчастья, какое может выпасть на долю писателя: запрет говорить людям то, что он знает о них.
Все остальное писатель пережить может [реестр внутренних чувств — МБ]:
голод,
пытку,
гибель близких,
тюрьму,
непризнанность,
клевету,
истязания,
разбитые надежды,
несправедливость»134.
«И потому что истинный писатель не может пережить только молчание, только зажатые железом губы, а все остальное пережить может, то он за нарушенное молчание принимает [повтор с выплеском чувств — МБ]:
голод,
пытку,
гибель близких,
тюрьму,
непризнанность,
клевету,
истязания,
разбитые надежды,
несправедливость»135.
— Реестр из раздела «Образ мира»:
«Пристально и пытливо всматривается Юрий Олеша в стоящий перед ним и надвигающийся на него мир.
Он прислушивается, сравнивает. Сосредоточенно и внимательно вглядывается художник в жизнь, в людей, в историю. Он видит вещи точно, подробно и в связях с другими вещами и обстоятельствами. Художник старается понять, что происходит в мире, полном [реестр поэтических картин — МБ]:
красок,
облаков,
кричащих противоречий,
шумящих деревьев,
715 разбитых сердец,
звездных туманностей,
ожесточенных классовых битв,
ослепительной живописи,
несчастной любви,
триумфов науки и техники,
лжи,
тщеславия,
убийств и
предательств,
розовых зорь,
полезных ископаемых,
человеческого благородства,
палачеств и
самоотверженности.
Он сопоставляет и взвешивает, переставляет, прислушивается. Настороженный и внимательный художник всматривается в мир.
Подобия явлений, которые устанавливает искусство, еще не утратившее надежду, систематизируют действительность. Разнообразные материи и сущности мира стягиваются сходством. Связанная, систематизированная, понятая художником Вселенная живет в произведении искусства. Так возникает образ мира, явленный в слове»136.
«Прославленная и поражающая образность Юрия Олеши начиналась в годы переустройства мира, когда еще не была исчерпана вера в его улучшение.
Сильная и молодая метафора 20-х годов была плодом и средством познающего, анализирующего ума, который хочет понять главное, который хочет понять то, во имя чего живут и часто гибнут люди, — истину.
В годы переустройства мира писатель искал естественные связи между разделенными и разрозненными частями бытия.
<…> Разорванные части бытия он связывает сходством. Слагаемые, лежащие далеко друг от друга, он соединяет линиями»137.
+ «<…> у меня есть дар называть вещи по-новому» («Ни дня без строчки»)138.
«Автор лишь слегка поворачивает предмет [иногда — МБ]. Извлеченный из обычного, привычного восприятия, слегка смещенный, он начинает осмысливаться, а не [просто — МБ] узнаваться»139.
«Проходит двенадцать лет, и зрелый писатель начинает утверждать, что “выглаженное полотняное платье пахнет левкоем”.
Что же здесь более известно — запах выглаженного полотняного платья или запах левкоя? Трудно сказать. Скорее все-таки запах полотняного платья более известен. Это особый вид сравнения, в котором то, с чем сравнивается предмет, так же неизвестно, как и предмет, который сравнивают.
Но сравнение запаха выглаженного полотняного платья с запахом левкоя как бы сравнение наоборот — более знакомое через менее знакомое — не бессмысленно и не смешно, потому что такое сравнение заставляет что-то вспомнить, над чем-то 716 задуматься, задержаться, остановиться. Оно выполняет одну из важнейших задач искусства — заставляет сосредоточиться и увидеть незамеченное, ускользнувшее раньше»140.
И опять — к реестрам: «Другое время и другие обстоятельства требуют короткого и быстрого называния вещей. Письмо становится афористичным и точным»141. [Я: найти актерский эквивалент разнице «плетения кружев» и «афоризма актера» — МБ.]
«Социология афористического письма состоит в том, что его преобладание становится существенным и заметным в эпохи, когда нужно молчать, и поэтому речь растоплена в виде пустых, булькающих, заливших человеческую жизнь фраз, когда невозможно говорить коротко, серьезно и просто, потому что нужно
разливать,
оговаривать,
бормотать, ничего не сказав,
перестраиваться на ходу,
посматривать по сторонам,
оглядываться на чужое ухо,
краем глаза следить за следящим за тобой глазом,
внимательно наблюдать за положением высокопоставленной губы, когда нельзя говорить того, что хочешь сказать. Тогда литература становится
многоречивой,
красноречивой,
велеречивой и
величавой,
подлой,
длинной и
осторожной,
заговаривающей зубы и
приятной для высокопоставленной губы,
глаза и
уха.
Одной из форм протеста против такой эпохи и ее литературы становится
отточенная,
нестыдливая,
выразительная и
бескомпромиссная стилистика,
строгое и
точное письмо,
не боящееся последствий и
не думающее об осторожности,
презрительное и
неизвиняющееся»142.
717 И еще немного другого — из теории композиции:
«При этом считаю нужным сказать, что главное соображение, которое я не забываю, читая художественное произведение, заключается в том, что художественное произведение есть нечто построенное, что это — структура, конструкция, задуманная с определенным намерением и по определенному плану. Поэтому я ищу в художественном произведении намерения, плана и закономерностей. Я стараюсь понять, что автор считает существенным и что получилось таким независимо от него. Художественное произведение есть авторская воля. Эта воля может быть больше или меньше проявлена и больше или меньше осознаваться самим автором, но она есть его воля. Проявлениями этой воли и должен заниматься исследователь. Структура, какой является художественное произведение, или части этой структуры и взаимоотношения частей, не обязательно каждый раз осмысливаются в каждой детали каждым художником. Но ведь в значительном произведении каждая деталь и не вступает в противоречие с другой деталью или со всей композицией. Это происходит из-за того, что художник, может быть, не интересуясь всем, что определяет композицию, какие-то главные вещи все-таки знает твердо. Самопоследовательность второстепенных частей, определенных главными, держит произведение как структуру и исключает наиболее существенные противоречия»143.
+ из рассуждений о конкретности творчества и намеке:
«Художника не занимает описание вещей.Художник не описывает вещи, а приводит их в качестве примера. Он приводит примеры в доказательство своей правоты. <…>
Художник — это человек, которому есть что сказать людям.
Но художник никогда не говорит прямо и просто.
Художник приводит примеры, рассказывает притчи.
Вместо того чтобы сказать “я не хочу ехать в ссылку”, он говорит:
Тучки небесные, вечные странники,
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.
О том, что он думает, художник сообщает с помощью примеров: луны, женской улыбки, истории несчастной любви, Ивана IV, хорошего или еще не оправдавшего надежд председателя месткома.
Метафора художественного творчества начинается не в строке, а в самой задаче искусства, во всей деятельности художника: об одном говорить через другое, связывать явления, систематизировать мир, показывать его бессвязность и бессистемность. <…>
Истинный художник — это все видящий и все понимающий человек, который говорит то, что он думает, и которого за это уничтожают. <…>
Художник должен выстоять, не соблазниться, не испугаться сказать обществу, что он о нем думает, быть уничтоженным обществом»144.
«Истинный художник обязан хоть немножко поцарапать мрамор и бронзу роскошного исторического дворца, населенного героями-канделябрами и стоящими 718 наготове кровавыми лакировщиками-временщиками. Бродя под сводами этакого мраморного дворца отечественной истории, величественной, как станция метро, начинаешь задумчиво читать строки поэта, которому в Версале больше всего понравилась трещина на столике Антуанетты. До того, как этот художник начал подозревать что-то недоброе и отпрянул с ужасом, он понял, что эта трещина — метафора пропасти, в которую революция столкнула империю, казавшуюся нетленной и бесконечной. Потом этот художник — Маяковский — понял еще больше: он понял, что выстроена несравненно более могучая и неизмеримо более бесчеловечная империя. И тогда он застрелился. Вот эту трещину, угрожающую, неотвратимую и роковую, заставленную колоннами, прикрытую
поэтами,
пожарниками,
цензурой,
группкомом,
триумфами науки,
блестящими воинами и
круговой порукой растленного общества, обязан показать выстоявший художник, ибо за всем этим прячут правду люди, которые могут сохранить свою власть лишь благодаря лжи.
Художник знает, что люди в самые замечательные эпохи начинают
предавать друг друга,
извиваться в корчах тщеславия,
терзаться жаждой денег,
власти и
славы,
лицемерить и
лгать,
разбрызгивать апологетические фонтаны,
произносить патетические монологи,
слагать панегирические оды,
растлевать малолетних,
сжигать книги,
запрещать думать и
заливать,
затапливать,
наводнять жизнь липкими,
непролазными,
непроходимыми фразами»145.
+ о «зеленой лужайке», которой может стать наш семинар:
«Но в самую зловещую и темную, и безнадежную эпоху остается зеленая лужайка вольной человеческой мысли, и на нее собираются люди, которые думают трезво, знают твердо, говорят строго, что все пороки общества начинаются там, где ущемляется свобода людей, и особенно там, где ущемление называется высшей и самой замечательной свободой.
719 Вот как это происходило. [Однажды и давно — МБ.]
Семь молодых дам и трое молодых людей приходят на тайную зеленую лужайку и десять дней рассказывают, как
безумен,
горек,
бедствен,
жесток,
безнадежен,
несправедлив и
неисправим мир.
Человек, который думал трезво, знал твердо и говорил строго, понял, что без зеленой лужайки вольной человеческой мысли, где каждый имеет право рассуждать о чем ему заблагорассудится, мир существовать не может»146.
Но на «зеленой лужайке» семинара нам придется, конечно, испытывать давление общества и, может быть, даже большее — гонение, потому что:
«Общество не могло [не может — МБ] примириться с тем, что кому-то удалось избежать всеобщей чумы и рассуждать, как ему заблагорассудится. Оно требовало, чтобы все делали то же дело, какое делает оно, чтобы все были связаны круговой порукой, чтобы некому было судить совершенное [совершаемое — МБ] преступление. Общество хочет, чтобы художник изобразил его таким, каким оно себе нравится»147.
«В блестящем и точном исследовании “Цветок” Пушкин обстоятельно говорит о природе художественного намерения, убедительно показывая, что материал это лишь знак, лишь прообраз того, что хочет сказать художник.
Вот что говорит Пушкин по этому поводу148:
[тут приводятся полностью все 4 строфы стихотворения — см. в моем однотомнике с. 399 — МБ]149.
Совершенно очевидно, что для автора засохший, безуханный цветок сам по себе не обладает значительной ценностью. Однако ценность засохшего цветка резко вырастает, когда обнаруживается, что в нем заложены многочисленные значения. Извлечение их становится задачей художника. Материал, предмет, введенный в художественное произведение, это еще не образ. Это лишь молекула образа, в которой заключены элементы художественного намерения, но которые еще надо высвободить. Назначение материала двойственное: он сам может играть более или менее самостоятельную роль, и он всегда является объектом, из которого извлекаются многочисленные значения. Превращение материала в образ связано с извлечением заложенных в материале значений»150.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: жанровое зерно второй сессии:
Олеша «был уверен, что настоящая литература должна быть такой: философские проблемы, утопающие в необыкновенных метафорах»151.
+ «Эта попытка принадлежит к числу тех прекрасных ошибок [мы тоже заведомо идем на эту ошибку! — МБ], без которых человечество было бы лишено всего 720 всего удивительного и поражающего в искусстве, которое, как известно, представляет собою цепь ужасных заблуждений, кричащих противоречий, чудовищных промахов, кроме, разумеется, того искусства, которое никому не нужно и которое помогает все делать правильно»152.
О хороших и плохих метафорах (что все равно — о метафорах писателя в молодости, в «Зависти», и в старости, в «Ни дня без строчки»):
«В сложной, ветвящейся и точной системе метафор стянуты герои романа. Их связи, узы, неистовость, ненависть переведены на плоскости и точки, разнообразно перемещающиеся в пространстве и вычерчивающие схему взаимоотношений людей разных дорог, врагов, пересекающих друг другу пути, перечеркивающих судьбы друг друга»153.
Вот метафорический ген романа, одна из его ста трех страниц, карта романа в масштабе 1 : 103.
[тут идет цитата из «Зависти» — в моей книге отмечено на с. 53 – 55 — МБ.]
«Художественное открытие заключалось в том, что была создана метафорическая система, которая определяет взаимоотношения героев, выражает структуру романа и предрешает его исход. В такой системе вещи сравниваются как бы легко и как бы без специального намерения. <…>
Это было в те давние, забытые и пугающие годы, когда у него еще оставались концепция и надежда.
Когда же концепция раскрошилась и рассыпалась, а надежда была утрачена, метафора потеряла свое высокое назначение и превратилась только в уподобление по сходству.
“Ливень ходит столбами за окнами, прямо-таки столбами. Похоже на орган”, — уверяет теперь Олеша. <…>
Новая [старческая — МБ] метафора, не обеспеченная активами и золотым запасом серьезных и не испуганных мыслей, претерпела инфляцию. Было выпущено слишком много, чересчур много метафор, было упущено слишком много возможностей, истощилась короткая вера в свою правоту. Вокруг явления и вещи утрачивали связь, люди разбредались, расползались в стороны.
Ходит столбами ливень за окнами кафе.
Стоит орган за стенами консерватории.
Сидит писатель за своим столом.
Ничто не соединяется, все смотрит в разные стороны, все рассыпается под руками. Где-то в огороде растет бузина. Далеко в Киеве живет дядька. Сидит за своим столом писатель»154.
Это просто замечательная метафора.
|
«В новой метафоре Юрия Олеши соединены слишком малые площади сходств. Все, что лежит вне этих едва заметных подобий, в соприкосновение не вступает. В метафору не попадает большая часть вещи. Уподобление едва держится; оно вертится на одном гвозде. Писатель неистово заколачивает гвоздь в пыль, прах, ложь»155. |
Хогарт (1697 – 1764) |
|
{721} История любовных похождений одинокой женщины |
История шлюхи |
|
История любовных похождений одинокого мужчины |
История распутника |
|
Вечная сокровищница Японии |
Брак a la mode |
И там, и тут: бренность жизни, порочность человека, богатство и любовь как источник преступлений.
— Шоковые вещи у Стерна и у Хогарта: «Карьера потаскухи» — светская серия. И еще: в картины серии вставлены портреты реальных людей: сексуальный маньяк из военного дворянства, известная лондонская сводня и хозяйка роскошного публичного дома, лондонские врачи, судьи и т. п. И еще: невиданное соединение вымышленных персонажей с реальными современниками. Еще: сочетание будничности событий с их торжественной, порой трагедийной интерпретацией; контрасты комического и страшного — все это было для живописи совершенно новым, свойственным скорее театру.
— Наш «спектакль» — как выставка эскизов и этюдов к картине, которая будет написана «всегда завтра» (ср. эскизы Александра Иванова156).
— И еще одна аналогия Хогарта со Стерном157, помогающая понять и Стерна, и М. А. Чехова: «Хогарт очень редко поднимался до высокой трагедии, но почти на все смешное, что он изображал, падал трагический отсвет. В наиболее значительных его работах, где есть хоть доля сатирического начала [смешного — МБ], непременно присутствует и доля горечи».
По сути дела, Хогарту всегда присущ гротеск. «Сближая далекое, сочетая взаимоисключающее, нарушая привычные представления, гротеск в искусстве родствен парадоксу в логике. С первого взгляда гротеск только остроумен и забавен, но он таит большие возможности» (Л. Пинский)158. У Хогарта, «если угодно, некий будничный, заземленный, смешной и печальный гротеск. Он ýже и конкретнее созданий великих комедиографов и сатириков.
И это гротеск — зрелищный.
Впервые изобразительное искусство несло в себе ярко выраженное начало зрелищной повествовательности, соединенное с высокой художественностью. Англия такого прежде не знала, и не будет излишней смелостью предположить, что такого не знал и континент. <…> мысль о создании живописного спектакля сама по себе совершенно нова»159.
«Хогарт же соединил нравственный пафос литературы и драматургии с занимательностью театрального зрелища и сделал изобразительное искусство средством выражения просветительских идей до того, как литература стала достоянием многих. Неграмотные или малообразованные люди не читали книг. Но они с шекспировских времен ходили в театр. И они затем получили возможность видеть в витринах хогартовские гравюры [сделанные самим Хогартом по сериям картин — МБ]»160
!!! А в конце — возвращение живописи в литературу и театр: поэмы, спектакли по мотивам картин (6 серий)!!! — это было беспрецедентно и это был успех.
722 Через несколько дней эта запись (фраза, которую я выделил выше) заставила меня задуматься. Я прочел ее снова и не мог — из-за склероза — вспомнить, выписка ли это из книги о Хогарте или мой собственный комментарий по поводу. Если это моя мысль, то сегодня я ее дополню и разовью так: я отметил то, что и случай с Хогартом (его заем из театра и литературы, возвращенный с лихвой: его картины инсценировали актеры и режиссеры, его героев использовали в романах и поэмах — даже великий писатель Филдинг!) и его успех мы можем использовать как модель своих действий в конце — в конце первой сессии (?) или в конце обучения — в последней, восьмой сессии (как? может быть, Саша рисует персонажей и они будут «оживать» и включаться в спектакль?) Думать!
_______
А сейчас (раннее утро субботы 1 августа 1992) пришла и такая — очень перспективная идея: и в первой сессии, и в последующих в момент, когда и как только начнет вырисовываться что-то похожее на спектакль, — останавливать работу и заставлять (просить!) их подумать-помечтать: «а какие спектакли мы можем сыграть?» — чтобы у них вырабатывалась привычка думать о будущем своем театре без режиссера и без драматурга!!!
_______
— Перспектива возможных упражнений, только не могу решить, в какую сессию: живой цвет (см. прекрасные мысли МАЧ на с. 119161) — аккорд (то есть сердечное согласие цвета и актерской жизни).
— Можно состряпать тренинг для первой сессии с тем, что упражнения перерастут в показ: один читает тексты Стерна (или А. П. Чехова), а другие в это время играют то, о чем читается. Не иллюстрация, а перенос акцента — с актера на чтеца. (Может быть, после упражнений типа «гидаю» посмотреть в листах с упражнениями двух первых сессий).
Все это возникло на почве чтения с. 126 1 тома: «Гамлет» с шарами162.
+ Тренинг по МАЧ: играть звуки и буквы, которые Чехов мыслил как «отдельные, самостоятельные существа с индивидуальной душой» (см. с. 218 – 221 первого тома); звуки — персонажи вечной пьесы, они — ваши роли — увидьте их и станьте ими. Потом играть слова чужого языка, не зная перевода, кто как это слово ощущает, а потом прочесть перевод слова — и снова: твои (мбоу), окори и др. Из словарей набрать ассортимент слов. Потом — с цифрами. И в конце разыграть телефонную книгу. Попутно — разговоры из Соссюра, Бенвениста и структуралистов. И от этого перейти к «спеллингу»163.
Оговорка: вас мы не стараемся мучить бессмысленными упражнениями (вроде пресловутой машинки) — мы занимаемся тренингом, только имеющим практическую перспективу в работе актера. Объяснить и переключить на момент в план творчества в импровизациях (волшебное слово Андуйетской настоятельницы164 — это к примеру).
— М. А. Чехов о двух проблемах, которым будет посвящен тренинг в первой сессии: о проблеме «время на сцене» и о проблеме поля и излучений. Говоря о замедлении 723 и ускорении времени на сцене (на примере «Смерти Иоанна Грозного»), Чехов отмечает роль ритмического рисунка, создаваемого режиссерскими приемами. «И, во-вторых (и это самое важное), неподдающейся внешнему учету силой излучения, исходящей от актера. Вдохновленный умирающим Грозным, я действительно излучал в зрительный зал и замедленное время, и полную его остановку. В момент вдохновения (то есть отказа от своей маленькой личности) путем излучения актер может передать своему зрителю все, что хочет он сам, автор пьесы и их общее творение — сценический образ»165. Нужно разработать этот тренинг — полем передавать непередаваемое. Думать, как.
Лозунг для тренинга (и первой сессии вообще):
Как и вся система М. А. Чехова, основанная на косвенном высказывании, на непрямом воздействии, наш тренинг парадоксален: в нем главное — побочный «продукт», сопутствующий результат. Проделывая жест, мы получаем волю, которой не добивались; «окрашивая» движения, мы получаем эмоцию, неожиданную и подлинную; играя, шутя, озорничая, мы обретаем философию и психологию, причем самую глубокую и современную — экзистенциальное присутствие в мире — hic et nunc166. К переживанию, к духовности, к чувству нет прямого пути — это М. А. Чехов впитал, усвоил, переварил еще от КСС.
Сегодня (25 августа 1992 г.) долго искал и не мог найти соответствующую свою запись, посвященную упражнениям с вещью (с предметом), «борьбе» с вещью. Поэтому записываю снова: Вещь, предмет как тема упражнений первой сессии. Может быть, связать это с Параграфом 3 в плане тренинга для первой сессии — структура предмета и игрушки. А теперь по существу. Берется вещь как тема импровизации. Сравнить то, что я увидел у Г. М. Абрамова: воздушный шарик Володи Беляйкина167, лепестки роз, перепутанные башмаки и туфельки, веревки, газеты, бусы из предыдущего показа.
+ Очень эффектные идеи Иннокентия Анненского, см. «О лирике», с. 327, низ — с. 328, верх168 — обязательно и каждый раз перечитывать, чтобы понять принцип отбора вещей как тем для импровизации. «Скрипка, шарманка, будильник, испорченные часы, горящий фитиль, выдыхающийся детский шар»169. Траектория будущей серии упражнений: от прямого (бытового) использования вещи — к поэтическому, образному обыгрыванию. Для последнего и пригодится как модель принцип использования вещи у Анненского.
Расширить в разговоре об упражнениях диапазон («О лирике», с. 323 – 329170).
Тренинг по М. А. Чехову.
(к теме первой сессии — «репетировать в воображении»).
Пьер Паоло Пазолини о «несобственно прямой речи» (см. «Строение фильма», с. 54 и дальше171):
«Это просто погружение писателя [у нас — актера — МБ] в духовный мир его персонажа и, благодаря этому, восприятие им не только психологии, но и языка этого персонажа. <…>
724 Когда сценарист использует выражения “Будто увиденная глазами Аккатоне, Стелла прогуливается по замусоренной лужайке” или: “На переднем плане — Кабирия, она озирается и видит…” <…> он тем самым намечает схему того, что в момент съемок [в момент игры на площадке, в момент импровизирования от имени персонажа (Тристрама-мальчика, Тристрама-автора, Стерна, Холла-Стивенсона и т. п.) — МБ], а особенно при монтаже фильма, станет его “субъективной точкой зрения”. Знаменитые, быть может, за счет своей экстравагантности, субъективные ракурсы вполне правомерны — наша память связывает их с субъективной “точкой зрения” мертвого тела, которое “видит” весь мир так, как может видеть его человек, лежащий в гробу, то есть снизу вверх и в движении.
Так же как писатели не всегда точно представляют себе технику передачи несобственно прямой речи, так и режиссеры [+актеры у нас в семинаре — МБ] по сей день находили для нее стилистическое решение, абсолютно бессознательно или же чрезвычайно приблизительно отдавая себе отчет в своих действиях.
Тем не менее, совершенно очевидно, что в кино [в театре у нас! — МБ] также возможна несобственно прямая речь, но лучше назвать ее “несобственно прямой субъективностью”»172.
+ из того, что Пазолини говорит раньше: «психологическая и индивидуализированная объективизация персонажа — это факт не языковой, но стилистический»173.
+ и намного ниже Пазолини повторяет:
«Таким образом, если автор [актер — МБ] воплощается в своего персонажа и через него излагает событийный ряд или представляет мир <…> производимая им операция не может быть лингвистической, но лишь стилистической»174. К важности стиля! «Только через стиль!» — МБ
И еще раз: «Таким образом, основополагающая характеристика “несобственно прямой субъективности” — то, что она по своей сути относится не к лингвистике, но к стилистике. <…> А это, по крайней мере теоретически, приводит к тому, что “несобственно прямая субъективность” обязательно должна принести в кино [в театр Чехова М. А. — МБ] крайне разнообразные стилистические возможности и в то же время высвободить возможности экспрессивные, сконцентрированные в традиции обычной прозы, в своем роде возвращаясь к истокам, с тем чтобы найти в технических средствах кино [и, конечно, театра — МБ] исконно ему присущие: хаотичность, онирические175, варварские, агрессивные, визионерские качества. Одним словом, именно на ней и лежит задача учреждения в кинематографе [в театре — МБ] гипотетически возможной традиции “языковой техники поэзии”»176.
Я: И от простой проблемы, расширяясь до фундаментальной, — чтобы открыть смысл проделываемых упражнений, осветить их светом огромного смысла, мы переходим к следующим положениям Пазолини-теоретика:
«Основная характеристика этих знаков [образов — МБ], составляющих кино-поэзии, тот феномен, который обычно банальнейшим образом определяется специалистами выражением: “Дать почувствовать камеру” [у нас это — дать почувствовать сцену, театр, игру — МБ]. <…>
725 Но в таком случае необходимо отметить: для великих кино-поэм (от Чаплина до Мидзогути и Бергмана) общей и наиболее характерной чертой была та, что “камера в них не чувствовалась”, то есть эти фильмы не были сняты по канонам “языка поэтического кино”.
Их поэзия была вне речи как речевой техники»177.
Я: переводя это научное выражение на наш язык, мы получим модель: Их поэзия была вне игры как театральной техники.
+ из итогового резюме Пазолини:
«2) Как мы уже неоднократно отмечали, использование “несобственно прямой субъективности” в поэтическом кино есть лишь предлог, оно нужно для того, чтобы говорить косвенно, с помощью какого-либо нарративного алиби, — от первого лица, а, следовательно, тип речи, который используется для внутренних монологов такого рода “маскирующих” персонажей, — это речь от “первого лица” человека, видящего мир в основном в иррациональном свете и для самовыражения вынужденного прибегать к самым кричащим выразительным средствам “языка поэзии”.
3) Эти персонажи могут быть выбраны лишь из той же культурной среды, что и автор [это последнее обстоятельство чрезвычайно важно для нашего семинара, и его необходимо проакцентировать: уголок интеллигенции, заповедник интеллигентов средней руки из числа актеров и зрителей как Первая студия и МХАТ Второй — МБ], — то есть они являются его аналогами с точки зрения культуры, языка и психологии, “изысканными цветками буржуазности” [как и наш патрон — М. А. Чехов — МБ]. Если же они принадлежат к другому социальному миру, то тогда они будут мифологизированы и ассимилированы в типизации разного рода аномалий, неврозов, форм гиперчувствительности и так далее. Одним словом, буржуазия [средний класс, о котором теперь у нас так усиленно говорят — МБ] и в кино вновь идентифицирует себя со всем человечеством в иррациональной межклассовости»178 (заглядывать в последний абзац статьи — см. с. 66)179.
Я: В свете этих записей пробую с ходу составить классификацию упражнений из цикла «репетировать в воображении»:
1) Увидеть персонаж (его лицо, руки, костюм, услышать голос и т. п.).
2) Увидеть в воображении себя рядом со своим персонажем, заставить общаться и посмотреть, как они между собой «живут».
3) Увидеть тот или иной предмет (пейзаж, человека, явление природы) глазами «увиденного» до этого персонажа.
4) Увидеть два любимых персонажа (из одной пьесы, рассказа, повести А. П. Чехова, из разных пьес).
5) Увидеть массовую сцену (сценические и внесценические события).
Добиваться все больших подробностей, цельности, цвета, цветомузыки, полноты. Сказать, что я теперь после Италии сам убедился в возможности (технической) этого приема.
726 Тренинг, связанный с речью и звуком (для первой сессии).
1) «Круговая оборона» (отделение информации от говорящего и перенесение внимания на слушающего — как бы в кадре только слушающий, может быть, проакцентированный рамкой, а говорящий — «за кадром»). Это нужно связать со спецификой наличия зрителей вокруг актера (каре зрителей — «арена-стейдж» или с трех сторон). Надо научиться создавать равноправное положение для всех зрителей — через диалог отвернувшихся (почему?) друг от друга людей.
В чем кайф упражнения? Не только в наслаждении от «Ах, как я говорю!», но и «Ах, как я окунаю!»
2) «Кто важнее?» — тот, кто говорит, или тот, кто слушает. Или: «Что важнее?» — содержание текста или реакция на этот текст, его восприятие. К этому из Кракауэра: «<…> речь следует рассматривать в свете двух видов взаимосвязи “фонограммы” с “изображением” [кавычки мои — МБ], чтобы, во-первых, выяснить роль, предоставленную тому и другому, то есть выражаются ли идеи фильма преимущественно фонограммой или же “кадрами” “зрительного ряда” [кавычки опять мои — МБ], и, во-вторых, определить метод сочетания звука с изображением в каждом данном отрезке фильма [спектакля — МБ]»180.
3) Шумы как зондаж (не просто шумовое оформление импровизации, а заглубление ее, погружение с помощью звуков происходящего в пучины первобытности, приближение импровизации к истокам — к истокам искусства, к истокам психологии, к истокам жизни). «Шумы проходят мимо разума и адресуются к чему-то глубинному и врожденному» (Кавальканти)181. Не иллюстрация предлагаемых обстоятельств действия, а художественное раскрытие эстетической и психологической ситуации, дополнительное открывание смысла, дополнительная информация. Удвоение информации и одновременная эстетизация бытового факта. Та же двойственность, что и в теме антиномии «театральность Û правда». Красота Û натурализм. Поэзия Û быт. Сцена Û жизнь. Бытовые шумы и шумы мистические, символические, преображающие. Так и этак. Не или-или. Бульканье, чавканье, звуки лопнувших струн и бадьи, срывающейся в колодец, вой, вздох, падение капли в ведро, чей-то смех, плач младенца и все это (и многое другое) в самых неожиданных сочетаниях с импровизациями на тему Стерна и его последователей. Поэтика шумов и звуков.
Примеры: Юмористика. Рене Клер в «Миллионе» драку из-за пиджака с лотерейным билетом озвучил шумами игры в регби. Старые «комические» впоследствии нередко озвучивали шумами в манере, напоминающей этот звуковой гэг Клера. Например, мы видим, как герой немой комедии разговаривает, а слышим гудки автомобильного клаксона. Эффект смешной, хотя и грубоватый. Символика. Стук теннисных мячей в «Блоу-ап» Антониони. Эффект — мистическая гулкая жуть, усиливающая мнимость жизни — главную идею фильма.
4) «Включение и отключение» (шумов, диалогов, музыки и изображения).
Отрабатывать сознательное комбинирование средствами «изображения», (то есть импровизируемого этюда) и «звука» (шумов, музыки, комментария «гидаю»), 727 привыкая в тренинге к различным комбинациям-композициям этой и другой составляющих: совпадения, разноголосицы и минус-приема в той и в другой линии.
Цитаты и пересказы:
«Шумы — это сами по себе образы; их можно не подкреплять кадрами изображения — как только мы узнаем шумы, в памяти возникает образ их источника — его нет надобности показывать» (Флаэрти)182.
«Поразительный эпизод на болоте из фильма Кинга Видора “Алилуйя” озвучен сложными шумовыми рисунками, по которым зритель узнает, что в болоте есть невидимая жизнь»183.
Я: учиться в тренинге создавать шумовую среду, рисовать звуковую среду, способную заменить декорации, свет и костюмы вокруг действующих лиц.
«Нельзя обойти здесь и эпизод с апашами из фильма “Под крышами Парижа”. Когда на загородной улице при тусклом свете газовых фонарей апаши останавливают намеченную жертву, в ночь неожиданно врываются шумы, обычные для железной дороги — свисток паровоза, стук вагонных колес. Они как будто ничем не оправданы; и все же, запечатлевая их в своем сознании, мы чувствуем, что они привносят нечто важное. Своим иррациональным присутствием они выдвигают на первый план всю окружающую среду действия, делают ее полноценной участницей фильма; а явно случайный характер этих шумов обостряет ощущение фрагментарности ситуации фильма <…>»184.
«В фильме Ренуара “Человек-зверь” песня, доносящаяся из соседнего дансинга (в данном случае звуки музыки использованы как шумы), заполняет комнату Северины. В момент, когда Жак убивает ее, наступает тишина; затем, когда все уже свершилось, мы снова слышим звуки дансинга» (обе цитаты из Кракауэра)185.
Врезка: Общий тренинг (тезис) — это сознательный, волевой ход, это — расчет; тренинг по Чехову (антитезис) — это спонтанность, озорная проба, «безответственность», полная непредсказуемость для других и для себя; ваши творческие часы (синтез) — это синтез первого и второго, это открытие, откровение, отдача. (Уточнить синтез!)
Тренинг к первой сессии. Будем смеяться. Будем учиться смеяться сами и заражать своим смехом других.
а) Сделать несколько попыток вызвать в себе смех и вызвать его в других.
б) Проанализировать, у кого и почему получается и у кого и почему не получается.
в) Выучить «виды смеха» (по списку Юренева, приводимому Проппом186, на завтра дополнить список и практически пройтись по нему.
г) Смеяться под музыку на все виды и лады (см. здесь же с. 17 Проппа).
д) Виды смеха у М. А. Чехова (вспомнить, классифицировать и сделать тут же, не отходя от кассы и на перерыв).
+ рассматривание картины Репина «Запорожцы…»187.
— Придумать упражнения на тему «смешные вещи» (по Проппу — см. с. 25 – 26) — связать с серией упражнений «Борьба с вещью»: «Чтобы вещь стала смешной, человек <…> с помощью своей фантазии должен превратить ее в живое существо»188.
— Примеры английского юмора: см. Пропп, с. 87.
728 Субъект комизма и комические объекты.
Несколько выписок по поводу смешного:
— Кант: «Смех есть аффект, проистекающий из внезапного превращения напряженного ожидания в ничто»189.
— Пропп: «Смех осуществляется при наличии двух величин: смешного объекта и смеющегося субъекта»190.
— Пропп: «К смеху склонны люди молодые и менее склонны старые, хотя надо сказать, что мрачные юноши и веселые старички и старушки все же отнюдь не редкость»191.
— Пропп: «Наличие юмористической жилки — один из признаков талантливости натуры»192.
— «Агеласты (то есть люди неспособные к смеху)»193.
— «Комизм покоится на человеческих слабостях и мелочах» (Ник. Гартман)194.
— Очень важно: «любое повторение любого духовного акта лишает этот акт его творческого или вообще значительного характера, снижает его значение и тем самым может сделать его смешным»195. К теме импровизации и к запрету на повторы — МБ.
— «Мы смеемся всякий раз, когда личность производит на нас впечатление вещи» (А. Бергсон)196.
— Очень важно — применить к МАЧ образ Иванушки-дурачка (ср. фотографию) по Проппу (см. с. 81 и 90) — («Дурак с философией» — МБ). «Сказки о глупцах также обладают своей философией. Дураки в конечном счете вызывают симпатию и сочувствие слушателей. Дурак русских сказок обладает нравственными достоинствами, и это важнее наличия внешнего ума»197.
— Пропп: «В трагедии мы сочувствуем побежденному, в комедии — победителю»198.
Список объектов комизма:
(то, что вызывает смех, или то, что допускает обнаружить, вытащить из него смешное);
(во всем легкость!).
1) тело человека (нагота, толщина, худоба) — /сморчок/199;
2) комизм еды (обжорство, гурманство, составление меню);
3) комизм питья и опьянения (три степени опьянения, зарисовки) — /было, было/;
4) физиологические функции — /любимый вид/;
5) забота о своей наружности;
6) человеческое лицо (нос) — /курносый (прятал)/;
7) два сходных лица /три, четыре и т. д./ (или дублирование);
8) комизм отличий (от всех) — (или странность) — /было/;
9) сходство человека с животным или вещью — /см. его — МАЧ — рисунки себя/;
10) сходство с куклой (человек — марионетка, см. с. 59) — /было (и сам — кукла, и с куклой)/;
11) смешные профессии (повар, врач, судья, полицейский, «профессор»);
12) чужой стиль (пародирование и травести) — /было/;
13) преувеличение (гипербола) — /было/;
14) неожиданные (вдруг) мелкие неудачи и несчастья — /было/;
729 14 — а) рассеянность, анекдоты о рассеянности — /А. Белый с котом/;
15) физические недостатки: глухота — /было/;
16) подслеповатость;
17) дефекты речи;
18) икота;
+ побаловаться запретным: горбун, хромой;
19) одурачивание (+ обманутый обманщик) — /бесконечные розыгрыши/;
20) глупость, алогизмы = «дурак» — /любил идиотизм/;
21) ложь;
22) оптимист, попадающий в мелкую беду, этот оптимизм ни на чем не основан — он просто есть (выход на арену клоунов, сияющих от удовольствия)200. Очень важно для Стерна и для М. А. Чехова за границей;
23) Qui pro quo (один вместо другого, одно вместо другого — обнаруживается, что что-то есть ничто;
24) обрядовый и разгульный смех (перевести в объект — как?).
Все это (вместе и по отдельности) связать с творчеством и индивидуальностью М. А. Чехова (пропустить через него).
О коллективном характере смеха и заразительности: см. Бергсона201.
Прежде чем перейти к этой классификации по Проппу, надо будет провести конкурс по Стерну: пусть каждый вспомнит смешной момент или смешную вещь и, проанализировав ее, раскроет причину и механизм смеха. Потом составить из этого случайного массива комических приемов «классификацию» и только тогда перейти к выпискам из Проппа на обороте этого листа. Начало: «Предположим, что роман Стерна “Энциклопедия смешного”».
Если на предыдущем листе описано то, что касается «насмешливого» смеха, то здесь перечисляю другие виды смеха (с адресами у Проппа). Всем этим будем заниматься вплотную на первой сессии:
— жизнерадостный смех — с. 134 – 135;
— обрядовый смех — с. 135 – 136;
— разгульный, животный смех — с. 137 – 140.
Последний вид, как мне показалось, можно чрезвычайно эффектно связать, соединить с самой большой импровизацией сессии (и показа!) — с переполохом в городе Страсбурге по поводу большого носа Диего. Сначала как парные, тройные и четверные импровизации (под маской тренинга), потом как большая проба в воображении (и придержать, не делать практически), и через несколько дней (после разговора о разгульном смехе, после смеха под музыку) попробовать на одном из звуков всем сразу, сделав акцент не на Стерне, а на разгуле хохота и похабели.
Очень важно: практика смеховых проб не должна быть долгой; это нужно принимать понемногу, как гомеопатическое лекарство. И — «краткость — сестра таланта».
(Вторник. 8.09.92)
730 Я: Смех иррационален, как счастье и беда. И, конечно, самое трудное, а может быть, и самое безнадежное — это логический анализ и рационалистическое классифицирование видов смеха и пружин смешного, комизма. При этом исчезает смех, и смеяться ну никак не хочется. Поэтому, отметив труды Бергсона и Проппа, я попытаюсь изложить свою концепцию смеха в виде перечня упражнений, подводящих к смеховой ситуации и артистов, и зрителей.
17.03.93
Несколько условий возникновения смеха:
— «Вдруг» («исконная форма смеха — внезапный взрыв, вспышка, которая так же быстро проходит, как и возникает»202);
— Неожиданный ход (или, с другой стороны, неожиданное открытие);
— Разоблачение (за респектабельной или претенциозной внешностью обнаружить внутренний мелкий недостаток или пустоту, или прочитать за внешним внутреннее);
— «Искусство или талант комика <…> состоят в том, чтобы, показывая объект насмешки с его внешней стороны, таким путем раскрыть его внутреннюю недостаточность или несостоятельность»203;
— «Смех наступает тогда, когда внешний недостаток воспринимается как сигнал, как знак внутренней недостаточности или пустоты»204;
— «Мелкие внешние недостатки смешны, смешны и внутренние недостатки. Их искусное соединение, демонстрация одних через другие представляет собой высшую ступень комизма и вызывает взрыв хохота»205;
— Проявить несоответствие (прелюдии и фуги, подготовки и итога, внешнего и внутреннего, процесса и результата, надежд и свершений, обещаний и исполнений, замаха и удара и т. д., и т. п.) + несоответствие причины и следствия, конкретнее: события и реакции на него.
Упражнение «Парадокс реакции».
(Более поздние упражнения.)
Применительно к изучению смеха, затем Стерна (см. События, с. 15, верх), затем жизни:
а) большая причина вызывает ничтожно малое следствие;
б) ничтожная причина вызывает очень большое, грандиозное следствие.
(Имеется в виду, помимо всего прочего, что причина — это событие, а следствие — это оценка или реакция.)
Примеры: смерть Бобби (а) и путаница имен Трисмегист и Тристрам (б).
Упражнения из сериала «Непроизвольные жесты».
(Более ранние упражнения.)
Начну с цитаты из Бергсона: «комедия <…> вместо того, чтобы сосредотачивать наше внимание на действии, она направляет его главным образом на жесты»206. Не зря, не зря у М. А. Чехова нет главы о действии (как у КСС) и есть большая, капитальная глава о жесте (ПЖ).
«Под жестами (это снова из Бергсона) я понимаю здесь позы, движения и даже речи, в которых известное душевное состояние проявляется без особой 731 цели и корысти, лишь в силу непреодолимого желания проявить себя. Жест в таком определении глубоко отличается от действия. Действие преднамеренно, во всяком случае, сознательно; жест непроизволен и автоматичен. В действии участвует вся личность целиком; в жесте проявляется только отдельная часть личности, без ведома или по крайней мере помимо личности в целом. Наконец (и это важный пункт), действие в точности соразмерно с чувством, которое его внушает; существует постепенный переход от одного к другому, так что наше сочувствие или наше отвращение могут скользить по нити, идущей от чувства к поступку, все усиливаясь. Жест же — это нечто, напоминающее действие взрыва; он пробуждает нашу восприимчивость, готовую дать себя убаюкать, и, заставляя нас опомниться, он мешает нам относиться серьезно к происходящему. Следовательно, как только внимание наше сосредоточится на жесте, а не на действии, перед нами будет комедия»207.
+ Я: Надо научиться «пускать себя», превратить себя как бы в сосуд, в котором происходят не химические, а психологические «реакции», в сосуд сверхчуткий к рождающимся в нем «жестам», умеющий ждать и дожидаться возникновения по-настоящему непроизвольных душевных движений и, как только они перерастут во внешние импульсы, выпускать эти импульсивные жесты из себя-сосуда. И пусть они будут самые нелепые, вроде бы не идущие к делу, — они постепенно будут становиться все смешнее.
Градации:
1) Я пустой сосуд — что во мне возникает?
2) Я сосуд, наполненный спесью (добротой, завистью и т. п.) — что во мне возникает?
3) Я сосуд, переполненный радостью (злобой, похотью и т. п.) — я сдерживаю, потому что это плохо, но что-то вырывается из меня помимо моей воли.
4) Я сосуд по имени Тоби Шенди (Обадия, вдова Водмен и т. д.) — что во мне возникает, что из меня рвется?
5) Я автомат по имени доктор Слоп (капрал Трим, мать Тристрама и т. д.) — я придумываю себе автоматическую программу. Какие «жесты» лезут из меня?
В связи с предыдущим упражнением встает одна из самых главных задач первой сессии — мы должны создать совершенно непривычную, особенную психофизическую среду, в которой могли бы и должны бы свободно и естественно возникать художественно ценные, но спонтанные и обязательно новые структуры: образы, символы, метафоры, обрывки самых разнообразных актерских мелодий и мотивов, — создаваемые из слов, жестов, звуков, цветов, ощущений и молчаний. Для этого от вас потребуются: особая, увеличенная до предела чуткость, особое, многоплоскостное внимание к микрособытиям этого урока, к неожиданным «аккордам» ваших ощущений, к «случайным ансамблям» каждой секунды вашего и окружающего вас существования, особая, невероятная доброжелательность к творчеству партнера (на публичных уроках в число партнеров включается и зритель).
732 Я: Когда упражнение приобретает качество искусства, когда оно дорастает до статуса волнующего зрелища, оно, увы, становится, как и любое настоящее произведение, неповторимым, то есть теряет смысл для тренинга. (Пример: ленинградская фуга.)
Под микрособытием мы будем понимать малейшее изменение в настроении работающего на площадке и сидящего вокруг коллектива: отключение кого-нибудь из партнеров, возникновение замысла у кого-то из них, объединение кого-то с кем-то (то есть создание новой потенциальной группировки), подсознательный переход в течении импровизации (переход к кульминации, к коде, к «захвату» зрительного зала).
Под аккордом ощущений мы будем подразумевать сочетание двух-трех-четырех-пяти впечатлений, доставляемых вам вашими органами чувств, чем-то близкое вам и волнующее вас. Или же чреватое интересным художественным эффектом.
Под случайным ансамблем мы будем иметь в виду подбрасываемое нам окружающей жизнью сюрпризное соединение нескольких обстоятельств внешнего и внутреннего порядка: за стеной что-то стукнуло, с улицы донеслась песенка, актер перепутал текст или мизансцену — и вы немедленно включаете это в свою [нрзб.] жизнь. Договоримся: ни одного пропущенного случайного звука, слова, смешка, скрипа — все включается в «случайный ансамбль», психологически оправдывается и реакция тут же выносится на «периферию тела» (АДП).
Это все — механизмы чеховской игры, чеховской технологии актерского мастерства.
Это — наше «ноу хау». Поехали!
733 Комментарии
Театральная педагогика М. М. Буткевича: поражение и победа
1 Чехов М. А. <О пяти великих русских режиссерах> // Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. / Общ. науч. ред. М. О. Кнебель; ред. Н. А. Крымова; сост. И. И. Аброскина, М. С. Иванова, Н. А. Крымова; коммент. И. И. Аброскиной и М. С. Ивановой. 2-е изд. испр. и доп. М., 1995. Т. 2. С. 376 – 377. Далее Чехов.
2 Буткевич М. М. К игровому театру / Отв. ред. А. И. Живова. М., 2003. Это издание вышло без центральной главы «Игра с актером», которую автор не успел закончить при жизни. Подготовительные материалы к этой главе опубликованы: Буткевич М. М. К игровому театру: В 2 т. / Под общ. ред. А. И. Живовой; сост. О. Ф. Липцын, Л. Н. Новикова, Р. А. Тольская. М., 2010. Т. 2. С. 31 – 342. Далее Буткевич.
3 В Театре Советской Армии Буткевичем были осуществлены постановки: «Элегия» П. И. Павловского (1967), «Два товарища» по повести В. Н. Войновича (1968), «Цемент» по роману Ф. В. Гладкова (1973).
4 Московский театр «Школа драматического искусства» под руководством Анатолия Васильева открылся 24 февраля 1987 г. спектаклем «Шесть персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло.
5 Историю создания семинара-лаборатории «Десять времен года» см.: Буткевич М. М. К игровому театру. Т. 1. С. 350 – 354.
6 См.: Там же. С. 355 – 372.
7 См.: Там же. С. 533 – 546.
8 См.: Там же. С. 647 – 654.
9 Там же. С. 354.
10 Проспект «Чеховского семинара» см.: Буткевич М. М. К игровому театру. Т. 2. С. 337 – 342.
11 Чехов М. А. О любви в нашей профессии // Чехов М. А. Лит. наследие. Т. 2. С. 346.
12 Буткевич М. М. К игровому театру. Т. 1. С. 656.
13 См.: Буткевич М. М. Программа семинара «Десять времен года» // Театр. Живопись. Кино. Музыка: Ежеквартальный альманах. М., 2008. № 4. С. 184 – 195.
Михаил Буткевич
Набросок учебной программы Чеховского семинара…
18 В разделе «Творческая индивидуальность» книги «О технике актера» М. А. Чехов размышляет о трех видах сознания актера в процессе создания образа. Носителем первого являетесь «вы же сами, с вашими душевными волнениями, с вашим телом, голосом и способностью движения». Обыденное, заурядное сознание становится «материалом», «когда вами овладевает творческий импульс, то есть когда ваше высшее “я” пробуждается к деятельности». При этом «наряду с вдохновением, исходящим от высшего “я”, должен быть сохранен и здравый смысл низшего “я”». И, наконец, «созданный вами 734 сценический образ есть носитель этого третьего сознания» (Чехов М. А. Лит. наследие. Т. 2. С. 246 – 247).
19 Шматий — элемент женского наряда (накидка поверх хитона) в древнегреческом театре.
20 Бакатин Вадим Викторович (р. 1937) — государственный и политический деятель эпохи перестройки. Министр внутренних дел СССР (1988 – 1990), председатель Комитета государственной безопасности СССР (август – октябрь 1991), член ЦК КПСС (1986 – 1991).
21 Коммос — в античном театре совместная партия актеров и хора, призванная передать эмоциональное напряжение.
22 Ваби-саби — одно из центральных понятий японской эстетики. «Ваби» ассоциируется со скромностью, неяркостью, но и внутренней силой. «Саби» — с архаичностью, неподдельностью, подлинностью. Постижение ваби-саби приходит через осознание трех простых фактов: ничто не вечно, ничто не закончено и ничто не совершенно. В дзэнском ощущении мира одиночество и потерянность переживаются как положительные состояния, ведущие к освбождению от материального мира.
23 М. М. Буткевич использует основное понятие практики дзэн «сатори» в нестрогом смысле, как метафору повышенного творческого состояния. В сатори (просветлении) достигается пробуждение ото сна неведения через переживание и постижение истинной природы. Сатори является целью, достигаемой только в исключительных случаях, и потому не может быть «исходным элементом творческого процесса».
24 Гидаю — певец-сказитель и одновременно стиль повествования в театре больших кукол Бунраку; в театре Кабуки означает пьесу, заимствованную из Бунраку.
25 Ханамити (цветущая тропа, дорога цветов) — в театре Кабуки помост, примыкающий к сцене под прямым углом в левой ее части и заканчивающийся уборной, где актер ждет выхода. Служит дополнительной сценической площадкой, используется для выхода и ухода актеров, при перемене места действия.
26 Мисиба — сцена напоказ, сумма пластических движений, которые приводят к позе миэ (см. коммент. 30). Мисиба — кульминационная сцена роли, в которой актер максимально проявляет свои технические возможности.
27 Нурэба — любовные сцены в театре Кабуки, которые исполняются в стиле танцевальной пантомимы.
28 Коросибо — сцены убийства в театре Кабуки, отличаются зловещей зрелищностью.
29 Митиюки (прохождение пути) — термин японского традиционного театра. В театре Кабуки — драматический рассказ о двух гонимых судьбой влюбленных, которые пытаются отыскать место, где они смогут совершить самоубийство.
30 Позы миэ — актерская техника особых длительных пауз в танце и пантомиме (замираний), которые обладают скульптурной и живописной выразительностью и передают моменты максимального эмоционального напряжения персонажа.
31 Курого (черная одежда), куромбо — рабочие сцены, одетые в черное, с черными вуалями на лицах и считающиеся «невидимыми». В случае, когда действие происходит на белом декорационном фоне, они одеты в белое. Курого во время спектакля меняют антураж, подают актерам реквизит (веер, зонт и т. п.), изображают насекомых и животных. Пребывание на сцене курого не должно разрушать зрительского восприятия, и потому их пластика организована особым образом, подчинена канону.
32 735 Кёгэн — один из видов традиционного театра Японии, в основе которого лежат средневековые фарсы. Существует в фольклорном и классическом вариантах. Первоначально Кёгэн возник как самостоятельный жанр, однако со временем его представления вошли в качестве интермедий в представления театра Но. В настоящее время Кёгэн вернул себе самостоятельный статус.
33 Бунраку — традиционная форма японского кукольного театра. Представляет собой театр больших кукол, каждой из которых управляют три кукловода.
34 Кумадори (нанесение линий на лицо) — один из видов грима мужских персонажей в театре Кабуки (свирепые воины, демоны, древние боги и др.). Происхождение связано с храмовой скульптурой и с Пекинской оперой. Красные, черные, синие линии наносятся на густо выбеленное лицо, что делает грим кумадори маскообразным.
35 Чехов М. А. О технике актера // Чехов М. А. Лит. наследство. Т. 2. С. 235.
36 Там же.
37 Там же.
38 Там же. С. 239.
39 Новый брутализм (или необрутализм — англ. New Brutalism) — направление (стиль) в архитектуре периода 1950 – 1970-х гг., первоначально в архитектуре Великобритании, одна из ветвей послевоенного архитектурного модернизма. Эстетически брутализм вписывается в контекст европейского модернизма 1950 – 1970-х гг. (в сфере пластических искусств, в кино, фотографии, графике, скульптуре, оформлении интерьеров) — с его поисками новых средств выразительности. Это, в частности, интерес к локальному цвету, пластичной броской «модернистской» форме, островыразительным фактурам. Новый брутализм отличали смелость, сложность композиционных решений, отражающих, по мысли архитекторов-бруталистов, «всю сложность жизни». Поверхности строительных материалов не декорировались, а экспонировались в их естественном виде («честность материалов» — принцип, восходящий к Дж. Рескину и английскому движению «искусства и ремесла»).
40 «Десять времен года» — семинар М. М. Буткевича в театре «Школа драматического искусства» А. А. Васильева — подробно см.: Вступ. статья О. Ф. Липцына к наст. публ., а также: Буткевич М. М. К игровому театру. Т. 2. С. 328.
41 Шендирующий — образовано от фамилии героя романа Л. Стерна — Тристрама Шенди. Употребление этого прилагательного применительно к человеку обозначает иронически относящегося к себе и другим, философствующего, готового отыскивать смыслы в самых прозаичных и будничных вещах. В данном случае Буткевич имеет в виду смысловую наполненность пейзажа, дыхание смысла.
42 Симолин Борис Николаевич (1900 – 1965) — искусствовед, педагог. Преподавал в Театральном училище им. Б. Щукина, в Школе-студии МХАТ, во ВГИКе. Был известен нестандартными до эксцентричности методами преподавания. «Шарики Симолина», вероятно, связаны с его креативной педагогикой.
43 Абрамов Геннадий Михайлович (р. 1938) — российский хореограф и педагог. Его разработка методики курса пластической импровизации в «Школе драматического искусства» А. А. Васильева («класс экспрессивной пластики») родственна концепции игрового театра Буткевича.
44 «Пандемониум Холла-Стивенсона»… — Пандемониум — место сбора злых духов в греческой мифологии; Джон Холл-Стивенсон — друг Л. Стерна, в замке которого, известном 736 как «Замок безумцев», часто устраивались веселые пирушки. Их участники называли себя «одержимыми» и во главе с гостеприимным хозяином пытались руководствоваться раблезианским принципом «делай что хочешь». По вечерам они рассказывали друг другу вымышленные истории, построенные без особого соблюдения «здравого смысла». В этой обстановке шлифовались талант и остроумие Стерна.
45 Оксиморон, или оксюморон (др.-греч. οξύμωρον — букв.: «остро-глупое», «умная глупость») — в стилистике и риторике сочетание слов с прямо противоположными значениями, преднамеренное объединение в единое смысловое целое двух или нескольких контрастных лексических единиц.
46 Сарабанда (исп. sarabanda) — старинный испанский народный танец трехчастного построения, размер 3/4, исполняется плавно и величественно.
47 Симфора (греч. συμφορά — соотнесение, совмещение) — высшая форма метафорического выражения, в котором опущено среднее звено сравнения и даны характерные для предмета признаки, вследствие чего образ не названного прямо предмета ощущается как чистое художественное представление, совпадающее с понятием о предмете.
48 Автология (от греч. αὐτός — сам и λόγος — слово; букв.: самословие) — употребление в поэтическом произведении слов и выражений в их прямом, непосредственном значении.
49 Буткевич отсылает к книге Вяч. Вс. Иванова «Очерки по истории семиотики в СССР» (М., 1976), где на с. 184 изложены размышления о необходимости «исследования, которое позволило бы объединить метонимические черты современной прозы, верлибра и киноправды, противопоставляющие их метафорическому стилю 20-х годов».
50 Тодоров Ц. Поэтика // Структурализм: «за» и «против»: Сб. статей / Под ред. Е. Я. Басина и М. Я. Полякова. М., 1975. На с. 66 М. М. Буткевича привлекла проблема соотношения фабулы и сюжета.
51 На указанных страницах книги Л. Н. Засориной «Введение в структурную лингвистику» (М., 1974) расположены следующие параграфы: «Синтагматические и ассоциативные отношения», «О парадигматике», «О синтагматике».
52 Синхрония и диахрония — два противопоставленных аспекта исторической лингвистики. Наиболее подробно их рассмотрел Фердинанд де Соссюр. Основной тезис де Соссюра состоит в том, что «в каждый данный момент речевая деятельность предполагает и установившуюся систему и эволюцию; в любую минуту язык есть и живая деятельность и продукт прошлого». Цит. по: Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. М., 1960. Ч. 1. С. 362.
53 Литота — образное выражение, стилистическая фигура, оборот, в котором содержится художественное преуменьшение величины, силы, значения изображаемого предмета или явления. Литота в этом смысле противоположна гиперболе, поэтому по-другому ее называют обратной гиперболой.
54 «Том Джонс» — комедия режиссера Тони Ричардсона (1963), экранизация романа Генри Филдинга «История Тома Джонса, найденыша».
55 Пост-Васильевский семинар — творческий семинар М. М. Буткевича, организованный при СТД России после его ухода из театра «Школа драматического искусства» А. А. Васильева в 1993 г. — более подробно см.: вступ. статью О. Ф. Липцына к наст. публ.
56 Муравьев Д. Лирическая проза // Словарь литературоведческих терминов / Сост. Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев. М., 1974. С. 176.
57 737 М. М. Буткевич имел дело либо с самиздатовской копией рукописи А. А. Белинкова «Сдача и гибель советского интеллигента», либо с мадридским изданием (1976). Здесь все цитаты сверены и уточнены по изданию: Белинков А. А. Сдача и гибель советского интеллигента. М., 1997.
58 Там же. С. 62.
59 Учитель Раздватрис — персонаж из сказки Ю. Олеши «Три толстяка».
60 Белинков А. А. Указ. соч. С. 157.
61 Здесь и ниже в качестве примеров приводятся лишь некоторые из предлагаемых М. М. Буткевичем ассоциативных групп.
62 Иванов Вяч. Вс. Указ. соч. С. 94.
63 Там же. С. 103.
64 Источник не установлен.
65 Иванов Вяч. Вс. Указ. соч. С. 130.
66 Там же. С. 143.
67 Цит. по: Гарсиа Лорка Ф. Поэтический образ у дона Луиса Де Гонгора // Гарсиа Лорка Ф. Об искусстве. М., 1971. С. 97.
68 На с. 173 книги Вяч. Вс. Иванова, к которой отсылает Буткевич, рассматриваются метонимические переходы от общего плана через средние к крупным на материале «Пиковой дамы» А. С. Пушкина.
69 Мандельштам О. Э. Разговор о Данте // Мандельштам О. Э. Сочинения: В 2 т. / Сост. С. С. Аверинцева и П. М. Нерлера; подгот. текста и коммент. А. Д. Михайлова и П. М. Нерлера. М., 1990. Т. 2. С. 251 – 252.
70 Завадская Е. В. Восток на Западе. М., 1970. С. 84.
71 Цит. по: Иванов Вяч. Вс. Указ. соч. С. 224.
72 Цит. по: Там же. С. 225.
73 Цит. по: Там же. С. 223.
74 Имеется в виду картина Сандро Боттичелли «Мистическое Рождество» (1500).
75 «Рождение Венеры» — картина Сандро Боттичелли (1482 – 1483).
76 «Примавера» — имеется в виду картина Сандро Боттичелли «Весна» (1482).
77 «Коронование Марии со святыми» — полное название картины Боттичелли «Коронование Марии с ангелами, Евангелистом Иоанном и Святыми Августином, Иеронимом и Элигием» (1488 – 1490).
78 Цит. по: Иванов Вяч. Вс. Указ. соч. С. 226.
79 Цит. по: Там же.
80 Цит. по: Там же.
81 Цит. по: Там же.
82 Цит. по: Там же.
83 Имеется в виду вторая серия фильма «Иван Грозный» С. М. Эйзенштейна, где перевернутая фигура ангела Апокалипсиса нависала над троном, где сидит Иван Грозный еще в бытность мальчиком.
84 Новикова Люда — Новикова Людмила Николаевна — студентка режиссерской группы последнего курса М. М. Буткевича в ГИТИСе с 1983 по 1988 г., профессор Театрального училища им. М. С. Щепкина.
85 Дивное описание контрапункта — возможно, М. М. Буткевич имеет в виду то описание Л. Л. Сабанеева принципов формообразования в музыке И. С. Баха, которое приводит 738 С. М. Эйзенштейн в «Монтаже»: «Истинный контрапунктический стиль в той его форме, как нам дал его воплощение Бах, — характеризуется превалированием элемента мелодического над гармоническим. В истинном контрапунктическом стиле отдельные мелодические линии являются формирующим, образующим элементом, а гармоническая ткань является как бы результатом сплетения мелодических голосов. Гармоническая ткань является последствием, вторичным явлением, сопутствующим контрапунктической ткани. В сети сплетающихся голосов, живущих каждый отдельной жизнью, рождаются фантомы проходящих гармоний, образованных соединениями мелодий» (Эйзенштейн С. М. Избранные произведения: В 6 т. / Гл. ред. С. И. Юткевич; сост. П. М. Аташева, Н. И. Клейман, Ю. А. Красовский, В. П. Михайлов; подгот. текста В. П. Коршуновой. М., 1964. Т. 2. С. 467).
86 Стрéтта (итал. stretta от итал. stringere — сжимать, сокращать) — каноническое проведение тем в фуге, при котором каждый имитирующий тему голос вступает до того, как она закончилась в предыдущем голосе, и отдельные части темы звучат одновременно в разных голосах, т. е. контрапунктически сочетаются друг с другом.
87 См.: Эйзенштейн С. М. Цвет // Эйзенштейн С. М. Избр. произведения. Т. 3. С. 487 – 610.
88 Колин курс — последний актерско-режиссерский курс М. М. Буткевича в ГИТИСе с 1983 по 1988 г., на котором в режиссерской группе учился Николай Дмитриевич Чиндяйкин (р. 1947), актер театра и кино, театральный режиссер.
89 Эйзенштейн С. М. Неравнодушная природа // Эйзенштейн С. М. Избр. произведения. Т. 3. С. 38.
90 Там же. С. 39.
91 Там же.
92 Там же. С. 273.
93 О парадоксальных идеях, увлекавших Буткевича в период работы над гладковским «Цементом», классикой «соцреализма» см.: Буткевич М. М. К игровому театру. Т. 2. С. 478.
94 Великанов Александр Александрович (р. 1938) — художник театра и кино. Оформил спектакль «Цемент» по Ф. В. Гладкову в ЦТСА.
95 Мэм — Улановская Надежда Марковна (1903 – 1986), разведчица, преподаватель английского языка, переводчик. Знакомая М. М. Буткевича.
96 Инжеватов Леша — Инжеватов Алексей Николаевич (1946 – 2010) — актер театра и кино. С 1968 г. — артист Центрального театра Советской Армии. Играл в спектаклях М. М. Буткевича: «Два товарища» по В. Н. Войновичу (1968), «Цемент» по Ф. В. Гладкову (1973).
97 М. М. Буткевич имел в виду спектакль «Два товарища» по В. Н. Войновичу (1968).
98 Маврина Татьяна Алексеевна (1902 – 1996) — художница, живописец, график, иллюстратор. В 1960 г. оформляла дипломный спектакль М. М. Буткевича «Комедия о Фроле Скобееве» Д. В. Аверкиева.
99 Ленинградский показ — на фестивале, посвященном А. А. Васильеву, М. М. Буткевич показал «Класс-концерт» со студийцами «Десяти времен года» (1991).
100 Танка (короткая песня) — древнейший жанр японской поэзии (первые записи — VIII в.), нерифмованные пятистишия из 31 слога (5+7+5+7+7).
101 «Гендзи Моногатари» («Повесть о Гэндзи») — роман, один из лучших образцов придворно-аристократической литературы Японии Хэйанского периода (IX – XII века), автор — фрейлина Мурасаки Сикибу.
102 739 М. М. Буткевич имеет в виду фразу Эйзенштейна: «осязаемость контрапунктического построения, на мой взгляд, является одной из типичных форм подобной юности». (Эйзенштейн С. М. Неравнодушная природа // Эйзенштейн С. М. Избр. произведения. Т. 3. С. 290).
103 Имеется в виду полифоническая композиция романа Уилки Коллинза «Лунный камень» (1866), где звучат восемь разных голосов и представлено восемь точек зрения.
104 Возможно, Буткевич имел в виду книгу рассказов Шервуда Андерсона «Уайнсбург, Огайо» (1919), объединенных местом действия, персонажами, но не общим сюжетом, книгу, построенную импрессионистически. «Книга гротеска», как она была обозначена автором в подзаголовке, была посвящена «нелепым людям» американской провинции. Многократно переиздавалась в СССР.
105 Скорее всего, Буткевич имеет в виду книгу французского актера и режиссера Шарля Дюллена «Воспоминания и заметки актера» (М., 1958), и прежде всего раздел «Советы ученику», включающий подраздел, посвященный импровизации, которая «побуждает ученика находить собственный средства выражения» (С. 103).
106 Эйзенштейн С. М. Неравнодушная природа // Эйзенштейн С. М. Избр. произведения. Т. 3. С. 324.
107 Там же. С. 326.
108 Там же.
109 Там же.
110 Там же. С. 326 – 327.
111 Там же. С. 327.
112 Там же.
113 Там же.
114 Там же. С. 334.
115 Там же. С. 335.
116 Там же. С. 345.
117 Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. М., 1976. С. 150.
118 Белинков А. А. Указ. соч. С. 159.
119 Там же. С. 160.
120 Там же. С. 224 – 225.
121 Там же. С. 255 – 256.
122 Гурвич А. С. (1897 – 1962) — советский театральный критик и литературовед. С его оценкой произведений Юрия Олеши дискутирует Белинков. См.: Гурвич А. Юрий Олеша // Красная новь. 1934. № 3. С. 214 – 221.
123 Белинков А. А. Указ. соч. С. 340 – 341.
124 Гончарова Леля — героиня пьесы Юрия Олеши «Список благодеяний» (1930).
125 Белинков А. А. Указ. соч. С. 343 – 344.
126 МХАТ Второй — драматический театр, существовавший в Москве в 1924 – 1936 гг., вырос из Первой студии Московского Художественного театра. Премьера «Гамлета» состоялась 20 ноября 1924 г. Художественный руководитель постановки — М. А. Чехов. Режиссеры — В. С. Смышляев, В. Н. Татаринов, А. И. Чебан. Гамлет — М. А. Чехов. Последний раз (72-й) был сыгран 20 июня 1928 г.
127 Белинков А. А. Указ. соч. С. 344.
128 Там же. С. 344 – 345.
130 Там же. С. 441 – 442.
131 Там же. С. 455.
132 Там же. С. 31 – 32.
133 Там же. С. 452.
134 Там же. С. 414.
135 Там же.
136 Там же. С. 39.
137 Там же. С. 39 – 40.
138 Олеша Ю. Ни дня без строчки: Из записных книжек. М., 1965. С. 257.
139 Белинков А. А. Указ. соч. С. 42.
140 Там же. С. 53.
141 Там же. С. 57.
142 Там же. С. 57.
143 Там же. С. 42.
144 Там же. С. 63.
145 Там же. С. 64.
146 Там же. С. 443 – 444.
147 Там же. С. 444 – 445.
148 Там же. С. 445.
149 Имеется в виду стихотворение Пушкина «Цветок засохший, безуханный…».
150 Белинков А. А. Указ. соч. С. 446.
151 Там же. С. 450.
152 Там же.
153 Там же.
154 Там же. С. 451.
155 Там же.
156 Эскизы и этюды А. А. Иванова (1806 – 1858) к его полотну «Явление Христа народу» представляют самостоятельный интерес и часто экспонируются.
157 Сопряжение Уильяма Хогарта с Лоренсом Стерном не случайно. Многие страницы романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» навеяны искусством Хогарта. Ко второму изданию романа по просьбе автора Хогарт сделал несколько гравюр.
158 Пинский Л. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961. С. 120.
159 Герман М. Хогарт и его время. Л., 1977. С. 86.
160 Там же. С. 87.
161 На странице, к которой отсылает М. М. Буткевич, Чехов размышляет об эмоционально-духовном и формальном содержании отдельных цветов.
162 М. М. Буткевич имеет в виду следующий пассаж: «Одним из первых упражнений на репетициях “Гамлета” были мячи. Мы молча перебрасывались мячами, вкладывая при этом в свои движения художественное содержание наших ролей. Нам медленно и громко читали текст пьесы, и мы осуществляли его, бросая друг другу мячи. Этим мы достигали следующих целей: во-первых, мы освобождали себя от необходимости говорить слова раньше, чем возникали внутренние художественные побуждения к ним. <…> Во-вторых, мы учились практически постигать глубокую связь движения со словом, с одной стороны, и с эмоциями — с другой. Мы постигали закон, который проявляется в 741 том, что актер, многократно проделавший одно и то же волевое и выразительное движение, движение, имеющее определенное отношение к тому или иному месту роли, получает в результате соответствующую эмоцию и внутреннее право на произнесение относящихся сюда слов» (Чехов М. А. Путь актера // Чехов М. А. Лит. наследие. Т. 1. С. 103).
163 Спеллинг — от английского глагола to spell — диктовать по буквам.
164 Андуйетская настоятельница — персонаж из романа Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена».
165 Чехов М. А. Жизнь и встречи // Чехов М. А. Лит. наследие. Т. 1. С. 228.
166 Hic et nunc (лат.) — здесь и теперь.
167 Беляйкин Владимир Васильевич (р. 1959) — актер, педагог, режиссер. С 1990 по 1996 г. участник Класса экспрессивной пластики под руководством Г. М. Абрамова при театре «Школа драматического искусства» А. А. Васильева.
168 М. М. Буткевич отсылает к рассуждениям Л. Я. Гинзбург о том, что «у Анненского вещь является не аксессуаром, а лирическим центром» (Гинзбург Л. Я. Вещный мир // Гинзбург Л. Я. О лирике. Л., 1974. С. 328).
169 Там же.
170 Основная тема тех страниц статьи «Вещный мир» Л. Я. Гинзбург, к которым отсылает М. М. Буткевич, «сцепление предметного и душевного мир» (Там же. С. 325).
171 М. М. Буткевич адресует к разделу статьи Пьера Паоло Пазолини «Поэтическое кино», посвященному «непрямой собственной речи» в кинематографе как «несобственно прямой субъективности» (Строение фильма: Некоторые проблемы анализа произведений экрана. Сб. статей / Сост. К. Разлогов. М., 1984. С. 53 – 64).
172 Там же. С. 54 – 55.
173 Там же. С. 55.
174 Там же. С. 56.
175 Онирическое — имеющее отношение к сну и сновидениям. Медицинский термин, употребляющийся в сочетаниях «онирические галлюцинации», «онирический бред». Используется в культурологической литературе, просвященной проблематике постмодернизма.
176 Пазолини П. П. Поэтическое кино. С. 56 – 57.
177 Там же. С. 62.
178 Там же. С. 64 – 65.
179 Финал статьи Пазолини, к которому отсылает Буткевич, выглядит так: «Все это является частью общего движения буржуазной культуры к завладению территорией, потерянной в боях с марксизмом, грозящим революцией. Оно вливается в это по-своему грандиозное движение, можно сказать, антропологической эволюции буржуазии в рамках “внутренней революции” капитализма. Иначе говоря, неокапитализм оспаривает и модифицирует свои собственные структуры, он, в частности, вновь возлагает на поэтов характерную для позднего гуманизма функцию: воплощение мифа и технического сознания формы».
180 Кракауэр З. Природа фильма: Реабилитация физической реальности. М., 1974. С. 148.
181 Цит. по: Там же. С. 174.
182 Цит. по: Там же. С. 182.
183 Там же. С. 182.
184 Там же.
186 «Список Юренева», на который ссылается М. М. Буткевич, выглядит так: «Смех может быть радостный и грустный, добрый и гневный, умный и глупый, гордый и задушевный, снисходительный и заискивающий, презрительный и испуганный, оскорбительный и ободряющий, наглый и робкий, дружественный и враждебный, иронический и простосердечный, саркастический и наивный, ласковый и грубый, многозначительный и беспричинный, торжествующий и оправдательный, бесстыдный и смущенный. Можно еще и увеличить этот перечень: веселый, печальный, нервный, истерический, издевательский, физиологический, животный. Может быть даже унылый смех!» (цит. по: Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. С. 15).
187 Картина Репина «Запорожцы» более известна под названием «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1880 – 1891).
188 Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. С. 25.
189 Цит. по: Там же. С. 118.
190 Там же. С. 118.
191 Там же. С. 19.
192 Там же. С. 20.
193 Там же.
194 Цит. по: Там же. С. 30.
195 Там же. С. 42.
196 Цит. по: Там же. С. 55.
197 Там же. С. 90.
198 Там же. С. 117.
199 В наклонных скобках М. М. Буткевич комментирует наличие указанных объектов комизма у М. А. Чехова.
200 М. М. Буткевич конспективно излагает мысли В. Я. Проппа о комичности неглубокого оптимизма (Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. С. 114 – 115).
201 Имеется в виду книга: Бергсон А. Смех. М., 1992.
202 Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. С. 150.
203 Там же. С. 145.
204 Там же. С. 146.
205 Там же. С. 147.
206 Бергсон А. Смех. С. 90.
207 Там же. С. 90 – 91.
743 «НОВЫЙ
ЗРИТЕЛЬ» КАК ПРОБЛЕМА
Изучение публики 1920-х гг. в докладах Театральной секции ГАХН.
1925 – 1928
Публикация, вступительная статья
и комментарии В. В. Гудковой
Кардинальные перемены в научных учреждениях и реформы высшей школы (ликвидация юридических факультетов в 1919 г., чуть позднее — закрытие историко-филологических факультетов) привели к утрате работы гуманитарной университетской профессурой. Вскоре покинет пределы России «философский пароход». Но немало патриотически настроенных и готовых помогать новой власти образованных людей оставалось на родине. И местом их деятельности стала институция, по образу и подобию схожая с прежними академическими учреждениями: Российская академия художественных наук (РАХН), вскоре переименованная в Государственную Академию Художественных наук (ГАХН). Ученых, с одной стороны, было необходимо каким-то образом организовать, с другой — полезным представлялось использование опыта и знаний научного сообщества для экспертиз властных инициатив в области искусства.
В Уставе Академии, утвержденном 5 октября 1921 г., были записаны две основные задачи: «учитывая весь огромный опыт старых европейских академий, организоваться как высшее научное учреждение этого типа, посвященное специально искусствоведению», с одной стороны. С другой — «возникнув после Октябрьской революции, Академия должна была соразмерить свою деятельность с новым социально-государственным строем и соответствовать запросам новой жизни»1.
После октябрьских событий 1917 г. устоявшаяся система взаимоотношений театра и публики конца XIX – начала XX века (классическими примерами могут быть и Художественный театр, и Театр Корша, и Мариинский, и Александринский театры, каждый со своей репертуарной политикой, системой распределения билетов, более или менее постоянным зрителем в зале и созвездием его любимцев на сцене) была разрушена, и возможно, в столицах резче, нежели в провинции. Сказались последствия массовой эмиграции, в которую отправились люди определенных слоев (промышленники, крупное купечество, дворяне, белое офицерство и прочие)2, и, напротив, притока в города социальных низов, человеческой массы, поднятой событиями революции и Гражданской войны. Эти процессы влияли и на смену театральной аудитории.
Если полагать идеальный театр коллективным художником, а зрителя — доверчиво внимающим ему, то очевидно, что художественные задачи может и должен ставить перед собой только театр, они не могут задаваться ему извне кем бы то ни было — кроме витающего в воздухе «запроса времени». Его-то 744 идеальный театр и пытается уловить, прислушиваясь к дыханию зрительного зала. В начале 1920-х публика резко меняется. Авторитетный человек театра свидетельствует: «Обычная наша театральная публика, состоящая из богатых, зажиточных и интеллигентных людей, постепенно исчезла. Залы наполнялись новой публикой. Перемена эта произошла не сразу, но скоро солдаты, рабочие и простонародье уже господствовали в составе театральных зал»3.
Перед художниками сцены встают проблемы нового самоопределения в резко изменившихся условиях жизни страны. Театру нужно было не только осознать новые ценности новичков, но и выработать способы их выражения, создавая актуальную сценическую лексику и грамматику. Те из деятелей театра, кто яснее других видел эту задачу, искали помощи на дружественной площадке Театральной секции Государственной академии художественных наук (ГАХН) — у теоретиков и методологов искусства.
Театральной аудиторией занимались и раньше, сцена всегда хотела достичь единения с залом, подчинить себе его эмоции. Понималась и роль зрителя в конституировании сценического создания. Не случайно утвердился такой этап завершения работы над спектаклем, как «генеральная репетиция на публике», когда реакция зрительного зала, реальная и выразительная «обратная связь», сообщает создателям, режиссеру и актерам, что «доходит», т. е. воспринимается, прочитывается, перелетает через линию рампы, — и что «не доходит», то есть не обрело адекватной образной — пластической, речевой и прочей — формы. Напомню, что Вл. И. Немирович-Данченко, огорченный преждевременной, с его точки зрения, рецензией уважаемого критика, писал, что о спектакле как художественной целостности возможно судить лишь после семи десятков представлений: актеру «надо готовить роль на публике», когда она откорректирует предварительные построения режиссера, а «первое представление есть только проект»4. О том же говорил и Мейерхольд: «Я утверждаю, что спектакль на премьере никогда не бывает готов, и не потому, что мы “не успели”, а потому, что он “доспевает” только на зрителе. <…> Сальвини говорил, что он понял Отелло только после двухсотого спектакля. Наше время — время других темпов, и поэтому, сократив вдесятеро, скажем критикам: судите нас только после двадцатого спектакля»5. Оба режиссера, исходя из собственного профессионального опыта, рассматривали зрителя как неотъемлемый элемент театрального искусства, без соучастия которого работа над спектаклем не завершена и факт театрального искусства не может считаться состоявшимся.
Теперь, в резко изменившихся историко-культурных обстоятельствах, необходимо было осознать, родился «новый зритель» или нет. Если да — то какие черты и свойства для него характерны? И как его нащупать, выделить, изучить? Нужно ли его завоевывать и образовывать — либо, напротив, задача противоположна: попытаться понять, что, собственно, он хочет видеть на сцене театра, то есть его запросы, и — подчиниться им.
Не менее важно ощутить, что сталось со зрителем «старым»? Его уже нет, либо на его оценки и вкусы по-прежнему можно опираться, к ним апеллировать? Или теперь они никого не интересуют?
На эти и многие другие вопросы должна была ответить созданная в структуре ГАХН Театральная секция. Перед собравшимися в ней книгочеями, людьми театра, 745 искусствоведами, философами, психологами, педагогами — специалистами разных направлений — ставится задача изучения нового зрителя: каков он, чего хочет, на что надеется, что способно увлечь его за собой.
Театральная секция ГАХН была образована на основе влившегося с 1 января 1922 г. в академию Государственного института театроведения, существовавшего с 1 октября 1921 г. «В основу своей деятельности Академия положила развитие коллективных форм научного труда, широко культивируя обсуждения и дискуссии по актуальным научным проблемам, чтения научных докладов и прения по ним. Усилия ученых, входивших в академию, сосредоточивались на общих заданиях, составлявших научные планы секций»6. Она стала преемницей Театрального отдела Наркомпроса (ТЕО), где уже существовали — с мая 1918 г. — историко-театральная и репертуарная секции, в которых работали А. А. Бахрушин, Н. Е. Эфрос, М. Д. Эйхенгольц, В. Г. Сахновский, В. А. Филиппов, П. А. Марков и другие.
Номинально Теасекция начала функционировать с 1 января 1922 г. В феврале 1922 г. утвержден основной «списочный состав», включающий хорошо известные, авторитетные имена. Помимо уже названных Маркова, Сахновского, Филиппова, Эфроса указаны Л. Я. Гуревич, Н. П. Кашин, С. А. Поляков7, А. Я. Таиров. В ноябре на специальном заседании Президиума РАХН заведующий Главнаукой Ф. Н. Петров высказывает ряд пожеланий в области деятельности Академии, в том числе «большее предпочтение марксистскому методу изучения перед другими»8.
Проект Устава ГАХН, принятый на заседании ученого совета 3 февраля 1924 г., сообщал о смысле и задачах Академии: «1. ГАХН есть высшее научное учреждение РСФСР, имеющее целью всестороннее исследование всех видов искусств и художественной культуры в целом. 2. Изучая аналитически искусства: изобразительные, литературу, музыку, театр и др., ГАХН ставит своей задачей синтезирование искусствоведческих наук в трех основных направлениях: социологическом, физико-психологическом и философском. <…> 4. Стремясь ответить запросам нового государства и социального строя, ГАХН ставит своей задачей тесное сближение с современностью, источником новых возбуждений научной мысли, вовлекает в свою работу, протекающую в эпоху коренной [перестройки] социальных наук и быстрого роста научного искусствознания, не только высококвалифицированных и зрелых деятелей, но и нового поколения научных деятелей»9
Дифференциация различных направлений науки сочеталась с объединением под одной крышей РАХН трех отделений: социологического, физико-психологического и философского. «Каждое из отделений имело пять секций: литературную, пространственных искусств (архитектура, живопись, скульптура), музыкальную, театральную, декоративную»10. Таким образом, если принять как данность институциональное устройство учреждения, театральное искусство изучалось по трем направлениям — в рамках социологии, физико-психологии и философии.
Деятельность Театральной секции планировалась вначале как сугубо академическая. Но Академия в целом, как вспоминала дочь одного из известных сотрудников ГАХН, искусствоведа Б. В. Шапошникова, «имела целью сочетать достижения специальных наук с новым мировоззрением, созданным великим историческим переворотом, она стремилась ввести завоевания чистой науки в жизнь, в народные массы, стараясь при этом победить традиционную до сих пор замкнутость 746 цеховой учености»11. Другими словами, идеи ГАХН изначально формулировались как утопические: профессионалы должны были соединить теорию и методологию своей деятельности с социальной практикой масс.
Оттого со временем направленность работы менялась, становясь все более конкретной, теоретические же споры затухали. Один из сотрудников РАХН «с именем», стремясь оправдать уходящее в прошлое определение («Академия»), писал, что РАХН «хотела бы доказать и показать, что в термине этом возможны и новая воля, и новое содержание, и новая методология»12.
Театральная секция ГАХН делилась на подсекции: изучения творчества актера, истории театра, современного репертуара и театра. Методологические проблемы обсуждались на заседаниях пленума. В рамках секции существовала еще и театральная мастерская, руководимая режиссером В. Г. Сахновским. Она занималась изучением законов актерского творчества, а также методами реконструкции спектаклей. Структура Теасекции была не только сложна, но и подвижна: менялись и переименовывались подсекции, выделялись отделы, «изучающие искусство по специальным и комплексным группам»; организовывались так называемые комиссии либо «кабинеты» и пр. В конце 1925 г. работали три подсекции: теории театра (руководитель — Н. Д. Волков), истории театра (руководитель — В. В. Яковлев) и актера, позднее переименованная в подсекцию психологии сценического творчества (руководил ею П. М. Якобсон), а также несколько комиссий: изучения творчества А. Н. Островского (С. С. Заяицкий), современного театра (Н. Д. Волков), зрителя (Н. Л. Бродский) и революционного театра (руководитель Н. П. Кашин). С течением времени, впрочем, руководители подсекций менялись, менялся и состав сотрудников.
Театральная секция ставила перед собой следующие задачи: «1) определение понятия театроведения и отграничение его от смежных наук например, литературоведения; 2) разработка методов изучения театрального представления в историческом и современном разрезах; 3) изучение драмы как материала сценического представления и разработка методов ее сценического анализа; 4) изучение искусства актера как в плане исторической эволюции актерской игры, так и в плане психологии творчества актера; 5) изучение методов и приемов режиссуры и их эволюции в историко-социологическом освещении; 6) изучение роли в театре смежных искусств (живописи, музыки и т. д.); 7) изучение вопроса о роли зрителя; 8) обследование архивных материалов»13.
Первым руководителем Театральной секции был Н. Е. Эфрос. После его смерти в октябре 1923 г. секцию возглавил В. А. Филиппов. Функции ученого секретаря принял на себя П. А. Марков. Помимо ученых в заседаниях секции принимали участие режиссеры (Ф. Н. Каверин, Вл. И. Немирович-Данченко, Вс. Э. Мейерхольд, В. Г. Сахновский, К. С. Станиславский, А. Я. Таиров), актеры (В. И. Качалов, О. Л. Книппер-Чехова, И. М. Москвин), литераторы (С. С. Заяицкий, И. А. Новиков, Г. И. Чулков, Т. Л. Щепкина-Куперник), философы (Д. С. Недович, Г. Г. Шпет, П. М. Якобсон), общественные деятели (Л. И. Аксельрод, А. В. Луначарский). Конечно, большинство из перечисленных выше лишь время от времени посещали отдельные заседания, повседневную же работу вели состоящие в штате Академии действительные члены и научные сотрудники Теасекции и приглашаемые докладчики.
747 ГАХН была, в сущности, предтечей и моделью московского Института искусствознания на Козицком: с разнообразием исследовательских отделов и направлений исследований, свободным посещением, принятыми формами работы — докладами, книгами, статьями и пр.
«Заседание состоится при любом количестве присутствующих», — сообщалось в анонсах заседаний Театральной секции ГАХН, начинавшихся в 8 вечера. Участники приходили после длинного трудового дня, почти все работали в трех, четырех и более местах, читали лекции в институтах, преподавали в школах, служили в разнообразных культурных учреждениях, писали в газеты и журналы. И на эти заседания приносили весь свой не только сугубо научный, но и общественный и человеческий опыт. При изучении феномена театра как института все это было важно.
Стоило бы написать, как была устроена ГАХН — из чего состояла ее повседневная жизнь. Доклады приглашенных ученых оплачивались, хотя вообще финансирование Академии было скудным — она существовала во многом за счет сдаваемых в аренду помещений (львиная доля средств поступала от сдаваемых в наем квартир), размещения торговых киосков, продажи билетов на вечера, концерты и выставки, устраиваемые Академией, и прочих ухищрений администрации. Дирекция хлопотала о квартирах (некоторые жили тут же, в комнатках и флигелях здания ГАХН), лечении, ставках и необходимых деловых поездках сотрудников. Сохранившаяся документация рассказывает о заботах по бытовому обустройству сотрудников, жалованье, гонорарах и прибавках, переводе из разряда в разряд, просьбах о загранкомандировках, порой достаточно экзотических, организации научной библиотеки и архива, добывании денег на печатание книг и издание научных журналов и пр. (в том числе было и трагикомическое заявление Б. И. Ярхо, потрясенного кражей заграничного пальто и шляпы во время заседания из предбанника к Красному кабинету). Многочисленные бухгалтерские отчеты хранят сметы расходов и балансов, «требовательные ведомости» (оказывается, были такие!) на зарплату, просьбы об ассигнованиях, счета на оплату дров и тому подобное. Любопытно, что на различные выплаты сотрудникам расходовалось 31,1 % дохода, научные расходы составляли 32,2 %, издательские траты — 13,2 %. Остальное шло на ремонт и содержание зданий14. Добывание дров и денег на освещение тоже входило в круг забот руководства научным центром.
Но все эти докучные, но неотменимые занятия служили главному: продолжению научных исследований в области гуманитарных наук в России.
Важно, что Теасекция ГАХН стала площадкой тесного общения исследовательской и художественной московской элиты. Эта столичная элита составляла в те годы не более нескольких сотен человек, и плотность личных контактов была чрезвычайно высокой. К ней принадлежал и «ученый люд», сотрудники ГАХН, и люди искусства — режиссеры, художники, писатели, актеры, тем более что зачастую одно и то же лицо входило в различные круги (как В. Г. Сахновский, Л. Я. Гуревич, Вс. Э. Мейерхольд, П. А. Марков, В. В. Тихонович и др.). Да и контакты с петербуржцами тоже были близкими, судя по тому, что в начале 1926 г. на одном из заседаний Президиума было оглашено сообщение Комитета по изучению русского театра Института истории искусств об избрании Теасекции ГАХН in corpore в состав членов Комитета15.
748 А пока что складывались секции и отделы, уточнялась их структура, менялся состав сотрудников, еще и в 1924 – 1925 гг. утрясались ставки и прочее. Отсюда ясно, сколько времени на самом деле продолжалась работа нового исследовательского образования — буквально три-четыре года, с 1925 по 1928, и с какой невероятной интенсивностью она шла.
С одной стороны, именно театральное искусство как мало какое иное связано с широкой, не отобранной специально публикой. Оттого одной из ключевых стала тема работы со зрителем, начиная с его изучения, классификации, попыток прояснить его эстетические запросы, вкусы и устремления, кончая разработкой методов воздействия на него в нужном направлении (и уже в 1922 г. Марков напишет: «<…> возникающая форма “отыскание эстетических приемов для внеэстетического воздействия на зрителей” должна стать формулой нового искусства»16).
С другой стороны, наблюдать, фиксировать и анализировать реакции публики по-прежнему оставалось задачей и умением профессионалов. Сложность заключалась в том, что они должны были выработать систему понятий (вопросов), понятную этой самой публике (для анкет, интервью и прочих способов изучения и эксплицирования ее реакций), с тем, чтобы в исследованиях переходить на язык специализированный, строгий, верифицируемый.
Российская социология как наука, тем более — предметная (театральная), только начинается, и множество методических вопросов встает перед учеными и осознается ими впервые. Методику ищут почти ощупью, путем проб и ошибок. Тем не менее социологические приемы быстро распространяются в работах самых разных исследователей. В публикуемых тезисах докладов речь идет о нескольких, наиболее доступных: анкетировании, театральных экскурсиях, наконец, беседах со зрителем после спектакля.
«Вопрос об изучении зрителя и его реакций является основным, кардинальнейшим вопросом нашей театральной работы, — пишет театральный журналист. — Каков социальный состав зрителей? Каковы их требования к репертуару, режиссуре, игре и оформлению? Как реагирует зритель на спектакль академический и спектакль революционный? <…> Где материалы для ответа на все эти вопросы? Увы, их нет, или, вернее, их очень мало!»17
В исследовательской пробирке пытаются выделить химически чистого «нового зрителя». В первую очередь изучать намерены зрителя не всякого, а рабочего, — но тот недостаточно компетентен, чтобы разобраться в игре актеров, режиссуре и прочем. («Устройство сцены не совсем удобное, — сообщает простодушный зритель, отвечая на вопросы анкеты театра Мейерхольда, — если артистам приходится забираться в ложи для зрителей. <…> Предлагаю сократить декорации…»18. Не понимая, что актерские выходы в зал — нарочитый режиссерский прием, а не способ избежать «тесноты», он полагает, что попросту зал маловат и надо бы его расширить.)
Кроме того, на зрителя-рабочего влияют другие, сидящие рядом. Само присутствие наблюдателя вносит искажения в реакцию испытуемого, нечто меняя и в восприятии публики, и в словесных формулах ее ответов, подобно тому как внесение магнита дисциплинирует и организует хаос металлических опилок. Понимается, что позиция исследователя должна быть элиминирована, т. е., вопросы 749 анкеты никоим образом не должны подталкивать отвечающего к определенному ответу, но технология создания таких анкет еще не выработана (не выверена нейтральность формулировок, не введена специальная система контрольных, перепроверяющих вопросов и т. д.). Исследователи отмечают и то, что непосредственные «вялые» реакции зала на спектакль могут соединяться с энтузиастическими положительными отзывами, данными в письменной опросной анкете, — то есть существуют «ножницы» между реакцией органичной, непосредственной — и пониманием того, как «надо» отвечать на вопросы, вероятно, воспринимаемые аудиторией как начальственные.
Читать вступительные слова перед спектаклем или не читать, учитывать, где именно сидит в зале зритель, в партере или на галерке, или нет, рассматривать смешанный зал — либо заранее дифференцировать публику по социальным категориям — все эти проблемы становятся предметом обсуждения на Теасекции.
На заседаниях Театральной секции с осени 1925 по 1928 г. режиссерами, социологами, критиками, театроведами было прочитано около двух десятков докладов. Из них явствует, что сотрудниками комиссии по изучению зрителя пробовались различные подходы: от анкетирования и специальных ознакомительных театральных экскурсий до попыток фиксации зрительских реакций на отдельных спектаклях. Так, Л. Я. Гуревич планировала на основании собранных в анкетах сведений подготовить работу на полтора печатных листа «О зависимости актера от зрителя»19. Понемногу начал накапливаться небезынтересный материал.
Историко-теоретическая работа комиссии по изучению зрителя Театральной секции рассматривается нами на основе исследования богатейшего архива ГАХН, хранящегося в РГАЛИ. Публикуются тезисы докладов и стенограммы обсуждений на Театральной секции с привлечением отдельных документов философского отделения (в частности, его Комиссии по изучению художественной формы), социологического отделения, Комиссии по изучению проблемы общего искусствоведения и эстетики и некоторых других. Выразительные материалы для размышлений дает также печать тех лет, позволяющая уяснить историко-культурный и общественный контекст России середины 1920-х гг.
Исследование театральной публики, ее вкусов, реакций и предпочтений шло в ГАХН в различных направлениях. Структурные отделения академии, ее отделы и секции, преследуя разные цели, изучали проблему и как теоретически-отвлеченную, и как историческую, и как сугубо практическую. Так, составляя производственный план подсекции истории театра на 1925/1926 гг., его авторы пишут: «считая, что Теасекция в целом должна быть крепчайшими узами связана с сегодняшним днем и чутко и авторитетно отзываться на все его проявления, особенно в изучении современного зрителя <…> подсекция должна принять на себя задачу рассмотрения в историческом аспекте зрителя и репертуара массового (народного) театра», начиная с изучения бытового обряда XVI – XVII вв., заканчивая фабрично-заводским зрителем XIX – XX вв. (см.: Планы, отчеты и сведения о работе Теасекции за 1924 – 1928 гг. 269 л. — РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 3. Л. 242 об.).
Среди подходов можно выделить: философско-теоретический; художественно-эстетический, собственно театральный; наконец, управленческий (административный).
750 На заседаниях Теасекции ГАХН проблема зрителя обсуждалась прежде всего как теоретическая. Изучению роли зрителя посвящено примерно два десятка докладов. Среди них выступления как более общего характера (Н. Л. Бродского, Ф. В. Каверина, В. Г. Сахновского, А. А. Фортунатова, П. М. Якобсона) с фундаментальной методологической подоплекой, так и конкретного содержания (например, рассказ о реакциях публики на спектаклях «Власть», «Шторм», «Мандат», «Ревизор»).
Прежде всего — театральную проблематику вводили в поле общефилософской.
Так, философ Д. С. Недович на совместном заседании подсекции теории с подсекцией театра прочел остроумный (и, как сегодня бы сказали, провокационный) доклад об устойчивых антиномиях всякого, в том числе и театрального, искусства — «К диалогу об искусстве и науке», предложив подумать о следующих положениях:
«I а. Искусство индивидуально.
I б. Искусство есть социальное явление.
II а. В искусстве важен способ выражения.
II б. В искусстве важен предмет изображения.
III а. Искусство не исчерпывается производством.
III б. Искусство есть производство.
IV а. Искусство есть автономная культурная сила.
IV б. Искусство обусловлено средой и художественным рынком.
V а. Искусство едино и сплошно по своему составу.
V б. Искусство множественно и делится на чистое и прикладное.
VI а. Искусство бесполезно и самодовлеюще.
VI б. Искусство необходимо людям и служит всем»20.
По сути, именно в рамках данной аналитической схемы, выявляющей противоречивость обсуждаемых концепций искусства и имеющей прямое отношение к проблеме зрительской рецепции сценического произведения, вели свои исследования сотрудники Теасекции ГАХН. Ученых занимала функция воспринимающей публики в сугубо теоретическом ракурсе — ее роли в создании спектакля (активный, хотя и безмолвный, участник зрелища, т. е. творческий элемент, либо пассивный созерцатель происходящего).
Теоретическому изучению подлежали многие, впервые с такой отчетливостью увиденные вещи. Размышляли о том, что так же, как двуедин в театральном искусстве актер (и творец, и материал), — двуедина и роль режиссера. Он и создатель зрелища, театрального сочинения, — и его же первый зритель. Оттого зрительный зал МХАТа и партер Малого театра, Камерного театра, аудитория ГосТИМа — либо Театр б. Корш, МХАТа Второго и МГСПС, ведомые его лидерами, формировались по-разному и принципиально отличались друг от друга.
Исследователи анализировали проблему выстраивания художественного времени спектакля, сложность его взаимодействия с актуальным временем публики: отчего они то объединяются, сливаясь в одно целое, то — протекают параллельно (и тогда зритель ускользает от воздействия сценических событий).
Думали о том, каким именно образом спектакль вбирает и выражает в себе актуальное историческое время. 5 ноября 1925 г., на одном из заседаний теоретической подсекции Теасекции, В. Г. Сахновский выступил с докладом «Театр как предмет театроведения». «Почему “дух времени?” — спрашивал режиссер. — Это очень 751 важно — знать, чем “духовито” время. Вот, например, в 19-м году в дух времени входило получение 1/4 фунта хлеба в качестве пайка, а в это время в театре шла “Брамбилла”21. Ставить “Брамбиллу” в связи с духом времени, значит изучать содержание спектакля. Или вот, например: завыла жесточайшая реакция, а в это время во МХАТе ставят “Цезаря” и “Брандта”22.
Спектакль всегда или консонансен, или диссонансен духу времени. И если этого нет, то спектакль не имеет смысла»23.
Существенные наблюдения были сделаны и в связи с изучением особенностей театрального пространства. Если читающий субъект в момент восприятия текста, как правило, находится один, то реципиенты театрального искусства сосредоточены в сжатом, замкнутом, ограниченном локусе зрительного зала, к тому же еще — согласно принятой культурной конвенции — погружены в темноту и обездвижены. Таким образом вся энергия эмоционального восприятия накапливается, действует сконцентрированно и направленно. Причем локус сцены, изменчивый, способный к сложным трансформациям, традиционно разъединенный с пространством зрительного зала, в определенные моменты действия может соединяться с ним в одно целое.
Над ролью и функциями театральной аудитории размышляют режиссеры, оказавшиеся лицом к лицу с новым залом в ситуации исторического слома. Людей театра волновали проблемы профессиональные: им как воздух необходимо было понимание зрителя, они искали тот театральный язык, который, оставаясь художественным, был бы понятен залу.
«О театре очень трудно говорить, — признается в одном из выступлений В. Г. Сахновский. — Мне бы хотелось предмет театра наиболее явственно выяснить. Зачем идет зритель в театр? Мы не знаем, как пройдет спектакль, что будет выпирать — пьеса, актеры или еще что-нибудь. Чем уравновешиваются все эти силы. Может быть, вырвется декорация, или вдруг — актер, или вдруг почудится, что нельзя играть эту пьесу в наше время.
О стилеобразующем духе времени: мы не можем ничего видеть вне современности, мы ею дышим. Язык моего жеста, выражения будет запечатлен моментами стиля. Театр пропитан духом времени. Дух времени сказывается всюду. Возьмем “Лес”24. Кто же там играл, в конце концов? Это театр, в котором победил дух времени: декораций не было видно, пьесы так же, как и актера. Остался он — режиссер. <…> Я учитываю, что зритель активен в театре в противоположность взгляду Игнатова, автора [книги — В. Г.] “Театр и зрители”. В спектакле зритель не участвует, но активно его переживает»25.
Осенью 1927 г., с перерывом в один день, на заседании подсекции теории с двумя докладами выступил В. Г. Сахновский. Первый, прочитанный 26 ноября, носил поэтическое название «Театральное скитальчество»26. В центре второго, названного автором «Компоненты спектакля», стояла проблема зрителя. Краткие его тезисы приведем целиком:
«1) Восприятие спектакля возможно как воздействие нерасчлененных компонентов, данных в сжатом комплексе.
2) Составляя суждение о спектакле, воспринимающий определяет значение и содержание происходящего. Для этого он элементирует целое на составляющие его группы.
752 3) Единое действие современного спектакля создается взаимодействием пяти компонентов: актера, автора, режиссера, декоратора и зрителя.
4) Спектакль, протекающий во временной последовательности, требует от воспринимающего одновременного восприятия действия, располагающегося в пространстве.
5) Умея распознавать состав формы спектакля, т. е. элементы, из которых состоит целое, и умея понимать творческий процесс в театре, зритель раскроет значение художественного образа спектакля и вправе будет установить для себя его смысл»27.
Как видим, Сахновский говорил не столько о заявленных в названии компонентах художественного целого, сколько о воспринимающем их зрителе, о зрителе подготовленном (который должен уметь «распознавать состав формы спектакля», «элементировать целое на составляющие»), так как именно зритель, по убеждению режиссера, создает художественное целое спектакля.
В спор с положениями, высказанными Сахновским, вступил молодой философ П. М. Якобсон28. В докладе «Что такое театр» Якобсон заявлял: «Пора кончить с неясностями и предрассудками по вопросу о роли зрителя в театре. Положение о том, что зритель строит спектакль, или неверно, или есть метафора. Само собой разумеется, что спектакль дается ради зрителя и на воздействие на зрителя рассчитан. Нет спектакля без зрителя, как нет концерта без слушателя. Переживания актера — показываемые переживания. Все это несомненно. Как же зритель участвует в спектакле? Единственно тем, что своими реакциями он влияет на переживания актера и этим самым вызывает известные оттенки в игре актера. Но это совсем не называется строить спектакль. То, что режиссер и в выборе пьесы, и в характере постановки ориентируется на определенный круг зрителей, на их запросы — это есть вопрос о “социальном заказе”, который общ для всех искусств, а не свойственен одному театру. <…> Надо отказаться от мысли, что зритель видит тот “внутренний образ” спектакля и отдельных персонажей, которые задумал режиссер, актер и т. д. — зритель просто видит образ спектакля, лиц и т. д., не задумываясь, совпадает или не совпадает данный образ с замыслом театра. Усматривать эти моменты можно, но в ином опыте — опыте критика, берущем спектакль не просто в художественном созерцании»29.
Стенографист так записывает комментарии сотрудника философского отделения Н. И. Жинкина, активно участвующего в обсуждении:
«1) Относительно зрителя Н. И. [Жинкин] думает, что зритель в творении спектакля не участвует, зритель есть только указание для созидателей спектакля. <…> Н. И. Жинкин сказал, что договориться <…> возможно, мы даже уже договорились кое в чем. Спор остановился главным образом на 3-х вопросах: 1) на вопросе о зрителе, но ведь всякое искусство предполагает “созерцающего”, кроме того, всякое искусство содержит в известном смысле “спектакль”, способ показывания уже созданного произведения. В музыке и особенно в театре этот слой выдвигается на первый план. Театр есть уже чистый спектакль, он довел до концентрации “спектакльное” в каждом искусстве. Здесь, кроме того, созидание образа происходит перед зрителем. Есть какой-то специфический “зритель”, который создается тем, что спектакль есть спектакль.
753 2) Вопрос об эстетическом и внеэстетическом в театре тоже может быть разрешен согласованно. В каждом конкретном спектакле есть и искусство, и неискусство. Разграничить эти моменты бывает подчас очень трудно. То, о чем говорил Сахновский, и было собственно эстетическое в театре. Здесь был показан спецификум театра, соотношение тела актера и изображаемого.
3) Внехудожественное в театре, однако, есть. Спектакль может поучать. Если человек на спектакле плачет, он тронут за другие струны, житейские, мировоззренческие»30.
Очень недостает несохранившегося текста самого доклада Якобсона, об идеях которого возможно судить лишь по отраженному свету обсуждения. Но очевидно, что положения методолога искусства транслировали аудитории утверждения, для нее далеко не тривиальные. Люди театра полагали, что роль зрителя в театре не может быть сравнима с ролью воспринимающего ни в каком ином искусстве, само же искусство театра настолько уникально, что не подлежит изучению традиционными научными методами. Философы, напротив, объясняли театралам, рассуждающим о «магии» театра и его неподвластности каким бы то ни было методическим способам рассмотрения, что не только спектакль создает зритель, но и любой художественный феномен конституируется воспринимающей инстанцией. Картина, написанная маслом и украшающая стены музея, в представлении дикаря, находящегося вне устойчивых культурных конвенций, — если бы он попал в музейные залы — была бы не чем иным, как всего лишь раскрашенной доской31.
Итак, позиции людей театра и теоретиков искусства разошлись. Философы полагали, что предмет театра ничем не отличен от прочих искусств и потому может быть изучаем так же, как они (О. А. Шор, Н. И. Жинкин, П. М. Якобсон). Люди же театра исходили из убеждения, что театр столь же непознаваем, как сновидение. Полемика приверженцев этих двух интеллектуальных течений продолжалась все годы существования Теасекции ГАХН, и несмотря на то, что позиции спорящих так и не изменились, сама дискуссия, заставлявшая продумывать и четче формулировать отстаиваемые идеи, привела к осознанию важных особенностей театрального дела.
Таковы были теоретические идеи, выдвинутые и обсуждаемые на Теасекции ГАХН в связи с изучением зрителя.
Третий аспект названной проблемы — сугубо прагматический, управленческий. Хотя система театров в целом пока что та же, что была, прежняя, органическая дифференциация зрителя, в которой явственно проявляются его пристрастия, в том числе и идеологические, в начале 1920-х гг. исчезает. Для решения некоторых задач складывающейся власти театр, кажется, становится одним из способов изучения российского народонаселения.
На заседании комиссии по изучению зрителя 17 января 1928 г., обсуждая доклад Н. Л. Бродского «Театральный зритель нового времени», А. И. Кондратьев высказал недовольство: «Беда в том, что зритель всегда случаен, тот, кто пришел в театр, тот и зритель»32. Месяц спустя Н. Л. Бродский, отчитываясь за работу Комиссии по изучению зрителя, сообщит: «В текущем году Комиссия перенесла центр внимания преимущественно на непосредственное описание реакций зрителя в московских театрах и выработку новых методических приемов. <…> 754 После многочисленных посещений Театра Пролеткульта и Педагогического театра были сделаны описания зрительного зала названных театров в постановках “Власти” и “Черного яра”»33.
С практической позиции власти, менее всего заботящейся об искусстве и «художественности», зритель — это «посланец народа», воспринимающая инстанция, которую необходимо завоевать, а его спонтанное эмоциональное восприятие — организовать и определенным образом направить. Соответственно, новые власти стремились точнее представить себе реакции театральной публики (с помощью социологических и статистических методов34), чтобы в дальнейшем выработать эффективные способы воздействия на зрительскую аудиторию в нужном направлении, пытаясь превратить ее (в идеале) в проницаемую и управляемую массу.
Для этого зрителей, как и общество в целом, делили на социальные группы, чтобы с каждой работать отдельно: рабочий, крестьянин, интеллигенция как «прослойка», мещанин, буржуа (причем эстетические предпочтения двух последних слоев, кажется, никого не интересовали). Зритель-рабочий и зритель-крестьянин подлежали отдельному изучению: исходили из того, что новообразованные идеологические конструкты усвоены (интериоризованы) каждым, всякий безусловно знает свое место в системе, и не что иное, как «классовое положение», определяет эмоциональный строй и духовные запросы индивида.
Достаточно быстро публику начали не только отбирать, но и организовывать. «До сих пор театр равнялся на неопределенного, распыленного зрителя… Теперь объявлен курс на профессионально-организованного…»35. Именно с середины 1920-х гг. начались коллективные походы в театр, настраивающие участников на коллективные реакции. Читали специальные вступительные слова перед спектаклями, устраивали обсуждения увиденного после окончания спектакля, не пуская на самотек настройку и регуляцию зрительской оптики. На зрительских обсуждениях человек из зала мог высказать не только свои мысли и чувства по поводу увиденного, но и претензии к создателям спектакля. Выразительные образцы речей новой театральной публики конца 1920-х гг. сохранились в черновиках пьесы «Список благодеяний» Ю. К. Олеши. Еще интереснее то, что при их сочинении драматург опирался на реальные зрительские выступления, звучавшие на обсуждениях мейерхольдовских спектаклей36.
«Старого» зрителя не изучают — интеллигенцию, прежних театралов, тех, что раньше объединялись в понятие «театральной общественности». (Для нее возникают и некоторое время существуют так называемые театральные «понедельники», возмущавшие новых идеологических управленцев, — дни, когда театр в свой официальный выходной день дает спектакли прежнего репертуара, «несозвучные эпохе».) Тем не менее, при попытках характеризовать нового зрителя отталкиваются, как от хорошо известной нормы, от свойств и черт старинного российского театрала, т. е. вкусы и ценности «старого театрала» неявно, но ощутимо присутствуют как тот фундамент, та эстетическая и мировоззренческая основа, с которой полемизируют строители нового театра (а некоторые и вовсе видят в ней угрозу: «Неосторожно, жадно приник освободившийся пролетариат к пышному, пряно благоухающему буржуазному искусству…»37)
755 В докладах и обсуждениях Теасекции ГАХН начала – середины 1920-х гг. очевидны сосуществование и борьба социологизирующей версии театральной деятельности как ветви общественного самосознания и концепции театра как «чувствилища» человеческой индивидуальности. Представляется, что их противостояние вовсе не так очевидно, как когда-то казалось: ведь индивид включен в невидимую, но оттого не менее плотную (и влиятельную) паутину общественных отношений, веяний, умонастроений, моральных оценок, что не может не сказываться и в его непосредственных эмоциональных реакциях, в том числе в кресле зрительного зала.
Сохранились любопытные наброски сборника «Идеи революционного театра», планировавшегося к выпуску в первой половине 1920-х, предисловие к которому должен был написать Л. Д. Троцкий, составителями были А. В. Февральский и А. Черкасский. Раздел «Зритель» должен был писать Б. Е. Гусман38. Вот тезисы его будущей статьи:
«Зависимость театра от зрителя.
Не стихийное нащупывание, а организованное изучение.
Методы изучения зрителя.
Результаты изучения зрителя.
Организация зрителя через профсоюзы.
Пьесы, созданные при участии зрителя.
Уничтожение рампы и слияние сцены со зрительным залом»39.
Несмотря на то что скорее всего тезисы сочинялись поспешно и, вполне возможно, при дальнейшей работе были бы уточнены, их общее направление очевидно: оно убедительно коррелирует с идеей массовизации театра. Напомним, что идею грядущего слияния сцены и зала тогда разделяли многие, от вдохновенного певца «соборности» Вяч. Иванова до начинающего литератора М. А. Булгакова40 и молодого теоретика театра А. А. Гвоздева41. И лишь немногие, как молодой формалист В. Б. Шкловский или искушенный старый театрал А. М. Эфрос, призывали «гнать театр за рампу»42.
Каковы же были методические приемы и подходы к изучению театральной публики? Собственно, основных способов было три: наблюдение (внешнее) за залом, анкетирование, индивидуальное собеседование. В идеале их необходимо было соединять, не отказываясь ни от одного.
И в театрах 1920-х гг. распространялись и обрабатывались многочисленные анкеты, составлявшиеся специалистами разных профессий, от театральных завлитов и директоров театров до сотрудников социологической секции ГАХН либо профессиональных психологов. (В рамках ГАХН был даже создан специальный анкетный отдел.) Практиковались экскурсии по театру и закулисью как способ заинтересовать публику. Замечу, что экскурсиям различного типа в качестве надежного метода расширения культурного горизонта в начале – середине 1920-х гг. уделялось немалое внимание. К этому времени была разработана теория экскурсионного дела (Н. П. Анциферов, И. М. Гревс): гуманитарная экскурсия как инструмент усовершенствования человека, воспитывающий в нем тягу к овладению знанием, восприимчивость к новизне, экскурсия как труд, требующий «готовности к определенной отдаче»43, и пр.
756 Проблема изучения зрительного зала очень интересовала Мейерхольда, организовавшего специальную лабораторию, занявшуюся разработкой методов и способов фиксации спектакля.
В архиве сохранилась рукопись статьи «Опыты изучения зрительного зала» режиссера В. Ф. Федорова, заведовавшего мейерхольдовской лабораторией. Отвечая на критическое выступление театрального журналиста, Федоров язвительно указывает на подводные камни недостаточно продуманного анкетирования театральной аудитории и рассказывает о способах изучения зрительских реакций, практикуемых в Театре им. Вс. Мейерхольда.
Федоров спрашивает: «Какую гарантию даст мне Загорский44, что характеристики “Мистерии-буфф”, приведенные им на стр. 108 – 110 (речь идет о статье в сборнике статей “О театре”. — В. Г.), принадлежат именно шахтеру… Может ли исследователь ручаться, что под маской “чистильщика сапог” не скрывается какая-нибудь бойкая дамочка…?» Режиссер призывает на помощь авторитет Л. Д. Троцкого (цитируя его работу «Формальная школа поэзии и марксизм»: «Художественное творчество всегда есть сложная перелицовка старых форм под влиянием новых толчков, исходящих из области, лежащей вне самого художества…»45) и Н. И. Бухарина (ссылаясь на его доклад, посвященный критике формального метода в искусстве: «Конститутивный признак явлений искусства — их эмоциональность. Отсюда связь искусства с общественной идеологией и психологией…»46). И заручившись поддержкой самых влиятельных в те годы партийных «искусствоведов», переходит к сути той работы, которая ведется в театре под эгидой Мейерхольда (фиксация партитуры реакций зрителя, отраженных в схемах, хронометраже и проч.). Это и есть самое интересное.
«Мы <…> изучаем зрителя в связи со всем спектаклем. Записывая реакции зрительного зала, производим:
1 — учет наличного состава (кто, когда, какую роль играл);
2 — хронометраж (точная запись продолжительности каждой картины, акта, сцены);
3 — учет антрактов (количество, продолжительность, с выпуском публики в фойе и без выпуска в фойе);
4 — учет игры актеров;
5 — учет работы обслуживающего персонала;
6 — учет кассы и работы администратора (количество проданных билетов с подразделением по ценам, количество выданных контрамарок, платных и бесплатных [зрителей]).
К этому присоединяются замечания Мастера, режиссеров-лаборантов, кассира, администратора. Только используя все эти записи, можно объяснить, почему в данном случае <…> имеется вот именно такая, а не иная реакция. Зрительный зал очень точный инструмент: если он сегодня дал какую-то реакцию на определенную фразу, а завтра не дал никакой реакции на ту же фразу, то, обратившись к <…> учетным листам, мы обязательно установим причину»47 (выделено нами. — В. Г.).
И режиссер перечисляет возможные варианты отклонения от «верного» хода спектакля: актер чрезмерно «напер» на какое-то словечко, или сцена «расползлась» на 1,5 минуты больше положенного и действие утратило темп, или произошла заминка 757 у рабочих при «чистой перемене», или на предыдущем спектакле было сто контрамарочников, а на данном присутствует исключительно платная публика и т. д.
Федоров излагает сугубо технологические способы контроля и управления течением выстроенного сценического действия — и через него — зрительным залом. Нельзя не заметить, что опытный режиссер Мейерхольд оперирует исключительно внеэстетическими, почти инженерными возможностями, порождающими сценические «разночтения». Этими компонентами он всецело владеет, они просчитаны, их сравнительно несложно выверить и откорректировать в нужном направлении. Общие художественные вещи — посыл спектакля, его сверхзадача, семантические особенности мизансценирования, система образов и оттенки их интерпретации — здесь не обсуждаются (для этого Мейерхольд использует совершенно иные места и возможности). Здесь же они элиминированы и уступают место конструктивным элементам, значительно более конкретным, реальным, определенным.
Все перечисленные выше подходы и ракурсы изучения зрительской театральной аудитории присутствовали в серии докладов, прочитанных на заседаниях (порой совместных) различных секций ГАХН: театральной, социологической, философской и других.
Цель данной публикации — дав возможность познакомиться с серией докладов о новом зрителе, прочитанных в середине 1920-х гг. учеными Теасекции ГАХН, напомнить о предпринятых нашими предшественниками направлениях исследований.
Во вступительной статье для расширения контекста, в котором происходило изучение интересующей нас проблемы, шла речь и о докладах, не обязательно целиком посвященных этой теме, но так или иначе ее затрагивающих. Публикуются же тезисы докладов и стенограммы их обсуждений, сохранившиеся в архиве Комиссии по изучению зрителя Театральной секции.
Среди авторов докладов можно выделить три различные группы.
Первая — это традиционные («консервативные») литературоведы (Н. Л. Бродский, И. Н. Кубиков), не видящие большой разницы между текстами пьес и их постановками. Театр в их восприятии еще не отделился от литературной основы, и речь идет не столько об элементах спектакля, сколько о содержании пьесы. Поэтому в докладах и их обсуждениях то и дело звучат имена отечественных классиков прошлого века, к которым литературоведы старой школы привычно апеллируют в кардинально изменившейся историко-театральной ситуации.
Вторая группа — люди театра (Л. Я. Гуревич, Ф. Н. Каверин, П. А. Марков, В. Г. Сахновский), осознавшие автономность театра как вида искусства и, кроме того, на своем опыте ощутившие разницу между старым театральным залом и новым, пережившие травму разлада между своими творческими устремлениями и неподготовленностью публики. Театр — их жизнь, оттого у них нет иного выхода, чем попробовать найти компромисс между желаниями неискушенного, часто попросту невежественного зрителя и собственными художественными идеями. И более того: они стремятся сделать причины этого разлада пружиной обновления театра как феномена искусства.
Наконец, третья группа — это энергичные деятели нового типа (чаще — молодые), инициаторы разнообразных новшеств на театре, но не художественного, 758 а организационного порядка (пример — В. В. Тихонович). Они предлагают новую дифференциацию зрителей (по социальному признаку), тематические нововведения, зачастую — вульгаризаторского толка (настаивая на создании специальных «рабоче-крестьянских» театров, акцентируя качество бесспорной «революционности» в старых пьесах либо подвергая их смысловой переинтерпретации и пр.). Они скептически относятся к профессионализму деятелей «старого» театра, утверждая, что ничего недоступного в этом роде деятельности для неподготовленного рабочего либо крестьянина нет. Такие сложные театральные материи, как актерское мастерство, сценический образ, целостность спектакля и т. д., не только мало их интересуют, но и находятся за рамками представлений. Видение ими театра напоминает нечто, схожее с митингом или собранием.
Тексты тезисов докладчиков и стенограммы их обсуждений в нашей публикации представлены хронологически. Это дает возможность проследить, как на протяжении месяцев меняются темы, лексика, направленность дискуссий. Порой развернувшееся после доклада обсуждение ярче и выразительнее, нежели лаконичные тезисы.
Театр вбирал будущих своих строителей, режиссеров, театральных литераторов из самых различных сред, никакое происхождение или образование не было помехой. Купеческий сын, потомственный либо личный дворянин, крестьянский подросток, выпускник физико-математического факультета, биохимик и агроном, уж не говоря о многочисленных университетских питомцах (среди которых преобладали выпускники или недоучившиеся студенты историко-филологических и юридических факультетов) — всем находилось место и дело. Оттого важной частью комментария, помимо обычных кратких пояснений в связи с упоминающимися событиями, спектаклями, малоизвестными театрами, стали краткие биографические сведения о докладчиках и ораторах, принимавших участие в дискуссиях. Само это пестрое смешение имен многое объяснит читателю: соединение людей театра и функционеров от искусства, недавних революционеров — и потомков старинных дворянских родов, нашедших приют под сенью ГАХН, молодых критиков и консервативных литературоведов «с положением», профессиональных политиков и театральных неофитов из народа.
Все они были не только дискутантами на научных заседаниях, но и являли собой театральную публику тех лет. И размышления над проблемой новых взаимоотношений зрителя и сцены оборачивались для них порой мучительным самоанализом.
29 октября 1925 г. Н. Л. Бродский читает доклад об изучении «зрителя рядового и повышенного типа», т. е. уже не только «непосвященного», но и прежнего, подготовленного театрала. К сожалению, в тезисах определения не раскрыты, а стенограмма обсуждения не сохранена.
В тот же день, на другом заседании Теасекции в докладе В. А. Филиппова речь идет об изучении рабочего зрителя. Цель предпринимаемой им работы — понять, какой именно театр тот хочет видеть. В тезисах прочитывается характерная двойственность задач: то ли воспитать в рабочем полноценного театрала, то ли, напротив, двинуться навстречу его требованиям, какими бы те ни оказались. Предлагаемый метод — метод театральных экскурсий, но реально обсуждается метод анкетирования. 759 Сразу же обнажаются методические сложности, по поводу которых высказываются слушатели48.
Завершает год доклад И. Н. Кубикова на объединенном заседании Театральной и Социологической секций. Тезисы оратора предельно схематичны, но из обсуждения становится понятно, что докладчик в разговоре о театре апеллировал к русской классической литературе (звучали имена Гоголя, Салтыкова-Щедрина с его резким неприятием толстовской «Анны Карениной» и пр.). Нельзя не заметить, что и доклад и прения по нему носят, скорее, литературоведческий характер. Н. Л. Бродский напоминает о важности языковой традиции, объясняя, почему труден для восприятия массового читателя Маяковский. Пламенный теоретик марксизма Л. И. Аксельрод полагает, что «классовыми отношениями все не определяется, и в классовом обществе есть общечеловеческие переживания». Идут последние месяцы, когда выпускнице Бернского университета Аксельрод гуссерлевская феноменология еще представляется не противоречащей марксистскому учению. Показательно, что в стенограмме ее выступления уже появляются вымарки, снимающие «спорные» утверждения (они отмечены публикатором).
Выступления свидетельствуют о теоретической слабости докладчика, обсуждение уходит в частности. Но запрос на теорию очевиден, а это и есть начальный шаг к ее созданию.
В начале 1926 г. Ф. Н. Каверин выступает с докладом: «Новый театральный зритель», в котором обобщает собственные наблюдения над изменившейся аудиторией. Тезисы режиссера ясны до резкости. Прежде всего, он закавычивает дефиницию «нового зрителя», тем самым обозначая проблему. Далее сообщает, что «коллективного нового зрителя, о потребностях которого можно говорить, обобщая, не было с самого начала». Практик театра, для которого проблема зрителя стоит предельно конкретно и остро, называет темы, пользующиеся максимальным интересом со стороны публики, и замечает, что «за восемь лет рабочая публика пережила громадный театральный сдвиг, но отдельных, во многом отличных друг от друга групп новых зрителей стало еще больше <…>». Завершает Каверин выступление важной информацией: «В зрительный зал входит новый зритель: крестьянин. Его надо встретить со вниманием и во всеоружии».
Содержательный доклад вызывает и содержательное обсуждение. В. Г. Сахновский подтверждает, что зритель за десятилетие в самом деле изменился, в частности исчез «дикий, сырой зритель». В. А. Филиппов уверен, что за эти годы зритель «резко вырос культурно», и больше свойств его объединяет, чем разъединяет — в частности, он «более внимателен к идеологии пьесы», нежели зритель старый. Все ораторы согласны с утверждением докладчика о заметном культурном росте массовой театральной аудитории. В. В. Тихонович, комментируя доклад Каверина, напоминает о том, что в Москве произошло «большое персональное изменение зрителя (приезд евреев, провинциалов <…> и т. д.)». В не слишком правомерных претензиях к докладчику по поводу его недостаточной терминологической точности (ее странно было ждать от режиссера-практика) сказывается общее стремление к обретению аналитического языка. Выступающие сходятся на необходимости изучать зрителя дифференцированно, избегая преждевременных, стирающих самое интересное обобщений.
760 Доклад, посвященный проблемам современного театра, произносит молодой П. А. Марков. «Вопрос о пользе театра и о его отношении со зрителем может решаться лишь в плане общего рассмотрения, а не с узкой театральной колокольни, — уверен аналитик. — С этой точки зрения полезен всякий спектакль, поднимающий творческую энергию и углубляющий сознание и подсознание зрителя». Тезисы П. А. Маркова вызывают острую полемику среди присутствующих. В. В. Тихонович: «П. А. Марков считает зрителя глупым, а театральных людей умными. Но надо ориентироваться на умного театрального зрителя. После эпохи военного коммунизма зритель бросился в театр и повлиял на него экономически. Начались эксперименты театров над зрителем. В настоящее время зритель очень неопределенный, и поэтому все театральные направления спутались. Одни театры обслуживают один контингент зрителя, другие — другой. Социальные группировки заменили эстетические. Эстетического деления теперь нет. Надо бороться за зрителя. Мы ждем теперь новых фронтов, не эстетических, а социальных». Упоминания заслуживает и реплика Горбунова, который говорит о цензуре, подминающей остроту решения тем в драматургии, и напоминает о малообразованности зрителя.
Еще в ноябре 1924 г. на заседании президиума Теасекции В. А. Филиппов предлагает теснее объединяться с другими секциями Академии и, в частности, «просить в ближайшее время Социологическое отделение сделать в Теасекции доклад “Социологический метод в театральном искусстве”» (См.: Протоколы заседаний Президиума Теасекции ГАХН. Ф. 941. Оп. 1. Ед. хр. 40. Л. 1 – 2). Но социологизирующие театральное искусство доклады начнутся только в 1926 г.
В марте 1926 г. на совместном заседании Теасекции и Социологического отделения доклад о социологической зависимости театра делает В. В. Тихонович. Он пытается описать театральное дело через сугубо экономическую терминологию: «Театральная продукция поступает, как товар, на рынок; ее характер зависит от спроса последнего, который обусловливается психикой — идеологией и психологией — или класса-гегемона или других социальных групп в пределах, не противоречащих социальным интересам класса-гегемона; такой спрос определяет идеологическую и формальную установку продукции…»
Первым не выдерживает человек театра — В. Г. Сахновский. Подчеркнутый, грубый схематизм доклада Тихоновича, по-видимому задевая и раздражая оратора, вызывает в нем в результате весьма важные размышления. «Докладчик во многом оставляет в стороне самую внутреннюю сущность театра. Не кажется ли докладчику, что сейчас изнутри самого театра поднимаются новые течения, не связанные с общей идеологией командующего класса: например, романтизм, утонченный реализм и т. д. Театр всецело находится под эгидой командующего класса в моменты своего упадка, проблески возрождения несут с собою всегда нечто независимое от окружающих условий, иногда даже наперекор требованию зрителя. Да и сам зритель ищет в театре неожиданного…» Сахновского поддерживает П. А. Марков: «Докладчик сильно преуменьшил влияние актера на зрителя. Исторически можно сказать, что крупные артисты меняли самый вид или идеологию театра. <…> Крепостные актеры, входя в императорские театры, приносили с собой очень много своего собственного». Тонкое замечание вновь делает Л. И. Аксельрод, напоминая, что «лишь примитивно мыслящий социолог стал бы всегда и непосредственно определять 761 искусство господствующей идеологией времени. Общество и социально, и идеологически неоднородно: в нем есть и революционные, и статические элементы. То, что якобы идет вразрез “духу времени”, в сущности, идет вразрез лишь идеологии большинства». А. М. Родионов акцентирует внимание присутствующих на том факте, что «театральное производство и театр вообще нельзя мыслить без зрителя. Поэтому следовало бы уделить больше внимания театральному потребителю…»
Летом 1926 г. Н. П. Федорова говорит об «Опыте популяризаторской работы по театру». Обсуждающие размышляют о границах вмешательства популяризаторов в зрительское восприятие. Сахновский полагает, что предварительные или последующие беседы вредны сами по себе: ничего не давая зрителю, «они в то же время лишают его всякой непосредственности, заставляют подходить к спектаклю с какой-то заранее составленной меркой, обращать внимание на то, что внушено “руководителем” беседы. <…> На популярных лекциях допустимо лишь толкование чисто формальных моментов, но отнюдь не раскрытие каких-то сущностей, которые весьма спорны и допускают всевозможные толкования. Учить театру, как букварю, нельзя». С ним спорит М. Д. Прыгунов, который убежден в обратном: «Объяснять и руководить нужно и полезно. Вопрос идет лишь о методе. Уже сама техническая часть театра дает для таких объяснений богатый материал. Каждая группа задает свои вопросы согласно профессиям и степени культурности».
В ноябре 1926 г. на заседании Теасекции сотрудник ГАХН А. А. Фортунатов рассказывает о своем исследовании деревенского зрителя. Доклад опирался на данные пятилетней работы ученого в деревнях Малоярославецкого уезда Калужской губернии. Район наблюдения включал около тридцати деревень. Время работы 1920 – 1925 гг.
Наблюдения производились над крестьянскими впечатлениями и оценками: работы передвижного театра (театр для народа); театральных постановок постоянно работающего Угодско-Заводского кружка; трех самодеятельных театральных кружков деревенской молодежи в разных селениях района.
Сообщает докладчик и об использованных способах изучения деревенского зрителя: «… наблюдатели среди зрителей, фиксация реплик, фиксация отзывов в антрактах; беседы в читальнях после спектаклей, письменные отзывы зрителей (в школе рабочей молодежи). Фиксация воспоминаний о постановках, виденных 2 – 3 года тому назад. Как добавочный материал — впечатления от московских театров во время экскурсии в Москву некоторых крестьян, постоянных зрителей спектаклей обследуемого района».
Доклад Фортунатова свидетельствует о высокой профессиональной подготовленности и продуманной методике сбора информации. Выводы исследователя нетривиальны: он констатирует, что у крестьян «значительные требования, предъявляемые к художественности пьес и добросовестности их разучивания: решительное отвержение художественно-недоброкачественного репертуара». Вопреки мнению, десятилетиями царившему в отечественном театроведении, о заведомой отсталости российского сельчанина, исследователь рассказывал о зрелых, свободных и достаточно критических суждениях крестьян. Выяснилось, что они осознанно принимают либо отвергают репертуар определенного типа, способны на аналитическое сопоставление различных театральных учреждений и трезвую 762 оценку их художественных результатов. Слушателям доклада предстала целостная картина готовности зрителя из крестьян к восприятию театрального факта и самостоятельному суждению о его эстетическом качестве.
Объяснить это можно, вспомнив, что к середине 1920-х гг. еще не разоренное крестьянство представляло собой наиболее свободный слой собственников. К этому времени «срезан» был лишь верхний слой владельцев поместий и дворянских усадеб. Зажиточные же крестьяне, то есть экономически независимые, достаточно грамотные, опирающиеся лишь на себя самих и свое понимание должного, в той или иной мере приобщенные к «культурному» образу жизни, менее прочих поддавались каким бы то ни было посторонним влияниям и призывам. Опора на здравый смысл и собственный жизненный опыт, еще не растоптанное чувство собственного достоинства формировали устойчивую и цельную человеческую индивидуальность. Крестьяне, признанные господствующей партийной доктриной наиболее отсталой частью народа — в связи с их «единоличностью», т. е. антиколлективизмом («неорганизованностью»), — при смене исторической оптики и освобождении от навязанных некогда схем могут и должны быть рассмотрены иначе.
Именно «отдельность» (единоличность) крестьянина, т. е. самостоятельность в выстраивании стратегии собственного социального поведения, связанная с ответственностью за принятие решений, диктовала независимость суждений, в том числе и в области восприятия и оценки художественного явления. Крестьянин в качестве зрителя проявлял себя вовсе не как отсталая часть народа, а, напротив, как самостоятельный, благодарный и трезвый агент театрального дела. Тут и уважение к специалистам в своем деле, и острый интерес к сцене как пище для размышлений о мире и человеческом жизнеустройстве.
Далее, в «Опыте характеристики рабочего зрителя», выполненном усилиями сотрудников Театрально-исследовательской мастерской, отмечаются такие особенности названного типа театральной аудитории, как низкая общая культурность и безусловное предпочтение цирка как площадной формы искусства прочим видам художественного зрелища49.
Плодотворным представляется обсуждение доклада Н. Л. Бродского «Театральный зритель нового времени». Родионов отмечает существенные новшества театрального дела: «Тематика нынешнего спектакля другая, чем тематика старого театра. Социальная проблема заменила тематику интриги. Восприятие этой проблемы сложнее. Современный зритель не может дать той тонкости, которую дает Поливанов». Упоминание этой фамилии выводит нас к новому и важному повороту темы. Напомню, что ярким филологом и лингвистом Е. Д. Поливановым, вхожим в круг сотрудников ГАХН, была выдвинута идея о том, что изменения в социальной жизни могут ускорять или замедлять ход языковой эволюции. Несмотря на то что часть ораторов высказывает неудовлетворенность докладом, при его обсуждении идет важный разговор о различных методах изучения зрителя, их возможностях и границах, спорных методах интерпретации и пр.
В последний момент перед сдачей работы в архиве обнаружилась рукописная «угасающая» стенограмма обсуждения доклада Н. Л. Бродского о мейерхольдовском «Ревизоре», к сожалению не вошедшая в корпус публикуемых документов (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 32. Л. 9 – 21).
763 Итак, с осени 1925 г. по начало 1928-го на заседаниях Теасекции был прочтен цикл докладов, в заглавия которых оказалась вынесена проблематика нового зрителя. За это время (менее двух с половиной лет) обозначены общие направления, по которым следует вести изучение проблемы, сделаны первые важные наблюдения (о рабочем зрителе и эволюции зрительской аудитории за десять послереволюционных лет, о появлении зрителя-крестьянина, о соотнесении репертуара и «духа времени», о роли актера и его безусловном влиянии на публику и пр.). Концентрация сильных умов в едином месте, создавшая качественно иную в сравнении со среднестатистической среду и повысившая интеллектуальную конкуренцию, дала мощный приток идей. Но для выработки целостной системы изучения зрителя времени было отпущено слишком мало. На рубеже 1920 – 1930-х гг. начался разгром ГАХН. И хотя еще в феврале 1930 г. в штат зачислялись новые сотрудники (например, Б. В. Алперс и Л. Г. Шпет), уже появились и документы иного рода. «Исключить из состава Академии следующих лиц: З. А. Никольского, С. А. Полякова <…> как находящихся в ссылке»50.
Тем не менее, в Театральной секции ГАХН 1920-х гг. было начато теоретическое осмысление художественных проблем театрального искусства и его разноаспектное практическое изучение. В том числе были заложены основы социологизирующего театроведения, апеллирующего к точному знанию в области гуманитарного знания. На место общих рассуждений, предположений и субъективных утверждений могло бы прийти знание фактической стороны дела. Но ярко и многообещающе начавшееся изучение театральной публики было прекращено, произошел, по формуле математиков, «разрыв непрерывности»: традицию насильственно обрубили, ее носителей преследовали, они вынужденно рассеялись в пространстве иных занятий.
А. В. Луначарский говорил: «Нам нужно создать академию, которая подготовляла бы людей, могущих быть носителями государственной политики в области искусства»51 (выделено нами. — В. Г.). То есть задач своих власти отнюдь не скрывали, и открытый диалог, дискуссии первых лет существования Театральной секции ГАХН были, как очевидно сегодня, не расцветом интеллекта и пиршеством духа, а, скорее, излетом, завершением традиций русского философствования об искусстве в советизирующемся обществе. Само учреждение Академии, возникшей по инициативе властей, означало взятие под контроль52 и строгую регламентацию деятельности ученых, включение их в государственные планы, конкретику задач. К концу 1920-х это обозначилось с максимальной определенностью и стало началом конца ГАХН.
764 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ИЗУЧЕНИЮ «НОВОГО ЗРИТЕЛЯ», И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
1
Н. Л. Бродский53
«ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ЗРИТЕЛЯ»
29 октября 1925 г.
Обильный материал опытов изучения театрального зрителя до сих пор поражает случайностью наблюдений и поэтому не может служить подходящим при разрешении важной социологической темы. Опыты АкТЕО54 и культотдела МГСПС55 служат наиболее продуманными текстами анкет для изучения зрителя рядового и повышенного типа.
1. Анализ разнообразных реакций зрителя требует разнообразных типов анкет, и в силу этого метод анкет удобен в аудитории постоянной, связанной общностью интересов, местом службы, жилищ (общежитие рабфаковцев, рабочая аудитория, профсоюзные организации и т. д.).
2. Проверка существующих типов обследования зрительного зала — анкетного, экспериментального (по типу Мейерхольда), экскурсионного — может быть осуществлена при единовременном опыте.
3. Это вызывает необходимость затрат (на печатание анкет, приобретение билетов), а потому обращение в Правление ГАХН за денежной субсидией — обязательно.
РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 64.
2
В. А. Филиппов56
«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ЗРИТЕЛЯ»
29 октября 1925 г.
1. Опыт многочисленных театральных экскурсий, проделанный в революционные годы в Москве, позволяя сделать ряд выводов о восприятии спектаклей рабочими зрителями, показывает возможность применить театральные экскурсии в качестве одного из методов для изучения рабочего зрителя.
2. Существенным недостатком при использовании теа-экскурсий в качестве метода для изучения зрителя является:
а) необходимость выделения трудноучитываемого влияния зала смешанного состава зрителей на группу экскурсантов;
б) в случае же применения приемов, позволяющих изолировать лиц, над которыми производится наблюдение, от воздействия всего коллектива зрителей (примеры чего имели место в жизни театров Москвы), исследователь не имеет объекта изучения в его полном объеме, т. к. он лишен возможности учитывать массовое восприятие спектакля, способствующее повышению реакций, с одной стороны, и с другой, — взаимоотношению всего коллектива зрителей.
765 3. Применение данного метода
а) позволяет производить наблюдения не над залом смешанного социального состава, всегда находящегося в распоряжении исследователя в обиходе реально существующих в условиях НЭПа театров, а над группой, точно подобранной как по общему или «театральному» развитию, так и по возрасту, профессиональному, классовому признаку;
б) позволяет учесть индивидуальные особенности восприятия каждого из экскурсантов в данный вечер, на данном спектакле, в данном театре и т. д.
Система экскурсий, состоящих из последовательно сменяющихся трех моментов, позволяет выдвинуть для изучения определенные задания по выработанной заранее методике.
4. Применение указанного метода вносит существенные коррективы в изучение зрителя путем анкет, т. к.
а) благодаря знакомству руководителя с каждым из участников экскурсии отпадает возможность фальсификации анонимных ответов на анкету;
б) благодаря личному общению исследователя с экскурсантами ответы на анкету могут быть даны с большей глубиной и отчетливостью (от руководителя требуется наличие максимальной объективности, чтобы его личные воззрения не просочились бы в ответы).
5. Теа-экскурсии позволяют прибегнуть к методу сравнительного изучения, без применения их в условиях НЭПа трудно найти организационные формы его использования. Путем сопоставления установленных реакций зрительного зала смешанного состава с откликами на спектакль экскурсантов, однородных по своему составу, можно получить твердые основы социологического порядка для научного изучения зрителя.
6. Ряд проблем, касающихся зрителя, может быть разрешен лишь методом театральных экскурсий. Таковы, например, проблемы, связанные
а) с эволюцией восприятия;
б) с постепенным внедрением формальных идеологических основ каждого театра в сознание зрителя;
в) с воздействием театральных форм на формы обиходно-бытовые;
г) с различием реакций во время спектакля и [во время] воспоминания о нем.
7. Теа-экскурсии могут принести результаты, имеющие научное значение, лишь в случае их систематического проведения и производства наблюдений и учета их по плану, детально проработанному рядом специалистов.
8. Интерес рабочих масс к театральным экскурсиям, их значение в общем и политпросветительном развитии рабочих, дают основание рассчитывать на возможность практической организации их, благодаря чему со значительной полнотой возможно будет учесть требования к театру, предъявляемые рабочим зрителем.
Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 18. Л. 4.
В прениях обсуждаются сразу два доклада, Бродского и Филиппова, прочтенные в один день, 29 октября. Поэтому речь идет одновременно и об анкетном методе, и об экскурсионном.
766 Прения:
И. А. Новиков57 указывает на трудность изучения зрителя. Необходимо учесть многие привходящие обстоятельства (степень усталости, физиологическое состояние и т. д.). Высказывается за экскурсионный метод, который сталкивает лицом к лицу со зрителем. К недостаткам экскурсионного метода относится «подготовка» зрителя — предварительная беседа, которая лишает зрителя и его восприятие непосредственности. В анкету необходимо включить указание на занимаемое в зрительном зале место (балкон, партер), так как это определяет материальное состояние зрителя.
Л. Я. Гуревич58, считая анкетный метод неизбежным, находит необходимым устранить ряд дефектов из предложенных анкет:
1) чрезмерная краткость придает поверхностный характер и исключает возможность контрольных вопросов, необходимых при объективном изучении;
2) анкета МГСПС, ставя вопросы обобщенного характера (нравится — не нравится), препятствует продуманному ответу и тем самым не дает материала для научного изучения зрителя в плане психологическом.
Н. Д. Волков59 указывает на опасность подмены театра живого театром искусственным. Нужно ли вызывать активность зрителя или вернее прибегнуть к методу наблюдения? Вопросы анкеты упрощают ощущения зрителя, расширение же анкет практически невозможно — никто отвечать не будет. Очень большое количество анкет все равно даст выводы самого общего порядка. Применяемый же Мейерхольдом метод изучения реакций зрительного зала — изучение восприятия со стороны — вводит в изучение живого театра. Нужно поставить ясно вопрос — за какой эмоцией зритель ходит в театр, и, исходя из определения этой эмоции, строить анкету.
П. М. Якобсон60: Анкетный метод неизбежно случаен, так как не может учесть всего зрительного зала. Метод же изучения зрителя со стороны неизбежно субъективен, так как привносит момент «наблюдающего».
П. А. Марков61 полагает, что изучение зрителя не может быть обеспечено ни одним из указанных методов отдельно — необходимо их умелое сочетание и использование. В качестве систематического плана изучения указывает на необходимость идти от изучения зрительного зала через изучение восприятия отдельных групп к восприятию индивидуальному, которое более всего определяется художественной эмоцией.
Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 18. Л. 2.
3
Н. Л. Бродский
«ПРОЕКТ АНКЕТЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗРИТЕЛЯ»
26 ноября 1925 г.
1. При системе вопросов, обращенных к малоподготовленному зрителю, желательно выработать анкету, имеющую в виду квалифицированную аудиторию, которая после предварительного ознакомления с [тезисами] пьесы смогла бы разобраться 767 в игре артистов, в понимании ими ремесла драматурга, которая после рассмотрения той же пьесы в других театрах была бы в состоянии уяснить особенности постановок и проч.
2. Имея в виду наличность ряда пьес, идущих в разных театрах, предлагается взять за основу изучения спектакли в Художественном и Малом театрах («На всякого мудреца довольно простоты»)62.
Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 18. Л. 9.
4
И. Н. Кубиков63
«ОБЩЕСТВЕННЫЕ ГРУППИРОВКИ И ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА»
10 декабря 1925 г.
Председатель Л. И. Аксельрод
Ученый секретарь П. М. Якобсон
1. Характер восприятия искусства зависит от принадлежности зрителя и читателя к той или иной общественной группе.
2. Произведение искусства нуждается в дополнении со стороны воспринимающего.
3. Характер непонимания произведения искусства может быть двоякий: или это результат социальной отчужденности от данного произведения искусства, или объясняется неподготовленностью зрителя и читателя.
4. Родственность переживаний усиливает степень восприятия искусства.
5. Неожиданность толкований и выводов при восприятии искусства — неизбежное начало при наличии многообразия жизненного опыта.
6. Навязчивость — вредная сторона культурно-просветительной практики нашего времени.
7. Наиболее приемлемая тематика созданий искусства для определенной социальной группы есть спорный вопрос наших дней.
8. «Занимательность» играет большую роль при восприятии произведений искусства массового зрителя и читателя.
9. Толкование произведений искусства как фактор, помогающий восприятию.
10. Смешанный и однородный составы зрителей как явления, приводящие к неодинаковым результатам при изучении восприятий.
11. Вопрос о скорбных тонах в искусстве есть проблема, ждущая своего правильного разрешения.
Прения:
Тов. Черемухина64: Мне хочется поделиться своими воспоминаниями о работе в театре им. Ленина65. Театр тщательно проводил анкетную работу, и жаль, что докладчик ее не учел. В театре давалось обычно не только вступительное слово перед спектаклем, но и проводилась заключительная беседа в конце. Анкеты подтверждают взгляд И. Н. Кубикова, что героическое привлекает: «Разбойники»66, «Париж» Золя67 имели большой успех. Надо поставить вопрос о создании кадра людей, могущих давать вступительное слово.
768 Н. Л. Бродский указывает, что на доклад надо смотреть как на сообщение, дающее не разрешение, а постановку проблем. Так в типичной рабочей среде воспринимаются и Толстой, и Чехов. Вся схема не может быть построена по методу антитез. Мы имеем более сложное положение. Мы знаем, что ход развертыванья определенных литературных школ связан с определенными общественными группировками. Но определенная тематика, ценная для одних социальных группировок, воспринимается и людьми других социальных группировок. Нужно принять во внимание еще нечто, кроме классовой принадлежности, — надо исследовать вопросы «занимательности». Нельзя забывать следующее: малохудожественные произведения дороги читателям в силу их способа изображения — дело в языковой традиции. Вот почему не воспринимается Маяковский, а другие стихи, менее художественные, имеют успех. С истолкованием наших классиков нельзя согласиться: оно будет глубоко личным и будет обеднять содержание. Необходимо коснуться общественной психологии каждой эпохи, что докладчик упустил. На единичных фактах нельзя делать построений, как делал докладчик. Очередной задачей является изучение читателя и зрителя.
И. А. Новиков указывает, что отдельные свидетельства для правильных выводов не дают основательного материала. Считаться с мнением писателей нельзя — так, Тургенев ругал Гончарова и Некрасова68. Есть страшная пестрота в восприятии. В пределах каждого класса бывают диаметрально противоположные оценки. Конечно, по отношению к вещам, которые затрагивают классовое сознание, наблюдается известная закономерность. Анкеты надо составлять с контрольными вопросами.
И. И. Гливенко69 говорит, что он не сторонник вступительных комментариев; их вообще не читают. Вопрос о восприятии художественного произведения очень сложен. Иногда мешает классовая отчужденность, иногда нет. Надо спрашивать о цели художественного восприятия. Почему мы хватаемся за книгу? Хотим отдохнуть, ищем возбудителей, которые восстанавливают нарушенное равновесие. Что читателю нужно. Какие чувства — иногда его собственные, иногда чуждой среды, вот почему важна занимательность. Одинаковые воздействия окружающей среды — это дает литература. Влияет вообще возраст, классовая принадлежность, состояние здоровья и т. д. Нужно изучать читателя. Художник создает стиль, читатель — направление.
[Пропуск фамилии в стенограмме.] говорит, что надо радоваться, что поставлены вопросы о восприятии произведений искусства. Мы просматривали в искусстве отношения людей. Важно подчеркнуть социальный уклон в таких исследованиях. Работа лишь начинается, идет вразброд — надо всех работающих объединить. Работа по изучению читателя и зрителя должна вестись постоянно.
А. И. Кондратьев70 присоединяется к большинству предшествующих ораторов. Мы не имеем права ставить на одну доску различные искусства. В области изобразительных искусств творческий акт и воздействие на зрителя дано в разное время — в театре иначе. Важно учесть влияние зрителя друг на друга. Потом в рассмотрении произведения искусства надо отграничить момент социологический от эстетического.
Л. И. Аксельрод71: Очень интересно, что «Тарас Бульба» мог повлиять на рабочего революционно. Классическая литература может быть и современной. Неверны 769 объяснения, почему Салтыков так отнесся к «Анне Карениной»72. Отношение его обуславливалось его мировоззрением, народническим направлением. Мировоззрение, в конечном счете, сводится на классовые отношения. Существенны указания докладчика, что рабочие недовольны, когда им навязывают произведения, — это основано на эстетических чувствованиях. [Искусство есть игра, отдых — и мы не хотим нарушения нашего отдыха. — Вычеркнуто.] То, что рабочие интересуются пьесой на тему о своей среде лишь тогда, когда она художественно сделана, и посредственной — из жизни высших классов — объясняется тем, что там имеется элемент «красивости», зрелища, что страдание в театре носит характер очищения, происходит не от страдания, а от художественной формы. [Классовыми отношениями все не определяется, и в классовом обществе есть общечеловеческие переживания. — Вычеркнуто.] Что касается взгляда И. И. Гливенко, что эстетики нет, то это необоснованно. Биологические объяснения в области изучения искусства малоплодотворны.
И. Н. Кубиков: Верно, что мотивы общечеловеческие в искусстве захватываются, но только восприятие рабочего будет иным, чем у представителя другого класса. Если дать новое толкование Тургеневу, то он будет понятен и новому читателю. Я сознательно говорил об общественных группировках, а не о классовых, — материал так переплетается между собой. Верно, что отзыв Салтыкова обусловлен его мировоззрением.
РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 18. Л. 12, 10 – 10 об.
Оп. 13. Ед. хр. 7. Л. 13 – 13 об.
5
Ф. Н. Каверин73
«НОВЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗРИТЕЛЬ (ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ РЕЖИССЕРА)»
28 января 1926 г.
Председатель Н. Л. Бродский
Ученый секретарь П. А. Марков
1. Самый острый вопрос в работе современных театров — вопрос о так называемом «новом» зрителе.
2. Вопрос о новом зрителе с самого начала был поставлен неправильно: теоретически, туманно, кабинетно, за глаза.
3. Во время спора о «Театральном Октябре»74 и раздоров из-за нового зрителя виновник раздоров на практике хаотически развращался.
4. Коллективного нового зрителя, о потребностях которого можно говорить обобщая, не было с самого начала.
5. За восемь лет рабочая публика пережила громадный театральный сдвиг, но отдельных, во многом отличных друг от друга групп новых зрителей стало еще больше благодаря различным путям театральной работы и различным формам быта.
6. О всех группировках рабочих зрителей можно сказать, что им нужно:
1) то, что ярко, сильно и активно по содержанию пьесы, образам действующих лиц или отдельным положениям;
770 2) что безусловно четко и легко понятно в пьесе, в игре, в постановке.
7. Им не нужно:
1) того, что показывает безусловно отмершие в жизни куски прошлого;
2) что проникнуто пассивностью или пессимизмом;
3) что неясно или осложнено в смысле психологии действующих лиц, туманно в смысле идеи или ее развития, что отвлекает внимание от главного.
8. Новый зритель с радостью встречает в театре ту внешнюю красоту, которой еще мало в его быте.
9. Пьесы современности с революционным содержанием могли бы занять первое место в репертуаре, если бы они удовлетворяли вышеуказанным условиям.
10. Несколько тем действительно задерживают на себе в настоящее время внимание нового зрителя:
1) прошлое царской власти;
2) подпольная и провокаторская деятельность при старом режиме;
3) образы проституции.
11. Первая полоса ликвидации театральной безграмотности на театральном фронте должна закончиться с наибольшим вниманием к конкретной работе на местах.
12. В зрительный зал входит новый зритель: крестьянин. Его надо встретить со вниманием и во всеоружии.
Прения:
В. Г. Сахновский75 находит, что основные признаки вкусов нового зрителя указаны докладчиком слишком общо и могут быть приложены ко всякому театральному зрителю вообще. Говорить о новом в буквальном смысле слова зрителе на театре в настоящее время не приходится, хотя в первые годы революции театр посещал действительно новый — сырой, «дикий» зритель. В настоящее время такого зрителя нет. Физиономия театральной аудитории настоящего времени резко отличается от аудитории первых лет после Октября.
Методологически доклад имеет ряд недостатков. Это можно объяснить тремя причинами: слишком большой любовью докладчика к деталям — отсутствием абстракции, отсутствием целевой установки в наблюдениях и неудачным подбором репертуара для наблюдений (репертуар студии ГАМТ76).
В. А. Филиппов устанавливает отсутствие твердой методологии у докладчика.
Безусловно неправильно дробить живого зрителя на целый ряд групп, будто бы совершенно изолированных. На деле мы имеем определенную большую целостную группу нового зрителя — группу, имеющую в главном единые интересы и лишь в деталях дробящуюся на подгруппы. Новый зритель за годы революции резко вырос культурно — и этот рост отразился на его подходе к театру. Новый зритель теперь очень внимателен к содержанию идеологии пьесы (в этом коренное его отличие от «старого» зрителя). Однако за последнее время наблюдается, в связи с приобретением чисто театрального опыта, утрачивание непосредственности восприятия (чем новый зритель был также отличен от старого) — намечается смешение нового зрителя со зрителем-мещанином.
Выводы докладчика слишком общи.
771 В. В. Тихонович77 замечает, что при отсутствии методологии докладчик не смог твердо провести границ между театральными вкусами различных групп зрителей. Формулировки вопросов зрителей неудачны, т. к. приложимы к народному зрителю в целом (в отличие от В. Г. Сахновского, который утверждает, что они приложимы ко всякому зрителю вообще). Анализ аудитории неверен, т. к. в отношении Москвы мы имеем не только эволюцию смешения театрального и культурного опыта зрителей, но и большое персональное изменение зрителя (приезд евреев, провинциалов, гражданская война и т. д.).
Н. Л. Бродский говорит, что вина докладчика в том, что он упустил из виду социальную природу зрителя. При изучении зрителя нужно иметь в виду:
1) театральный опыт — воздействие театра на зрителя;
2) социальный опыт зрителя.
Докладчик пытается изучать дифференцированного зрителя — эта установка правильна. Докладчик рассматривает отношение нового зрителя к различным пьесам без учета времени показа — следовательно, без учета социального опыта зрителя, — это неверно. Неудачна терминология. Она слишком обща и по существу ничего не говорит.
Ф. Н. Каверин в заключительном слове отмечает, что замечания относительно отсутствия терминологии верны. Но доклад имел целью осветить наблюдения режиссера-практика, а не дать анализ научного порядка.
Абсолютно правильно подходить к изучению нового зрителя, разделяя его на группы; наличие этих групп ясно видно при сколько-нибудь глубокой и постоянной работе с современной театральной аудиторией.
Формулировки вкусов зрителя новой формации, данные в докладе, абсолютно верны, т. к. это приложимо преимущественно именно к новому зрителю.
РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 18. Л. 15, 13, 13 об.;
Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 368.
6
Л. Я. Зивельчинская78
«СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗРИТЕЛЯ»
22 февраля 1926 г.
1) Задача изучения массового потребителя произведений всех отраслей искусства есть неотложная задача, имеющая огромное научное и общественно-практическое значение. Научное значение указанного обследования заключается в том, чтобы решить основную проблему марксистской эстетики: какое значение имеет социальный опыт и миросозерцание зрителя для его художественных восприятий. Практическое значение поставленной проблемы состоит в следующем: определив художественные вкусы массового потребителя художественных произведений, художник будет иметь экспериментально проверенный материал, которым он может руководствоваться в своем творчестве. Разумеется, при той предпосылке, что художник чувствует потребность быть близким и понятным массовому зрителю.
772 2) Наблюдения и опыты должны производиться над отдельными группами рабочих, крестьян и интеллигентов. Желательно было бы аналогичные группы образовать из детей по тем же социальным категориям. Можно привлечь к этому делу опыт художественного воспитания Главсоцвоса79.
3) Ставить наблюдения необходимо одновременно по возможности над потребителями театра, изобразительного искусства, литературы и музыки.
4) Собирать наблюдения нельзя при помощи анкеты: во-первых, потому, что объект наших наблюдений — массы — часто безграмотны или малограмотны; во-вторых, даже интеллигент, если он не искусствовед или эстетик, не может дать нужных для наших целей наблюдений и формулировок; в-третьих, анкетный способ есть метод самонаблюдения, который имеет ограниченное применение и значение; в-четвертых, положительное и отрицательное отношение зрителя к художественному объекту иногда ярче всего выражается в каком-нибудь восклицании, шутке, смехе, блеске глаз — все это не может найти свое отражение в анкете.
5) Все наблюдения должны делаться и стенографически записываться самим исследователем или его ассистентом. Надлежащим образом обдуманная беседа с экспериментируемой группой должна выявить интересующие нас вопросы.
6) Вопрос о том, как собирать наблюдения, связан с вопросом, где их собирать.
7) Пойдем ли мы в рабочие клубы и Дом крестьянина или
8) пригласим рабочих и крестьян в помещение Академии для литературных и музыкальных вечеров;
9) присоединимся ли к многочисленным экскурсиям по музеям и театрам в воскресные дни или
10) организуем свои группы для производства интересующих нас опытов.
Мое мнение таково: центр тяжести лежит во втором методе, первый также необходимо использовать для контроля результатов, полученных вторым методом.
11) Материалы и вопросы, при помощи которых мы будем производить наблюдения и опыты, должны быть тщательно обдуманы комиссией, которую необходимо выделить для проведения указанной работы.
1. Директивы этой комиссии могут быть даны примерно такие: сначала использовать объекты, имеющие мастерскую художественную форму и живо задевающие социально-политический опыт зрителя; во вторую очередь той же группе и новой группе показать художественные объекты, где преобладает мастерство, но идейное содержание ничтожно; в-третьих, той же группе и новой группе показать объекты, где идейное содержание превалирует над формой (например, народнические [произведения] и произведения наших молодых пролетарских писателей).
РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 319 – 319 об.;
Оп. 13. Ед. хр. 7. Л. 36 – 36 об.
Прения:
Тов. Розенталь80 находит, что проблема изучения восприятия зрителем разных отраслей искусства интересна, но методы изучения в каждой отрасли должны быть иными, работы должны индивидуализироваться. Сомнительно, чтобы изучение зрителя привело к построению материалистической эстетики. Так же сомнительно, 773 что изучение зрителя дает что-либо творчеству художника. Нет противоречия в том, что нам одновременно близки Гомер, Шекспир, Блок, Есенин. Произведение не существует само по себе, оно перевоплощается в восприятии зрителя, которое обуславливается рядом причин — классом, эпохой и т. д. Непонятно, что значит «изучение массового зрителя». Массовый зритель состоит из ряда индивидуумов. Классовая близость влияет на восприятие. Непонятно противопоставление метода анкет стенографической записи ответов.
Тов. Черемухина говорит, что проблемы т. Зивельчинской напоминают проблемы, которые трактовались в 1919 году. Выделение особой группы зрителей считает академичным. Общее социальное происхождение влияет на эстетические переживания. Искусство есть прекрасный метод агитации. Массовый зритель интересен, его нужно изучать, и его уже изучают. В настоящее время анкетный метод принимает иные формы, анкеты становятся более разумными и могут дать интересный материал. Предлагает созвать при Социологическом отделении конференцию клубных работников, которые могут дать интересный материал для отделения.
Тов. Кубиков говорит, что вопросы, затронутые в докладе, весьма сложны и с теоретической стороны, и в смысле практических мероприятий. Восприятия класса в целом не существует. Пример: в 30-е годы XIX века Пушкин и Лермонтов читались и воспринимались лишь верхушками дворянства. Нельзя базироваться на безграмотном или малограмотном зрителе, надо изучать верхушки класса, класса «для себя»81. Выводы, которые будут сделаны на восприятии малограмотного зрителя, дадут неправильную картину. Мы не можем думать о построении материалистической эстетики, основываясь на нашем изучении зрителя. Нужно не забывать, что наше восприятие совсем не тождественно восприятию зрителя XVII-го или XVIII-го веков. Вопросы, поднятые в докладе, интересны, но ответов не дано. Анкета может сопровождаться и устным опросом. Нельзя базироваться лишь на массовом зрителе, индивидуальное обследование может также дать очень многое. Чересполосица среди зрителей может дать интересные наблюдения.
Тов. Беляева-Экземплярская82 находит, что еще нужна огромная предварительная работа, нужна дифференциация темы, выделение определенных проблем, нужно изучение постановки вопроса. Организация планомерных исследований должна пользоваться психологическим опытом. Наблюдение над зрителем производится и анкетным методом — оно может быть и не самонаблюдением, могут быть анкеты и по существу дела, могут быть контролирующие вопросы.
Методы объективного наблюдения могут сыграть роль, но даже групповых исследований быть не может. Анкеты должны сопровождаться объективными наблюдениями. Нужно понять, позволяет ли состояние науки поставить вопрос так, чтобы исследование дало действительно научные результаты.
Тов. Чернышев83 спрашивает, не являются ли анкеты и опрос одинаково самонаблюдениями, может ли быть построена научная эстетика на оценке. Находит, что вопрос весьма сложен.
Тов. Переверзев84 указывает, что докладчица говорит о материалистической эстетике, но может возникнуть вопрос, есть ли вообще в этой постановке материализм, 774 нет ли здесь психологизма? Изучение нужно, но оно должно быть построено по-иному, нужно обратиться к иным моментам. Находит, что в самом подходе докладчика есть народническо-идеологический уклон. Материализм ищет, какими силами создается нужный зритель. Введение классового момента не всегда есть марксизм. Методы наблюдения над психологией не столь важны, воспитание зрителя не должно идти от психологии, лишь идеалистическая эстетика строится на психологии. Пересоздание психологии идет от материальных условий жизни. Нам нужно изучать, как возникают вкусы, как они развиваются. Есть более объективные способы изучения. В докладе многое от Тэна85 — проблема перевоспитания масс, например.
Тов. Аксельрод говорит, что никто не оспаривает значения собирания материала. Но этот материал ни в коем случае не разрешит проблемы эстетики. Трудно даже у отдельного человека выловить, что именно понимает он под формой и содержанием, тем более это невозможно узнать у целой аудитории. Нельзя на таких предпосылках строить социологическую эстетику.
Тов. Зивельчинская отвечает, что раз постановка [проблемы] научна, то она и материалистична. Научное задание есть установление закономерности каких-либо рядов явлений, в данном случае — это положение человека или группы людей в системе общественных явлений и их отношение к явлениям. Возникает сомнение, научно ли на основе анкет и наблюдений строить положение, но это метод статистический, т. е. научность его несомненна. Эмпирический материал необходим, его нужно собирать систематически.
Находит, что не было необходимости подымать весь базис для определения надстройки — психологии. В разграничении есть необходимость. Для каждого отдельного искусства нужны свои методы наблюдений. Умозрительным путем нельзя изучать эстетику, проблемы эстетики нужно изучать на восприятии людей. Художник также может кое-что извлечь из этого материала, процесс творчества поддается изучению.
РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 13. Ед. хр. 7. Л. 34, 34 об., 35.
7
П. А. Марков
«ПРОБЛЕМАТИКА СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА»
22 марта 1926 г.
1. Задача новых группировок внутри современного театра сведется к борьбе с идеологическим формализмом и эстетическим эклектизмом.
2. Период [раскола] фронтов оканчивается. Он в свое время был вызван необходимостью усвоить уроки левого театра (взаимовлияние театральных течений), с одной стороны, — и невозможностью вместить новый жизненный материал в старые формы [— с другой].
1. Взаимоотношения театра и автора сейчас очень сложны, т. к. драматургия отстала от общего течения литературной жизни. Время «пьесы-сценария» миновало — театр несет расплату за период театрализации театра.
775 2. Слово приобретает на театре сейчас выдающееся положение. С другой стороны, невозможность больше работать в пределах заранее принятых схем заставляет требовать от драматурга большей свободы в обращении с новым бытовым материалом и может привести к тому, что театр обратится за помощью к беллетристике, которая эти задачи уже выполняет. Театр возьмет в обучение беллетристов.
3. Актер творчески готов к изображению современных образов на сцене. Образы же старой драматургии он передает, используя весь внутренний и художественный опыт последних лет.
4. Вопрос о пользе театра и о его отношении со зрителем может решаться лишь в плане общего рассмотрения, а не с узкой театральной колокольни. С этой точки зрения полезен всякий спектакль, поднимающий творческую энергию и углубляющий сознание и подсознание зрителя (в плане репертуарном Шекспир, Гоголь и т. д.), и вреден всякий спектакль, снижающий духовную жизнь зрителя, какими бы революционными фразами и патриотическими диалогами такие спектакли ни прикрывались («В наши дни»86, «Брат наркома»87 и т. п.).
РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 496.
Прения:
Н. О. Волконский88 не согласен, что драматургия отстала от актера. Положение это трудно доказать, но трудно и отрицать. Новых молодых актеров почти нет. Лицо русского театра определяется актерами прежними, сложившимися в дореволюционную эпоху. Они очень медленно уловляют современность. Из доклада неясно также, считает ли П. А. Марков положительным тот факт, что правые театры усвоили приемы левых. Между тем, несомненно, это явление положительного порядка и неизбежно должно было быть. Иначе правые театры проявили бы лишь упрямство. Очень хорошо, что П. А. так остро поставил вопрос.
Тов. Горбунов89: П. А. Марков советует привлекать к театрам беллетристов, но это не выход, ибо благодаря условиям цензуры и беллетристы будут стеснены в своем творчестве так же, как и драматурги. Почему докладчик не говорил о режиссере? А между тем этот вопрос очень важен. Режиссеры всегда фальсифицируют драматические произведения, а сейчас особенно. Между тем современный зритель малообразован и не способен в этой фальсификации разбираться.
В. В. Тихонович: Идеологию нельзя противопоставлять мироощущению. П. А. Марков считает зрителя глупым, а театральных людей умными. Но надо ориентироваться на умного театрального зрителя. После эпохи военного коммунизма зритель бросился в театр и повлиял на него экономически. Начались эксперименты театров над зрителем. В настоящее время зритель очень неопределенный и поэтому все театральные направления спутались. Одни театры обслуживают один контингент зрителя, другие — другой. Социальные группировки заменили эстетические. Эстетического деления теперь нет. Надо бороться за зрителя. Мы ждем теперь новых фронтов, не эстетических, а социальных.
Тов. Соколовский90 согласен с П. А. Марковым по вопросу о драматургии. Беллетристов следует привлекать именно как мастеров слова. Причина обмельчания драматургии в измельчении самого быта. Протоколизация событий не может представлять интереса.
776 П. А. Марков в ответном слове отмечает, что существенных возражений ему не было сделано. О режиссуре не стоило говорить, ибо этот вопрос в данное время не стоит остро. Он настаивает на своем утверждении, что актер перерос драматургию. Современные актеры создали много ценных образов, хотя они при этом оперируют почти негодным материалом. Сыграть какого-нибудь ходульно-благородного коммуниста — задача, для актера невыполнимая. И тут он не виноват: положительные, лишенные жизненной правды образы никогда не удавались актерам и прежде.
РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 17. Л. 23.
8
В. В. Тихонович
«СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА»
25 марта 1926 г.
1) Театр, как и прочие искусства, характеризуется теми особенностями, которые обусловлены своеобразием материала, присущего ему как особому искусству и отличающего его от других искусств.
2) Немыслима продукция театра, что относится и к прочим искусствам, совершенно лишенная содержания, вполне формальная или вполне техничная, так как форма, будучи результатом организации материала в целях организации общественного сознания, всегда включает идеологию и так как чистый техницизм, направленный на организацию «вещей», а не «идей», лежит по ту сторону искусства.
3) Из театральных материалов трех основных видов, которые условно можно обозначить как «живой» (актеры), «статически-вещный» (декорация, конструкция и т. д.) и «динамически-вещный» (свет, звук и т. д.), самым характерным является первый во всем многообразии его потенций.
4) Театр есть одновременно пространственное и временное искусство синтетичного и коллективного действия человеческих индивидов и масс, протекающего в определенной материальной среде.
5) Театр, будучи, подобно прочим искусствам, одной из «надстроек», определяется в конечном счете «основанием», т. е. техникой и экономикой данного общества в условиях его времени и места, и, в свою очередь, влияет на это «основание».
6) Театр, как и прочие искусства, включает в свое целое моменты технический, экономический и идеологический.
7) Техника театра как организация вещных и живых видов его материала есть функция общественной техники в целом и влияет на экономику театра.
8) Преобладающий тип экономики театра (в смысле взаимных отношений производителей, потребителей и владельцев орудий производства) — капиталистический с определенной тенденцией к социалистическому при наличии и других форм экономической организации.
9) Производители театра в целом не являются резко очерченной социальной группой и могут принадлежать, если к тому же учесть условия подготовки к театральному производству, к различным социальным группам, но с преобладанием 777 работников наемного труда, крайне дифференцированного и квалифицированного и, отсюда — отличного от индустриального производства.
10) Разнообразие социальной принадлежности не в меньшей степени присуще владельцам орудий театрального производства, ибо ими могут быть и сами производители, и сами потребители, и капиталисты, и государство.
11) Театральная продукция поступает, как товар, на рынок; ее характер зависит от спроса последнего, который обусловливается психикой — идеологией и психологией — или класса-гегемона, или других социальных групп в пределах, не противоречащих социальным интересам класса-гегемона; такой спрос определяет идеологическую и формальную установку продукции, тем самым влияя и на ее технику, причем влияние потребителя усиливается общими особенностями техники театра.
12) Степень влияния на театральную продукцию владельцев орудий театрального производства повышается в соответствии с размером и ростом их экономической мощи и социального веса, ослабляющими их зависимость от спроса.
13) Степень влияния на театральную продукцию театральных производителей всегда ниже влияния двух указанных факторов, так как производители вынуждены давать ту продукцию, которая определяется целевой установкой и производственным планом театра, но, с другой стороны, особенности техники театра усиливают значение в данном отношении производителей театральной постановки сравнительно с производителями материальных товаров, особенно если в данной исторической обстановке производители объединяются с одним из двух факторов.
14) В общем и целом в театральном производстве наряду с некоторым «прямым» воздействием — по вертикали вверх — техники театра на его экономику и идеологию — наблюдается мощное «обратное» воздействие — по вертикали вниз — идеологии класса-гегемона на экономику и технику театра через воздействие «по горизонтали» — на идеологию театра, — вместе с тем наблюдается воздействие «по горизонтали» общей экономики и техники на экономику и технику театра.
Прения:
В. Г. Сахновский: Докладчик во многом оставляет в стороне самую внутреннюю сущность театра. Не кажется ли докладчику, что сейчас изнутри самого театра поднимаются новые течения, не связанные с общей идеологией командующего класса: например, романтизм, утонченный реализм и т. д. Театр всецело находится под эгидой командующего класса только в моменты своего упадка, проблески возрождения несут с собою всегда нечто независимое от окружающих условий, иногда даже наперекор требованию зрителя. Да и сам зритель ищет в театре неожиданного, противоречащего его обыденщине. Как можно социологически объяснить наличие в истории театра эпох «бури и натиска».
А. М. Родионов91: Ошибочно не видеть совсем общности между производителями театра и индустриальными рабочими. Общность имеется в наличии и тут и там коллективного труда, общности, объединяющей эти коллективы единой воли к созиданию. Также едва ли можно говорить об отличии условий «сбыта» театральной продукции от этих же условий в других искусствах. Ведь потребитель всех искусств, в сущности, один и тот же, а потому и требования его в общем едины.
778 П. А. Марков: Докладчик сильно преуменьшил влияние актера на зрителя. Исторически можно сказать, что крупные артисты меняли самый вид или идеологию театра. Внося в театр свою новую струю, отличную от общей структуры театра, они этим-то и действовали на зрителя. Крепостные актеры, входя в императорские театры, приносили с собой очень много своего собственного. В нашей современности личность актера играет очень значительную роль. В социологическом анализе вопрос о личности актера и его роли является, быть может, основным.
Тов. Лепковская92 соглашается с мнением предыдущего оппонента. Докладчик сам себе противоречит, с одной стороны считая человеческий материал самым основным из слагаемых театра, а с другой чрезвычайно умаляя его значение.
Театр, кроме непосредственного служения обществу, имеет, как, например, наука, еще и свою собственную эстетическую и познавательную ценность и не определяется только своими взаимоотношениями с обществом своего времени.
Л. И. Аксельрод: В. Г. Сахновский правильно отметил тот факт, что исторически театр очень часто шел вразрез с идеологией времени, и поставил вопрос, как это можно обосновать социологически. Надо сказать, что в этом случае театр ничем не отличается от прочих видов идеологии. Лишь примитивно мыслящий социолог стал бы всегда и непосредственно определять искусство господствующей идеологией времени. Общество и социально, и идеологически неоднородно: в нем есть и революционные, и статические элементы. То, что якобы идет вразрез «духу времени», в сущности, идет вразрез лишь идеологии большинства. Но, тем не менее, и это новаторство всегда социологически обусловлено. Кроме того, надо помнить, что эволюция идеологии вовсе не идет прямым путем, линия ее очень извилиста: здесь очень тонко сочетаются элементы традиции и новаторства.
Тов. Лепковская правильно отмечает, что театр имеет эстетическую и познавательную ценности. Но почему эти ценности надо отделять от служения обществу? Надо помнить, что служение в большинстве всегда происходит бессознательно. Даже больше — чем меньше искусство, так же как и наука, субъективно задается непосредственно-утилитарными целями, тем более служит оно обществу. Искусство есть общественная функция и вне общества не существует.
В. Г. Сахновский: После разъяснения Л. И. Аксельрод мне хочется поставить еще один вопрос: объясняется ли театр как специфическое искусство при социологическом его сечении?
А. А. Федоров-Давыдов93: Доклад носит в общем характер социологического изучения тех элементов театра и той его стороны, которая, в сущности, является внеэстетической. Это, конечно, может быть предметом социологического изучения, но поскольку докладчик все же говорил о театре как об идеологическом явлении, постольку очевидно, он не намеревался ограничиться лишь вышеуказанными проблемами. А раз это так, то надо признать, что осталось не совсем понятным, что же такое театр как особый вид искусства, в чем спецификум его идеологии, т. е., следовательно, что же именно надо социологически в нем изучать.
Докладчик как-то разрывает формы театрального действа и идеологическое содержание, внешне выраженное этим действом.
Его понятие формального метода несколько примитивно. Социологу в анализе театра надо считаться с тем новым пониманием театра как объекта исторического 779 изучения, который был выдвинут немецкими формалистами, а у нас проводится, например, тов. Гвоздевым94. Ведь марксист и идеалист в анализе искусства различаются не объектами, а точками зрения на сущность и на методы изучения этого объекта.
Театр как синтетическое искусство, быть может, самый сложный объект для социологического изучения, несмотря на столь явную его социальную роль.
Тов. Клейнер95: Доклад дает слишком мало конкретного материала для обоснования своих выводов, и поэтому последние малоубедительны. Троякое деление материала театра, даваемое в докладе, в сущности, может быть заменено двояким: живым (движущимся) и неподвижным.
А. М. Родионов: Театральное производство и театр вообще нельзя мыслить без зрителя. Поэтому следовало бы уделить больше внимания театральному потребителю как одному из факторов театра.
В. А. Филиппов: Прения по докладу обнаруживают, насколько волнующей и актуальной является сейчас проблема социологического изучения театра. Но мне кажется, что схема социологической обусловленности театра была дана в докладе слишком упрощенной. Нельзя было так обуживать и умалять роль актера, а в особенности актерского коллектива в эволюции театра.
В годы революции театр не был революционным потому, что не было и не могло еще быть революционного репертуара.
Поскольку в театре происходит самое тесное сближение производителя и потребителя, постольку оба они чрезвычайно сложно друг на друга воздействуют. Это нужно постоянно учитывать.
Заключительное слово докладчика: О мелких и частных возражениях. Тов. Клейнер [считает, что] «доклад не дает конкретного материала». Я строил его абстрактно, — это мое право, но все же примеры были многочисленны, на мой взгляд. «Докладчик говорил о театре вообще»; верно — я исходил из общих всем эпохам особенностей театра. Критика классификации материала; я сам подчеркнул, что основной материал живой, сам отметил общность обоих видов вещного материала; относить звук (не актерскую речь) к живому и свет — к статическому материалу физически ошибочно. Тов. Родионов [подтверждает, что] отличие театрального «пролетариата» от индустриального достаточно выяснена в докладе. Связанность театрального «производителя» с потребителем в момент воспроизведения образа и постановки в отличие от композитора, драматурга, изо-художника также выяснено в докладе. Тов. Филиппов [утверждает, что] я схематизировал вопрос. Но мой последний тезис подчеркивает его большую сложность.
Теперь основные возражения. Одни — методологического порядка — я сделал антиэстетический доклад. Другие — идеологического порядка — театр нельзя объяснить социологически. Среди первых оппонентов тов. Федоров-Давыдов. [Но] я же сказал, что спецификум театра, как и других искусств, в его материале, его оформлении, законах техники, свойствах материала — [пропуск в стенограмме]; это — от технологии и биологии; этого я не касался.
Моя тема — не теория театра, а социологический механизм театрального производства. Согласен, что искусство — идеология (в докладе это сказано), но театр — целый микрокосм, где, как и в обществе в целом, есть своя техника (организация 780 вещей) и экономика (организация людей). С формой я считался, она — функция материала и идеологии.
Во главе второй группы оппонентов — тов. Сахновский; не понимая связи театральных явлений с общественностью, он не учитывает сложности социальных факторов, отражения идеологии на технике, сложности классовой идеологии (буржуй иногда требует, чтобы его злили — «epater les bourgeais»).
К этой же идеалистической точке зрения близки и другие возражения, которые подчеркивают значение актера-производителя, мною будто бы преуменьшенное. Я мечтаю о «голом» актере в плане техники как материале. Актер «доходит», влияет на публику, когда между ним и ею есть идеологическая (значит — социальная) общность; в этом секрет влияния Мочалова и Стрепетовой (это по адресу тов. Маркова). Производственный план зависит от актеров; так было при Ермоловой и Савиной (тов. Филиппов): да, но только не идеологически, а технически (подходящие образы).
В том же плане возражения о преуменьшенном значении драматурга (тов. Филиппов), но один и тот же драматург звучит, передается по-разному в разные эпохи (ложные классики перед В. Ф. Р.96). Рассматривать театральное производство как самодовлеющее (тов. Лепковская) — чистейший идеализм. Актер, сам того не сознавая, совершает общественное служение.
В итоге:
1. Отдельные частные возражения — ошибочны.
2. Моя тема и мой метод не требовали от меня делать ударение на «спецификуме» театра и исчерпать его на 100 %.
3. В прениях выявилась отчасти и идеалистическая концепция театра; спор в этом плане — есть спор миросозерцаний.
РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 14. Л. 11 – 14;
Оп. 13. Ед. хр. 7. Л. 44 – 47.
9
В. В. Тихонович
«АССИМИЛЯЦИЯ ТЕАТРОМ ЧУЖДЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ ФОРМ»
1 апреля 1926 г.
1) Диалектика Российского театра в XX веке привела его от натурализма Художественного театра к аналитизму первых работ театра Мейерхольда; театр содержания через театр формы пришел к театру материала.
2) Обнажение театра от содержания и формы вызвано поисками новой формы, отвечающей новому содержанию, обусловленному социальными сдвигами.
3) Театр, всегда бывший в плену у других искусств, идет по пути изжития своей зависимости от «словесных» искусств (Лито) в театре формы и от «пространственных» (Изо) — в театре материала; вслед за этим начинается ассимиляция технических и формальных элементов других зрелищных искусств — эстрады, цирка, кино (Форрегер97, Эйзенштейн, Мейерхольд).
4) Эта ассимиляция обуславливается как еще не изжитым процессом зависимого периода развития театрального искусства, так и обязанностями последней 781 фазы диалектики российского театра — ее техницизмом, предшествующим возрождению театра содержания.
5) Российский театр в XX веке развивался под знаком усвоения художественных влияний Запада; последние в области зрелищных искусств приводили театр к эстраде, цирку и кино в тесной связи с идеологической и психологической эволюцией капиталистического общества.
6) Эта эволюция в плане искусства в общем и целом характеризовалась оскудением содержания искусства и изменением психологии восприятия.
7) Одновременно на почве того же распада между старым искусством и новым содержанием возникают клубные зрелищные формы, в своем крайнем выражении отметающие всё и всякое искусство («действенный» метод в клубе, «производственная» теория в театре), отчасти подготовленные ассимиляцией чуждых театру зрелищных форм и совпадающие с эволюцией в сторону внехудожественного техницизма.
8) Российский театр не мог не подпасть и под это влияние как последнее формальное испытание, которым, видимо, завершается круг его эволюции, обусловленный внутренними и внешними ее факторами (театр Революции 1925 – 1926 гг.).
9) В порядке театрального дня — возрождение театра как такового, идеологически приближенного к содержанию эпохи и вооруженного в борьбе за ей отвечающую форму ассимиляцией органически воспринятых и усвоенных им элементов других искусств.
РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 17. Л. 30.
10
Н. П. Федорова98
«ОПЫТ ПОПУЛЯРИЗАТОРСКОЙ РАБОТЫ ПО ТЕАТРУ»
14 июня 1926 г.
1) Особая важность популяризаторской работы по театру в силу своеобразных свойств этого искусства.
2) Необходима плановость и систематичность этой работы.
1. Перед спектаклем необходима беседа, вскрывающая сущность театрального искусства — его основные элементы. Обсуждение предстоящего спектакля недопустимо.
2. Разбор самого спектакля — после посещения его спустя день-два.
Прения:
Л. Я. Гуревич просит докладчицу подробнее рассмотреть метод беседы после спектакля.
Н. П. Федорова: В беседе после спектакля хочется всегда больше остановиться на работе данного театра, тогда как в предварительной беседе обычно речь идет о театре вообще, о его задачах, о его особом, специфическом воздействии, о его месте среди иных искусств.
В. Г. Сахновский. Не вдаваясь в критику метода докладчицы, В. Г. считает, что такие предварительные или последующие беседы вредны сами по себе. Они, ничего 782 не давая зрителю, в то же время лишают его всякой непосредственности, заставляют подходить к спектаклю с какой-то заранее составленной меркой, обращать внимание на то, что внушено «руководителем» беседы. В. Г. говорит на основании собственного опыта в бывшем университете Шанявского99. Он убедился, что подобное руководство зрителем не только бесполезно, но и глубоко вредно. Когда в свое время Энгель100 перед каждою симфонией Чайковского читал лекцию о ней, говоря, что в таком-то месте будет слышаться журчание ручейка, в таком-то шум и т. п., то он этим лишь портил восприятие симфоний. На популярных лекциях допустимо лишь толкование чисто формальных моментов, но отнюдь не раскрытие каких-то сущностей, которые весьма спорны и допускают всевозможные толкования. Учить театру, как букварю, нельзя.
М. Д. Прыгунов101 не согласен с мнением Сахновского. Объяснять и руководить нужно и полезно. Вопрос идет лишь о методе. Уже сама техническая часть театра дает для таких объяснений богатый материал. Каждая группа задает свои вопросы согласно профессиям и степени культурности. Рабочие обычно больше интересуются практическими вопросами: сколько получает Собинов102 и т. п. Средние интеллигенты спрашивают, куда же пойдет театр. Модистки спрашивают, сколько лет Гельцер103, всегда ли она танцует с Тихомировым104 и т. п.
Н. Л. Бродский выражает сожаление, что докладчица никак не зафиксировала те вопросы, которые задавались ей ее слушателями, и не представила более конкретного материала. Без этого доклад не имеет научной ценности, между тем как он мог быть очень ценным именно с научной точки зрения. Вопрос, затронутый Сахновским, очень важен в социологическом отношении. Как довести массового читателя до усвоения поэзии Пастернака или Брюсова. Как довести такого зрителя до понимания различных оттенков театрального мастерства. Делать это между тем нужно.
Л. Я. Гуревич считает, что опасения, высказанные Сахновским, уместны лишь по отношению к совершенно непосредственному зрителю. Между тем такого зрителя нет, особенно в той среде, которую имеет в виду докладчица. Во всяком случае, беседы после спектакля, безусловно, очень полезны.
Н. П. Федорова. Отвечая на возражения, докладчица указала, что большинство присутствующих, по-видимому, не в курсе той работы, о которой она говорила в своем докладе. Рационализм Энгеля давно изжит. Мы бережем эмоцию. В беседе перед спектаклем всегда темою берется именно формальная сторона театра. Никаких апперцепций зрителю никто не навязывает. Если это и делают иные руководители, то как факт, безусловно заслуживающий порицания. Конечно, очень жаль, что не удалось стенографически зафиксировать всех бесед, но, к сожалению, это стоит слишком дорого. Протоколы же малоинтересны, ибо передают вопросы, задаваемые зрителем, лишь в общих чертах, тогда как интересна иногда самая форма вопроса.
Основной вопрос: нужно ли поднимать рядового зрителя до более высокого уровня и развивать в нем сознательное отношение к театру? Безусловно, да, но делать это надо осторожно.
Н. Л. Бродский закрывает заседание, указав, что желательно поскорее выработать форму анкетного листа для зрителя. Такие анкеты явились бы ценным материалом для научной разработки темы о современном театральном зрителе.
РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 18. Л. 17 – 19.
783 11
А. В. Трояновский105 и
Ю. В. Недзвецкий106
«Зритель спектакля “Шторм” в театре им. МГСПС107»
7 октября 1926 г.
I. Анкетное обследование
1. Проведенная анкета дает возможность установить отношение зрителя к спектаклю в целом и к отдельным элементам лишь в общем виде.
2. Материал анкеты детализирует самоотчет зрителей на обороте анкеты. Но он не имеет строго систематического характера.
3. В основу обработки анкет был положен учет ответов как по каждому отдельному вопросу, так и перекрестный учет биографических и специальных вопросов. Самоотчет систематизирован по тематическому признаку.
4. Учет биографических вопросов в общем виде дает представление о коллективе, заполнившем анкеты.
5. Учет специальных вопросов устанавливает отзыв о спектакле указанного коллектива в целом.
6. Отношение зрителя к спектаклю в целом — положительное (97,6 % положительных отзывов). Больших колебаний в оценке спектакля отдельными группами не замечается. В самоотчете спектакль признается особенно желательным для чисто рабочей аудитории.
7. Пьеса расценивается несколько ниже, чем спектакль в целом (92,9 % положительных отзывов). Наряду с большинством положительных отзывов встречаются указания на несколько устаревшую тему, неверную обрисовку некоторых персонажей и «махаевщину»108.
8. Еще ниже расценка игры актеров (85 % положительных отзывов). Как основные недостатки указываются утрировка и неверная трактовка ролей.
9. Наиболее неудачным оказалось материальное оформление представления (51,5 % положительных отзывов). Основной недостаток — однообразность декорационной установки.
10. Популярность «Шторма» может быть объяснена актуальностью темы и вполне удовлетворяющим зрителя оформлением ее.
11. Материалы анкетного однодневника (8 мая 1926 г.) подтверждают и самоотчетом, и цифровым материалом неслучайность выводов данного анкетного обследования. (По анкетному однодневнику «Шторм» получил: положительных отзывов — 120; отрицательных — 15; коэффициент — 76 %).
РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 32. Л. 4.
II. Учет реакций зрителя
1. Запись реакций зрителей дает возможность установить реакцию зрительного зала как на отдельный момент представления (общее количество 414), так и на более крупные куски представления, а также на проходные детали его.
2. Для удобства исследования представление разбито на 16 кусков по признаку определенной социальной тематики, которые совпадают для «Шторма»
а) с жанровыми отрывками;
784 б) иногда и с отдельной картиной.
3. Преобладающими реакциями на спектакле «Шторм» являются: тишина — 64 %, смех — 20,7 %, напряженная тишина — 7,9 %.
1. Общий коэффициент представления — 29,8 %.
2. Движение количественного отношения разного рода реакций из одного куска в другой устанавливает факт неравномерного распределения в социальных кусках трех основных реакций: тишины, смеха и напряженной тишины.
3. Смех преобладает главным образом в первом квартале.
4. Напряженная тишина, в общем, вырастает к концу, достигая наибольшего количества в куске 12.
5. Рассеянность (2,7 %), в общем, вырастает к середине представления, что объясняется затянутостью и малой четкостью массовых сцен (кусок 9).
6. Многообразие положительных реакций указывает на активность восприятия представления.
7. Композиционно представление вполне удовлетворительно. Чередование кусков и смена «жанров» правильны, что влечет за собой малую утомляемость зрителя.
8. Интенсивность восприятия отдельных отрывков находится в прямой зависимости от формального выполнения.
9. Выводы записи реакций не противоречат выводам анкетного материала.
РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 32. Л. 1 – 4.
Прения:
А. М. Родионов отмечает, что театральный зал дает много реакций, не описанных докладчиками. «Тишина», «шум», «смех» не дают возможности учесть реальное состояние зрительного зала; кроме того, не уяснено, какой характер имеют голоса публики, беседовавшей друг с другом по поводу слышанного или о чем-либо другом. Следовало бы сказать, в каком отношении находится число лиц, не давших анкетных листов, к тем, кто заполнил их.
А. А. Фортунатов высказал мысль, что, только орудуя большими числами, можно сказать о точности выводов.
П. М. Якобсон высказал пожелание о том, что необходимо иметь большее количество регистраторов, чем двое, так как, как видно из доклада, имели место расхождения в фиксации реакций зрительного зала; желательно учитывать реакции по партеру и галерке; необходимо применять метод сравнения полученных анкет к другим спектаклям. Фотографирование зрительного зала усилило бы картину состояний зрительного зала. А. К. Шнейдер109 усомнился в достаточной ценности проделанной работы, в которой не учтено то обстоятельство, что взрослый зритель, разнящийся от детей, обычно вовне выражающих свои эмоции, переживающий свои настроения в себе, не покрывает внешними проявлениями, записанными в театре им. МГСПС, своих подлинных настроений и своего подлинного отношения к пьесе; ограниченное количество регистраторов дает не описание целого театрального зала, а только отдельных частей, отдельных групп, к тому же истолковываемых довольно субъективно обоими докладчиками.
В. А. Филиппов отметил, что ценный опыт, проделанный докладчиками, кладет прочный фундамент в деле изучения современного зрителя, но что необходимо 785 продолжить его, уточняя описание: так, из докладов неясно, как относится зритель к спектаклю — задерживается в антрактах, спешит к новому акту, сразу аплодирует и т. д.; ничего не сказано о направлении реакций — откуда раздавался смех: сверху, снизу. Не учтена также роль критики, могущая предопределить известное отношение зрителя к спектаклю.
Н. Л. Бродский усомнился в возможности путем наблюдения двух лиц вносить в графу реакций целого зрительного зала такие моменты, как «испуг» и другие психические состояния, требующие особых приемов наблюдения; было бы рискованно соглашаться с выводами доклада, что спектакль «Шторм» принимается всеми социальными группами, так как единство положения зрителей в годы военного коммунизма объединяет их реакции. Ведь в докладе указаны разные группы — и рабочие, и служащие, и безработные, и учащиеся, люди с разным образованием, разного возраста, следовательно, дифференцированный социально зрительный зал никоим образом не дает права рассматривать его как однородный коллектив, прошедший одну и ту же политическую дорогу.
В заключение председатель комиссии [Бродский Н. Л.] указал, что только комбинированное описание всеми выработанными и отмеченными в практике и печати опытами изучения зрителя подвинет вперед дело учета интересов зрительного зала.
РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 32. Л. 1 – 1 об.
12
А. А. Фортунатов110
«ДЕРЕВЕНСКИЙ ЗРИТЕЛЬ»
4 ноября 1926 г.
1. Доклад построен на данных пятилетней работы в деревнях Малоярославецкого уезда Калужской губернии 1-й опытной станции по Народному образованию НКПроса. Район наблюдения — около тридцати деревень. Время работы 1920 – 25 годы.
2. Характеристика района: малоплодородная почва, сильно развитые отхожие промыслы, кустарное ткачество. В период военного коммунизма — усиленные поездки на московские рынки и на Украину.
3. Характер работы, в процессе которой производились наблюдения:
а) работа подвижного театра 1-й опытной станции (театр для народа);
б) театральные постановки постоянно работающего Угодско-Заводского кружка;
в) постановки трех театральных кружков деревенской молодежи в разных селениях района.
4. Способы наблюдения деревенского зрителя: наблюдатели среди зрителей, фиксация реплик, фиксация отзывов в антрактах; беседы в читальнях после спектаклей, письменные отзывы зрителей (в школе рабочей молодежи). Фиксация воспоминаний о постановках, виденных 2-3 года тому назад. Как добавочный материал — впечатления от московских театров во время экскурсии в Москву некоторых крестьян, постоянных зрителей спектаклей обследуемого района.
5. Данные наблюдения: как общее правило — предпочтение героических трагедий и комедий классического репертуара перед пьесами бытовыми и агитационными.
786 6. Максимальный успех пьес: «Борис Годунов» Пушкина, «Проделки Скапена» Мольера, «Овечий источник» Лопе де Вега и старинной оперетки «Мельник — колдун, обманщик и сват».
7. Меткая оценка игры отдельных исполнителей.
8. Повышенный интерес к красоте постановок.
9. Внутри изучаемого района — разделение на два подрайона, с неодинаковыми вкусами: в селе Угодский завод с прилегающими деревнями — относительно большее сочувствие к бытовым пьесам и социальным драмам; села Белкино и Белоусово с прилегающими деревнями — решительно не симпатизируют быту на сцене. (Пример постановки «Гибели Надежды»111, имевшей большой успех в первом подрайоне и решительно провалившейся во 2-м). Попытки нахождения связи этого различия вкусов в бытовых условиях.
10. Постоянное изменение вкусов за 5 лет работы:
а) первоначально — решительное предпочтение комедии перед драмой (боязнь трагического), позднее — заметное тяготение к трагическому;
б) в 1920 г. — резко враждебное отношение части деревни к социально-революционным мотивам, позднее — сочувствие революционным мотивам в классических трагедиях («Рюи Блаз» Гюго, «Овечий источник» Лопе де Вега) и некоторых современных драмах («Овод»)112.
11. Значительные требования, предъявляемые к художественности пьес и добросовестности их разучивания: решительное отвержение художественно недоброкачественного репертуара.
12. Индивидуальные силуэты зрителей-крестьян.
РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 32. Л. 6.
13
Н. Л. Бродский
«ЗРИТЕЛЬ “РЕВИЗОРА” В ТЕАТРЕ МЕЙЕРХОЛЬДА113»
20 января 1927 г.
1. Роль прессы, определившей отношение разнообразных групп зрителей к постановке.
2. Анализ реакций смеха зрителей «Ревизора» вскрывает, что смех возникает в зрительном зале по поводу трюков, неожиданных эпизодов и вещей или в связи с грубо натуралистическими деталями.
3. Смех зрителей не соответствует смысловому содержанию комедии Гоголя и противоречит намерениям автора пьесы.
4. Переводя сложную психическую реакцию на внешний, поверхностный комизм, подменяя социальный тематизм комедии цирковым, гаерским, постановка Мейерхольда снижает смысл пьесы Гоголя, дает искажение представления о творчестве писателя-драматурга.
5. В этом смысле анализ реакции смеха устанавливает общественно-реакционное значение постановки в театре, долженствующем обслуживать зрителя-массовика, нередко не знакомого с пьесой Гоголя и не видавшего «Ревизора» в других 787 театрах, и свидетельствует о большей уместности постановки в театре любителей, квалифицированных специалистов, интересующихся новаторскими интерпретациями классиков нашей сцены.
РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 32. Л. 8.
14
Театрально-исследовательская
мастерская114
«ОПЫТ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕГО ЗРИТЕЛЯ»
29 марта 1927 г.
1. Рабочего зрителя как определенного коллектива с четко выраженными требованиями к зрелищу как к культурному учреждению не существует. В силу ряда местных условий слагаются отдельные группы рабочего зрителя, имеющие определенную физиономию (например, рабочий зритель в районном театре Дворца им. Ленина, в центральных театрах и в цирке).
2. В районном театре (Дворец им. Ленина) мы имеем рабочего зрителя с малой теа-культурностью, почти не посещающего центральные театры. Здесь имеется явно выраженное тяготение к своему театру. Центральные театры как бы стоят на втором плане. Отмечается тяготение к малым зрелищным формам в ущерб большой. В отношении драматургических жанров — повышенный интерес к трагедии и мелодраме и пониженный к драме и комедии. Большого интереса к современной пьесе не отмечается.
3. Рабочий зритель в центральных театрах имеет тяготение как к театрам с революционным содержанием (им. Мейерхольда, им. МГСПС115, Революции), так и к наиболее популярным академическим театрам (МХАТ 1-й, ГАБТ116, Малый). Прочие социальные группы в выборе театров более последовательны, отдавая предпочтение или левым театрам (учащиеся), или академическим (служащие).
4. По отношению к зрелищным жанрам рабочий зритель проявляет большую неустойчивость. Тогда как группа служащих везде отдает предпочтение драматическому театру и опере, рабочие в оперных театрах отдают предпочтение опере, в драматических — драматическому театру и в цирке — цирку.
5. Распределение рабочего по различным зрелищам неравномерно. В оперных театрах рабочих 6,5 %, в драматических 10 % и в цирке 20 % (по материалам анкетирования).
6. Тяготение рабочего к цирку нельзя считать случайным. И по расценке мест, и по нахождению в центре города цирк не имеет преимущества перед театром. Очевидно, цирк в большей степени, чем прочие зрелища, отвечает запросам рабочего. Среди прочих групп циркового зрителя рабочий является наиболее специфической его частью, принимая почти безоговорочно все виды циркового искусства.
7. Сравнивая интересы рабочих и служащих в цирке, мы видим, что рабочие отдают предпочтение более примитивным номерам: простым по форме, рассчитанным на поверхностный смех разговорным номерам (антре, шутки и т. п.), номерам, связанным с «опасностью» для жизни (воздушные полеты, полет из-под купола и т. п.), а также номерам, отличающимся известной зрелищностью (слоны и т. п.). 788 Служащие отдают предпочтение более сложным и тонким по форме номерам (каламбур, работа на проволоке, жонглеры, лошади и т. п.).
8. В заключение следует отметить, что рабочий зритель не имеет каких-либо общих отличительных особенностей. Существенным его признаком является низкая культурность, как общая, так и по линии знакомства со зрелищем. В этом отношении он мало отличается от низового служащего во Дворце им. Ленина и от прочих малокультурных групп циркового зрителя.
9. В дальнейшем необходимо детализировать работу по изучению зрителя, разбивая его на ряд групп по образованию, политической грамотности и возрасту. Сравнение установленных групп между собой и с подобными группами учащихся и служащих поможет уяснить отдельные особенности в отношении рабочего к зрелищу и их предпосылки.
РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 32. Л. 26.
15
Н. Л. Бродский
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗРИТЕЛЬ НОВОГО ВРЕМЕНИ»117
17 января 1928 г.
1. Различие реакций зрителя обусловлено социальной средой, питающей эстетические, идейные вкусы театрального зрителя.
2. Театральное зрелище действует с разной силой в разных социальных средах.
3. О единстве типа реакций зрителя можно говорить при условии или совпадения с интересами социальной группы тематики зрелища и сценического оформления, или антитезы между тем и другим.
4. Анализ неизданных и печатных материалов (анкет, писем), дающих право высказать вышеизложенные положения.
Прения:
А. А. Бахрушин118 указывает, что в докладе нет ничего о новом зрителе. Надо выяснить реакцию зрителя сегодняшнего дня. В театре МГСПС на спектакле «Мятеж»119 можно было наблюдать этого нового зрителя.
Н. Л. Бродский сообщает, что следующий доклад будет о спектакле «Власть»120. Там получилось следующее — анкетные записи противоречат тем записям на спектакле, которые сделаны присутствующим на спектакле обследователем.
А. М. Родионов: Н. Л. Бродский предлагает несколько индивидуальных записей вместо массового анкетного механизма. Я думаю, что оба материала не адекватны. При анкетном способе важно количество. Важно также, сколько зрителей принадлежит [той или иной] социальной группе. Выяснить это мне не представляется возможным. В этом смысле больше дадут индивидуальные записи. Но для установки потребности данного времени индивидуальные оценки спектакля дадут очень мало. Я тоже был на «Мятеже». Зрелище захватывающее и увлекательное, я забыл, что нахожусь в зрительном зале, а многие были недовольны спектаклем. Надо взять для изучения ряд зрительных залов. Тематика нынешнего спектакля 789 другая, чем тематика старого театра. Социальная проблема заменила тематику интриги. Восприятие этой проблемы сложнее. Современный зритель не может дать той тонкости, которую дает Поливанов121. Одна индивидуальная блестящая оценка подавит все, что может получиться от записи реакций всего зрительного зала.
А. И. Кондратьев: Материал, взятый Вами, вполне подтверждает ваши выводы. Я не согласен только с одним: что зритель является одним из компонентов спектакля. Правда, Вы берете для доклада не эту тему. Это ваше побочное утверждение. Но на это существует и другая точка зрения, которая говорит, что зритель не является элементом спектакля.
Зритель двулик:
1) с одной стороны, он влияет на актера (здесь об этом влиянии необходимо получить свидетельство актеров);
2) с другой — спектакль влияет на него, и потому надо изучать реакции зрителей.
Беда в том, что зритель всегда случаен, тот, кто пришел в театр, тот и зритель. Можно утверждать, что зритель «Контрабандистов» пришел не как зритель. Этот зритель заранее не принял спектакля122.
В. Е. Беклемишева123: Можно утверждать, что реакции зрителей неодинаковы и что реакции зависят от конституции того или иного зрителя. В этом смысле изучить зрительный зал очень трудно, почти невозможно. Надо знать, кто смотрит, чтобы получить точные сведения о том, почему он так реагирует. Кроме определенной социальной группировки, к которой принадлежит тот или иной зритель, он имеет еще свой психический облик. У меня были наблюдения над подростками-зрителями. Можно было уловить, что мальчикам-подросткам больше нравилась комедия как форма спектакля, а у девочек было тяготение к драме. Думаю, что случайная публика зрительного зала чрезвычайно затрудняет изучение зрителя.
В. П. Дитиненко124: Материалом для изучения зрителя могут быть еще письма зрителей к актерам. У М. А. Чехова очень много писем о «Гамлете»125. Письма эти будут мною обработаны для доклада в ГАХНе.
А. П. Петровский126: Вопрос о зрителе очень сложный и многосторонний. Доклад только частью коснулся этого вопроса. Этот вопрос сводится к оценке эмоционального восприятия зрителя. В восприятии спектакля есть два момента: непосредственное восприятие и то, что будет зритель говорить потом, через несколько дней, это не всегда совпадает. Индивидуальная запись не дает всего. Пример: спектакль с Дузе127, на котором плакали тысячи глаз, а Гершензон128 не плачет. Аплодисменты тоже еще ничего не говорят.
Для меня решающим является непосредственное восприятие спектакля. Запись за зрителем [многое] дает, но не все. Не все зрители воспринимают в одинаковых условиях (партер и галерка). Рейнгардт129 устроил для всех очень удобные кресла. О силе непосредственного впечатления можно судить по выступлениям в суде Плевако130. Под влиянием его речи присяжные заседатели обычно оправдывали, а потом хватались за голову.
Зритель — слагаемое спектакля. Настоящий спектакль бывает только при зрителе. Зритель всегда влияет на актера. Количество зрителей влияет на игру, на темп спектакля. Под влиянием полного зрительного зала темп комедии ускоряется, в драме, наоборот, темп замедляется. Артисты тоже бывают разные и разно 790 реагируют на то, что идет от зрительного зала. Театр всегда ориентируется на воображаемого зрителя.
Есть социальный заказ. За 10 лет мы видели судьбу многих театров. Охлаждение к театру Мейерхольда ясно. Сейчас я работаю в районном театре. Наш зритель хочет принимать участие в спектакле. Важен также вопрос о подготовке зрителя к театру. Анкета и индивидуальная запись нам очень мало дадут. Самый важный момент — запись всего того, что происходит на сцене и в зрительном зале на спектакле (количество зрителей, игра актеров, реакция зрителей).
А. М. Родионов: Может ли спектакль быть без зрителей? Первый контролирующий зритель — режиссер. Если зрителя нет, то я его воображаю даже на репетициях. Актер делает подмену, т. к. всегда думает о зрителе. Актер — явление социальное.
Н. Л. Бродский: Метод, предлагаемый А. П. Петровским, очень ценен, но он еще невозможен. Необходим комбинированный метод. Фиксируя спектакль, необходимо дать тематику спектакля. Из 2-х [способов], анкета или индивидуальная запись, — я считаю более важной индивидуальную запись. Необходимо только взять людей разных социальных групп и разных конституций. Каждый театр должен изучать своего зрителя.
РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 41. Л. 19 – 20;
Оп. 4. Ед. хр. 32. Л. 8.
16
И. Максимов131 и
Л. Самодур132
«ЗРИТЕЛЬ “ВЛАСТИ” В ПРОЛЕТКУЛЬТЕ»133
29 марта 1928 г.
1. Зритель изучен двумя методами: записью непосредственных реакций и анкетным опросом. Запись и анкеты друг друга дополняют и контролируют.
2. Запись реакций показывает, что в целом «Власть» воспринимается малоактивно, преобладают реакции тишины, слабого смеха и рассеянности.
3. Высокая общая оценка «Власти» в анкете при общем низком тонусе непосредственной реакции позволяет сделать вывод, что успех представление имеет за счет содержания пьесы.
Прения:
Н. П. Кашин134 просит разъяснения относительно техники исчисления коэффициентов при разработке анкетных данных.
А. И. Кондратьев спрашивает относительно способов согласования разновременных записей, т. к. учет зрителя был произведен по нескольким спектаклям.
Н. Л. Бродский останавливается на общих выводах, которые имеют противоречие, — неуспех спектакля со стороны восприятия зрителя (реакции), в то время как анкеты и кассовые данные говорят другое. Поэтому необходимо закрепить мысль о том, что изучение зрителя должно идти комбинированным путем. В дальнейшем Н. Л. Бродский отмечает спорность терминологии, доказывая это на анализе 791 реакций в связи с тематикой пьесы, различая одновременно типы зрителей, в частности психологическую сторону.
Н. Д. Волков говорит о методологической стороне сообщений. Докладчики, оперируя убедительными доводами, приходят к неубедительным выводам. Значительность и ценность спектакля, несмотря на эстетические недостатки, в той глубокой содержательности тематики, которой насыщена пьеса. Затем Н. Д. Волков останавливается на игре актеров и приемах режиссера. Поэтому статистические данные и выводы нуждаются в дополнении каким-то другим порядком.
А. И. Кондратьев, присоединяясь к мнению Н. Л. Бродского и Н. Д. Волкова, также критикует доклады с методологической стороны, которая еще ждет своего исследователя, несмотря на ценность предварительных работ докладчика.
И. Максимов, отвечая Н. Л. Бродскому, говорит о реакции зрителя (смех) в связи с тематикой пьесы. Затем он отмечает трудность учета отдельных элементов спектакля, подтверждая это на примере описания игры актеров.
Н. Л. Бродский говорит, что данные доклады еще и еще раз заостряют вопрос на методологической стороне изучения зрителя, причем материалы предварительной разработки являются, несомненно, ценными.
РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 41. Л. 15;
Оп. 2. Ед. хр. 22. Л. 263.
792 Комментарии
Вступительная статья
1 Шапошникова Н. Пречистенский круг: (Михаил Булгаков и Государственная Академия Художественных Наук. 1921 – 1930) // Михаил Булгаков: «… Этот мир мой…» / Ред.-сост. Ф. Р. Балонов, А. А. Грубин и др. СПб., 1993. С. 112.
2 Хотя театральный журналист свидетельствовал, что, судя по театральным анкетам 1921 г., «даже в годы военного коммунизма помимо рабочих и крестьян в зале были и интеллигенты, и советские служащие, и остатки крупной буржуазии, и “лица с неопределенным социальным положением”, и они полярным образом реагировали на те или иные детали спектакля» (Загорский М. Еще об изучении зрителя // Жизнь искусства. 1925. № 20. С. 5).
3 Шаляпин Ф. Маска и душа: Мои 40 лет на театрах. М., 1989. С. 180.
4 Вл. И. Немирович-Данченко писал Н. Е. Эфросу (декабрь 1908 г.) о том, что актер «не может приготовить роль на протяжении одних генеральных репетиций, хоть бы их было 20. Ему надо готовить роль на публике. <…> Чем новее образ, тем менее ясно, как на него будет реагировать публика <…> тем дольше не произойдет то слияние души актера с новой характерностью, без которого нет готового создания» (Немирович-Данченко Вл. И. Творческое наследие: В 4 т. / Сост., ред., коммент. и ст. И. Н. Соловьевой. М., 2003. Т. 2. С. 64).
5 Цит. по: Гладков А. Пять лет с Мейерхольдом // Гладков А. Мейерхольд: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 286.
6 Хайченко Г. А. Основные этапы развития советского театроведения. 1917 – 1941 // История советского театроведения: Очерки. 1917 – 1941. М., 1981. С. 80 – 81.
7 Поляков Сергей Александрович (1874 – 1943) — сын купца 3-й гильдии, владельца «Товарищества Знаменской мануфактуры». Его гахновская «карточка-формуляр» сообщает, что после классической гимназии он закончил физико-математический факультет Московского университета, но параллельно прослушал два курса историко-филологического. Владел несколькими языками, особенно много переводил со шведского и норвежского (в частности, Ибсена, Гамсуна, Стриндберга, Гауптмана, Пшибышевского, Йейтса и др.). Вл. Ходасевич писал о его свободном владении полутора десятками языков и редком литературном чутье (в ст. «Меценаты»). Почти десять лет провел в Швеции, Норвегии, Швейцарии и Италии (в связи с лечением жены), где еще и совершенствовал языки. В 1890 – 1910-х гг. работал в горьковском журнале «Жизнь». Практически все свое состояние вложил в издательство «Скорпион» (1899), позже издавал журнал «Весы» (1904 – 1909), сотрудничал также с издательством «Шиповник». После революции служил в разнообразных культурных учреждениях (ИЗО, ТЕО, ЛИТО, АкТЕО и пр.). Ко времени начала работы в РАХН его трудовой стаж составил уже четверть века. В 1922 г. стал заведующим Репертуарной студии РАХН, а в 1923 г. — заведующим отделом иностранной драматургии. Отвечая на анкету служащего РАХН 3 сентября 1924 г., Поляков сообщал, что по происхождению он потомственный почетный гражданин, не принадлежал и не принадлежит ни к какой партии. Он единственный из всех, заполнявших анкету, кто настаивает в последней графе («Ваши предложения по улучшению работы») на необходимости «организовать к осени получение иностранных журналов и увеличить получение выписываемых иностранных научных книг». Был заведующим финансовым отделом ГАХН. В 1927 г. Поляков переходит на положение 793 члена-корреспондента ГАХН. А 1 декабря 1929 г. в личном деле ученого появляется выписка (из протокола № 340 заседания Президиума ГАХН. Пункт 5): «исключить из состава Академии С. А. Полякова как находящегося в ссылке» (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 526. Л. 25). В 1940-м вернулся из ссылки и спустя 3 года умер в Казани.
8 См.: Протокол № 24 заседания Президиума РАХН от 3 ноября 1923 г. Маш. копия. — РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 1. Ед. хр. 24. Л. 312.
9 Протокол № 5 заседания Ученого совета РАХН от 3 февраля 1924 г. // РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 5.
10 Шапошникова Н. Указ. соч. С. 112.
11 Там же. С. 112 – 113.
12 Сидоров А. А., проф. Российская Академия Художественных Наук // Жизнь искусства. 1925. № 15. С. 15.
13 Шапошникова Н. Указ. соч. С. 116.
14 См. докладную записку Шмыгова Ф. Г. в Президиум ГАХН (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 1. Ед. хр. 80. Л. 70 – 70 об.).
15 Протоколы заседаний Президиума Теасекции ГАХН за 1925 – 1926 гг. Протокол № 7 от 4 февраля 1926 г. — РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 12. Л. 17.
16 Марков П. А. Судьба формального театра // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1976. Т. 3. С. 91.
17 Загорский М. Как изучать зрителя // Новый зритель. 1925. № 28. С. 8.
18 См.: Загорский М. Б. Театр и зритель эпохи революции // О театре: Сб. статей. Тверь, 1922. С. 111.
19 Планы Театральной секции. 1924 – 1929. 5 дек. 1929 г. Маш. копия. — РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 3. Л. 26.
20 Недович Д. С. Тезисы к докладу «К диалогу об искусстве и науке». Совместное заседание подсекции Теории Театральной секции с подсекцией СПП. 19 окт. 1927 г. Маш. копия. — РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 2. Ед. хр. 18. Л. 35.
21 «Брамбилла» — «Принцесса Брамбилла» Э.-Т.-А. Гофмана, спектакль Камерного театра, идея постановки которого жила в планах А. Я. Таирова несколько лет, вышел к зрителю в 1920 г. В лекции о спектакле режиссер говорил о «духе фантасмагории, духе перевоплощения, смеси реального и нереального, материального и нематериального», утверждавшихся в виртуозной арлекинаде, прославляющей радость жизни (Таиров А. Я. «Принцесса Брамбилла». Лекция. 31 мая 1920 г. // Таиров А. Я. О театре: Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма / Ред. П. А. Марков. Сост. Ю. Головашенко. М., 1970. С. 274).
22 Шекспировский «Юлий Цезарь» в МХТ в постановке Вл. И. Немировича-Данченко (1903) рассказывал о «критическом противостоянии республики и империи». «Бранд» (1906), также в режиссуре Вл. И. Немировича-Данченко, вошел в историю театра работой В. И. Качалова, гуманизировавшего и смягчившего ибсеновского максималиста Бранда.
23 Сахновский В. Г. Театр как предмет театроведения. Вступление в беседу. Протокол № 4 заседания Теоретической п/секции Театральной секции. Маш. копия. — РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 17. Л. 7 – 7 об.
24 794 «Лес» А. Н. Островского в ГосТИМе (премьера — 19 января 1924 г.) — спектакль, ставший режиссерским триумфом Вс. Э. Мейерхольда, вызвал яростное неприятие В. Г. Сахновского. См.: В. Г. Сахновский о Вс. Э. Мейерхольде / Публ., вступ. статья и коммент. В. В. Иванова // Мнемозина: Документы и факты из истории отечественного театра XX века / Ред.-сост. В. В. Иванов. Вып. 4. М., 2009. С. 358 – 360. Далее Мнемозина. 2009.
25 Сахновский В. Г. Тезисы доклада «Компоненты спектакля». Подсекция Теории Театральной секции. 28 нояб. 1927 г. Маш. копия. — РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 2. Ед. хр. 18. Л. 34, 83.
Реплика Сахновского о том, что И. Н. Игнатов в книге «Театр и зрители» (М., 1916) полагал, что зрители не участвуют в создании спектакля, представляется неверной, так как весь пафос работы Игнатова состоит в обратном: утверждении, что именно русская публика создавала театр, воплощающий ее представления о времени.
26 Сахновский В. Г. Театральное скитальчество / Публ., вступ. статья и коммент. В. В. Иванова // Мнемозина. 2009. С. 184 – 277.
27 Сахновский В. Г. Тезисы доклада «Компоненты спектакля». Подсекция Теории Театральной секции. 28 нояб. 1927 г. Маш. копия. — РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 2. Ед. хр. 18. Л. 34, 83.
28 Якобсон Павел Максимович (1902 – 1979) — философ, психолог, теоретик искусства. В 20 лет окончил филологический факультет МГУ по философскому отделению. В мае 1925 г. писал в своей Curriculum vitae (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 750. Л. 1, 7), что имеет следующие «основные научные работы: кандидатское сочинение “О возможности трансцедентального реализма (Критика Эдуарда Гартмана)”; 2) “Естественное понятие о мире”; 3) “Понятие сознания у Беркли и Кольера (английская философия XVIII века)”; 4) “Толстой и Достоевский (сопоставление)”; 5) “Основы философии Декарта” (работа не окончена); “Театр и эстетика”; 7) “Проблемы мировоззрения и науки”; 8) доклад “Элементы спектакля и их эстетическое значение” (в своей второй части представляет собой выдержку одной из глав находящейся в процессе писания работы “Театр как искусство”)». Отыскать эту работу не удалось, но, по-видимому, именно ее фрагменты представлены Якобсоном в ряде гахновских докладов по данной проблеме.
С 1922 г. он — сверхштатный научный сотрудник Института научной философии, а 26 июня 1925 г. зачислен в состав научных сотрудников Театральной секции ГАХН. Якобсон выступал на различных заседаниях ГАХН не менее 20 раз (хотя от некоторых докладов сохранились лишь названия).
Спустя десятилетие, в 1938 г. в исповедническом по духу письме к Л. Я. Гуревич (связанном с внезапной трагической потерей своей жены), подводя некие, поразительно ранние, но, тем не менее, оказавшиеся верными итоги научной жизни, 36-летний ученый с горечью скажет: «ощущение, что вершина моей жизни в прошлом. И в работе — написана так давно моя лучшая работа — ну, это еще, может быть, вернется — суть не в этом, а в отсутствии нравственной силы, падкости на соблазны, в то время когда я раньше, в юношеские годы мог их презреть с непреклонной силой» (РГАЛИ. Ф. 131. Оп. 2. Ед. хр. 306. Л. 1 об. – 2).
29 Якобсон П. М. Вступительные замечания к обсуждению доклада «Что такое театр». Соединенное заседание Философского отделения и подсекции Теории театра Театральной секции от 6 дек. 1927 г. Маш. копия. — РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 14. Ед. хр. 32. Л. 25 – 25 об.; Ф. 941. Оп. 2. Ед. хр. 18. Л. 213 – 215.
30 Прения по докладу П. М. Якобсона «Что такое театр». Протокол № 6 заседания Теоретической комиссии философского отделения ГАХН от 6 декабря 1927 г. Протоколы 795 № 1 – 21 заседаний Комиссии по изучению проблемы общего искусствоведения и эстетики за 1927 – 1928 гг. и материалы к ним. 18 окт. 1927 – 24 сент. 1928 г. Маш. копия. — РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 14. Ед. хр. 32. Л. 24 – 24 об.
31 Ср.: «… Стихи состоят из <…> нот, по которым читатель исполняет произведение: “веер” раскрывается. Текст не может быть завершен в себе — точку ставит не автор, а читатель. <…> Собственно, стихотворение вообще существует не на бумаге, а в “воздухе”, в промежутке, в том пространстве культурной памяти, которое объединяет поэта и читателя» (Генис А. Метаболизм поэзии: Мандельштам и органическая эстетика. С.116. См.: http:www.synnegoria.com/tsvetaeva/WIN/silverage/Mandelstam/genismetabol.html
32 Бродский Н. Л. Театральный зритель нового времени: Прения по докладу. Маш. копия. — РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 41. Л. 19 – 19 об.
33 «Власть» — пьеса А. Г. Глебова, «Черный яр» — пьеса А. Н. Афиногенова.
34 О роли социологического подхода в изучении театрального дела, т. е. в определенном смысле анализа настроений и физиономии общества, и сталинском запрете на науку, посмевшую конкурировать со всемогущим и «единственно верным» методом исторического материализма, продержавшимся с конца 1920-х по 1960-е гг., а также о зрителе с различным уровнем эстетической подготовленности см.: Дадамян Г. Киркой и лопатой в театре работать нельзя // Новая газета. 2012. № 95. 24 авг. С. 10 – 11.
35 Пельше Р. Победы и поражения: К итогам театрального сезона // Советское искусство. 1926. № 7. С. 10.
36 См.: Гудкова В. «Если вы интеллигент, пишите исповедь…» // Гудкова В. Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем «Список благодеяний». М., 2002. С. 106 – 116.
37 Блюм В. На перевале // О театре: Сб. статей. Тверь. 1922. С. 6.
38 Гусман Борис Евсеевич (1892 – 1944) — театральный критик, сценарист. Выпускник Петербургской консерватории по классу скрипки. С 1923 г. — заведующий театральным отделом газеты «Правда». В 1929 – 1930 гг. — заведующий репертуарной частью и заместитель директора Большого театра. Репрессирован.
39 Идеи революционного театра. План сборника статей с предисловием Л. Троцкого. [Начало 1920-х гг.] Маш. копия. — РГАЛИ. Ф. 611. Оп. 1. Ед. хр. 136. Л. 4.
40 См.: Булгаков М. Театральный Октябрь // Земская Е. А. Михаил Булгаков и его родные. Семейный портрет. М., 2004. С. 180 – 182.
41 Ср.: «Старый театр вместе с его рампой, сценической коробкой и “законными местами” для зрителей-эстетов — есть продукт эстетической культуры придворно-аристократического общества Ренессанса, который будет “неминуемо ликвидирован”» (Гвоздев А. А. Нечто о зрителе, проспавшем 7 лет // Жизнь искусства. 1924. № 28. С. 6 – 7).
42 Эфрос А. Восстание зрителя // Русский современник. 1924. № 1. С. 278.
43 См., например: Плаггенборг Штефан. Революция и культура: Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма. СПб., 2000. С. 239 – 254.
44 Загорский М. Б. Театр и зритель эпохи революции // О театре: Сб. статей. Тверь, 1922. С. 102 – 112.
45 Троцкий Л. Д. Формальная школа поэзии и марксизм // Троцкий Л. Д. Литература и революция. М., 1991. С. 142.
46 В. Ф. Федоров цитирует доклад Н. И. Бухарина, с которым тот выступил на Дискуссии, организованной Культотделом МГСПС в Колонном зале Дома Союзов, по пересказу 796 М. М. Коренева (Искусство в революции. Социологический и формальный метод в искусстве // Жизнь искусства. 1925. № 13. С. 4).
47 Федоров В. Ф. (псевд. Франк). Опыты изучения зрительного зала: Статьи, рецензии и хроника. Маш. копия. — РГАЛИ. Ф. 963. Оп. 1. Ед. хр. 1572. Л. 35 – 41.
48 Доклад, возможно, в доработанном виде, был опубликован. Автор рассказывал о теоретических работах, посвященных экскурсионному методу, а также приводил пример удачного просвещения публики в результате экскурсий: малоразвитая фабричная работница, вначале могущая лишь изложить, кто появлялся на сцене и что говорил, далее сумела верно передать сюжет пьесы «Коварство и любовь», а через год от нее же «пришлось услыхать весьма яркие доказательства того, что отдельные актеры Художественного театра не вполне правильно толкуют роли в чеховском “Дяде Ване”» (Филиппов Вл. Театральные экскурсии как метод изучения зрителя // Советское искусство. 1926. № 10. С. 57).
49 См.: Исследовательская театральная мастерская: Зритель цирка // Советское искусство. 1927. № 8. С. 58 – 59.
50 Отчет о деятельности Теасекции. Протоколы заседаний Президиума ГАХН. Маш. копия. — РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 1. Ед. хр. 138. Л. 85.
51 Речь Луначарского цит. по: Первая Всероссийская конференция заведующих подотделами искусств. 19 – 25 дек. 1920 г. // Вестник работников искусств. 1921. № 4 – 5. С. 63.
52 В российской литературе последнего времени принято рассматривать ГАХН как замечательный образец организации вольнолюбивых ученых, своеобразную Телемскую обитель первого десятилетия советской власти. Но стоит отступить на шаг назад, и мы увидим, что ГАХН была скорее регрессом в сравнении с тем множеством разнообразных гражданских обществ, клубов и союзов, которые существовали в России в первые годы XX в. «В 1912 году в одной только Москве действовало более 600 ассоциаций, около 500 существовало накануне Октября в Петрограде» (Туманова А. С. Общественные организации и русская публика в начале XX века. М., 2008. С. 70). Гражданские институты и добровольные общества активно действовали в таких областях, как наука и техника, литература и искусство и т. д. Произошедшее в начале XX в. становление различных объединений деятелей науки, литературы, театра, музыки, изобразительного искусства было всего лишь использовано властью. Спустя десятилетия в воспоминаниях проживших жизнь в другом времени, времени окаменевшего советского регламента, ГАХН предстала окутанной дымкой призрачной свободы, расцвета индивидуальных исследований и пр. Все дело в том, что это учреждение оставалось единственным, хотя бы в самом начале видевшим себя как пространство интеллектуальной свободы.
Тезисы докладов, посвященных
изучению «нового зрителя», и их обсуждения
1
53 Бродский Николай Леонтьевич (1881 – 1951) — историк литературы, педагог, литературовед. Родился в Ярославле, но семья переехала в Рязань, где он окончил гимназию. Затем историко-филологический факультет Московского университета. За участие в студенческих беспорядках 2 недели отсидел в Бутырке, откуда был выслан в Рязань под надзор полиции (1901 – 1902 гг.) В 1904 – 1907 гг. преподает в Екатеринославе и Нижнем 797 Новгороде. Переехав в Москву, становится членом Общества российской словесности (1910) и Членом Общества истории литературы (1911). Один из организаторов I Всероссийского съезда учителей словесности, прошедшего на рубеже 1916/1917 гг. в Москве. С 1 февраля 1922 г. в Теасекции РАХН, где сначала занят описанием материалов музея А. А. Бахрушина. С 1926 г. — профессор МГУ, где организовывает и ведет тургеневский семинар. Изучение творчества Тургенева стало главной исследовательской темой его научной работы. С 1939 г. работал в ИМЛИ. Сотрудником ГАХН пробыл больше, чем кто бы то ни было, с 1922 по 1934 г. (возглавляя Комиссию по изучению зрителя).
54 АкТЕО — Центральная театральная секция Главного художественного комитета Академического центра Наркомпроса.
55 МГСПС — Московский городской (губернский) совет профессиональных союзов.
2
56 Филиппов Владимир Александрович (1889 – 1965) — театровед. Окончил историко-филологический факультет Московского университета, был оставлен при кафедре русской литературы. В 1912 г. два месяца жил во Франции, где работал в Национальной библиотеке. К этому времени относится начало его интереса к проблеме театрального зрителя, о чем свидетельствуют опубликованные в «Голосе минувшего» статьи о театральной публике XVIII в. и театральных нравах века XIX.
В ГАХН руководил Теасекцией, а также сотрудничал с исторической секцией, в 1927/1928 гг. был директором Государственного педагогического театра, преподавал в ГИТИСе. 1 февраля 1930 г. был очередной раз утвержден научным сотрудником ГАХН, но уже с 1 июля того же года отчислен из состава ГАХН.
Выписка из протокола заседания Комиссии по чистке аппарата Государственной академии художественных наук сообщала:
«Слушали: Филиппов В. А.
Будучи членом Президиума Академии, принимая участие в Комиссии по расследованию деятельности типографии, несмотря на наличие явно уголовных материалов, совместно с другими членами Комиссии, скрыл данные материалы, ограничившись сообщением о необходимости отстранить от работы А. И. Кондратьева.
Будучи одним из руководящих работников в Наркомпросе, принял по протекции на работу свою бывшую ученицу из гимназии, где он был преподавателем, Берман Н. М., затем перевел ее в Академию, устроив техническим секретарем Теасекции, каковой он был руководителем.
Отстранен от должности директора Педагогического театра. Отстранен от работы в ГИТИСе. Работает заведующим библиотекой Московского Академического Малого театра.
На чистку не явился, будучи подвергнут аресту органами ГПУ» (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 646. Л. 31).
С 1934 по 1937 г. был директором Малого театра.
57 Новиков Иван Алексеевич (1879 – 1959) — прозаик, поэт, переводчик. Анкета РАХН от 3 сентября 1924 г. сообщает, что Новиков родился в 1879 г. в селе Мценского уезда Орловской губернии. Социальное происхождение — из мещан. Окончил Московский сельскохозяйственный институт и 15 лет проработал агрономом, но всегда тяготел к литературной деятельности. Дважды привлекался к суду и дважды счастливо избегал 798 наказания (в 1906 г. — за передовицу в газете «Киевские новости», где автор одобрял забастовки 1905 г., газету закрыли), затем за книгу рассказов «К возрождению» (книгу уничтожили, автора не разыскали). Дважды побывал за границей: в 1906 г. (два месяца) и в 1910 г. (шесть месяцев) «с целью отдыха и обдумывания новых вещей». В 1924 г. он уже автор четырех пьес. В ГАХН заведовал подсекцией автора, одновременно служил в Наркомпросе (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 444).
58 Гуревич Любовь Яковлевна (1866 – 1940) — общественный деятель, критик, филолог, историк театра. Связанная родственными узами со многими крупными литературными, педагогическими и общественными деятелями России (дочь директора известных санкт-петербургских Гимназии и реального училища Гуревича, двоюродная сестра философа И. А. Ильина), была близко знакома с Д. С. Мережковским, А. Л. Волынским, Н. М. Минским и др., получила прекрасное образование (окончила гимназию кн. Оболенской, затем историко-филологическое отделение Высших Бестужевских курсов). Дебютировав в печати уже в 1887 г., с 1891 г. издавала журнал «Северный вестник» и привлекла к участию в нем Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого, В. В. Стасова, Д. С. Мережковского, Максима Горького, Ф. К. Сологуба. В 1898 г. журнал был закрыт цензурой. Была активным членом Всероссийского союза равноправия женщин, т. е. одной из первых феминисток России. Став свидетельницей «Кровавого воскресенья», написала очерк «Народное движение в Петербурге 9 января 1905 г.», ставший классическим историческим источником. После 1917 г., переехав в Москву, начала сотрудничать с театральными изданиями. Ее общественный темперамент и литературная одаренность счастливо соединились в занятиях театральным искусством. С 1920 г. она сотрудничает с научным отделом ТЕО, а с 1922 г. руководит комиссией по изучению творчества актера Теасекции ГАХН. В 1930-е гг. именно ей как близкому и подготовленному человеку доверил К. С. Станиславский сложнейшую редакторскую работу над изданием «Моей жизни в искусстве».
59 Волков Николай Дмитриевич (1894 – 1965) — искусствовед, театральный критик, драматург. Родился в Пензе, где окончил гимназию с золотой медалью. Весной 1917 г. окончил Московский университет, где «кроме юридических наук занимался специально философией и слушал отдельные курсы на филологическом факультете». С осени 1918 г. работал в Театральной и Музыкальной секциях Московского совета в качестве члена Художественного совета репертуарной комиссии и заведующего научно-теоретическим отделом театральной библиотеки. С лета 1919 г. по январь 1921 г. — театральный инструктор при Политуправлении Реввоенсовета (ПУР). Зимой 1919 – 1920 гг. читал (эпизодический) курс по теории и практике самодеятельного театра в Свердловском университете. В 1920 г. был делегирован ПУРом на Съезд по организации рабоче-крестьянского театра. С января 1921 г. вошел в редколлегию журнала «Культура театра» и стал сотрудником Государственного института театроведения. С мая 1922 г. — научный сотрудник ГАХН по Теасекции (секретарь п/секции современного театра и репертуара), хотя действительным членом был утвержден лишь 22 октября 1926 г. (См.: Личное дело Волкова Н. Д. — РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 109. Л. 1, 4). В «учетном листке» ГАХН сообщал, что его отец — поверенный по судебным делам, а о принадлежности к политическим партиям отвечал: «Никогда, ни к каким». Спустя недолгое время на вопрос о родителях пишет, что его отец «руководитель крупного общественного и театрального дела в Пензе», а вовсе не присяжный поверенный.
799 В Теасекции Волков читает доклады («Театр октябрьского семилетия», «Н. Е. Эфрос — историк Художественного театра»), активно выступает, в частности, обсуждает «Мандат» в Театре им. Вс. Мейерхольда, печатает ряд статей в театральных журналах, выпускает книгу «Александр Блок и театр» (1926), переводит монографию о китайском театре и работает над монографией о творчестве Вс. Мейерхольда. В 1928 г. Волков испрашивает разрешения на заграничную командировку с сохранением содержания: его жена больна и проходит курс лечения в Германии. В Берлине выступает с лекциями в Берлинском университете и советском полпредстве.
Выписка из протокола № 17 заседания Президиума научно-политической секции ГУСа от 1 февраля 1930 г. сообщает, что Волков утвержден действительным членом ГАХН. Но уже спустя полгода, 29 октября 1930 г., появляется новая выписка (из распоряжения по сектору науки): «Отчислить из состава научных сотрудников ГАХН Волкова Н. Д.» Последний лист личного дела Волкова сообщает, что подоходный налог за 1929/1930 гг. с него «удержан полностью».
60 Якобсон Павел Максимович — штатный сотрудник Теасекции ГАХН с 1925 г. Область позднейших научных интересов — психология художественного творчества. Его научную биографию подробнее см. в коммент. 28.
61 Марков Павел Александрович (1897 – 1980) — театровед, театральный критик, педагог, деятель театра. В 1921 г. окончил историко-филологический факультет Московского университета. Но уже с 1918 г., рано определившись с интересами всей последующей жизни, начал сотрудничать с историко-театральным сектором ТЕО Наркомпроса. Еще будучи студентом, попал в круг выдающихся деятелей культуры дореволюционного времени (таких как М. О. Гершензон, Вяч. И. Иванов, П. Н. Сакулин, Вс. Э. Мейерхольд, Вл. И. Немирович-Данченко, Н. Е. Эфрос и др.). В 1920-м стал одним из инициаторов создания Театра сатиры (вместе с А. П. Зоновым, Н. М. Фореггером, В. В. Маяковским). Таким образом, явился одним из тех немногих, кто впитав жизненные принципы и эстетические вкусы дореволюционной профессуры, сумел соединить их с пафосом обновления искусства, свойственным молодым исследователям, режиссерам, литераторам послереволюционных десятилетий. С 1922 г. принял на себя обязанности ученого секретаря и председателя группы современного театра Теасекции РАХН. В театральной печати выступал, будучи еще студентом, а в 1924 г. выпустил первую книгу, сделавшую его имя известным в широких театральных кругах Москвы, — «Новейшие театральные течения». С 1926 г. — легендарный завлит Художественного театра, сыгравший первостепенную роль в привлечении в театр авторов нового поколения (М. А. Булгакова, Л. М. Леонова, В. П. Катаева и пр.) и становлении нового репертуара. Стал прототипом одного из запоминающихся героев (Миши Панина) «Записок покойника» Булгакова. С 1939 г. и до последних месяцев жизни преподавал на театроведческом факультете ГИТИСа.
3
62 … спектакли в Художественном и Малом театрах («На всякого мудреца довольно простоты»). — Спектакль в постановке Вл. И. Немировича-Данченко и В. В. Лужского был возобновлен во МХАТе 29 октября 1923 г. В нем были заняты В. И. Качалов, О. Л. Книппер-Чехова, Л. М. Леонидов, М. П. Лилина, В. В. Лужский, И. М. Москвин, К. С. Станиславский, Ф. В. Шевченко и др. Премьера в Малом театре состоялась 15 мая 800 1923 г. в постановке И. С. Платона. В спектакле были заняты Е. К. Лешковская, В. Н. Рыжова, П. М. Садовский, Е. Д. Турчанинова, А. И. Южин, А. А. Яблочкина и др.
4
63 Кубиков (наст. фам. Дементьев) Иван Николаевич (1877 – 1944) — литературовед из рабочей среды (типографский рабочий). С 1902 г. член РСДРП, ее меньшевистского крыла. Начал печататься под псевдонимом «Квадрат». Автор книг о рабочем классе в литературе, Н. А. Некрасове, Максиме Горьком и пр., позднее запрещенных (см.: Блюм В. Запрещенные книги русских писателей и литературоведов. 1917 – 1991. Индекс советской цензуры с комментариями. СПб., 2003. С. 306).
64 Черемухина Наталья Ивановна (1890 – ?) — искусствовед. В 1914 г. окончила Высшие женские курсы в Москве. В связи с профессиональными интересами работала на археологических раскопках в Италии и Греции (остров Крит, Кносский дворец), а также на Балканах, в Австро-Венгрии и т. д. Была оставлена при университете (видимо, им. Шанявского) для подготовки к профессуре. Успешно работала в Музее изящных искусств под руководством И. В. Цветаева (о чем свидетельствуют документы: прекрасная характеристика молодого исследователя, написанная профессором историко-филологического факультета университета Н. Романовым, и отзыв И. В. Цветаева, рекомендовавшего ее для продолжения образования). В 1920-х гг. водила экскурсии по художественным галереям Москвы, читала лекции, изучала теорию художественно-музейной работы. Сотрудник ГАХН с 1926 г. (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 679).
65 Театр им. Ленина — районный Театр им. Ленина московского Дворца культуры.
66 «Разбойники» — пьеса Ф. Шиллера, популярная в начале 1920-х гг. как произведение, отвечающее революционным настроениям масс.
67 «Париж» Э. Золя — роман (1898), по которому 1920-е гг. в России была создана ни одна инсценировка.
68 … Тургенев ругал Гончарова и Некрасова. — Возможно, имеется в виду известная история, закончившаяся третейским судом, когда И. С. Тургенев защищал свою репутацию от обвинений в плагиате со стороны И. А. Гончарова. Гончаров, имевший обыкновение читать рукописи друзьям до их напечатания, по выходе в свет романа Тургенева «Накануне» обвинил автора в заимствовании характеров и сюжетных ходов из его «Обрыва», созданного ранее и известного Тургеневу. Третейский суд пришел к выводу, что обвинения Гончарова беспочвенны. В другом случае конфликт Тургенева с Н. А. Некрасовым, бывшим тогда главным редактором «Современника», был связан с критической статьей Н. А. Добролюбова о романе «Накануне», которую Тургенев просил не печатать. Но Некрасов опубликовал статью, в результате дружеские отношения двух литераторов были разорваны.
69 Гливенко Иван Иванович (1868 – 1931) — историк литературы, переводчик. Сын земского фельдшера из Лебедяни (Харьковская губерния). Окончил романо-германское отделение Петербургского университета (изучал испанский и итальянский языки). Неоднократно бывал в Италии и Франции, где занимался научной работой. До середины 1923 г. руководил Главнаукой. С 1921 г. — член Правления ГАХН, с 1 февраля 1922 г. — заведующий научно-показательным отделом Теасекции. В 1928 г. вышел за штат ГАХН по возрасту (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 143).
70 801 Кондратьев Аким Ипатович (1885 – 1953) — литературовед. Родом из крестьян, максимально сумел использовать «правильное» социальное происхождение, делая карьеру. Заполняя анкету ГАХН, сообщал в 1921 г., что «имеет три высших образования» (с 1913 по 1916 г. учился на общественно-юридическом факультете, а с 1916 по 1919 гг. прослушал литературно-философский цикл в Московском городском народном университете имени А. Л. Шанявского). До Февральской революции служил помощником нотариуса в Москве. С 1920 г. — в учреждениях Наркомпроса. Его пухлое личное дело рисует образ человека практичного, так как по большей части состоит из разнообразных (и неизменно удовлетворяемых) просьб материально-бытового характера, как то: выделить дачу; поставить телефон в московской квартире, предоставить дополнительную комнату в 20 кв. аршин; освободить от взносов по подоходному налогу, выдать путевку на полуторамесячный отдых в Крыму и т. п. На протяжении нескольких лет он чрезвычайно активно работает в ГАХН, и не только в ней. В середине 1920-х Кондратьев — член Общества крестьянских писателей, преподает в Московском городском народном университете имени А. Л. Шанявского, сотрудничает с Московским центральным театром водного транспорта. Но вскоре одна за другой всплывают мутные истории о пропаже чужих рукописей, исчезновении казенных денег, непорядках в гахновской типографии. Венчает ученую карьеру Кондратьева «Выписка из протокола заседания Комиссии по чистке аппарата ГАХН от 12 сентября 1930 г.». В ней рассказывается, что с 1898 по 1905 г. Кондратьев работал литейщиком на Мытищинском литейном заводе, а в 1905 – 1906 гг. — в типографии Калужского губернского земства, что позволило ему спустя годы, используя старые связи и новое служебное положение, «купить у своих знакомых типографию в Калуге и вместе с ней перевезти в Москву весь обслуживающий персонал, в том числе и своего брата, какового он поселил в здании Академии. <…> Не имея достаточной научной квалификации, являлся действительным членом ГАХН. Занимался рвачеством, получал добавочное вознаграждение по организуемым им выставкам (например, Венецианской), устраивал себе заграничные командировки» и пр. Кондратьева отчисляют из ГАХН как «лженаучного сотрудника», ему запрещено занимать самостоятельные административно-хозяйственные должности (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 143).
71 Аксельрод (псевд. Ортодокс) Любовь Исааковна (1868 – 1946) — дочь раввина, член РСДРП, ее меньшевистского крыла, теоретик марксизма. Окончила Бернский университет, защитив диссертацию о мировоззрении Л. Н. Толстого. Работала в Институте красной профессуры, возглавляла социологическое отделение ГАХН. Занималась творчеством А. И. Герцена, М. Е. Салтыкова-Щедрина, О. Уайльда. В решении ЦК ВКП (б) от 25 января 1931 г. была подвергнута критике за идеологические ошибки.
72 … Салтыков так отнесся к «Анне Карениной». — 9 марта 1875 г. М. Е. Салтыков (Н. Щедрин) писал П. В. Анненкову об «Анне Карениной», первые главы которой печатались в это время в «Русском вестнике»: «Вероятно, Вы <…> читали роман Толстого о наилучшем устройстве быта детор<одных> частей. Меня это волнует ужасно. Ужасно думать, что еще существует возможность строить романы на одних половых возбуждениях. Мне кажется это подло и безнравственно» (Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1975. Т. 18. Кн. 2. С. 180).
5
73 Каверин Федор Николаевич (1897 – 1957) — режиссер, создатель Театра-студии Малого театра. В 1922 г. стал практикантом ГАХН, в 1926 г. утвержден временным членом 802 Теасекции ГАХН, но уже 14 декабря 1928 г. Каверин «исключен из состава ГАХН Протоколом № 68 заседания Правления» (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 264).
74 «Театральный Октябрь» — программа, выдвинутая после Октября 1917 г. лагерем левых художников и сформулированная Вс. Мейерхольдом осенью 1920 г. Сторонники Театрального Октября видели свою задачу в том, чтобы разрушить старое, буржуазное искусство и создать искусство обновленное, революционное. В пылу полемики Вс. Мейерхольд предложил принять Декрет о национализации театрального имущества академических театров, выступив с требованием передать декорации, костюмы и реквизит в провинциальные театры, а также заменить продажу театральных билетов системой принудительного распространения специальных жетонов. Радикальные идеи Мейерхольда не нашли поддержки у наркома просвещения А. В. Луначарского, весной 1921 г. режиссер был отстранен от должности заведующего ТЕО.
75 Сахновский Василий Григорьевич (1886 – 1945) — театральный писатель, режиссер, теоретик театра. Родившись в провинции, рано заинтересовался глубинными истоками русской культуры, обнаружив (нечастый) вкус к архивным исследованиям. «С 1912 г. начал работать по архивным данным по истории русского театра и истории усадебного быта сначала в архивах домашних Смоленской и Калужской губерний, а потом в губернском архиве Смоленска и Калуги», — сообщал он в автобиографической записи. Позднее Сахновский работал как в архивах российских, Москвы и Петрограда, так и зарубежных. «В 1914 г. был избран на академическом отделении Университета им. А. Л. Шанявского профессором. В котором оставался до его закрытия в звании профессора, т. е. до 1921 г. Вслед за этим состоял профессором Бакинского университета по кафедре русской литературы и истории театра, а затем в Высшем институте Литературного искусства им. В. Я. Брюсова, где состою профессором до сих пор», — сообщает он о себе в 1927 г.
Область занятий Сахновского расширялась всю жизнь, включая все новые пристрастия, но страсть к театру остается всепоглощающей. Уже с 1907 г. он печатается — сначала в «Русских ведомостях», затем в театральных изданиях (журналах «Студия», «Маски»). В 1917 г. выходит его первая книга «Художественный театр и романтизм на сцене» («Книга»). Романтизм, понимаемый предельно широко, во всех его изводах и проявлениях стал, пожалуй, самой важной изо всех когда бы то ни было занимавших Сахновского тем.
«По истории театра работал в Германии у Эрн<ста>Гроссе и Шурца, а затем в России по памятникам и архивным данным, а также опубликованному материалу до сих пор. Параллельно с научной работой с 1914 г. работаю как режиссер…» — писал Сахновский в автобиографических заметках 1927 г. (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 550. Л. 2). Эту область интересов сегодня назвали бы театральной культурологией. Немецкий этнограф, искусствовед и историк театра Эрнст Гроссе (Grosse, 1862 – 1927) был автором капитального труда о происхождении искусства (Die Anfange der Kunst, 1894, рус. пер., 1899). Исследование немецкого этнографа и историка Генриха Шурца (1863 – 1903) «История первобытной культуры» также было весьма популярно: с 1903 по 1923 г. выдержало 6 изданий в России.
В ГАХН Сахновский был председателем теоретической подсекции Теасекции, а также руководителем театральной мастерской. Отчитываясь о работе по этим двум направлениям, Сахновский пояснял: «Доклады я строил таким образом, чтобы в результате 803 получилось рассмотрение элементов спектакля и композиции спектакля. В режиссерской группе работал над проектом устройства нового типа сцены, удобного для развития сценических мест не дальше 4-х метров от рампы, т. е. с развитием сцены в ширину, с отсутствием круга и вместе с тем удобного для большого числа чистых перемен» (см.: Отчет действительного члена ГАХН за 1927/1928 гг. — РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 550. Л. 30). Одновременно служил во МХАТе (с 1926 г. до конца жизни).
76 ГАМТ — Государственный театр-студия Малого театра.
77 Тихонович Валентин Владимирович (1880 – 1951) — режиссер, театральный деятель. Высшее образование получил в Харьковском университете по отделению естественных наук. Был оставлен при кафедре сравнительной физиологии как биохимик. Во время университетского курса за участие в студенческой забастовке был исключен и выслан. В 1904 г. выступил с речью на Съезде преподавателей средней школы, потерял работу педагога и был вынужден зарабатывать частными уроками. В 1910 г. переехал в Москву и работал в области народного образования — в земских и кооперативных учреждениях, а также в общественных организациях содействия народному самодеятельному театру. Читал лекции в Московском городском народном университете имени А. Л. Шанявского, писал статьи. В автобиографии 1926 г. сообщает, что уже «ко времени революции сложился как марксист» и что революция стала для него поворотным моментом в сторону искусства (стал заведующим подотделом рабоче-крестьянского театра). В 1919 г. Тихонович — один из активных организаторов I Съезда рабоче-крестьянского театра. В начале 1920-х — активный журналист, общественный деятель, сотрудник «Вестника театра», редактор «Нового зрителя» и других театральных изданий, по художественным взглядам примыкающих к «левому фронту». К середине 1920-х гг. отходит от самодеятельного искусства к профессиональному, «от инструктажа — к режиссуре», но к «искусству, выполняющему свою идеологическую функцию в новом общественном строе и строящему для и через новые социальные силы» (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 614. Л. 2 об.).
6
78 Зивельчинская (Завильчинская) Лия Яковлевна (1894 – 1985) — литературовед, специалист в области эстетики. См.: Алексеев П. В. Философы России XIX – XX столетий: Биографии, идеи, труды. М., 2002. С. 347.
79 Главсоцвос — Главное управление социального воспитания и политехнического образования детей Наркомпроса.
80 Розенталь Лазарь Владимирович (1894 – 1990) — искусствовед. Родился в г. Лодзь. Окончил сначала Тенишевское училище, затем — историко-филологическое отделение Петербургского университета (1912 – 1918), специализировался на истории искусств. В 1919 – 1922 гг. жил в Нижнем Новгороде, заведуя местным Художественным музеем и читая лекции в художественном и театральном техникумах. С осени 1922 г. в Москве, где вначале энтузиастически приобщал революционных матросов к живописи, водил экскурсии, учил видеть и читать картины и пр. Быстро осознав сущность новых идеологических веяний, в дальнейшем всячески от них уклонялся, отыскивая сравнительно тихие места вроде старинных усадеб (Кусково и пр.). В отличие от подавляющего большинства весьма строго судил себя за приспособленчество, иронически аттестуясь «интеллигентом-коллаборационистом». С 1925 г. — сотрудник Третьяковской галереи, 804 где был занят изучением музейного зрителя, публикуя заметки и статьи в журнале «Печать и революция». 5 июня 1925 г. утвержден сотрудником секции новой русской живописи ГАХН (см.: Curriculum vitae. — РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 526. Л. 1, 2). В 1930-е гг. защитил кандидатскую диссертацию «Объем и пространство в архитектуре». В своих замечательных в интеллектуальном отношении мемуарах вспоминал: «С 1931 г. — десятилетие великой халтуры. Пять раз перебегал с места на место: два музея, культучреждения…» (Розенталь Л. В. Непримечательные достоверности / Вступ. статья, публ. Б. А. Рогинского // Минувшее: Исторический альманах. СПб., 1998. Т. 23. С. 23).
81 … класса «для себя». — Имеется в виду кантовское разграничение вещи в себе (in sich) и вещи для себя (für sich).
82 Беляева-Экземплярская София Николаевна (1895 – 1973) — музыковед, теоретик искусства, психолог. По окончании историко-филологического отделения Московских высших женских курсов в 1917 г. была оставлена для продолжения научной работы на кафедре философии. В ГАХН занималась теоретическими проблемами музыкознания и театроведения. После разгрома Академии выпустила книгу «Моделирование одежды с точки зрения зрительного восприятия» (1934). Позднее защитила кандидатскую диссертацию по психологии.
83 Возможно, Чернышев Николай Михайлович (1885 – 1973) — художник, скульптор. Член группы «Маковец». Профессор ВХУТЕМАСа и ВХУТЕИНа, заведующий его монументальным отделением (1920 – 1930-е гг.). Именно ему принадлежит честь открытия во время одной из художественных экспедиций фресок Дионисия в Ферапонтовом монастыре. С 1928 г. председатель группы живописи при Секции пространственных искусств ГАХН, с 1929 г. член-корреспондент ГАХН по секции пространственных искусств (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 684).
Или Чернышев Борис Степанович (1896 – ?) — выпускник историко-филологического отделения Московского университета. Область интересов — философия (работы о Канте, Гегеле, Гуссерле). В 1925 г. — кандидат в научные сотрудники ГАХН по социологическому отделению (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 683, а также Ф. 941. Оп. 13. Ед. хр. 9).
84 Переверзев Валериан Федорович (1882 – 1967) — литературовед. В конце 1920-х – начале 1930-х гг. подвергался резкой критике за «вульгарный социологизм» исследований.
85 Тэн Ипполит (1828 – 1893) — французский литературовед, философ, основоположник культурно-исторической школы, оказавший существенное влияние на развитие искусствоведческой мысли. Среди его важнейших трудов — «Философия искусства» (1865 – 1869).
7
86 «В наши дни» — пьеса Н. Н. Шаповаленко. Премьера в театре МГСПС состоялась 12 января 1926 г. Режиссер П. И. Ильин.
87 «Брат наркома» — пьеса Н. Н. Лернера. Премьера в Малом театре состоялась 27 января 1926 г. Режиссер Л. М. Прозоровский.
88 Волконский (наст. фам. Муравьев) Николай Осипович (1890 – 1948) — режиссер, с 1919 по 1931 г. — в Малом театре.
89 Возможно, Горбунов Николай Петрович (1892 – 1938) — в конце 1920-х гг. член художественного совета МХАТ, академик, с 1935 г. — непременный секретарь АН СССР. Расстрелян.
90 805 Соколовский Н. — актер, педагог. Выступал на Теасекции ГАХН с докладом «К системе воспитания сценического движения актера» (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 2. Ед. хр. 26. Л. 68 – 69).
8
91 Родионов Александр Михайлович (1880 – ?) — вице-президент ГАХН (вместе с В. В. Кандинским), член Президиума ГАХН, непременный член Правления. Окончил Петроградский университет. Судя по тому, что с 1924 по 1927 г. руководил в Академии административно-юридической частью (см.: Анкеты, сведения о научных сотрудниках РАХН на 1 июля 1924 г. — РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 1. Ед. хр. 51. Л. 15), по-видимому, закончил юридический факультет. Вел разнообразные суды, работал с исками к Академии, принимая при этом участие и в работе секций Теасекции. В начале 1930 г. освобожден от должности, так как обращается с просьбой о трудоустройстве (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 1. Ед. хр. 138. Л. 171).
92 Лепковская Александра Николаевна (1868 – 1941) — драматическая актриса, жена Е. А. Лепковского, руководившего Драматической школой в Киеве (РГАЛИ. Ф. 2579. Оп. 1. Ед. хр. 2145).
93 Федоров-Давыдов Алексей Александрович (1900 – 1969) — искусствовед, автор книг по истории русского и советского искусства. Область научных интересов — пейзажная живопись, творчество русских художников (Шишкин, Перов, Левитан). Окончил Казанский университет (1919 – 1923). В «Анкетах, сведениях о научных сотрудниках РАХН» на 1 июля 1924 г., помимо указания на должность — «штатный член Социологического отделения» — против его фамилии чернилами вписано: «коммунист» (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 1. Ед. хр. 51. Л. 15). Первую книгу выпустил в 1925 г. — «Марксистская история изобразительных искусств. Методологические и историографические очерки». С 1927 по 1931 г. преподавал в Московском университете. С 1929 по 1934 гг. — заведующий отделом нового русского искусства в Третьяковской галерее, сменил на этом посту А. М. Эфроса). В 1931 г. отдел был преобразован в «Группу искусства эпохи капитализма», которая разработала новую историческую концепцию экспозиции — с точки зрения марксистско-ленинского учения. Не помогла и концепция. «Уволенный с работы, он пробовал поступить в Гослитмузей, но принят не был. Причина — скорее всего полученная Бонч-Бруевичем <…> в конверте с грифом “секретно” характеристика Федорова-Давыдова», — сообщает современный исследователь. «… За период своей деятельности в Третьяковской Галерее проявил себя как человек с резко выраженными антисоветскими убеждениями и взглядами, которые им систематически высказывались в личных беседах с сотрудниками и аспирантами <…> и на массовых собраниях. <…> Не любит идейную реалистическую живопись, особенно живопись революционную. <…> По своему происхождению Ф.-Д. сын крупного капиталиста» (Стенограмма обследования Центрального музея художественной литературы, критики и публицистики комиссией Культпропа ЦК ВКП (б) 28 апреля 1934 г. / Публ., вступ. статья и примеч. С. В. Шумихина // Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 295 – 296). С 1944 г. вновь преподает в МГУ (придя на место И. Э. Грабаря). В 1946 г. вступает в члены КПСС и спустя два года возглавляет кафедру истории искусств, которой руководит с 1948 по 1956 гг. Затем переходит на работу в Академию общественных наук при ЦК КПСС.
94 Гвоздев Алексей Александрович (1887 – 1939) — теоретик театра, театровед, критик. Один из основателей «формального метода» в театроведении. Принимал участие в 806 работе Теасекции ГАХН и осенью 1926 г. был утвержден в качестве ее члена-корреспондента (см.: Заседание Ученого совета ГАХН от 29 октября 1926 г. — РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 130. Л. 1).
95 Клейнер Исидор Михайлович (1896 – 1971) — литературовед, театровед, драматург. В 1922 г. окончил юридический факультет Харьковского университета, в 1928 г. — аспирантуру в Теасекции ГАХН. В 1930-м написал книгу о Камерном театре, которая не была напечатана.
96 В. Ф. Р. — Великая французская революция.
9
97 Форрегер (Форрегер фон Грейфентурн) Николай Михайлович (1892 – 1939) — режиссер, основатель Мастерской Форрегера (Мастфор), экспериментатор в области театральных пластических форм актерского искусства.
10
98 Федорова Н. П. — Сведений о докладчице отыскать не удалось, кроме того, что сохранились ее письма к Л. Я. Гуревич, Вс. Э. Мейерхольду и М. О. Кнебель, подтверждающие длительность присутствия Федоровой в театральной жизни Москвы.
99 Университет Шанявского — Московский городской народный университет им. А. Л. Шанявского как альтернатива государственной высшей школе был создан по инициативе либеральной интеллигенции в лице генерал-майора в отставке А. Л. Шанявского и в большой степени на его средства (после отставки молодой генерал стал удачливым золотодобытчиком). Инициатива Шанявского обсуждалась в Государственной думе и была одобрена П. А. Столыпиным. В 1908 г. университет открыл свои двери. В нем было организовано два отделения: академическое и научно-популярное. Для поступления не требовалось диплома о среднем образовании, лекции, по замыслу учредителей, должны были читаться на любых языках, плата за обучение была весьма умеренная, а иногда и вовсе отсутствовала. В 1917 г. в университете обучалось свыше 7000 студентов. В 1918 г. Московский городской народный университет имени А. Л. Шанявского был ликвидирован. Его академическое отделение в 1918 г. влилось в МГУ, а научно-популярное в 1920 г. было объединено с рабфаком Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова.
100 Энгель Юлий (Эвель, Иоэль) Дмитриевич (1868 – 1927) — композитор и музыковед. Окончил Московскую консерваторию, куда поступил по рекомендации П. И. Чайковского. В 1922 – 1923 гг. был сотрудником музыкальной секции ГАХН (см.: РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 1. Ед. хр. 51. Л. 11). В те же годы сотрудничал с московскими театрами (в частности, писал музыку к вахтанговской постановке «Гадибука» в театре «Габима»).
101 Прыгунов Михаил Данилович (1889 – 1934) — театральный критик, театровед, педагог. Автор работ по истории русского театра. В своем Curriculum vitae от 7 июня 1924 г., сотрудник ГАХН еще пользуется старой орфографией, свидетельствующей о его приверженности консервативным ценностям и правилам. Сын театрального машиниста, он родился в Казани, где окончил полный курс наук славяно-русского отделения историко-филологического факультета Казанского университета и прослушал 6 семестров юридического факультета. Готовился к профессорскому званию по кафедре истории русской литературы, но историко-филологический факультет был закрыт и диссертация 807 защищена не была. В 1920 г. преподавал литературу в Казанском высшем институте, одновременно читал лекции по истории театра. С 11 марта 1924 г. — ученый хранитель Бахрушинского музея. 24 июня 1924 г. избран научным сотрудником ГАХН, а спустя год, 4 июня 1925 г., стал действительным членом Теасекции ГАХН (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 505).
102 Собинов Леонид Витальевич (1872 – 1934) — оперный певец (лирический тенор), один из крупнейших представителей русской классической вокальной школы.
103 Гельцер Екатерина Васильевна (1876 – 1962) — артистка балета Большого театра.
104 Тихомиров Василий Дмитриевич (1876 – 1956) — артист балета Большого театра, балетмейстер, педагог.
11
105 Трояновский Андрей Владимирович — сотрудник ГАХН по социологическому отделению «с момента организации Мастерской в марте 1925 г. состоящий заведующим Научным отделом и непрерывно избираемый на должность председателя Президиума» (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 1. Ед. хр. 80. Л. 59). Изучал зрителя и позднее, но уже в связи с киноискусством. Опубликовал (совм. с Р. И. Егиазаровым) работу «Изучение кинозрителя» (М.; Л., 1928), на которую и сегодня ссылаются исследователи.
106 Недзвецкий Юрий Владимирович (1907 – 1992) — актер, режиссер, педагог. С 1926 г. сотрудник, с 1927 г. в труппе МХАТа.
107 … «Шторм» в театре им. МГСПС. — Премьера пьесы В. Н. Билль-Белоцерковского «Шторм» («Тиф») в театре МГСПС состоялась 8 декабря 1925 г. Режиссер — Е. О. Любимов-Ланской.
До того как пьеса попала в театр МГСПС, она побывала во многих других и всюду была отвергнута. Прочитанная на труппе, она и здесь восторгов не вызвала. «Но Художественный совет театра, в большинстве своем состоявший из рабочих, классовым чутьем учуял “свою” пьесу», — писал Е. О. Любимов-Ланской (Любимов-Ланской Е. О. Пути творческого развития театра имени МОСПС // Театр московского пролетариата. Десять лет театра им. МОСПС. М., 1934. С. 147). В. Беньямин, которого именно Билль-Белоцерковский знакомил с Москвой и ее театральными новостями, писал о «Шторме»: «Эта пьеса была не только крупнейшим театральным успехом в истории русского советского театра, но и первым успехом, выпавшим на долю чисто политической драмы» (Беньямин В. Московский дневник. М., 2012. С. 253).
108 Махаевщина — течение в российском революционном движении, возникшее в конце XIX в. (по имени лидера В. К. Махайского), рассматривавшее интеллигенцию как паразитический класс, враждебный пролетариату (опору же и базу революции последователи Махайского видели в деклассированных элементах).
109 Шнейдер Александр Карлович (1889 – ?) — литературовед. В анкете для ответственных работников сообщал, что окончил историко-филологическое отделение Московского университета, владеет немецким, английским, французским языками. В 1918 – 1920 гг. читал лекции в Университете им. А. Л. Шанявского. С 1921 г. — сотрудник ГАХН, в 1924 г. числился по физико-психологическому отделению, с 1926 г. — член-корреспондент по литературной секции. В его личном деле хранится Охранная грамота № 1224, датированная 7 мая 1924 г., выданная Главнаукой НКП по ходатайству руководства ГАХН. В этой Охранной грамоте подтверждается настоятельная необходимость специальной комнаты 808 для личной библиотеки ученого в 9 000 томов, находящейся на специальном учете с 9 мая 1920 г. в Наркомпросе как «представляющей специальный научный интерес» (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 714. Л. 7). 1 января 1929 г. Шнейдер был выведен за штат ГАХН.
12
110 Фортунатов Александр Алексеевич (1884 – 1949) — историк, просветитель, педагог. В своем Curriculum vitae 5 ноября 1924 г. Фортунатов писал, что родился близ Москвы в семье (будущего) профессора Петровской академии, Московского городского народного университета имени А. Л. Шанявского, А. Ф. Фортунатова. До 15 лет — домашнее образование, затем окончил киевскую гимназию и в 1903 г. поступил на историко-филологическое отделение Московского университета. По окончании курса был оставлен на кафедре всеобщей истории (у проф. Д. М. Петрушевского). В 1909 г. совершил длительное путешествие по Италии. В 1917 г. избрал темой магистерской работы «Генуэзские поселения в Крыму», но после революции уже не мог посетить итальянские архивы и диссертацию не защитил. Преподавал в школах и в Московском городском народном университете имени А. Л. Шанявского. С 1916 г. — приват-доцент Московского университета. В 1919 г. в связи со службой на 1-й Опытной станции Наркомпроса проводил обследование памятников древнерусского искусства в г. Боровске Калужской губернии. Водил экскурсии по художественным галереям, читал лекции. С преобразованием истфила в ФОН (факультет народного образования) с 1921 по 1923 г. занимал кафедру истории народного образования. С 1920 по 1924 г. «в течение 4 с половиной лет руководил эстетически-просветительным подвижным театром в деревне (исп<ытательной> 1-й опытной станции по народному образованию близ г. Боровска и Малого Ярославца). Работа театра носила строго эстетический характер, ставились пьесы исключительно классиков (Пушкина, Мольера, Лопе де Вега, Гюго, Островского, инсценировки Боккаччо) в возможно более тщательном исполнении и возможно художественно разработанной постановке (при минимальных средствах). Цель театра была — культивирование эстетических эмоций в крестьянской массе как путь к подлинной культуре деревни» (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 652. Л. 2 – 2 об.). В 1926 г. Фортунатов — ученый секретарь Комиссии по художественному воспитанию физико-психологического отделения ГАХН. 2 декабря 1927 г. отстранен от должности ученого секретаря (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 652).
111 «Гибель “Надежды”» — пьеса Г. Гейерманса.
112 … некоторых современных драмах («Овод»). — Очевидно, имеется в виду инсценировка С. И. Прокофьева по роману Э.-Л. Войнич «Овод».
13
113 Премьера «Ревизора» Н. В. Гоголя в ГосТИМе состоялась 9 декабря 1926 г. Сценический текст и постановка Вс. Мейерхольда.
14
114 Театрально-исследовательская мастерская (или Научная театральная мастерская) входила в состав Теасекции.
115 Театр им. МГСПС — с марта 1923 г. театр МГСПС, с 1925 г. — театр им. МГСПС, далее — театр МОСПС, ныне — Московский государственный академический театр им. Моссовета.
116 ГАБТ — Государственный академический Большой театр Союза СССР.
809 15
117 «… Н. Л. Бродским был прочитан доклад “Зритель нового времени”, где подвергнут был пересмотру вопрос о существующих принципах изучения зрителя и был намечен план (на основе фактического материала) новой классификации типов зрителя», — сообщалось в Отчете о деятельности Комиссии по изучению зрителя в 1927/1928 академическом году (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 3. Л. 175 – 176).
В том же году была опубликована содержательная статья «Зрители Художественного театра» по докладу, произнесенному на заседании в связи с 30-летним юбилеем МХТ (Искусство. 1928. № 3 – 4. С. 170 – 188).
118 Бахрушин Алексей Александрович (1865 – 1929) — купец, меценат, собиратель и знаток театральной старины. На основании своей коллекции создал первый в России литературно-театральный музей (1894), позже превратившийся в чисто театральный и получивший имя своего основателя (ГЦТМ им. А. А. Бахрушина). В сотрудники Теасекции был зачислен в числе первых, 10 октября 1921 г. (см.: Штаты, списки и анкеты действительных членов и научных сотрудников. — РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 1. Ед. хр. 51. Л. 7).
119 В театре МГСПС на спектакле «Мятеж»… — Инсценировка Д. А. Фурманова и С. Поливанова романа Д. А. Фурманова. Премьера в театре МГСПС состоялась 6 ноября 1927 г. Постановка Е. О. Любимова-Ланского. Работа над инсценировкой была начата вместе с Фурмановым, закончена уже после смерти писателя, с участием Е. О. Любимова-Ланского, постановщика. Режиссер рассказывал: «Перемонтированы сцены, созданы две новые картины, дающие динамическую завязку. <…> Поставлена задача — достичь патетики, зажечь героический огонь — показать пафос революционной борьбы за укрепление Советской власти» (см.: Доклад Е. О. Любимова-Ланского на заседании художественного совета театра им. МГСПС о плане постановки спектакля «Мятеж» // Русский советский театр. 1926 – 1932 / Ред. колл.: А. З. Юфит (гл. ред.) и др.; отв. ред. тома А. Я. Трабский. Л., 1982. Ч. 1. С. 365).
120 «Власть» — пьеса А. Г. Глебова. См. коммент. 133.
121 Возможно, имеется в виду Поливанов Евгений Дмитриевич (1891 – 1938) — лингвист, литературовед, был дружен с Г. Г. Шпетом. Основоположник советской социолингвистики, изучавшей язык как общественное явление. В 1926 г. — председатель лингвистической секции РАНИОН. В 1937 г. арестован, в 1938 г. расстрелян. В 1963 г. реабилитирован.
Но скорее упомянут Поливанов Иван Львович (1867 – ?) — сын замечательного московского педагога, основателя гимназии Л. И. Поливанова, в помещении которой на Пречистенке размещался ГАХН. Выпускник Московского университета, с 1918 по 1920 гг. служил в Румянцевском музее. В 1920-е гг. был сотрудником литературной секции ГАХН.
122 … зритель «Контрабандистов» пришел не как зритель. Этот зритель заранее не принял спектакля. — Имеется в виду антисемитский спектакль Театра Литературно-Художественного общества «Контрабандисты» («Сыны Израиля») В. А. Крылова и С. К. Эфрона (Литвина). Публика, подготовленная газетными сообщениями, освистала и сорвала не только премьеру, которая состоялась 23 ноября 1900 г., но несколько последующих представлений. Сам факт того, что на обсуждении вспоминают столь давний спектакль, свидетельствует о незаурядности события. Подробнее см.: Русский Протей. Письма Б. С. Глаголина А. С. Суворину (1900 – 1910) и Вс. Э. Мейерхольду (1909 – 1928). Публ., вступ. статья и коммент. В. В. Иванова // Мнемозина. 2009. С. 137 – 139.
123 810 Беклемишева Вера Евгеньевна (1881 – 1944) — переводчица и литератор. После окончания Высших женских курсов в Петербурге, в 1907 – 1917 гг. работала секретарем в издательстве «Шиповник», помогая мужу, одному из организаторов издательства, Соломону Юльевичу Копельману. С 1918 г. педагог в системе Наркомпроса. С 4 декабря 1925 г. — научный сотрудник ГАХН. Сохранились тезисы доклада Беклемишевой «Первые руководства по театральному искусству» (между 1866 и 1874 гг.), см.: РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 2. Ед. хр. 26. Л. 169; Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 45.
124 Дитиненко Варвара Петровна — литератор, драматург. Печаталась под псевдонимом В. Ихменева (взяв фамилию героини романа Достоевского «Униженные и оскорбленные» Наташи Ихменевой). В краткой автобиографии, датированной 5 октября 1925 г., Дитиненко сообщает, что окончила Высшие женские курсы по литературно-историческому отделению историко-филологического факультета в Киеве и психолого-философское отделение историко-философского факультета в Москве. В 1921 – 1922 гг. работала в Институте психиатрии у проф. П. И. Карпова, а в 1923 – 1925 гг. — в Государственном научном институте охраны материнства и младенчества в качестве научного сотрудника и педолога-инструктора (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 190. Ед. хр. 185. Л. 13 – 14). Образование объясняет определенную маргинальность научных интересов Дитиненко (область психопатологии, душевных болезней и других отклонений психики, в том числе криминального характера). В 1927 г. Дитиненко была внештатным сотрудником ГАХН, т. е. жалованья не получала. Сохранился план ее работы за 1928 г.: она сотрудничает с двумя комиссиями ГАХН: по психологии актерского творчества (под руководством Л. Я. Гуревич) и по изучению творчества душевнобольных (под руководством проф. П. И. Карпова). Кроме того, изучает творчество актеров в местах заключения и планирует сделать доклад на эту тему на подсекции актера (см.: РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 185). Дитиненко принадлежит монография о творчестве М. А. Чехова (велись переговоры с издательством «Теакинопечать», но за недостатком бумаги рукопись не была напечатана). Во 2-м томе издания: Чехов М. А. Литературное наследие. М., 1995 — в связи с вопросом анкеты по психологии актерского творчества: «Что вы разумеете как режиссер под идеологией пьесы?..» — сообщается: «На этот вопрос М. А. Чехов не захотел отвечать кратко. Этот вопрос будет им специально разработан и войдет в монографию, которую пишет В. П. Дитиненко» (с. 77).
125 У М. А. Чехова очень много писем о «Гамлете». — Наиболее содержательная часть писем зрителей к М. А. Чехову, хранящихся в РГАЛИ, опубликована («Зритель — лицо всегда загадочное для артиста…» Письма зрителей, читателей и коллег Михаилу Чехову / Публ., вступ. статья и коммент. М. В. Хализевой // Мнемозина. 2009. С. 585 – 617).
126 Петровский Андрей Павлович (1869 – 1933) — актер, режиссер, педагог. Социальное происхождение — дворянин, сын инженера. Был женат на певице Стефании Зорич. Окончил киевскую гимназию (1891), затем юридический лицей в Ярославле и Театральное училище им. А. Ф. Федотова (1893 – 1895). (Среди его родственников — знаменитый актер И. И. Сосницкий.) С 1904 по 1915 г. — актер и режиссер Александринского театра. Неоднократно бывал за границей (в Норвегии, Италии, Австро-Венгрии, Испании, странах Африки), всюду изучая театр. С 1918 г. служил в Оперном театре Красноармейских и рабочих депутатов в ТЕО Наркомпроса. В анкете ГАХН 1924 г. Петровский с гордостью сообщает, что в области искусства работает с 1890 г. — т. е. уже 35 лет. В 1926 г. утвержден членом-корреспондентом Теасекции ГАХН (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 472).
127 811 Дузе Элеонора (1858 – 1924) — итальянская трагическая актриса.
128 Гершензон Михаил Осипович (1869 – 1925) — историк литературы и общественной мысли.
129 Рейнгардт (наст. фам. Гольдман) Макс (1873 – 1943) — немецкий режиссер, реформатор театра.
130 Плевако Федор Никифорович (1842 – 1908/09) — выдающийся юрист, адвокат. Выступал защитником на крупных политических процессах.
16
131 Максимов Илья Владимирович — сотрудник социологического отделения ГАХН. В 1927 г. — член Президиума Научной театральной мастерской.
132 Самодур Л. С. — неустановленное лицо.
133 «Власть» в Пролеткульте. — Премьера в Первом рабочем театре Пролеткульта прошла осенью 1927 г. «Ни пьеса, ни спектакль не явились совершенными произведениями, но <…> Глебов поставил острый вопрос о противоречиях двоевластия в провинциальном городе» в период между Советами и Временным правительством (Волков Н. Д. Октябрьские постановки московских театров: Собеседование в Театральной секции ГАХН 15 декабря 1927 г. // Бюллетень ГАХН. М., 1927. Кн. IV. Т. III С. 220). В связи со спектаклем П. А. Марков писал «об упорной борьбе по преодолению “общих мест” через наполнение былой схемы жизни живым и страстным содержанием», особенно отмечая работу актрисы Глизер в роли бывшей начальницы женской гимназии (см.: Марков П. А. Октябрьские постановки. К проблеме социального спектакля // Новый мир. 1928. № 1.) «Комиссия по изучению зрителя провела обследование постановки “Власть” в театре Пролеткульта. После обсуждения вопроса о партитуре описания было затрачено восемь посещений театра и несколько заседаний для подготовки описания спектакля по материалам анкеты, трижды проведенной среди зрителей разных категорий», — сообщалось в отчете о деятельности Теасекции ГАХН за октябрь — декабрь 1927 г. (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 3. Л. 135).
134 Кашин Николай Павлович (1874 – 1939) — литературовед, в основном известен как исследователь творчества А. Н. Островского. В автобиографии Кашин рассказывает с гордостью, что принадлежит к известной в Суздале купеческой семье (отец имел кожевенный и шорный заводы). Дед Кашина, проведший 30 последних лет жизни в Гефсиманском скиту около Троице-Сергиевой лавры, увековечен на картине Нестерова «Святая Русь» в образе седого старца в монашеском одеянии. Именно дед был единственным из первых купеческих лиц города кто дал сыну высшее образование. Но нежелание молодого Кашина продолжить дело отца стало предметом семейного конфликта.
Родившись в Суздале, Кашин окончил сначала суздальское городское училище, затем владимирскую гимназию. После окончания славянского отделения историко-филологического факультета Московского университета преподавал русский язык в елисаветградском реальном училище, затем — в тульском реальном училище, читал курс лекций по истории драмы. Побывал в Германии и Франции, где работал в Национальной библиотеке. В 1902 г. переведен в Москву, где сначала был преподавателем гимназии, затем — московского Филармонического общества. С 1909 по 1916 г. преподавал русский язык и литературу в Московской консерватории. Туда же вернулся после окончания Гражданской войны (1920 – 1923). С 1921 г. сотрудничал с АкТЕО. 812 Со 2 февраля 1922 г. — действительный член РАХН. В 1925 г. возглавил Комиссию по изучению творчества А. Н. Островского, в связи с чем много работал в так называемом Лефортовском архиве (б. Архив юстиции). С 1927 г. — ученый секретарь п/секции истории и комиссии революционного театра Теасекции. В 1930 г. освобожден от занимаемой должности по сокращению штатов (см.: РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 276. Л. 1 – 1 об., 4, 9, а также Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 277. 5 л.).
813 А. П. Кузичева
«ТЕАТРАЛЬНАЯ
ЛОЦИЯ» РОССИИ
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
Общество русских драматических писателей и оперных композиторов
(1874 – 1930)
Обыкновенно исследователи, изучая историю русского театра, обращаются к периодике, мемуарам, письмам, дневникам режиссеров, актеров, художников. Однако даже губернские газеты не всегда печатали объявления о текущем репертуаре, порой игнорировали театральные рецензии. Полноты данных эти источники не гарантируют.
Между тем без должного внимания остается огромный, уникальный массив материалов, содержащий тысячи дат, имен, названий, отражающих театральную жизнь России на рубеже XIX и XX столетий. Это архив Общества русских драматических писателей и оперных композиторов (ОРДПиОК), хранящийся в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ). Документы, вошедшие в фонд 2097, рассказывают о судьбе и деятельности Общества.
Согласно описи и делу данного фонда первоначально появился фонд 675, поступивший в 1941 г. из Государственного литературного музея. Затем к нему присоединились документы, переданные из Всесоюзного управления по охране авторских прав. В 1958 г. этот фонд был разделен на два самостоятельных фонда: фонд 675 — Союз драматических и музыкальных писателей и фонд 2097 — Общество русских драматических писателей и оперных композиторов.
Следующее существенное пополнение фонда ОРДПиОК — документы, поступившие в 1959 г. из Государственного центрального театрального музея (ГЦТМ). К настоящему времени фонд насчитывает 2615 единиц хранения различного свойства и за разные годы, вплоть до конца 1920-х гг.
Предлагаемый вниманию исследователей краткий обзор фонда охватывает полувековую историю Общества (1874 – 1930). Это документальное «зеркало» позволяет в определенном смысле назвать фонд 2097 «театральной лоцией» России конца XIX – начала XX столетия.
* * *
Литературные и художественные общества, союзы, кружки множились на рубеже XIX и XX столетий стремительно и неуклонно. Их было с избытком в Москве и в Петербурге1, но доставало и в провинции. Помимо многочисленных дружеских журфиксов, «сред», «вторников», «воскресений» (в домах деятелей литературы и искусства) возникали на короткий срок или надолго общественные объединения, желавшие иметь программу и устав. Например, Касса взаимопомощи литераторов и ученых (1890 – 1914), Литературно-художественный 814 кружок (1898 – 1920), Союз взаимопомощи русских писателей при Русском литературном обществе (Союз писателей) (1897 – 1901), Всероссийское литературное общество (1912 – 1914) и другие.
Были сообщества, которые считали одной из задач защиту материальных и профессиональных интересов своих членов. Среди них: Общество взаимопомощи русских артистов (1877 – 1882), Общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям (1883 – 1884), Русское театральное общество (1894 – 1932), а при нем Всероссийский союз сценических деятелей (1906).
В соответствии с законодательными актами, принятыми в первой половине XIX в.: Положением 1809 г. о компенсации авторам за исполнение их пьес; Положением о вознаграждении сочинителям и переводчикам драматических пьес и опер, когда они будут приняты для представления на Императорских театрах (1827); Цензурным уставом 1828 г. — во взаимоотношениях театров и сочинителей драматургических произведений сложилась определенная практика.
Автор оригинальной или переводной пьесы в прозе или в стихах получал в Императорских театрах денежную компенсацию в виде единовременной платы или части сбора с одного спектакля.
Частные театры ничего не платили авторам и ставили пьесы, не спрашивая согласия сочинителей, хотя статья 1684 Уложения о наказаниях запрещала представление пьесы без разрешения автора.
Каково было материальное положение большинства российских драматургов, если сам А. Н. Островский в письме-записке новому директору Императорских театров С. А. Гедеонову писал о себе с горькой иронией: «… автор, создавший целый народный театр, автор, удовлетворяющий потребности и вкусу публики до такой степени, что нет дня в сезоне, чтобы пьесы его не шли на нескольких театрах в России, доставивший одним только императорским театрам более миллиона сбора своими пьесами, заслуживает такого же обеспечения, какое имеют второстепенные артисты…»2.
В сложившейся ситуации драматургам не смогла бы помочь никакая временная материальная поддержка в виде ссуд, пособий, подписок в их пользу, предусмотренных, например, в уставе Артистического кружка (1865 – 1883).
А. Н. Островский размышлял в 1860-е гг. не о благотворительной денежной помощи нуждающимся драматургам, но о законном справедливом вознаграждении, об отчислениях из сбора за постановку пьес.
В Записке об авторских правах драматических писателей (1869) он настаивал: «Отсутствие в нашем законодательстве отдела о драматической собственности (droit de faire représenter), особо от литературной (droit de faire imprimer), ставило и до сих пор ставит драматических писателей в особое, странное, исключительное положение: драматический автор перестает быть хозяином своего произведения и теряет на него всякое право именно в ту самую минуту, когда оно принимает свою окончательную форму и получает значительную ценность. <…> Но такой порядок вещей продолжаться не должен, так как им нарушаются главные основы гражданского благоустройства: уважение к закону и неприкосновенность чужой собственности»3.
Это общее положение Островский конкретизировал в Проекте законоположений о драматической собственности (1869), изложив в нем и возражения противников авторского права драматических писателей4.
815 Островский был не одинок в постановке насущного вопроса об авторском праве. Тогда же об этом заявлял его сподвижник, писатель В. И. Родиславский. В одной из статей он подробно рассмотрел Положение 1827 г. и подчеркнул, что в этом документе права авторов «слишком ограничены, что вознаграждение <…> слишком незначительно и что Положение определяет авторское право не совсем ясно и полно»5.
Отклонив сомнения в возможности изменить ситуацию и сославшись на европейский опыт, он полагал, что и в России можно защитить драматургов: «Стоит соединиться нескольким лицам, пишущим для сцены <…>. Впоследствии к этим лицам, нет сомнения, присоединились бы и многие другие лица, пишущие для театра. <…> Можно смело сказать, что и в России поспектакльная плата за пьесы с частных театров в пользу авторов, назначенная в размере не обременительном для антрепренеров тех театров, также превзошла бы плату, получаемую драматическими писателями за представление их пьес на императорских сценах»6.
Эти несколько лиц, не тайно, а с разрешения московского генерал-губернатора князя В. А. Долгорукова, сошлись осенью 1870 г. Ими были: А. Н. Островский, В. И. Родиславский, А. А. Майков, Н. А. Чаев, А. О. Лютецкий и князь И. А. Мещерский. На встрече обсуждался вопрос о создании Собрания русских драматических писателей (СДП)7, призванного подготовить появление Общества русских драматических писателей (ОРДП).
Действия членов Собрания — заявление о запрете представлять их пьесы без согласия автора или без разрешения агентов, уполномоченных СДП; разработка устава ОРДП; прохождение уставных документов через правительственные инстанции — сопровождались сопротивлением провинциальных антрепренеров, возражениями юристов, неизбежными чиновничьими проволочками.
Сохранились протоколы собрания за 1871 г. (1, 76)113*. Их немного, но они дают представление о том, как решались первоначально насущные вопросы защиты авторских прав. Например, разрешать ли автору играть его пьесу на частных сценах Москвы и Петербурга, если она еще не была играна на императорских сценах. Решено: должно спросить автора, но и автор, в этой ситуации, «дабы не оскорблять самолюбия любительских трупп, [должен] принять за правило», если он отказал любителям, то не может разрешать и в другом театре.
Сразу возникли и требовали решения вопросы выплат наследникам умершего члена Собрания; процедура взыскания, через мирового судью, с антрепренеров, отказывавшихся отчислять авторский гонорар, уклонявшихся от встреч с агентами СДП.
Среди всех вопросов, организационных, этических, судебных, юридических, один вопрос стал главным с самого начала: как делить между автором и Собранием, а в дальнейшем между автором и Обществом, сумму, отчисляемую частными театрами из сбора, полученного за представление пьесы?
Сама сумма определялась в зависимости от того, оригинальная пьеса или переводная, сколько в ней актов.
816 Первоначально (протокол заседания СДП от 10 января 1871 г.) предлагалось делить эту сумму так: 10 % — в пользу агента; из оставшейся части: 60 % — автору, если оригинальная пьеса, 40 % — переводчику, если переводная; остальные деньги — в фонд Собрания.
Плату следовало взимать даже со спектаклей, игранных с благотворительной целью, ибо «и Собрание имеет в виду также благотворительные цели» (протокол от 13 января 1871 г.).
Изменить положение, существовавшее много лет, при котором автор был в императорских театрах «не более как жалкий проситель»8, а в частных театрах — вообще никто, оказалось нелегко и непросто.
И все-таки 30 июля 1874 г. Устав ОРДП, проект которого был написан Островским и обсужден членами СДП еще в начале 1871 г., был утвержден Министерством внутренних дел9. Общественное объединение превратилось в юридически оформленное Общество русских драматических писателей. Это событие означало завершение краткой истории Собрания драматических писателей. Началась история Общества.
Казалась бы, невыполнимая задача — организовать и привести в действие «механизм» по получению с антрепренеров и содержателей столичных и провинциальных частных театров авторского гонорара и по передаче его по назначению — была решена: «механизм» запустили, и он действовал долгие годы.
Первое собрание членов нового Общества состоялось в Москве, 21 октября 1874 г. Подлинник протокола хранится в ГЦТМ, в фонде А. Н. Островского. Этот лапидарный документ интересен перечнем обсуждавшихся вопросов, выборами Правления и автографами подписавших его учредителей.
Первым председателем Общества был избран А. Н. Островский, секретарем — В. И. Родиславский, казначеем — А. А. Майков.
В делах Общества сохранился отчет о суммах (приход и расход), поступивших в кассу Собрания русских драматических писателей с момента его возникновения до 22 октября 1874 г. Этот документ зафиксировал финансовое положение Общества в самом начале его деятельности (1, 76, л. 32 – 37 об.).
Членских взносов было получено 495 руб. Гонорара в пользу авторов — 16 336 руб. 80 коп.; в пользу Собрания — 13 769 руб. 43 коп. Выдано авторам за 4 года существования СДП — 14 323 руб. 35 коп.; вознаграждение секретарю — 1 497 руб. 99 коп.; казначею — 1 497 руб. 99 коп.; писцу — 751 руб. 53 коп.; авансов авторам — 600 руб.; пособий и пожертвований на сумму 615 руб.; типографские расходы — 351 руб. 60 коп.; почтовые издержки — 346 руб. 03 коп., а также указаны расходы на поверенных, на канцелярию и тому подобное.
Итого, на 22 октября 1874 г. в кассе Общества оказалось 7 197 руб. 34 коп. Из них: 2 013 руб. 53 коп. — авторский гонорар, еще не переданный членам Собрания, а теперь уже членам Общества, а 5 183 руб. 81 коп. — капитал только что появившегося ОРДП.
Эти цифры, как и число членов Собрания, ставших осенью 1894 г. членами Общества, — 81 человек, важны для понимания многих моментов в дальнейшей судьбе ОРДП.
В протоколе от 8 декабря 1874 г., т. е. в первые месяцы деятельности Общества, зафиксировано предложение А. Н. Островского: составить «список театров с обозначением, 817 в каких отношениях они состоят с Обществом. Положено: просить секретаря Общества составить такой список к следующему заседанию Комитета» (1, 76, л. 58).
Не исключено, что таким списком являлся сохранившийся в этой единице хранения недатированный большой перечень городов и населенных пунктов под названием: «Театры в России». Он содержит сведения, кто из антрепренеров платил и сколько, а кто нет, против кого возбуждено дело, кто из содержателей разыскивается за неуплату авторского гонорара.
Деятельность нового объединения драматургов с первых же дней определялась Уставом, решениями СДП, принятыми в 1870 – 1874 гг., а также на первых заседаниях Комитета ОРДП в 1874 – 1875 гг., когда возникли вопросы об издании пьес членов Общества, о печати, о делопроизводстве10.
Устав Общества утверждался трижды — впервые 30 июля 1874 г., затем 23 августа 1883 г. и, наконец, — 7 марта 1891 г. Все остальные издания Устава, вплоть до 1917 г., отсылали к официальному разрешению 1891 г.
Некоторые пункты Устава изменялись и уточнялись. Первоначально главные статьи Устава выглядели так: «Ст. 1. Учреждение Общества Русских Драматических Писателей имеет ближайшею целию сохранение принадлежащего по закону русским драматическим писателям и переводчикам права разрешать публичные представления их произведений. Ст. 2. Дальнейшая цель Общества: содействовать развитию драматической литературы в России лучшим обеспечением трудящихся на драматическом поприще»11.
В конечном варианте цель Общества определилась следующим образом: «а) охранение принадлежащих по закону русским драматическим писателям, переводчикам и оперным композиторам прав разрешать публичные представления их произведений на всех театрах и сценах, за исключением императорских придворных (ст. 10), и б) содействие развитию драматического искусства в России»12.
Сохранившиеся протоколы отражают путь превращения ОРДП в Общество русских драматических писателей и оперных композиторов. На заседании Комитета от 1 декабря 1874 г. было предложено «расширить круг деятельности Общества принятием охранения и музыкальной собственности композиторов опер и ораторий, которых и допустить в члены Общества.
Положено: вопрос этот предложить на первом общем собрании членов Общества» (1, 76, л. 57 об.).
В соответствии с принятой к этому времени практикой сначала все вопросы, выносимые Комитетом на общее собрание в Москве, рассматривались на предварительном собрании петербургских членов Общества. Его решения сообщались в Комитет, который докладывал их общему собранию.
21 марта 1875 г. петербургская группа ОРДП решила допустить оперных композиторов в члены Общества13. 29 марта на общем собрании в Москве, по сути, возникло Общество русских драматических писателей и оперных композиторов14.
Общее собрание Общества избирало ежегодно председателя и Комитет из шести человек, а также ревизионную комиссию. Члены Комитета назначали из своего состава секретаря и казначея. Кроме них был штат наемных служащих: письмоводитель, писцы, помощники секретаря, казначея и т. д.
818 * * *
Движущей силой коммерческого «механизма» была сеть агентов, уполномоченных Комитетом контролировать постановки пьес, написанных или переведенных членами Общества, и взимать авторский гонорар. Учрежденная еще в бытность СДП, эта сеть расширялась год от г.
Сведения об агентах есть в журналах регистрации входящей и исходящей корреспонденции за некоторые годы (3, 6; 17; 18; 19). Переписка с агентами хранится в делах, в которых собраны документы, посвященные конкретному городу, губернии, краю. Фамилии агентов можно отыскать в хозяйственных счетах Общества за разные годы (2, 2610).
Агентами соглашались быть земские служащие, присяжные поверенные, местные журналисты, мелкие чиновники. Иногда это были уездные исправники. У некоторых агентов, отвечающих за губернию, область, край, были субагенты, следившие за постановками в том или ином уездном городе, дачных местах около столиц. Или, как, например, у агента по Кубанской области, — в многочисленных и многонаселенных станицах (2, 553). Субагенты получали от агента доверенности и отчитывались перед ним.
Уполномоченный действовал по специально разработанной инструкции. Принимая звание агента ОРДПиОК, он давал обязательство «охранять интересы Общества и исполнять все правила», указанные в специальной инструкции (2, 18). Она была издана в 1883 году, а затем периодически переиздавалась. Ее дополняла доверенность, выдаваемая Обществом своему агенту.
О принятии обязанностей агент заявлял в местной прессе. Если труппа давала в данном месте всего лишь несколько спектаклей, между агентом и антрепренером, как правило, действовала устная договоренность об отчислении авторского гонорара. Если речь шла о целом сезоне, то агент брал с распорядителя труппы расписку, в ответ выдавал письменное разрешение. Образчики этих взаимных расписок сохранились во многих делах.
Естественно, что взимать гонорар уполномоченный обязан был только за представление пьес членов Общества. Получение такового заверяла квитанция, которую агент отдавал антрепренеру. Деньги он отправлял в Москву, о получении коих его извещал секретарь Общества.
В самом начале деятельности Общества агентура возникла в городах: Москве, Казани, Воронеже, Нижнем Новгороде, Вильне, Твери, Смоленске, Полтаве, Екатеринославе.
К 1899 г. Общество имело уже 336 агентов, а с субагентами около 500 человек15. В том числе и на окраинах Российской империи: Самарканде (Туркестан); Маргелане, Коканде (Ферганская область); Асхабаде (Закаспийская область); Пржевальске (Семиреченская область); Либаве (Курляндия); Выборге (Финляндия); Нерчинске (Забайкальская область); Темир-Хан-Шуре (Дагестанская область); Ташкенте (Сырдарьинская область); Николаевске (Тургайская область) и др.
В материалах фонда 2097 есть сведения о том, как формировалась агентурная сеть, какая огромная работа выпала на долю первого секретаря ОРДПиОК В. И. Родиславского. Он сам вел переписку с антрепренерами, привозившими труппу в города, где еще не было агентов. В этой переписке содержатся документы, рассказывающие 819 о судебных исках, о взысканиях с антрепренеров, не желавших менять сложившуюся практику.
На долю агентов выпала еще одна забота: контроль за постановками любителей драматического искусства. Их было множество. Фонд 2097 содержит свод сведений не только о том, что играли российские любители, но и в чью пользу давались благотворительные спектакли, кто были их устроители, как с годами менялись состав устроителей, репертуар, площадки, характер любительства в российских столицах и провинции.
В переписке с агентами хранятся также списки провинциальных трупп, афиши некоторых спектаклей. По каким-то причинам эти афиши не были присоединены к общему массиву, который складывался за все годы существования Общества из афиш, посылаемых агентами, и афиш, поступавших в Комитет из Главного управления по делам печати.
С 1881 г. по решению Комитета афиши хранили в папках, до 1500 афиш в каждой16. Подбором занимался специальный служитель. Судя по всему, коллекция афиш, принадлежащая ОРДПиОК, была огромной.
Автор статьи, посвященной коллекции афиш, хранящейся в ГЦТМ, пишет: «Значительными поступлениями были материалы по дореволюционному театру, переданные в музей после ликвидации Общества драматических писателей, а также ценнейшее собрание афиш дореволюционной провинции (более 300 тысяч единиц), полученное в 1950-е годы от Книжной палаты, в котором представлена вся театральная Россия конца XIX – начала XX века, от Архангельска до Тифлиса с севера на юг, от Брест-Литовска до Владивостока с запада на восток»17.
Вместе с афишами, встречающимися в делах ОРДПиОК, это собрание уникально по своим масштабам, хронологическому охвату, информационному потенциалу. Оно еще ждет своего историка, который восстановит его судьбу, раскроет содержание и художественную ценность.
Агенты контролировали представления пьес членов Общества не только на подмостках местных театров. Сценическими площадками для театральных представлений становились самые различные помещения: летний театр в саду, ротонда летнего клуба, зал Благородного собрания, различные клубы, здание арсенала, дома всевозможных обществ, курзалы, помещения кружков, цирк, временный балаган, училище, концертные залы, манеж, церковно-приходские, земские училища.
Одних только Собраний, имевших помещение и предоставлявших их гастролерам или любителям, было очень много: Военные, Общественные, Ремесленные, Офицерские, Дворянские, Врачей и т. д.
В России на рубеже XIX и XX веков возникали клубы по интересам, по профессиям: клубы приказчиков, Внесословный клуб, Охотничий клуб, Немецкий клуб, Докторский клуб, Клуб велосипедистов и др. Залы и просторные комнаты в занимаемых ими зданиях часто становились сценическими подмостками.
Взимать гонорар, особенно в столицах и в крупных провинциальных городах, было непросто.
Как правило, агенты служили по много лет. Агентами порой становились женщины, хотя обязанности эти не были легкими. Так, В. А. Галлиани, уполномоченной 820 по Казани, пришлось утрясать не один трудный инцидент, в том числе связанный с запретом С. А. Найденова (Алексеева) ставить в Казани его пьесу «Дети Ванюшина».
Узнав о намерении Н. И. Собольщикова-Самарина поставить пьесу, она предупредила об этом самого антрепренера и побывала у полицмейстера, который заявил, что поскольку пьеса разрешена цензурой, то он не видит оснований для отказа.
Галлиани направила прошение казанскому губернатору и была им принята в середине декабря 1905 г. Но услышала от важного чиновника, что он находит авторский запрет абсурдным, если есть разрешение Главного управления по делам печати, однако посоветовал обратиться к прокурору. Дело утопало в чиновничьих отписках.
5 января 1906 г. С. А. Найденов написал секретарю Общества: «Я очень огорчен и обижен поступком Собольщикова-Самарина, — он не только не уважает личности автора, он игнорирует и глумится над ней. Обидно, очень обидно.
Судиться, привлекать его к ответственности по статье 1684 я не имею ни малейшего желания и не хочу получать с него авторских: пусть пользуется моей собственностью по своему усмотрению, если у него нет порядочности и чести.
Пусть Казанский агент передаст ему это. Играть “Детей Ванюшина” в Казани я не даю разрешения никому. Если же будут продолжать ставить господа вроде Собольщикова, я прошу агента авторских не брать, но всегда протестовать против постановки… Пусть совершают произвол и насилие!» (2, 409, л. 141 – 142).
Порой антрепренер отказывался платить, отсылая агента к содержателю театра, с которым у него якобы уговор, что тот выплачивает авторский гонорар.
Письма агентов секретарю Общества таят множество эпизодов, отражающих местные нравы, особенности бытования театра в данной местности, сам театральный процесс. Этот источник, пока, в сущности, не открытый историками театра, хранит много смешного, драматичного и неожиданного.
Киевский агент Я. Г. Ермачков, например, человек дотошный и педантичный, в свои списки трупп, в отличие от газетных рецензий или посланий его коллег в Общество, считал необходимым вносить не только сценический псевдоним актера или актрисы, но и полное имя, отчество актера и актрисы. Ермачков так вжился в роль контролера, что однажды предложил секретарю свои услуги уже в качестве театрального обозревателя. По его словам, «агенты всегда очень близко стоят к искусству» и потому могут судить об успехах сцены (2, 472, л. 242).
В объемных агентских делах можно найти новые данные о жизни и деятельности известных литераторов. В конце 1880-х годов нижегородский агент Н. Г. Вучетич сообщил секретарю Общества И. М. Кондратьеву, что его переводят служить в другой город. Посыпались предложения услуг, рекомендации. В числе других был назван В. Г. Короленко, который после окончания срока ссылки в 1884 г. жил в Нижнем Новгороде. К этому времени он, автор книги «Очерки и рассказы», сотрудничавший с ведущими столичными и провинциальными изданиями, был предельно занят: участвовал в работе Нижегородской архивной комиссии, в общественной жизни города.
821 Его деятельность привлекала внимание полиции. Известна надпись Александра III, сделанная на докладе Департамента полиции осенью 1888 г.: «По всему видно, что личность Короленко весьма неблагонадежная, а не без таланта»18.
Что подвигло Короленко взять на себя хлопотные обязанности агента? Тем более что литературные и другие дела требовали отлучек из города. Сам он написал Кондратьеву летом 1889 г.: «Я действительно имею желание ближе ознакомиться и с репертуаром, и с актерским мирком, поэтому охотно приму Ваше предложение» (2, 811, л. 61). Правда, оговорил в следующем письме условие, что быть агентом по всей губернии не сможет: «Кое-где из уездных городков у меня найдутся знакомые, но в большинстве даже и знакомых нет» (2, 811, л. 75).
В переписке с секретарем Общества, растянувшейся на несколько лет и исчисляемой двумя десятками неопубликованных писем Короленко, упоминаются реалии театральной жизни Нижнего Новгорода в конце 1880-х – начале 1890-х годов. В письмах есть характеристики тогдашних антрепренеров, снимавших городской театр и арендовавших другие площадки.
Короленко досталось от предшественника, не бравшего с антрепренеров расписок, нелегкое «наследство». Один из должников, у которого были в городе гостиница и ресторан, отказывался платить Обществу, и тяжба с ним, дошедшая до судебных инстанций, тянулась долго. Другой не хотел давать обязательную подписку, обещал отчислять деньги без таковой, но лукавил, не предъявлял афиши, избегал встреч с агентом и т. д.
Личность Короленко, известного своим заступничеством за многая и многих, проявилась в переписке с Обществом не прокурорскими интонациями, а адвокатскими, хотя по сути своих обязанностей ему вменялось требовать, но не заступаться, не жалеть и не сочувствовать. В 1894 году он увещевал Кондратьева не взыскивать с несчастной антрепренерши через суд, уладить дело миром, ибо если посадить ее в тюрьму, то это не прибавит Обществу авторитета.
Местный журналист А. А. Дробыш-Дробышевский, иногда заменявший Короленко во время его отлучек, подробно рассказывал в письмах-отчетах о лукавстве распорядителей оперными труппами. То они заявляли, что использовали либретто, переведенное не членом ОРДПиОК, но оказывалось, что назвали имя издателя нот. То никак не могли отыскать экземпляр либретто. Один и вовсе, показывая афишу «Аиды», закрывал имя переводчика рукой.
Кондратьев отвечал на эти сообщения телеграммами: получить за все оперы, за которые содержатель пытается не заплатить.
Дело дошло до того, что, явившись на квартиру к этому ловкачу, Дробыш-Дробышевский узнал, что тот якобы сошел с ума и помещен в сумасшедший дом. «Иные, впрочем, утверждают, — замечал агент в своем письме, — будто он только притворяется сумасшедшим, так как растратил залоги служащих и ему грозит уголовное преследование» (2, 812, л. 233 об.).
Но, конечно, не только этими курьезными сообщениями были наполнены отчеты нижегородских агентов за 1889 – 1894 гг. В этих двух объемных делах — списки игранных пьес, ордера на получение авторского гонорара, афиши, листы с подробными данными о репертуаре театра на Нижегородской ярмарке, в летних театрах, в городском театре. Заполненные аккуратным четким почерком Короленко и тех, кто 822 его замещал, эти документы могут дополнить сведения, сохранившиеся на страницах периодики и уже собранные исследователями.
В 1887 г. общее собрание Общества постановило выдавать агентам, безупречно прослужившим 10 лет подряд, золотые жетоны, а за 25 лет — золотые часы. Сохранился отчет, кому и когда была выдана награда (1, 251). Всего с 1887 по 1916 гг. отметили 221 агента. Из них часами — более 20 человек. Это уполномоченные из Харькова, Чернигова, Воронежа, Полтавы и других мест. Среди награжденных жетонами много агентов из небольших городов: Верный, Кобеляки, Льгов, Миргород, Моршанск, Осташков, Ромны, Рыбинск и др. В переписке по поводу наградных золотых жетонов и часов встречаются различные трагикомические моменты. Известный своими безвкусными претензиями антрепренер Н. Т. Филипповский уверял секретаря Общества И. М. Кондратьева, что ему тоже положена награда, ибо от него пользы больше, чем от агента.
Зубной врач М. Д. Тартаковский из Кременчуга не сомневался, что за 15 лет службы агентом он достоин даже не жетона, а часов, так как сменил на этом посту отца, бывшего агентом 10 лет. Следовательно, их общий срок службы Обществу — четверть века.
* * *
В материалах фонда 2097, как доказывает даже просмотренная часть этого огромного комплекса, важно все, в том числе финансовые документы. Например, кассовые книги раскрывали денежные поступления от агентов. Так, данные за 1898 г. (2, 2583) позволяют систематизировать города по размеру поспектакльного отчисления в пользу Общества.
В одних местах оно было невелико — от 2 до 20 рублей в месяц: Аккерман, Ардатов, Белев, Белосток, Вытегра, Вязники, Гурьев, Данилов, Дербент, Енисейск, Ковров, Липецк, Лоховица, Макарьев, Мариуполь, Обоянь, Опочка, Павлоград, Пинск, Режица, Ржев, Сергиевск, Солигалич, Тетюши, Трубчевск, Устьсысольск, Устюжна, Хотин, Череповец, Шавли, Юзовка и др.
В других эта сумма колебалась от 40 до 100 рублей в месяц: Бежецк, Бобруйск, Брянск, Владикавказ, Владимир, Вологда, Вятка, Двинск, Карачев, Кинешма, Ковно, Минск, Нарва, Новгород, Полтава, Псков, Симбирск, Тверь, Тула, Тюмень, Уральск, Уфа, Царицын, Чернигов, Чита и др.
Во многих местах отчисление превышало 100 рублей и доходило до 200: Архангельск, Бердичев, Витебск, Владивосток, Воронеж, Иркутск, Курск, Николаев, Омск, Орел, Оренбург, Рязань, Симбирск, Хабаровск, Ярославль и др.
Наконец, к этому времени окончательно сформировалась группа российских городов, крупных театральных центров, где поспектакльная плата за месяц в пользу Общества измерялась суммой от 200 рублей и выше.
Около 500 рублей составляли отчисления в Варшаве, Казани, Нижнем Новгороде, Томске, Перми и др.
В таких городах, как Ростов-на-Дону, Харьков, Киев, Одесса, сумма отчислений превосходила 1000 рублей за месяц.
Агент в таких центрах собирал авторские со всех трупп, игравших в городе в течение года. Например, весной 1895 г. киевский агент получил авторские за спектакли 823 в Городском театре, в театре Соловцова, в Военном Собрании, где играли любители, в зале Людвиковского. Харьковский агент присылал в Москву сведения о спектаклях, шедших в цирке Никитина, в Драматическом театре, в Оперном театре, в Летнем театре Коммерческого клуба (2, 2454).
В летние месяцы число сценических подмостков возрастало, особенно в столице и ее окрестностях. В одном из ордеров названы следующие места: Балаган Малафеева, Благородное собрание, Василеостровское общественное собрание, Гатчинское общественное собрание, Драматический кружок, зал Павловой, Манеж, Озерки, Русское купеческое общество, театр Неметти, Царское Село и др.
Так как данные фиксировались помесячно, то можно установить, был ли успешным сезон для конкретной труппы. Зная по другим документам фонда 2097 фамилию антрепренера и репертуар в конкретный сезон, можно понять, насколько доход зависел от состава труппы, от вкусов городской и дачной публики, от сыгранных пьес.
Еще один финансовый документ — расчетные листы на выдачу авторских гонораров. В них представляют интерес не только цифры, но подлинники писем членов Общества, доверяющих кому-то получить свои авторские. В частности, сохранилось письмо М. Горького от января 1904 г. с просьбой выдать причитающиеся ему деньги З. А. Пешкову (2, 2225). В этой же единице хранения — письмо А. П. Чехова, посланное Кондратьеву 20 января 1904 г. с просьбой выдать его гонорар А. Л. Вишневскому.
В другой папке среди прочих хранится расписка С. В. Рахманинова в получении 61 руб. 20 коп. (2, 2295).
В отдельное дело собраны расписки драматургов за 1875 – 1900 гг. Здесь автографы А. Н. Островского, Н. А. Лейкина, Н. Я. Соловьева, В. П. Буренина, В. А. Крылова, И. В. Шпажинского, М. В. Лентовского, П. Д. Боборыкина, П. М. Невежина, В. А. Тихонова, Вл. И. Немировича-Данченко и др.
Много автографов есть в других делах. Например, М. Л. Кропивницкого, А. И. Сумбатова-Южина, И. Л. Леонтьева (Щеглова), Н. И. Тимковского, Р. З. Чинарова (2, 2189, 2, 2190) и др.
К расчетным листам, как правило, подклеены или приложены квитанции Московского почтамта, свидетельствующие о том, когда, куда, кому и сколько было выслано авторских денег (2, 2187). На самих листах пометки секретаря и казначея, сколько взято в погашение аванса, сколько за пересылку. На некоторых указано, что сумма предназначена наследникам члена ОРДПиОК.
* * *
Любое, не столь частое сегодня в театроведении, обращение к истории ОРДПиОК не обходится без упоминания имен таких ее членов, как А. Н. Островский, Н. С. Лесков, И. С. Тургенев, В. С. Курочкин, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. А. Некрасов, А. Ф. Писемский, А. Н. Плещеев, Д. В. Григорович, П. И. Чайковский.
Кто мог стать членом Общества? В соответствии с Уставом 1874 г. — каждый, кто представлял список сочиненных или переведенных им пьес и уплатил первичный взнос в размере 15 рублей.
П. М. Невежин воспроизвел в своих воспоминаниях горькую шутку Островского: «У нас кто теперь членом? Кому только захочется. Идут, например, два гимназиста, 824 оба в веселом настроении духа. Одному и приходит мысль в голову: “А что, Жан, не сделаться ли нам драматическими писателями?” — “Поль, это идея. Давай переведем совместно какой-нибудь водевиль и при посредстве Ивана Ивановича поставим его на какой-нибудь сцене”. — “А как же расходы?” — “Ты покупай чернил, бумаги, перья и словарь, а я книжку; членские взносы мы упросим сделать тетушку Клавдию Ивановну”. — “Чудно, Поль, ты гениален”; и вот появляются в Обществе два новых члена, которые об этом событии оповещают миру на своих визитных карточках»19.
В Уставе 1891 г. уже было уточнено, что членом ОРДПиОК мог стать сочинитель, «если его произведение было исполнено на какой-либо сцене, с публичной продажей билетов, чему должно быть представлено доказательство, или <…> если он представит Комитету надлежащее свидетельство, что пьеса его дозволена к представлению драматическою цензурою»20.
В фонде 2097 сохранились собственноручно написанные прошения П. В. Засодимского (1, 47), Д. В. Григоровича (1, 45), А. Ф. Кони (1, 82), Д. В. Аверкиева (1, 82), А. П. Чехова (1, 37) и др.
По документам, связанным со вступлением в Общество, можно уточнить сведения о должности, чине и местожительстве драматурга на момент подачи заявления, выверить названия его пьес, дату вступления или выхода из Общества, а также, например, данные о том, кто становился сочинителем пьес. Это актеры, отставные военные, чиновники, адвокаты, врачи. Женщины, не имевшие профессии, указывали в заявлениях, чьи они жены или дочери: дворянина такого-то, судебного следователя, надворного советника и т. п.
Подавая заявление, некоторые авторы предъявляли афиши, прилагали отзывы критиков, поэтому в делах много газетных вырезок.
Выполняя требование Устава, драматурги сообщали секретарю о своих новых сочинениях, прошедших цензуру, чтобы они попали в каталог пьес, написанных членами Общества. Эти сведения были необходимы, в том числе и агентам.
Н. А. Кропачев вспоминал: «По мере того как год от года плодилось Общество, собрания его делались всё шумнее. <…> Тут были, например, такие субъекты, которые и пера-то в руки не брали: для них писали другие из меркантильных расчетов. Были писавшие вдвоем одноактную оригинальную пьесу, и та с конфузом проваливалась. Были переводившие вдвоем пьесу. Были разные либреттисты и авторы таких пьес, которые не ставились, а лишь объявлены были в афишах, и этого было достаточно, чтобы сделаться членом Общества драматических писателей. Однако все они имели право голоса и при случае могли нашуметь в собраниях больше других <…>»21.
По Уставу 1874 г. право голоса имел каждый член Общества. Большинство получало мизерный гонорар, но ценило возможность участвовать в собраниях, влиять на решения коллег.
В 1883 г. К. А. Тарновский поставил на собрании вопрос о введении ценза, т. е. критерия, который определял бы, кто имеет право голоса на собраниях, а кто остается всего лишь членом Общества, которое защищает его право на авторский гонорар и обеспечивает получение оного. Это предложение вызвало споры, согласие одних и недовольство других. Зашла речь об изменении устава.
825 Вопросы о цензе и об отчислениях из авторского гонорара в пользу секретаря и казначея много раз взрывали рутинное течение жизни Общества.
В такие моменты особенно обострялись нравы, свойственные творческой среде, в которой зависть, обиды, ущемленное самолюбие, необоснованные амбиции, злословие порой трудно отличить от праведного гнева, чувства справедливости, бескорыстного беспокойства за общее дело.
Один из казусов случился в 1885 году при выборах председателя Общества, когда право голоса еще имели все члены. После единогласного открытого голосования за Островского один из участников скрытой оппозиции, П. И. Кичеев, заявил, что надо сменить председателя. На что, как вспоминали современники, «с невозмутимым спокойствием Александр Николаевич предложил собранию выбрать председателя закрытой баллотировкой»22.
Она состоялась. Кичеева не поддержала даже его «партия». Островский был избран вновь. Со слов современников известно, что Кичеев подошел к Островскому после второго голосования и сказал: «Александр Николаевич, я нарочно это сделал, чтоб убедиться, каким вы пользуетесь почтением. Вы победили»23.
Чего стоили Островскому такие «победы», само председательство в Обществе в самые трудные годы его становления и как все это сказывалось на отзывах о его сочинениях, он сам однажды признался П. М. Невежину: «От ругани не избавится ни один драматург <…>. Зависть всюду кишит, а в таких случаях она принимает гигантские размеры; нередко друзья перестают быть друзьями и начинают смотреть на драматурга как на человека, которому везет не по заслугам»24.
Численность Общества возрастала год от года. Через 15 лет после начала его деятельности, т. е. в 1889 году, оно насчитывало 426 человек, через четверть века, в 1899 году, в нем уже 684 члена. Через 30 лет, в 1909 году, — 908 человек.
Такое обилие сочинителей, пишущих пьесы, вызывало порой иронические пассажи журналистов, театральных критиков и самих драматургов.
Однажды В. П. Буренин с деланным изумлением иронизировал по поводу того, что каждый месяц цензура разрешает свыше 60 пьес. И объяснял технику многописания драмоделов: они перелицовывают и крадут чужое, растягивают одноактную пьесу и превращают в большую. Самый плодовитый из таких умельцев — это В. А. Крылов25.
Известно, что Островский, узнав о новой пьесе Крылова, спрашивал: «У кого стяжал?» Сам умелец уверял окружающих, что «переделка не перевод, а тоже своего рода творчество. <…> Лучше хорошо переделать пьесу, чем написать скверно оригинальную»26.
Однако и для авторов с несомненным драматургическим даром, и для бойких сочинителей, набивших руку на переделках, на переводах, и для ремесленников, постигших нехитрые секреты делания «хлебных» пьес, успешных у массового зрителя, существование Общества было весьма желательно.
Как менялось материальное положение членов Общества, можно представить по гонорарным документам, по многолетней переписке с правлением Общества многих известных на рубеже XIX и XX столетий авторов, таких как П. П. Гнедич, Е. П. Гославский, Д. А. Мансфельд, Э. Э. Матерн, Н. А. Потехин, Н. А. Хлопов, Т. Л. Щепкина-Куперник и др. Письма Чехова, например, позволяют проследить, что значило в его жизни членство в Обществе (2, 674).
826 Постановки в провинции кормили многих драматургов. Они предпочитали получать пусть малый, но длительный доход от Общества, нежели продавать пьесу в собственность Императорских театров, где с 1882 г. действовало новое положение. Если пьеса передавалась с исключительным правом, то ее нельзя было уже ставить на частных столичных сценах без разрешения Дирекции императорских театров.
* * *
Ключевой документ в фонде 2097 — гонорарные книги. Они заполнялись писцами или делопроизводителями, которые не всегда утруждали себя полным написанием названия города и пьесы, не все из них обладали четким почерком и аккуратностью. К тому же агенты, присылая отчеты, включали в них данные о спектаклях прошлых лет, так как антрепренер мог уплатить авторские спустя годы. Эти запоздалые сведения вклинивались в текущую отчетность.
Но дела по начислению и выдаче авторского гонорара в Обществе велись так, что искомые сведения можно перепроверить. Дата и название заносились в гонорарные книги, отражавшие ежемесячную и ежегодную хронику постановок в городах, селах, на фабриках, заводах, в станицах, на станциях, в дачных местах под Москвой и Петербургом, Киевом и Одессой, Пермью и др. Но этот же факт отражен и в гонорарных книгах, где главной фигурой был автор и сообщалось о постановках его пьес в разных российских городах в текущем году.
Сведения дублировались в расчетных листах, выдаваемых или посылаемых авторам. Вместе взятые, они восстанавливают бытование сочинений того или иного драматурга на российских подмостках. Картину нельзя будет назвать абсолютно точной, так как какие-то факты, по вине агента, небрежности писца или из-за утраты материалов Общества, не войдут в общую сводку. Тем не менее она, несомненно, выявляет динамику и закономерности освоения российским театром творчества данного автора.
Однако и это еще не весь потенциал упомянутых документов. В гонорарных книгах имеется множество сведений, отразивших такое явление российской театральной жизни, как заводской и фабричный театр на рубеже XIX и XX столетий.
В книгах зафиксированы спектакли, шедшие, например, в 1898 г. в Перми и на многочисленных промышленных предприятиях вокруг этого города (2, 1982; 2, 1985).
В фонде Общества можно отыскать, в частности, репертуар театра при фабрике Алексеева (золотоканительная фабрика Товарищества Вл. Алексеева, та самая, где продолжал семейное дело К. С. Станиславский).
Такие же интересные сведения есть в архиве Общества о народном театре. Так, гонорарные книги сохранили данные о репертуаре Ямского народного театра в Петербурге (2, 1985).
Не исключено, что в некоторых случаях архив Общества — единственный источник для реконструкции театральной жизни маленьких городов России в последнюю четверть XIX столетия. В нем содержатся не только имена давно забытых драматургов, но десятки фамилий безвестных антрепренеров и распорядителей трупп, колесивших по просторам огромной империи.
827 В отличие от удачливых и талантливых собратьев по ремеслу, таких как М. М. Бородай, А. Н. Дюкова, Ф. А. Корш, П. М. Медведев, К. Н. Незлобин, Н. Н. Синельников, Н. И. Собольщиков-Самарин, Н. Н. Соловцов, привлекавших внимание отечественных историков театра27, о других остались только упоминания на страницах провинциальной печати тех лет и в делах Общества (2, 1735).
В огромном потоке пьес, запечатленном гонорарными книгами, отраженном также отчетами агентов, может быть, отыщутся пьесы, которые по каким-то причинам не вошли ни в печатные каталоги пьес членов ОРДПиОК за разные годы и дополнения к этим каталогам28, ни в замечательную картотеку Центральной научной библиотеки Союза театральных деятелей России, вобравшую великое множество персоналий.
Гонорарные книги ОРДПиОК позволяют выявить, какие пьесы и каких авторов ставили в российской провинции чаще всего на рубеже веков. То, что надо извлекать из газет, журналов конца XIX – начала XX вв., здесь собрано усилиями агентов Общества. Сведения, сохраненные гонорарными книгами, дополняют и уточняют материалы, освещающие деятельность различных кружков, обществ в начале XX в.
Среди многих других в них упомянут, например, театр Общества торговых служащих в Москве. Свой театр с площадками в Сокольниках и в Петровском парке имело Московское общество содействия устройству общеобразовательных народных развлечений.
В материалах есть сведения о театрах Общества трезвости в различных районах Москвы, о театре при Латышском обществе. В тех же единицах хранения упоминаются в связи с театральными постановками Общество взаимопомощи торговых служащих и Московское столичное попечительство о народной трезвости, имевшее площадки в народных домах.
В одной из единиц хранения оказался печатный бланк обязательства, даваемого объединениями и кружками, имевшими при себе театр.
Помимо обязательства платить за представления, испрашивать у Общества разрешение, доставлять афиши, в нем упомянуто обязательство предоставлять безвозмездно Кондратьеву или тому, кого он пошлет за себя, «постоянное место в зрительной зале театра не далее 2 ряда от сцены в партере, выдав на это надлежащий постоянный билет» (2, 738, л. 12).
А вот «за несоблюдение условий сей подписки он, г. Кондратьев, имеет право воспретить во всякое время и всяким способом, каким он, Кондратьев, признает удобным, представление пьес членов означенного Общества в театре», имеет право взыскать по суду, вдвое против условленной платы; «с получения же запрещения дальнейшее представление <…> должно почитаться контрафакцией представления, а со стороны Общества — может быть преследуемо по ст. 1684 Уложения о наказаниях со всеми гражданскими последствиями, вытекающими из этой статьи» (2, 738, л. 12, 12 об.).
В фонде 2097 сохранились, например, данные о репертуаре театра Вспомогательного общества купеческих приказчиков за 1908 – 1915 гг. По своему уставу это Общество могло поставить только 4 спектакля в год, т. е. своими любительскими силами. Остальные спектакли — посторонние. Репертуар определялся в том числе малыми размерами зала и вкусами публики. Больших пьес немного: 828 А. Н. Островского, А. В. Сухово-Кобылина. Все остальное — водевили, фарсы, комедии. Оригинальные, но чаще переведенные, переделанные, заимствовавшие сюжет, написанные давным-давно и сочиненные на злобу дня либо авторами, набившими руку в производстве драматических поделок, либо только пробовавшими приобщиться к выгодному занятию.
Такая же пестрая смесь отразилась в материалах Взаимно-вспомогательного общества ремесленников (Москва) за 1905 – 1907 г. Любители играли всё те же фарсы, комедии, пародии. И среди всего этого пьесы А. Н. Островского, А. В. Сухово-Кобылина, Н. В. Гоголя (2, 737).
Намерения у многочисленных обществ, как положено, были самые благие. Например, учредители Киевского общества искусства и литературы заявляли, что их объединение «имеет целью содействовать развитию изящных вкусов и распространению среди своих членов познания в области искусств и литературы. <…> Никаких прибылей при этом Общество не ищет» и ставит исключительно просветительские задачи, посему просит ОРДПиОК брать с них только по 1 рублю за акт (2, 472).
Общество гарантировало своим членам защиту авторских прав. Оно информировало антрепренеров и содержателей театров об авторском праве не только через агентов. Часто в оглавлении книг, в которые входили драматические сочинения, печаталось примечание: «Разрешение постановки на сцену вышеозначенных пьес зависит от местных агентов “Общества русских драматических писателей и оперных композиторов”; у них же имеются и сведения о цензурном дозволении этих пьес к представлению по списку, печатаемому в “Правительственном вестнике”»29.
О взыскании за нарушение авторских прав напоминали публикации в газетах. Так, «Нижегородский листок» (1896. № 258. 18 сент.) сообщал, что с 1 мая текущего года агентом ОРДПиОК получено в Нижнем Новгороде 7 500 рублей авторского гонорара, а за недополученное и взыскиваемое через суд — до 650 рублей, и эта сумма, по условиям Общества, удваивается.
Судебные иски вели по доверенности Общества в разные годы В. И. Родиславский, Н. В. Аристов, В. А. Александров, Ф. Н. Плевако, Н. В. Юнгфер и др.
В фонде Общества есть отдельное дело, в котором сосредоточены исполнительные листы, повестки об удержании денежных средств, переписка с окружным судом за 1894 – 1898 гг., письма в Правление
ОРДПиОК от судебных приставов.
Особая статья — письма кредиторов, которые могли взыскать долг с наследников покойного члена Общества или со здравствующего драматурга только путем получения авторского гонорара оных. Так, например, не один год тянулось такое взыскание с наследников Л. Н. Антропова, которым полагались авторские за постановки его пьес «Блуждающие огни» и «Ванька-ключник» (1, 122).
Иногда завязывалось кляузное дело по чьему-то навету или по жалобам членов Общества на плагиат.
В 1908 г. Л. Л. Пальмский и И. Г. Ярон просили исключить из ОРДПиОК А. Э. Блюменталь-Тамарина, выдававшего их перевод оперетты «Максимисты» за свою оригинальную переделку. Пальмский с обидой и запальчивостью писал 8 февраля 1908 г. в Комитет, что «экспроприации в область чужого труда в нашем Обществе в последнее время приняли эпидемический характер и необходимо раз навсегда положить этому конец» (1, 166, л. 29 об.).
829 «Экспроприации» совершались всегда, особенно среди переводчиков и специалистов по переделке сочинений зарубежных авторов. Россия не подписывала долгие годы международную конвенцию об авторском праве. Европейские издатели печатали произведения российских писателей, не помышляя об авторских. Переводчики запасались разрешением автора, если заботились о своем реноме, но с сожалением сообщали, что гонорара сочинитель не получит. Авторские платили в исключительных случаях, по личной инициативе переводчика.
Когда М.-Д. Рош, получив осенью 1897 г. гонорар за перевод повести «Мужики», помещенный во французском журнале «La Quinzaine», послал половину Чехову, тот ответил из Ниццы: «Что касается присланных Вами денег, то я написал домой, чтобы их сохранили, как драгоценность. Для меня они дороже 111 франков, и я постараюсь израсходовать их на какое-нибудь дело, симпатичное для нас обоих. Благодарю Вас от всей души»30.
Действительно, днем ранее и в шутку и всерьез Чехов написал сестре в Россию, в Мелихово: «Деньги <…> полученные из Парижа, положи на мою книжку, на вечные времена, так как это редкие и весьма ценные деньги»31.
Из-за неподписанной конвенции случаи плагиата, пиратства, беззастенчивого заимствования сюжетов из зарубежных пьес, либретто были повсеместны среди российских драматургов. Десятки «мастеров» промышляли таким образом, не опасаясь возмездия.
В упомянутом деле об охране авторских прав хранится письмо А. А. Вербицкой от 9 августа 1913 г. о переделке ее популярного романа «Ключи от счастья». Несмотря на ее протесты в печати, она не была снята со сцены. Она обращалась в Комитет с просьбой защитить ее авторские права, наложить арест на гонорар авторов, оповестить антрепренеров о запрете на любые переделки как этого, так и других ее романов.
Ответ был таков: «В силу I ст. Устава Общества, оно может охранять только одно из принадлежащих авторам прав — право разрешать публичное представление их произведений; все остальные права, в том числе и право переделок повествовательных произведений в драматическую форму может охранять только автор» (1, 166, л. 129, 129 об.).
* * *
Некоторые материалы, хранящиеся в фонде 2097, имеют, казалось бы, косвенное отношение к творческой деятельности членов ОРДПиОК. Однако в них, например в выписках из журналов заседаний Комитета (1892 – 1908), есть сведения, важные для биографа, для историка.
Это записи о том, кому выдавались пособия на лечение, на оплату обучения детей в гимназии, «по случаю нужды», «в виду крайней бедности». Или просьбы наследников (установление доли и порядок получения авторских вдовами, детьми, братьями и сестрами). Среди прочих упоминаются «внука» (внучка) актера И. А. Дмитриевского, вдова и дочь Островского (2, 1741).
В Комитет писали забытые всеми, опустившиеся, больные литераторы, актеры, антрепренеры. Строчили слезницы родственники, взывавшие к милосердию и напоминавшие о заслугах своих покойных родных перед театром и Обществом (1, 90).
830 Иногда Комитет делал пожертвования. То 1000 рублей на убежище в селе Михайловское в связи со 100-летием со дня рождения А. С. Пушкина. То в 1911 г. — 200 рублей на устройство в Чембаре народного дома имени В. Г. Белинского. То 100 рублей в том же году на памятник И. А. Гончарову. То 200 рублей на библиотеку-читальню имени А. Н. Плещеева. В 1896 г. общее собрание решило выделить 1000 рублей на стипендию в убежище престарелых артистов (2, 1741).
В 1884 г. к Кондратьеву обратился Н. С. Лесков. Он обещал литератору С. И. Турбину, когда тот находился на смертном одре, помочь вдове. Она стара, глуха, немощна. Путем долгих хлопот и прошений удалось поместить ее в богадельню. Пенсия за мужа — 17 рублей. Из них она должна 10 рублей каждый месяц отдавать богадельне.
Лесков спрашивал, полагается ли ей хоть какая-то малость из авторских, и есть ли эти деньги. Он долго не оставлял своей опеки и время от времени напоминал секретарю о Турбиной. И лишь изредка интересовался, полагается ли ему что-нибудь за пьесу «Расточитель» (1, 15).
Общество учредило в 1900 г. свои именные стипендии — А. Н. Островского и А. С. Пушкина. Предназначались они на оплату за учебу в Московском университете. Давали стипендию по преимуществу детям членов ОРДПиОК, русским подданным православного вероисповедания, без различия званий и факультетов, недостаточным студентам (1, 165).
Была учреждена стипендия имени Н. В. Гоголя, выдававшаяся сыновьям членов Общества, также русским подданным православного вероисповедания «на оплату учебы без всяких обязательств со стороны стипендиата, и если он по уважительным причинам остался на 2-й год, все равно платить» (1, 167).
В материалах о наследниках членов Общества хранятся записка Вл. И. Немировича-Данченко и письмо Е. П. Карпова от 1916 г. в связи с платой за обучение в гимназии сына покойного Б. Ф. Гейера (1, 167). Так как студенческие и гимназические стипендии выдавались «по освобождению», то, несмотря на уточнение Карпова, что Гейер был русский подданный и православный, и на просьбу Немировича помочь сыну талантливого драматурга, решение Комитета, сообщенное Кондратьевым, было следующее: зачислить мальчика кандидатом на стипендию, которая освободится в 1917 г. В том самом году, когда у ОРДПиОК будет конфискован основной капитал.
Неизвестные подробности из жизни многих российских драматургов хранит их переписка с секретарем Общества об авансах. Звание «короля авансов» современники присвоили И. Н. Потапенко. Его любовные увлечения и страсть к азартным играм стоили ему больших денег. Это обстоятельство объясняет многописанье Потапенко. Он то и дело просил сообщить, нет ли для него какой-нибудь суммы за постановки пьес: «Я собираю деньги, где только возможно» (1, 32, л. 1). Из российских городов, из-за границы доносили письма его просьбу: «Нужны деньги».
Его простосердечное лукавство и спасительное мошенничество в письмах в Общество приоткрывают уловки, на которые шли задолжавшие сочинители.
Потапенко, чтобы отделаться от кредиторов и взять новый аванс, предложил Кондратьеву в 1910 г. действовать по нехитрой схеме: он, автор, передает по дарственной 831 свое авторское право на некий срок другому лицу, которое, в свою очередь, вступает в Общество.
Эта идея возникла у Потапенко потому, что долговые обязательства неунывающего жуира уже рассматривались в судебном порядке, и ему грозил арест на имущество и на доходы.
В этой истории интересны не только Потапенко и его попытка обмануть кредиторов, но фигура «вечного» секретаря Общества И. М. Кондратьева. Служащий канцелярии московского генерал-губернатора он совмещал чиновничью карьеру, дававшую ему повышение, чины, награды, с работой в ОРДПиОК, где был сначала письмоводителем, потом стал московским агентом, а в 1884 г. секретарем Общества и таковым оставался несколько десятилетий. По казенному ведомству он дослужился до тайного советника и обращения «ваше превосходительство», а в Обществе превратился в едва ли не самую значимую фигуру, влиятельную и непоколебимую.
Кондратьев был известен и признан в театральных кругах, среди драматургов, антрепренеров, устроителей любительских спектаклей в Москве и Петербурге, содержателей провинциальных театров, не как драматург, каковым и не был, а как главное лицо в ОРДПиОК. Но это могущество вызывало протест у части членов Общества, приведший в 1889 г. к первому «бунту» в ОРДПиОК.
Возник он не стихийно, не вдруг, а назревал давно. Если в юбилейном отчете просто замечено, что общее собрание, состоявшееся 10 апреля 1889 г., было многочисленным и бурным32, то в московской и петербургской прессе, в письмах современников оно отразилось куда полнее и конкретнее.
В соответствии с правилами сначала, 26 марта, в Петербурге, на предварительном собрании столичных членов Общества, были обсуждены доклад Комитета о деятельности ОРДПиОК в 1888 г. и отчет ревизионной комиссии, которая, по словам газетного корреспондента, «нашла все документы и капиталы в исправности»33. Однако заметила мелкие траты на какие-то неведомые указатели, на выписку газеты и т. п. Собрание постановило просить ревизионную комиссию заняться урегулированием расходов Общества.
Петербуржцы выдвинули кандидатом на пост председателя Общества П. Д. Боборыкина, а в члены Комитета — А. П. Чехова и В. А. Александрова34.
Собрание в Москве началось 10 апреля в 7 часов вечера и закончилось почти на рассвете. Одна из московских газет отозвалась на это событие кратким откликом. В корреспонденции были упомянуты некоторые моменты: спор, что раньше обсуждать — отчет или кандидатуры в председатели и Комитет; полемика вокруг юбилейных дат и Грибоедовской премии и т. д. Автор заметки отказался передавать прения, «настолько эти “речи” были неуместны на общем собрании лиц, принадлежащих к интеллигенции»35.
Другая московская газета тоже ограничилась общими сведениями, заметив по поводу избранного председателя А. А. Майкова, что поначалу он отказывался от поста, однако потом уступил просьбам присутствующих, но аплодисменты раздались не в его адрес, а в адрес П. Д. Боборыкина, не набравшего большинства голосов, к сожалению многих членов Общества36.
На следующий день та же газета изложила ход собрания подробнее.
832 Даже по этому газетному отклику понятно, какая шумная, нервозная обстановка сложилась на собрании. Скандальные препирательства следовали одно за другим, и всё под соусом пафосных возгласов об интеллигентности, этике, чести, достоинстве.
С шумом обсуждали факты прошлогоднего собрания об оскорблении одного члена другим, об отказе председателя того собрания А. А. Майкова дать слово Д. А. Линеву.
Именно Линев наконец произнес то, что уже многие годы волновало драматургов, обсуждалось во время их встреч, упоминалось в переписке. Корреспондент рассказал: «Г-н Линев просит слова. Он указывает на “комиссионерский” характер деятельности Общества и, становясь на коммерческую почву, недоумевает по поводу крупной цифры вознаграждения секретаря и казначея».
Это был больной вопрос в деятельности ОРДПиОК.
Видимо, участники собрания выдохлись в шумных прениях, взаимных обвинениях, претензиях, и, как это часто бывает в подобных случаях, на конструктивный разговор и решение злополучных вопросов сил не осталось. Все ограничилось предложением председателя: избрать очередную комиссию и поручить ей выработку решения о переменах в уставе Общества, об уменьшении процентного вычета из авторского гонорара в пользу секретаря и казначея. В четыре часа утра собрание окончилось. Председателем Общества на текущий год избрали А. А. Майкова. Члены Комитета: А. И. Сумбатов, Вл. И. Немирович-Данченко, В. А. Александров, А. П. Чехов, И. В. Шпажинский.
* * *
Но выработка нового устава не заладилась. Уже не в первый раз мнения московской и петербургской «партий» разошлись. Столичные члены ОРДПиОК многократно возбуждали вопрос о несправедливости отчислений из авторского гонорара в пользу агентов и «канцелярии» Общества.
29 ноября 1889 г. в газете «Новое время» (№ 1941) сообщалось, что один из членов Общества предложил поставить на предстоящем общем собрании вопрос об уменьшении вознаграждения агентам (в частности, И. М. Кондратьеву, получившему в 1888 г. за свою деятельность свыше 9 000 рублей), до 3 % вместо теперешних 10 %, отчисляя остальные 7 % в капитал для выдачи пособий и пенсий.
В самом начале декабря 1889 г. петербуржцы обсудили на своем собрании предложение о пересмотре устава и правил присуждения Грибоедовской премии. 23 декабря Комитет Общества постановил провести экстренное собрание членов ОРДПиОК.
Экстренное собрание состоялось 20 января 1890 г. Опять распри, особые мнения, письма петербуржцев в Комитет и одновременно отказ обсуждать совместно больные вопросы.
Был утвержден состав комиссии, которой поручалось исследовать и дать заключение по изменениям устава и распределению поспектакльной платы между агентом, казначеем, секретарем, автором и Обществом.
Но на заседании этой комиссии 26 марта 1890 г. вопрос о вычетах отложили, предусмотрев его решение в ходе подготовки нового устава.
833 Это было если не поражение, то отступление перед «канцелярией». Однако впервые, кажется, заветные, тщательно скрываемые цифры вознаграждения казначею и секретарю Общества оказались достоянием прессы.
Журналист и драматург А. Д. Курепин, хорошо осведомленный о делах в Обществе и Комитете, посвятил решению комиссии свой очередной «московский фельетон» в газете «Новое время». Посылая его в редакцию, он написал А. С. Суворину 28 марта 1890 г.: «Сумбатов говорил, что вы обещали свою поддержку “партии реформ” в драматическом Обществе. Теперь я пишу об этом в фельетоне: помогите, то есть пропустите! Возмутительно то давление, которое оказывает на Общество секретарь Кондратьев, пользуясь своей близостью к канцелярии генерал-губернатора»37.
Фельетон появился 31 марта. Курепин писал: «Как вам известно, большинство членов уже давненько стало сомневаться в нормальности нынешнего вычета из авторских доходов на издержки по делопроизводству и агентскому сбору. <…> Вопрос казался таким жгучим, что <…> комиссии поручено покончить с ним обязательно к предстоящему собранию».
Комиссия нашла, что работа администрации «настолько велика и сложна, что требует большой опытности, внимания и притом громадного механического труда». И оставила все как есть.
Между тем, по мнению Курепина, история выплат и вознаграждений в ОРДПиОК давно требовала критического взгляда, ибо треть всего дохода, включая расходы на канцелярские нужды, уходила на администрацию.
На ежегодном общем собрании в Москве, которое состоялось 14 апреля 1890 г., все повторилось. Собрание проходило в низкой душной комнате в Училище живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой. Началось в 8 вечера, закончилось в 4 часа утра. Московские газеты поместили подробный отчет об этой опять бурной, многочасовой, многоголосой встрече сочинителей драм, водевилей, фарсов и т. п.
Одна из газет опубликовала остроумный анонимный рассказ об этом «потешном собрании»: «Нигде, кажется, не бывает такого обилия прений, как на собраниях Общества драматических писателей. Говорят все, говорят запоем, говорят до хрипоты, а особенно драматические писатели из адвокатов, а таковых довольно много. Шум во время всего заседания был невообразимый, перед ним падали ниц шумные заседания шумливых мещан и ремесленников <…>»38.
Председателем Общества на этот раз избрали И. В. Шпажинского, который оставался на этом посту много лет и, как вспоминал Вл. И. Немирович-Данченко, «был простой фикцией, находился под влиянием секретаря, боялся, что тот будет мстить, пользуясь генерал-губернаторским аппаратом»39.
И все-таки усилия комитета и двух общих собраний в 1889 – 1890 гг. не пропали даром. Они не привели к смене казначея и секретаря, но подвигли к пересмотру устава. Новый устав был утвержден 7 марта 1891 г. Некоторые пункты получили иную редакцию, некоторые статьи уточнились.
Что же касается тех вопросов, вокруг которых бушевали страсти, то отныне право голоса на общих собраниях имели только действительные члены Общества. К таковым относились:
834 1) учредители Общества (в частности, казначей А. А. Майков);
2) те, кто был председателем Общества или членом Комитета два срока подряд;
3) те, кто получал авторские в течение последних трех лет не менее 300 рублей в год в общей сложности;
4) лица, оказавшие Обществу особые заслуги.
Это был тот самый ценз, о котором давно говорили в Обществе и продолжали спорить много лет спустя.
Отныне членов Комитета избирали на три года. Было решено изменить проценты вычетов в пользу Общества. Если в 1874 г. вычитали 30 % из авторских за оригинальные пьесы и 45 % из гонорара за переводные, а в 1884 г. эти цифры уменьшились до 25 % и 40 % соответственно, то теперь, с 1891 г., они составили 20 % и 35 %.
20 % из поспектакльной платы за оригинальные пьесы делились следующим образом: 10 % — в пользу агентов; 10 % суммарно в пользу секретаря и казначея (2 1/2 казначею; 7 1/2 секретарю и на содержание писцов), 35 % из платы за переводные пьесы распределялись так: 20 % суммарно в пользу агентов и канцелярии; 15 % направлялись в оборотный капитал40.
* * *
Спорные вопросы худо ли бедно, но были решены. Началась более или менее тихая полоса в жизни Общества. Агентура бесперебойно поставляла в Москву авторские гонорары. Пресса порой освещала деятельность ОРДПиОК.
Однако ни спокойствия, ни согласия в рядах Общества по-прежнему не было. В 1897 г. в столичном журнале «Театр и искусство» появилась анонимная заметка, отличавшаяся раздраженным тоном и радикализмом. Автор, остановившись главным образом на коммерческой сути ОРДПиОК, утверждал, что это «обыкновенное комиссионное бюро». Он ставил в вину Обществу, что при нем нет ни своего театра, ни печатного органа, ни собственных изданий, что оно не завязывает отношений с иностранными авторами и вообще «дурно и фальшиво организовано», и состоять в нем — невыгодно.
По мнению автора, «нельзя вводить в организацию литературного союза коммерческие начала и доводить эти акционерные начала до смешного». Была раскритикована деятельность С. Ф. Рассохина по изданию пьес членов Общества (некачественно издаются и дорого продаются). В заметке утверждалось, что ОРДПиОК «нуждается в коренной реформе»41.
Столичный журнал «Театр и искусство» явно становился прибежищем оппозиции, состоявшей из части петербургской группы Общества.
В 1898 году в этом журнале было опубликовано «письмо в редакцию» за подписью: Член «Общества русских драматических писателей и композиторов». Это был кто-то из петербургских драматургов, давно недовольных делами Общества и претендовавших на более заметную и влиятельную роль в ОРДПиОК (возможно, В. В. Билибин). Автор письма бранил устав — за ценз; систему отчислений — за несправедливость; правление — за узурпацию руководства Обществом; секретаря — за непомерно высокое, «не меньше любого директора банка», вознаграждение.
Кончалось письмо открытым призывом: «Мы хотим обходиться без комиссионеров, мы хотим Общества, построенного на началах справедливости и взаимных 835 выгод. Я думаю, что это не так трудно устроить. Всем сочувствующим нашему начинанию следует обратиться хотя бы в редакцию “Театра и искусства”, столковаться — и с Божьей помощью приняться за дело»42.
ОРДПиОК, детищу А. Н. Островского, задуманному им с благими намерениями, грозила участь объединений, распавшихся из-за расхождений членов в понимании целей, а также извечной склонности российских образованных людей к тому, что Чехов с иронией назвал «сладостями» их жизни: уличению в ошибках; язвительным обвинениям; бесплодным прениям и рисовке друг перед другом своей смелостью и вместе с тем неспособности, как в истории ОРДПиОК, переизбрать секретаря и казначея, выработать правила, которые не позволили бы им получать вознаграждение, соизмеримое с окладами министров и директоров банков. Годы шли, споры продолжались, но все оставалось по-прежнему.
В 1899 г. Общество отмечало 25-летие своей деятельности. Был выпущен обзор с впечатляющими цифрами доходов. Газеты тоже сосредоточились на цифрах, невольно понуждая читателей к сравнению43. Общество прирастало новыми членами. Теперь их насчитывалось 684 человека, а ежегодный доход приближался к 200 000 рублей.
В. М. Дорошевич, рассказывая о юбилейном торжестве, проходившем в полупустом зале «Славянского базара», обрушился на само Общество и на его «головку» с едкими комментариями к докладу А. И. Сумбатова, с ироническим, хлестким обзором деятельности Общества.
Обвиняя Общество в исключительно коммерческой деятельности, Дорошевич подчеркивал, что половина дохода шла на содержание «канцелярии» и агентов. Не жалея резких слов, не раз сравнив Общество с лабазом, его верхушку — с приказчиками, съедающими половину выручки, а драматургов, получивших право голоса на общих собраниях, — с «первой драматической гильдией», в которую попадают те, кто переписывает чужие пьесы «не менее как на 300 рублёв в год», фельетонист не сказал об Обществе ни одного доброго слова44.
Обществу грозил раскол.
И он случился.
Камешком, повлекшим за собой камнепад, было дело, материалы которого хранятся в фонде 2097.
В. В. Билибин, чиновник управления почт и телеграфов, секретарь редакции юмористического журнала «Осколки», автор множества юморесок, а также одноактных комедий, популярных у любителей драматического искусства и провинциальной публики, написал в 1900 г. пародию «Новый Фауст». Он заявил ее секретарю Общества как оригинальное произведение. У кого-то из членов Общества возникло в этом сомнение.
Кондратьев послал пьесу М. П. Садовскому на экспертизу. Тот не скоро, но ответил, что сочинение имеет источником либретто оперы Гуно, но «в уста действующих лиц вложены разговоры о разных злободневных событиях, разговоры эти происходят на жаргоне фельетонов мелкой прессы и пересыпаны куплетами из опереток, цыганскими и иными романсами. В общем, произведение г. Билибина представляет собою пошлую компиляцию, в которой вся оригинальность заключается в беззастенчивости ее автора» (1, 143, л. 4).
836 Комитет 11 сентября 1900 г. постановил: считать это сочинение всего лишь переделкой и с таким определением записать в каталог пьес, написанных членами Общества.
Самолюбивый, давно настроенный против правления Общества, как многие столичные драматурги, Билибин, видимо, еще больше обиделся на Комитет.
На предварительном собрании петербургских членов ОРДПиОК в марте 1901 г. было высказано немало претензий и соображений. Среди них и предложения Билибина, как усовершенствовать работу Общества.
Московские газеты предрекали очередное бурное общее собрание, так как слухи о внутренних раздорах в Обществе уже ходили в литературных кругах обеих столиц. Говорили и писали, что некоторые драматурги вышли из Общества, а молодые не спешат примыкать, предпочитая охранять свои авторские права другими способами.
На общем собрании, состоявшемся 29 марта 1901 г., присутствовало 16 действительных членов с правом на 38 голосов (22 голоса по доверенности, это допускалось уставом). Вкупе с петербургскими голосами — всего 62 голоса. Газеты писали в последующие дни, что московская и петербургская «партии», «как и следовало ожидать», опять не сошлись по многим вопросам. Предложения Билибина тоже отклонили45.
Сомнений не оставалось: раскол неизбежен. Осенью 1901 г. в журнале «Театр и искусство» появилась статья Билибина под заголовком «Что творится в Обществе русских драматических писателей». Она начиналась утверждением, что Обществу «грозит распадение».
Бунтарь взывал: «Пора наконец сказать истину! Пора принять меры, чтобы спасти и возродить Общество русских драматических писателей!»
Билибин вспомнил шумное, но бесплодное, по его мнению, собрание 1889 г., пересмотр устава, лишивший права голоса большинство членов Общества, а половина из тех, кто имеет это право, — люди, не пишущие пьес, но входившие в разные годы в Комитет.
Автор статьи-протеста назвал ценз несправедливым, так как наряду с сочинителями одной или двух безвестных пьес не попали в число «действительных членов» такие драматурги, как А. В. Амфитеатров, П. Д. Боборыкин, В. П. Буренин, Е. П. Гославский, О. К. Нотович, А. А. Потехин и мн. др. То были имена литераторов, чьи пьесы либо сошли со сцены, либо не очень охотно ставились в провинции.
Коммерческому критерию (сумма авторского гонорара) Билибин противопоставил качественный критерий, художественные достоинства пьесы или либретто.
Но он не давал ответа на неизбежный вопрос: кто определит, талантливо данное сочинение или нет; достоин ли его автор стать «действительным членом» Общества? Критики, предпочитавшие, как то не раз случалось в истории русского театра, хорошо «сделанную» пьесу сочинению, прокладывающему новые пути в искусстве? Коллеги-драматурги, тяжело переживающие чужой успех?
Однако Билибин справедливо возмущался пунктом устава, позволявшим передавать право голоса по доверенности. В результате 14 – 17 человек голосовали за 40 – 45 человек. Этот «кворум» складывался из членов Комитета и ревизионной 837 комиссии, и, как утверждал автор статьи, «становится очевидным, что московские общие собрания состоят, в сущности, из лиц администрации Общества, которые заручаются доверенностями»46.
Прав был Билибин, утверждая, что Общество мало сделало (по словам автора статьи — «ничего не сделало») для «обеспечения престарелых и потерявших способность к труду драматургов, а также их осиротевших семейств». Действительно, суммы, выделяемые Комитетом на пенсии, стипендии, вспомоществования, пожертвования в приюты, больницы, мизерны на фоне цифр основного капитала ОРДПиОК и вознаграждений секретарю и казначею.
Досталось в статье С. Ф. Рассохину, давно отвечавшему за издательскую деятельность Общества, которая не раз вызывала нарекания и недовольство, однако оставалась в тех же руках47.
Сказав «истину», Билибин кончил призывом к членам Общества: не бежать, а бороться, являться на общие собрания, а если и передавать свой голос, то «такому члену Общества, который желает общей пользы».
В этом же номере журнала «Театр и искусство» было опубликовано заявление петербургских действительных членов ОРДПиОК, среди них: Е. П. Карпов, В. А. Тихонов, А. С. Суворин, И. Л. Леонтьев (Щеглов), К. И. Фоломеев. Они потребовали созыва экстренного общего собрания, на котором предложили рассмотреть и решить вопросы об ограничении вознаграждения секретарю (не более 7000) и казначею (положить жалованье 3000); снизить процент отчисления в пользу агентов с 10 % до 5 %; создать комиссию для рассмотрения вопроса об употреблении процента с капитала Общества на пенсии и пособия членам Общества; поставить вопрос о библиотеке, о распространении сочинений членов ОРДПиОК и т. д.
Комитет отказал в созыве собрания.
Демарш столичных литераторов вызвал появление анонимной брошюры, дозволенную цензурой 15 декабря 1901 г. Автор опровергал статью Билибина, называл ее клеветой, а истоки «ожесточения» и «болезненного настроения» сочинителя записки видел в истории с «Новым Фаустом». И возмущался: «Вместо того чтобы выразить признательность (конечно, не денежную) за громадный труд <…> и неослабную охрану авторских прав — уменьшать постепенно вознаграждение за безукоризненные заслуги перед Обществом — это противно и здравой логике и нравственной этике»48.
Это был уже не «переломный» момент в жизни Общества, как в 1889 – 1890 гг., а объявление войны. Причем противником выступила уже не группа петербургских драматургов, а Русское театральное общество.
* * *
Осенью 1901 г., вероятно поддерживая Билибина, в одной из столичных газет выступил известный журналист Н. П. Ашешов. Насмешливо назвав Кондратьева и Майкова «бессмертными», он не пожалел иронии в их адрес: «Они составляют Комитет, они вершат решительно все дела Общества, они представительствуют на юбилеях, говорят речи (?), возлагают венки, отправляют телеграммы, приводят в движение весь полицейско-судебный механизм России ради получения авторского гонорара».
838 Он тоже не удержался от колкостей по поводу «сверхдиректорских окладов» секретаря и казначея и призвал покинуть «гнилое здание», пусть оно падает. Куда уйти? В РТО. Все остальные меры бесполезны: «Островский был слишком умным человеком, чтобы любить слепо, любить номенклатуру и ярлыки, не общество драматических писателей любил он, лелеял, холил и растил, а дело русской литературы и искусства»49.
В конце января 1902 г. в газете «Московские ведомости» появилась неподписанная заметка о деятельности Русского театрального общества. Точнее, о первом годе работы его отдела «охранения авторских прав драматических писателей и композиторов». Численность авторов, чьи права защищало РТО, — 46 человек, их пьесы шли в 111 городах. Многие уполномоченные работали безвозмездно.
Через несколько дней в этой же газете была напечатана заметка за подписью N «О делах Общества драматических писателей».
Автор ее — критик, историк театра А. А. Ярцев. Он уже прямо заявил о начавшейся конкуренции между РТО и ОРДПиОК. Его симпатии очевидны. По его мнению, насколько успешны материальные успехи ОРДПиОК (два с лишним миллиона рублей авторского гонорара собрано за 25 лет существования Общества), настолько незначительны его успехи по части идейно-нравственной. Тут-то, по словам Ярцева, «хоть шаром покати».
В изложении автора заметки перечень достижений по этой части выглядел действительно скромно: «Учреждение Грибоедовской премии <…> капитал на которую собран был при посредстве повсеместной подписки, поднесение венков и адресов разным юбилярам, выдача маленьких сумм на поддержку могил сценических деятелей <…> вот почти все, что сделало Общество за четверть века для развития сценического искусства, для объединения своих членов, вообще для целей не узкоматериального характера»50.
Его вывод: «Как бы там ни было, но такое положение дела должно бы заставить задуматься. <…> Гроза, надвигающаяся со стороны Театрального общества, тоже не шутка. Последнее имеет все шансы завоевать в этом деле симпатии. К тому же и материально драматурги имеют больше интереса охранять свои права через Театральное общество, которое высчитывает значительно меньшие проценты на расходы»51.
События в ОРДПиОК опять выплеснулись на страницы московской и петербургской прессы. Однако сохранились документы, не ставшие достоянием публики, но обнаруживавшие подоплеку распрей и полемические приемы.
В архиве А. А. Ярцева в ГЦТМ есть копия письма А. А. Майкова в редакцию газеты «Московские ведомости». Первый и многолетний казначей Общества писал в ярости, что заметка г-на N — «пасквиль», что «протестанты» хотят «с помощью одураченного стада забрать в свои нечистые руки дела и капиталы Общества». Не гнушаясь низменными выпадами и обвинениями, он снова и снова подчеркивал, что в основе протеста части членов Общества только корысть людей, «алчущих и жаждущих вкусить от пирога, который не ими изготовлен и охраняется пока людьми испытанной честности и заслуженных в делах Общества»52.
Вероятно, редакция познакомила Ярцева с этим разгневанным, грубым, недопустимым по тону посланием дворянина, гофмейстера, действительного тайного советника, 839 члена многочисленных обществ. К тому же человека преклонных лет. Остается вспомнить удивление Чехова от поведения Майкова 13 лет назад на общем собрании 1889 г.: это было «что-то странное, несуразное и донельзя не европейское…»
В бумагах Ярцева сохранились рукописные тезисы его опровержения. Он воспользовался выражением своего оппонента и заметил иронически: «Рассвирепевший казначей, почуявший, что кусок жирного пирога, который пекут для него драматические писатели, может миновать его “бескорыстный карман”, дальше теряет уже способность соображать и пускает в ход голую ложь и сплетни»53.
Судя по всему, редакция предложила Майкову ответить публично. Его анонимное «письмо к издателю» — с подписью «Действительный Член Общества Русских Драматических Писателей» — появилось в газете «Московские ведомости» 2 марта 1902 г. (№ 60).
Убрав самые резкие выражения, Майков тем не менее писал о том же. Называл заметку Ярцева поддержкой «претендентов на достояние Общества», а приведенные сведения «неправдой». Он настаивал на том, что главная цель Общества — защита авторского права, а содействие развитию драматического искусства всего лишь вторая.
Ярцев ответил на письмо Майкова кратко. Он признал, что заметка в № 35 принадлежит ему, но полемизировать с безвестным автором письма в редакцию отказался. Пусть аноним назовет свое имя и тогда получит ответ по существу54.
29 марта 1902 г. петербургская часть Общества провела свое предварительное собрание. Из Москвы приехал председатель Общества И. В. Шпажинский. Этим бурным торжищем руководил В. П. Буренин. Явились даже те, кто годами не удосуживались почтить коллег своим присутствием.
Большинство склонялось к тому, чтобы ничего не менять. Петербургские газеты, освещая двухдневное собрание (оно продолжилось 30 марта), писали, что «партию протеста» победила «партия порядка», и требования «протестантов» (например, изгнать Рассохина) были обречены. Они провалились, как и предложенные ими кандидаты в Комитет и ревизионную комиссию55.
9 апреля 1902 г. в Москве состоялось общее годичное собрание ОРДПиОК. Оно широко освещалось в печати не столько потому, что им интересовались журналисты, а потому, что после многолетнего перерыва представителей прессы пустили на встречу действительных членов Общества.
Ссылаясь на статью устава 1891 г., правление всегда отказывало прессе, что, по мнению одного из журналистов, было выгодно лишь «главарям» Общества. Противники гласности объясняли это тем, что ОРДПиОК — учреждение коммерческое и собирание гонорара есть внутреннее дело Комитета. И в этом — главное назначение Общества, а вовсе не содействие развитию драматического искусства56.
Собрание решило допустить журналистов. Из-за тесноты их разместили в соседней комнате, оставив двери открытыми. И началось представление, о котором один из наблюдавших его газетчиков сказал, что «во всей этой эпопее» много «захватывающего, столько характерных подробностей и занимательных эпизодов», и что «все это не лишено общественного значения»57.
Едва дело дошло до предложений, выдвинутых 29 марта на предварительном собрании петербургских членов Общества, возникло напряжение. Как выразился один из журналистов, «в воздухе чувствовалась гроза».
840 Но, как и в прежние годы, протесты оказались отклоненными, отложенными, вообще не рассмотренными. Большинство склонялось к тому, чтобы все оставить как было. Традиционен был и скандал в жанре мелодраматического водевиля, вспыхнувший на собрании.
Он разразился, едва приступили к суду над дерзновенным Билибиным за его статью в журнале «Театр и искусство». Роли в этом «водевильном» суде распределились следующим образом: «потерпевшие» — Комитет Общества, от лица которого выступали председатель И. В. Шпажинский, секретарь И. М. Кондратьев и казначей А. А. Майков, требовавший самой суровой кары.
С. Л. Кугульский в своей заметке пародировал речь казначея, заявившего, что боль уязвленного сердца может утишить только признание Билибина клеветником и ввержение его в узилище: «Тогда только отляжет у г. Майкова от оскорбленного сердца, и он сочтет себя удовлетворенным»58.
Главными обвинителями стали А. Ф. Корш и А. И. Сумбатов, который, в частности, заявил, что Билибин не рыцарь с копьем, что у него в руках «дубина» и ею он хочет разнести здание Общества.
Адвокатами нарушителя спокойствия выступили в «суде» В. А. Александров и Э. Э. Матерн59. Александров доказывал, что автор обвинительной статьи хотел пользы Обществу и что Общество критиковали многие. Наконец, уже ночью, добрались до «приговора», т. е. голосования. В 2 часа ночи силы у всех участников «процесса» иссякли. «Занавес» опустили; заседание перенесли на 10 апреля. Начался однодневный антракт. Назавтра участников заметно убыло.
В описаниях этого словесного марафона анонимные корреспонденты вольно или невольно передали адвокатский стиль Александрова, актерские приемы Сумбатова, антрепренерские замашки Корша, не преминувшего разоблачить истоки «похода» Билибина против Общества (история с «Новым Фаустом»)60. Само Общество журналисты назвали «высококомическим»61.
Итак, все привычно не получило внятного и окончательного решения. 1 июля 1902 г. Билибин вышел из ОРДПиОК. Он вступил в Русское театральное общество, уже наверняка зная, что буквально днями в уставе этого объединения появится новый пункт о возможности создания в рамках РТО отдельных самостоятельных авторских, актерских и тому подобных объединений.
* * *
Поражение «партии протеста» обернулось возникновением нового драматургического сообщества, а победа «партии порядка» не сопровождалась торжественными заявлениями победителей. Скорее наоборот.
Это особенно наглядно проступило в статье А. И. Сумбатова, появившейся осенью 1902 г. То было объяснение с коллегами, с журналистами. Автор подводил черту под важнейшим периодом в истории ОРДПиОК.
Сумбатов не скрывал, что одна из причин, подвигших его к объяснению с читателями, — это многолетняя «травля» ОРДПиОК, это «поход» против Общества, учреждения, важного «для целого класса русских писателей».
Сумбатов подчеркнул нормальность возникновения и существования оппозиции в любом деле. Однако заметил: «Но у нас оппозиция обыкновенно исходит из 841 таких мотивов и проявляется в таких формах, которые большей частью вредят не только делу, но и тем самым зачаткам прав на самостоятельную деятельность, какие еще допустимы у нас»62.
Сумбатов счел неправомерными широковещательные требования оппозиции о создании при Обществе образцового народного театра и книгохранилища, специального благотворительного фонда, суда чести и особенно требования содействовать совершенствованию драматической литературы.
Обращаясь к судьбе Островского, как драматурга, находившегося в «тисках нужды, необеспеченности и зависимости от капризов управления театрами, публики и прессы», отметив роль Островского в создании ОРДПиОК, Сумбатов настаивал на том, что основная цель Общества — охрана авторского права на заработок: «Я, откровенно принимая на себя все могущие на меня обрушиться обвинения, насмешки и колкости, формулирую свой взгляд на это дело.
По-моему, эта основная цель должна быть и единственной». И в этом, по его словам, заключен одновременно «огромный нравственный смысл, потому что осуществление права на пользование продуктами своей работы есть не материальная, а чисто моральная задача человека и общества»63.
Что же до остальных целей и задач, то они, по мнению Сумбатова, либо чужды Обществу, либо вообще странно их ставить перед профессиональным сообществом. Так, литература развивается не усилиями общественных объединений, а талантливыми авторами. «Образцовый театр» — совершенно особое, рискованное, многотрудное дело.
Остановился автор статьи и на вопросе о благотворительности. Полагая, что драматург получает деньги не как подаяние, а как «законный результат своего труда, за который он не обязан ничем и никому», автор статьи настаивал, что пенсии, премии, стипендии, вспомоществования — это дело различных благотворительных фондов, касс, специальных обществ и тому подобных организаций. В лучшем случае ОРДПиОК может выделить часть средств на пенсии, пособия, стипендии, что оно и делает, но не может и не должно вести эту деятельность в тех масштабах и формах, на которых настаивает оппозиция.
Наконец, Сумбатов подошел к главному обвинению противников: место, роль и вознаграждение секретаря и казначея. Он сразу отвел упреки в адрес А. А. Майкова, заявив, что тот уже 27 лет трудится казначеем и делит с И. М. Кондратьевым «все тернии и шипы оппозиции». Между тем как казначейская часть, по мнению автора статьи, «выше всяких упреков».
«Выше всяких упреков, — утверждал Сумбатов, — и личная деятельность секретаря Общества И. М. Кондратьева».
Слово «личная» было подчеркнуто автором специально. Опасность была, по его мнению, вовсе не в сумме вознаграждения, а в том, какое положение занял секретарь в Обществе. Кондратьев поставил дело так, что всё у него в руках, он главный человек и без него все рухнет. Это положение надо менять, спасая Общество.
Сумбатов предложил, по сути, канцелярскую реформу: оставить казначею его казначейские дела, председателю его представительскую роль. Секретаря поставить над членами Комитета, которые превращаются в служащих. Члены Комитета 842 управляют агентами, ведут переписку, всю канцелярскую работу и готовят отчеты для рассмотрения на заседаниях Комитета. Секретарь объединяет их работу, заведует всей канцелярией, производит расчет с авторами.
По мнению Сумбатова, таким образом, будет уничтожено единоначалие секретаря. Но тогда, конечно, понадобится помещение для канцелярии и увеличение штата, так как необходимо сделать отчетность гласной, т. е. публиковать данные о постановках и статистику, чтобы каждый драматург мог проверить, все ли постановки по его пьесам внесены в расчетные листы.
Реформе, по мнению Сумбатова, подлежала и издательская деятельность ОРДПиОК. С. Ф. Рассохин с выгодой для себя объединил ее с комиссионерской. Он сам распространял свою продукцию. Нужно, чтобы комиссионерство находилось в руках Общества.
Таким образом, реформа, по Сумбатову, повлекла бы увеличение канцелярии и, по сути, окончательное выведение из Правления драматургов. Таковым оставался бы только председатель Общества.
Подобное преобразование означало бы завершение периода, который можно назвать эпохой А. Н. Островского в истории Общества русских драматических писателей и композиторов, конец упованиям учредителей на то, что охрана драматической собственности радикально повлияет в лучшую сторону на развитие сценической литературы, на уровень театрального искусства в России64.
Свою речь по случаю 10-летия ОРДПиОК Островский закончил в 1884 г. пожеланием, чтобы «Общество продолжало преуспевать в своей деятельности и чтоб увеличение его средств дозволило ему в недалеком будущем приступить к осуществлению той широкой задачи, которая предположена его Уставом»65. Статью 1902 г. об «остром моменте» в жизни Общества Сумбатов завершал признанием: «Ясно для всех, что прочное установление у нас авторского права есть еще дело будущего».
Утверждая, что ОРДПиОК «единственное пока в России общество, обеспечивающее за писателем его гонорар, как ренту», Сумбатов не упомянул РТО, хотя его посредническая деятельность была уже известна. На 1 января 1902 г. уполномоченные РТО имелись в 612 российских городах, местечках и селах, они следили за постановками сочинений 40 драматургов, попросивших РТО защищать их авторское право66.
Сумбатов не мог не знать об этом, поэтому, размышляя об успешном осуществлении авторского права, он полагал необходимым сотрудничество ОРДПиОК с РТО, при котором уже возникал Союз драматических и музыкальных писателей (СДиМП), или, как его называли современники, Драмсоюз.
Устав нового объединения драматургов был утвержден 22 апреля 1903 г., а 14 мая состоялось первое общее собрание. Архив этого объединения также хранится в РГАЛИ и в РО ИРЛИ (Пушкинский Дом) в Петербурге.
В момент открытия Драмсоюз насчитывал 117 членов, а в 1915 г. уже свыше 800 человек. В него входили А. Р. Кугель, Н. Ф. Арбенин, В. Э. Мейерхольд, М. А. Суворин и др. Именно этот Союз провел в 1905 г. I Всероссийский съезд драматических и музыкальных писателей. Именно при нем был создан в начале 1910-х годов Театральный музей.
843 Таким образом, история ОРДПиОК становилась неотделимой от истории Драмсоюза. Документальное исследование деятельности этого объединения, несомненно, дополнит «театральную лоцию», заключенную в материалах Общества. Оно позволяет поставить и решить вопрос, неизбежным ли было сужение «широкой» задачи, заявленной когда-то уставом ОРДПиОК, и ее расширение, сформулированное уставом ОДиМП67.
Сбылись ли мечтания учредителей нового общественного объединения драматургов о том, что в основе их Союза, как об этом сказал вице-президент РТО и первый председатель ОДиМП А. Е. Молчанов, — «отрешение от узкоэгоистических выгод во имя общего дела при ясном убеждении, что, в зависимости от его преуспеяния, находится более прочное обеспечение личных интересов», что «деятельность Союза не ограничивается материальными интересами, а имеет в своих задачах как служение художественной стороне, так и установление профессионально-этических начал»?68
Удалось ли Союзу осуществить заявленную в Уставе огромную благотворительную, просветительскую, театрально-музыкальную, международную, издательскую деятельность?
Или все-таки был прав А. И. Сумбатов, настаивавший на том, что такого рода объединения должны сами по себе и сообща выполнять главную и единственную цель — защиту авторских прав драматургов?
Он не надеялся быть правильно понятым и закончил упомянутую статью словами: «Я отлично знаю, что эта статья не понравится ни оппозиции, ни комитетскому большинству. <…> Я считал себя обязанным высказать то, что я вынес из пристального наблюдения за ходом дел Общества во время моего участия в его управлении, и высказать именно теперь, когда Общество переживает острый, чтобы не сказать — критический момент своего существования»69.
* * *
Раскол, по сути, не изменил бытование Общества. Агенты по-прежнему взимали поспектакльную плату, посылали ее в Москву. Писцы заполняли гонорарные книги. Драматурги получали авторские. Добавились только дела о переходе драматургов из одного объединения в другое.
Газеты сохранили сведения об общих собраниях ОРДПиОК. Так, например, в 1905 г. опять дискутировали на тему: пускать ли журналистов на собрания. И приняли решение в духе прежних постановлений: получить сначала разъяснения юрисконсульта70.
В 1909 г. сообщалось, что число членов уже 908 человек, а авторского гонорара в 1908 г. было получено 309638 рублей 5 копеек. Но главное событие — 25-летие пребывания И. М. Кондратьева на посту секретаря и подношение юбиляру по единогласному решению общего собрания золотого с бриллиантами портсигара71.
Материалы архива ОРДПиОК и газетные заметки свидетельствуют, что по-прежнему оставшаяся петербургская партия Общества была недовольна вознаграждением секретаря, а московская партия отклоняла все предложения на этот счет72.
Год за годом отчеты Общества фиксировали рост капитала, авторских отчислений, присуждение очередной Грибоедовской премии73.
844 Конечно, на это течение обыденной жизни ОРДПиОК влияли общероссийские и общемировые события, о чем тоже писали газеты74 и о чем свидетельствуют материалы фонда 2097.
Так, И. В. Шпажинский (председатель Общества) и секретарь И. М. Кондратьев сообщали 7 декабря 1914 г. по запросу господина Главноначальствующего г. Москвы в связи с военными событиями, что «из числа членов с нерусскими именами и фамилиями большинство заведомо русские подданные», об остальных наведут справки и доложат немедленно, кто исключен «из Общества как иностранный подданный».
Канцелярия Общества запрашивала агентов, адресные столы Москвы и Петербурга, приставов о вероисповедании своих членов с иностранными фамилиями. Кондратьев сообщал начальству 21 января 1915 г., что из 1220 членов Общества таковых 105 человек, но все они русские подданные, кроме Г. М. Редера, которого исключили на этом основании. Однако о некоторых еще не получены сведения и т. д. (1, 231).
Военные события затруднили начавшуюся деятельность Общества по учреждению своей агентуры в Германии и Франции.
Еще в 1875 г. А. Н. Островский передал членам Комитета на одном из заседаний письмо, полученное им от Общества французских драматических писателей и композиторов, о желательности контактов с ОРДПиОК (1, 76, л. 106).
В 1881 г. несколько французских драматических обществ предложили ОРДПиОК отчислять в их пользу часть авторского гонорара за представление оригинальных пьес, переведенных с французского языка. Общество отказало, сославшись на то, что охраняет права только русских писателей и композиторов75.
Вопрос о литературной конвенции обсуждался в русской прессе долгие годы. Возникал он и в ОРДПиОК. Все сдвинулось с места в первое десятилетие XX столетия. Литературная конвенция между Россией и Германией вступила в силу 1 (13) августа 1913 г.
В фонде сохранились материалы, отражающие историю литературной конвенции между Россией, Германией и Скандинавией, об учреждении агентуры в Германии (1913 – 1915) и т. д.
В них встречаются курьезные документы. По вине переводчика или по неведению корреспондента, но в письме из Будапешта от 30 июня 1913 г. содержалась просьба от Венгерского союза артистов, желающих поставить одну из пьес Чехова, помочь им в получении «письменного согласия <…> от господина Чехова», а также прислать «все чеховские сочинения на русском языке» (1, 237, л. 11, 11 об.). Им ответили, что «разрешение на постановку пьес А. П. Чехова в России зависит от ОРДПиОК», а «относительно приобретения в собственность драматических сочинений А. П. Чехова следует обратиться к его наследнице — сестре, М. П. Чеховой по адресу Ялта Таврической губернии» (1, 237, л. 13).
В делах хранится переписка Общества с русским книгоиздательством в Берлине, предложившим свое посредничество между российскими переводчиками и немецкими авторами. Их «циркуляр» с кратким изложением драматических новинок был разослан 102 членам ОРДПиОК. Среди них: Ю. К. Балтрушайтис, В. Я. Брюсов, В. П. Болконский, Л. Г. Мунштейн, А. А. Плещеев, Р. З. Чинаров, Т. Л. Щепкина-Куперник, Н. Е. Эфрос, Ф. Ф. Комиссаржевский, Н. Ф. Балиев и др. (1, 237).
845 В этой же единице хранения находится перевод устава Союза немецких драматических писателей, а также заявления иностранных переводчиков о желании вступить в ОРДПиОК.
Любопытны письма переводчика В. Л. Бинштока, жившего в Париже. В письме от мая 1916 г. он благодарил секретаря за свое назначение агентом и тут же заметил, что присланная ему доверенность не предусматривает взимания авторских за исполнение русской музыки в кафешантанах, ресторанах, концертах, на летних эстрадах и тому подобных площадках. А между тем, по его мнению, этот доход превысит отчисления с театральных представлений, так как сочинения Чайковского, Рубинштейна, Глазунова «исполняют здесь не только в больших симфонических концертах, но повсюду» (2, 1719).
В архиве Общества сохранилась переписка канцелярии и материалы, связанные с историей сбора средств на памятник великому драматургу А. Н. Островскому в Москве. Не однажды оппозиция упрекала правление Общества за промедление с памятником. Данное в 1889 г. Высочайшее разрешение на сбор пожертвований открыло эту многолетнюю историю, не делающую чести верхушке ОРДПиОК, ее «вечному» секретарю И. М. Кондратьеву и председателю И. В. Шпажинскому, получавшим благодарственные адреса и драгоценные подарки за «особенное усердие». Но его недостало, чтобы за много лет довести дело с памятником до конца76.
В списках жертвователей драматурги, антрепренеры, члены различных обществ, кружков, частные лица.
К 1911 г. было собрано около 20000, а с набежавшими процентами около 30000. Ревизионная комиссия представила в тот год свое мнение в Комитет: «Это упреком ложится на “Общество” <…> говорят, что “Общество” совершенно не заботится о воздвижении “медной хвалы” усопшему драматургу. <…> В последние годы подписка совершенно прекратилась» (2, 1724, л. 100).
Действительно, в печати не раз корили Комитет за промедление с памятником основателю Общества. На общих собраниях некоторые драматурги неоднократно говорили, что недостающую сумму можно взять из многотысячного капитала ОРДПиОК. Но вместо этого Правление обратилось к генерал-губернаторам с призывом подключить к сбору пожертвований канцелярских служащих, вверив им подписные листы.
Хорошее дело оборачивалось пародией. Некоторые губернаторы вменили сбор средств в обязанности полицмейстеров, уездных исправников. Другие предложили заняться этим делом предводителям дворянства. Третьи переправили подписные листы в губернские и уездные управы.
Затем из губернаторских канцелярий стали поступать отказы заниматься этим сбором: «ввиду скудного жалованья, получаемого чинами губернского Правления»; «ввиду занятости»; «из-за обилия местных нужд» и т. д.
Чиновники сообщали, что не нашлось желающих, что такие подписки вообще не имеют успеха и т. п. (2, 1724, л. 108). На том закончилась попытка «канцелярии» Общества подключить к благородному общественному делу бюрократическую машину. После 1917 г. у ОРДПиОК отобрали все капиталы, в том числе и средства, собранные на памятник, и передали их в Народный Комиссариат по просвещению77.
846 Материалы архива ОРДПиОК сохранили много реалий из жизни Общества в первые десятилетия XX в. В том числе документы, освещавшие решение вопроса о премиях ОРДПиОК, особенно Грибоедовской премии, а также вопроса о библиотеке Общества78.
Но все-таки особенный интерес для историков русского театра предреволюционной поры представляют в фонде 2097 гонорарные книги. Содержащаяся в них информация может стать базой для общих и частных заключений, выводов, наблюдений самого разного свойства.
Исследуя театральный репертуар этого периода, специалисты естественно обращались и обращаются к творчеству А. П. Чехова, М. Горького, Л. Н. Андреева, С. А. Найденова, Е. Н. Чирикова, С. С. Юшкевича; Д. Я. Айзмана, В. А. Рышкова, В. О. Трахтенберга, А. И. Косоротова, И. И. Колышко, О. Дымова; к театральной судьбе драматургических созданий А. А. Блока, Ф. К. Сологуба, А. М. Ремизова; к сценической судьбе пьес драматургов минувших десятилетий: И. В. Шпажинского, П. Д. Боборыкина, А. И. Сумбатова, И. Н. Потапенко, Е. П. Карпова, А. М. Федорова, П. П. Гнедича, П. М. Ярцева, В. А. Александрова; к пьесам, ставшим при своем появлении модными новинками, к сочинениям Л. Н. Урванцева, О. Миртова (О. Э. Котылевой), М. П. Арцыбашева, А. П. Каменского, И. Д. Сургучева, Ю. Д. Беляева и др.79
Однако даже самые фундаментальные монографии и очерки, а также хроники и летописи80 не претендовали и не претендуют на всеохватное описание сложного, пестрого, динамичного театрального процесса предреволюционной эпохи. В нем еще многое не открыто, не проявлено, не воссоздано с возможной полнотой. С этой точки зрения возможности такого документального источника, как гонорарные книги ОРДПиОК за 1900 – 1910-е гг. трудно переоценить.
В них множество сведений о конкретных театрах и репертуаре той поры.
Еще играли пьесы В. А. Александрова («На жизненном пиру», «Песнь горя»). Еще не исчезли с афиш пресловутые «творения» В. А. Крылова («Первая муха», «Генеральша Матрена» и др.). В изобилии представлены в гонорарных книгах давние сочинения М. Л. Кропивницкого, А. Ф. Крюковского, И. В. Шпажинского (неувядаемые «В старые годы», «Кручина», «Фофан», «Темная сила»).
Не исчезли, хотя уже не были так популярны, как когда-то, пьесы, переведенные Ф. А. Коршем («Два подростка», «Контролер спальных вагонов»), водевили Ив. Щеглова (все те же «В горах Кавказа», «Дачный муж», «Женская чепуха» и др.), П. П. Гнедича («Брак», «Горящие письма»).
Антрепренеры не списали со счетов ни П. М. Невежина («Вторая молодость»), ни В. В. Протопопова («Рабыни веселья», «Черные вороны»), ни А. П. Потехина («Злоба дня», «Нищие духом»), ни С. Ф. Рассохина («Жена напрокат», «Теплые ребята»), ни И. А. Салова («Степной богатырь»).
Не угас интерес к переводам Т. Л. Щепкиной-Куперник («Орленок», «Принцесса Греза», «Сирано де Бержерак» Э. Ростана) и П. И. Вейнберга («Уриэль Акоста» К. Гуцкова, «Кин, или Беспутство и гений» А. Дюма-отца).
Зато произведения, переведенные К. Д. Бальмонтом, В. Я. Брюсовым, Ю. К. Балтрушайтисом, удостоились только премьеры в столичных театрах и немногих спектаклей в провинции (Бердянск, Тула, Минск, Рязань, Пермь, Новороссийск, Харьков).
847 Пьесы С. А. Найденова («Дети Ванюшина», «Авдотьина жизнь»), А. И. Сумбатова («Соколы и вороны», «Цепи», «Измена») появлялись на сцене чаще пьес М. Горького и Е. Н. Чирикова.
Данные о гонорарных отчислениях авторам театра-кабаре «Летучая мышь», ставшего в эти годы театром миниатюр, свидетельствуют о необыкновенном успехе детища Н. Ф. Балиева.
Популярностью пользовались многочисленные создатели комических и сатирических миниатюр, сценок в духе Н. А. Лейкина, И. И. Мясницкого (Барышева), драматургических поделок С. Ф. Сабурова. Всюду и везде публику заманивали фарсами, буффонадами, шутками.
В начале нового столетия авторы обозначали жанр своих сочинений еще как прежде: драма, комедия, мелодрама, трагедия, водевиль, оперетта, феерия, фарс, сцены. Но уже появились новые словосочетания: разговор в стихах, пьеса из жизни, обозрение будущего, музыкальная мозаика, гротеск.
В конце первого десятилетия XX в. к новациям добавились и расплодились такие жанровые определения, как кабаре, карикатурная действительность, пародия, невероятное происшествие, драма-сказка, комедийные негативы, скетч и тому подобные. Даже в этом проступало настроение тревожного, лихорадочного времени.
Весной 1910 г. уже упоминавшийся киевский агент Ермачков спрашивал у Кондратьева, что ему делать с антрепренером М. П. Ливским? На просьбу агента представить цензурованный экземпляр пьесы «Кабаре у Ливского» тот ответил, что нет никакого написанного текста. Далее агент описал само представление: поднялся занавес, вышел режиссер, заявил, что артисты кончили свое дело, и нет ли у кого-то из публики желания спеть, что-то прочесть и т. д. Артисты сидели среди зрителей, импровизируя, пререкались с режиссером, несли чепуху, иногда выходили на сцену и пели куплеты на злобу дня (полет Уточкина, состояние киевских мостовых и т. п.). У суфлера в руках — только листки с куплетами, а Ливский заявляет, что куплеты, о чем объявлено и на афише, его собственные. Что делать?
Обозрев летний сезон в Киеве, пустенький репертуар, фривольный тон, представления с модным «жанром ужасов» («Вендетта», «Гильотина» и т. п.), добровольный агент-критик пришел к выводу, что «современные строители сцены в большинстве не испытанные слуги чистого искусства, а рабы рубля» (2, 472, л. 248).
Подмостки заполонили легкие комедии, злободневные пьесы С. Н. Белой (Богдановской). Кажется, что везде шли ее сочинения. Столь же распространены были создания Н. А. Доренговской. В гонорарных книгах этих лет заметно прибавилось имен женщин-сочинительниц, переводчиц (2, 1925; 1926; 1927; 1928).
Первенство по числу упоминаний в гонорарных книгах держали в военные годы авторы либретто опер, оперетт, бесконечных переделок, заимствований, переводов. Это В. Л. Биншток, Р. З. Чинаров, Э. Э. Матерн, В. Ф. Квецинский, А. Н. Николаев, А. М. Назаров, В. К. Травский, С. А. Тяпкин и др.
В 1915 – 1917 гг. столицы и провинция, как и в предыдущие десятилетия, любили водевили Чехова. Они шли всюду. Число постановок было очень значительно. Нередко игрались и большие пьесы: «Иванов», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», изредка «Чайка» (Москва, Киев, Одесса, Нижний Новгород, Самара и др.).
848 Бросается в глаза огромное количество постановок по пьесам А. Н. Островского. В перечне около 50 названий. Они идут на сценах больших и малых городов в исполнении профессионалов и любителей. Книга учета авторского гонорара за эти годы пестрит названиями губернских, уездных, заштатных городов, сел, деревень, заводов, рудников, станиц, станций, поселков и местечек, где шли пьесы основателя и первого председателя Общества русских драматических писателей и оперных композиторов (2, 1928).
Островского всегда много играли на российских сценах в конце XIX – начале XX в. Но в военные годы такой повышенный интерес к сочинениям великого русского драматурга стал феноменом театральной жизни эпохи. Его можно объяснить «настроением эпохи», свойствами драматургии Островского, состоянием драматического искусства накануне грядущего переворота.
* * *
Театральная жизнь России продолжалась и в 1917 г., несмотря на введение в Петрограде карточной системы распределения продуктов, забастовки рабочих, на Февральскую революцию, отречение от престола Николая II и великого князя Михаила, декларации Временного правительства, арест царя и царской семьи, смену коалиционных правительств, военные поражения, провозглашение Российской республики, признание независимости Польши, низложение Временного правительства, создание Совета народных комиссаров.
Манифесты, постановления, декреты, приказы, воззвания, обращения сменяли одно другое. Всюду совещания, митинги, собрания, а на них речи о свободе, новой жизни.
Многочисленные лекции, вечера, митинги-концерты собирали публику, внимавшую заявлениям, что вместо старого искусства надо создавать новый театр, новую литературу, новую музыку.
Возникали новые объединения: Свободная ассоциация для развития и распространения положительных наук, Общество пролетарских искусств, Лига русской культуры. В прессе мелькали заголовки статей: «Поиски нового стиля», «Задачи нового театра», «Ближайшие задачи государственных театров», «На рубеже искусства», «Культура социализма торжествующего и социализма борющегося», «Демократизация искусства».
Но театр жил не манифестами, а спектаклями, репетициями, гастролями. С этим в 1917 г. в Москве и Петербурге обстояло хуже. В столичных театрах состоялись немногочисленные премьеры пьес Л. Н. Андреева («Милые призраки»), Д. С. Мережковского («Павел I»), Ф. М. Достоевского («Село Степанчиково»), М. Ю. Лермонтова («Маскарад»), О. Уайльда («Саломея»).
В театре Корша, в Суворинском театре, в МХТ, в театре К. Н. Незлобина, в Московском драматическом театре, в Камерном театре было сыграно всего несколько спектаклей, переводные комедии, драматические поделки.
Что же происходило в это время в провинции? Ответ содержится в гонорарных книгах ОРДПиОК, заключающих, может быть, наиболее полный свод данных, так как судьба местной прессы оказалась не менее переменчивой и даже во многих городах плачевней столичной.
849 Агенты, как и прежде, сообщали сведения в Москву, но писали, что собирать авторский гонорар становилось день ото дня все трудней.
На заседаниях Комитета (в 1917 г. в него входили председатель А. И. Сумбатов, выбранный в начале года, после кончины И. В. Шпажинского, секретарь И. М. Кондратьев, казначей И. С. Платон и члены Комитета Вл. И. Немирович-Данченко, Ф. А. Корш, Н. И. Тимковский) рассматривались сообщения агентов об отказе антрепренеров, особенно учредителей спектаклей, от имени и в пользу новой власти отчислять авторский гонорар. Таково, например, было сообщение от агента в Черкассах, где постановка состоялась по инициативе Совета солдатских и офицерских депутатов (1, 263).
Если раньше отказ карался судебным преследованием, если в отчете за 1900 г. Правление с гордостью заявляло, что за 26 лет «напряженного труда» Общество «посредством ведения множества судебных процессов, доходивших не один десяток раз до Сената, а также материальных затрат, достигло того, что авторское право стало признаваться всеми антрепренерами и устроителями спектаклей»81, то теперь юрисконсульт Общества Е. А. Гонтарев полагал, что шансов выиграть в суде иск к устроителям нет. И все завершалось решением: «принять к сведению».
Доносились вести об арестах агентов ОРДПиОК. Драматурги по-прежнему обращались в Комитет с просьбами об авансах, стипендиях, но чаще писали о бедственном положении.
Г. П. Гольденбродт прислал заявление: «Переживаемые тяжелые экономические условия жизни, носящие, скажем условно, временный характер, побуждают меня обратиться к общему собранию нашего Общества со следующим заявлением. Не останавливаясь на вопросе, сколь долго продлится переживаемый момент, я считаю необходимым и неотложным обратить внимание Общества на то серьезное обстоятельство, что ныне существующий авторский гонорар находится в огромном несоответствии с безумным вздорожанием жизни» (1, 263, л. 14).
Заявление этого харьковского члена ОРДПиОК по решению Комитета от 16 февраля 1917 г. передали Вл. И. Немировичу-Данченко для подготовки соображений на сей счет. Представил он свои предложения или нет, неизвестно. Но в письме В. В. Лужскому от 16 июля 1917 г. Немирович-Данченко высказался вполне о происходящем, когда, по его словам, «все несется с такой внезапностью, с такой силой, неожиданностью, изменчивостью»: «Куда пойдет продовольственная разруха? Реквизации помещений. Топливо, хлеб и сахар. Дождь денежных бумаг. <…> Война, политика, продовольствие…
И какую роль в гражданской жизни играют театры, искусство, деятели его? <…> До сих пор скромно держались в сторонке. Но скоро нас спросят: неужели ваша душа не переполнилась? Кого вы теперь хотите забавлять? Забронировавшихся в тылу? Или вообще всякую господствующую партию? Что мы ответим? <…> Кто мы? <…> Итак, для нас с Вами сейчас ясно только то, что все неясно и не стоит гадать. Надо быть готовым ко всему»82.
В протоколах заседаний Комитета ОРДПиОК весной 1917 г. соседствовали единогласное постановление: «До установления нового строя Учредительным собранием всецело присоединиться к единственной ныне законной власти Временного правительства и всемерно содействовать ему в его великом труде обновления 850 родины» (1, 263, л. 117) и просьба в Сахарный отдел Продовольственной комиссии: выдать служащим Общества разрешение на приобретение от 20 до 30 фунтов сахару в месяц для «обслуживания чаем правления Общества» (1, 263, л. 67).
Упразднив четкую бюрократическую машину — Главное управление по делам печати, новая власть поначалу свела цензуру драматических сочинений к канцелярской регистрации.
В мае 1917 г. был установлен новый порядок разрешения пьес к постановке. Два экземпляра препровождались автором в уже учрежденную Книжную палату или местному комиссару Временного правительства. После регистрации и рассмотрения один экземпляр возвращался автору.
Летом 1917 г. Е. П. Карпов прислал в Комитет заявление, в котором утверждал: «Практика уже успела показать, что изданные постановления Временного правительства, за весьма малыми исключениями, никем не исполняются» (1, 263, л. 160). Никто ничего не регистрировал, а когда авторы обращались в Комиссариат, им отказывали, ссылаясь на массу спешной неотложной работы.
Новые власти решали задачи в масштабах всего человечества, цивилизации. Регистрация и рассмотрение сочинений «писателей», вероятно, казалась переустроителям мира полнейшей ерундой.
Карпов возопил в своем заявлении, что «прививается порядок захвата и эксплуатации чужого труда», что «авторское право остается без охраны со стороны закона» (1, 263, л. 160).
Он возмущался антрепренерами, которые, пользуясь неразберихой, бесконтрольностью, давали на афишах вымышленные названия старым пьесам и на этом основании не отчисляли авторский гонорар.
Один из московских театров (Театр рабочих депутатов) отказался платить потому, что Совет народных комиссаров будто бы готовит декрет об изменении срока посмертного авторского права (15 лет вместо 50), и посему наследникам можно пока не отчислять авторские.
Протоколы и отчеты передают ту обыденную мелочь, которая обыкновенно сохраняется в письмах, дневниках современников и в незаслуженно обойденных документах эпохи. Так, в перечне расходов Правления указаны в 1917 г. одновременно «праздничные» местному причту, в почтамт и прочим лицам, а также пожертвование в пользу освобожденных политических ссыльных.
Комитет Общества еще держался прежних правил, порядков, хотя слова «президиум», «резолюция», «Главнаука», «профсоюз», «декрет» уже мелькали в документах. Однако казначей еще составил отчет о финансовом положении ОРДПиОК на 10 сентября 1917 г. Основной и оборотный капитал Общества еще хранился в Московском купеческом банке, и очередной срок вклада истекал только 5 ноября 1917 г.
Однако на заседании 17 декабря казначей доложил Комитету, что правление этого банка «на письменное требование от 1 декабря сего года <…> о выдаче принадлежащих Обществу денег <…> для уплаты членам Общества следующего им авторского гонорара, а также на другие расходы Общества» выдало всего 50 % требуемой суммы, а во второй раз казначей «не получил совсем, по случаю закрытия Банка» (1, 263, л. 181).
851 Сообщил он и о том, что на московской почте ему тоже не выдали деньги, присланные агентами из других городов.
Комитет постановил: «1) уполномочить Президиум Общества, в лице председателя, секретаря и казначея, предъявить категорическое требование как к указанным учреждениям, так и к тем организациям, по приказу и распоряжению коих нарушаются неоспоримые права представителей литературного творчества на плоды своего труда и охраняющего эти права Общества о беспрепятственной и немедленной выдаче из всех учреждений сумм, принадлежащих Обществу, и о восстановлении права, нарушаемого Правлением театра Рабочих депутатов;
2) поручить казначею производить выдачи членам их гонорара с ограничением соответственно получаемым суммам» (1, 263, л. 181).
Категорический тон этого «постановления» не скрыл растерянности членов Комитета. Они понимали, что перемены в существовании Общества неизбежны, что придется менять устав. Об этом заговорил еще весной 1917 г. В. А. Александров, тот, кто когда-то, почти тридцать лет назад, боролся за изменения в старом уставе.
Александров согласился на общем годичном собрании Общества 16 апреля 1917 г. участвовать в выработке изменений, которые надо внести в устав. На заседании Комитета 3 октября 1917 г. он изложил в общем виде суть этих изменений. Как и много лет назад, речь шла о праве голоса на общих собраниях, о переименовании органов управления ОРДПиОК.
Комитет попросил Александрова и еще нескольких драматургов, в том числе Э. Э. Матерна, тоже постоянного «оппозиционера», выработать проект изменений к концу ноября, не позднее.
Однако проект не был представлен и в декабре. Поэтому Комитет решил, как записано в протоколе от 17 декабря 1917 г., «просить Александрова доставить означенный проект в Комитет, заседание которого по этому делу назначить на 14 января 1918 г., на 2 часа дня» (1, 263, л. 181).
* * *
Документов, отражающих существование ОРДПиОК в 1920-е гг., в фондах 2097 и 675 не так много по сравнению с предыдущими десятилетиями. Сказались радикальные общественные перемены, реформы в самом Обществе, социальные потрясения, постоянные и бесконечные перемещения населения в поисках пропитания, спокойного быта, безопасности.
Новая власть устанавливала новый порядок, отменяла привычные, давно устоявшиеся отношения между учреждениями и официальными лицами. Все могло измениться в следующую минуту.
Всего недоставало. Документы печатались на старых бланках. С одной стороны старая орфография, прежние адреса, былые должности и чины. С другой — блеклый шрифт, нечеткие печати. Новые бланки выглядели небрежно, заверялись печатями с трудно различимым текстом.
Декреты комиссаров заставляли уточнять или вовсе отменять некоторые параграфы устава ОРДПиОК. Так, на основании одного из них, от 26 ноября 1918 г., за подписью заместителя народного комиссара по просвещению Л. Р. Менжинской, достоянием РСФСР были признаны все, как опубликованные, так и неопубликованные, 852 произведения авторов, умерших до издания этого декрета. В приведенном списке: А. С. Аренский, М. А. Балакирев, А. П. Бородин, А. К. Лядов, М. П. Мусоргский, А. Г. Рубинштейн, Н. А. Римский-Корсаков, С. И. Танеев, П. И. Чайковский (675, 1, 19).
Весной 1919 г. Кондратьев, все еще секретарь Общества, получил письмо на бланке со штампом: «Дворец труда. Союз работников жилищных предприятий». Ему сообщали, что Совет профессиональных союзов разрешил спектакли во всех государственных, коммунальных и частных театрах Петрограда «исключительно для усиления средств Союза» в дни, пришедшиеся на понедельники.
Отчислений с этих спектаклей, «в смысле авторского гонорара», не будет, так как «согласно декрету Комиссара труда всякие спектакли по понедельникам воспрещены» (675, 4. 15).
Е. П. Карпов рассказывал в 1922 г. в письме к Кондратьеву, как летом 1919 г. к нему обратился С. А. Островский, наследник основателя Общества, с просьбой об авансе в 50 миллионов. Помощница секретаря выдала эту сумму. Но через два года сотрудники ЧК произвели в ее квартире обыск. Ничего запрещенного не нашли, однако все имеющиеся в наличии деньги, принадлежащие Обществу, около миллиарда рублей, опечатали и изъяли, а с нее взяли подписку о невыезде.
Оказалось, что Островский предъявил к размену одну из полученных ассигнаций, а она оказалась фальшивой. На допросе помощница не могла вспомнить, в каком театре ей выдали эту ассигнацию. Злосчастного наследника выпустили, но без копейки денег, и он снова попросил выдать ему аванс в 50 миллионов. Карпов жаловался: «Петроград положительно наводнен пятидесятимиллионными и стомиллионными ассигнациями, и никто хорошо не знает, как отличить фальшивую от настоящей, так как фальшивые сделаны, как говорят, весьма искусно» (675, 4, 17, л. 81, 81 об.).
Агенты писали, что не знают, что делать с отчислениями, их опасно хранить и дома, и в банке, а почта работает плохо. Уже поступали сведения об аресте некоторых агентов.
Агент из Бийска сообщал в 1920 г., что гонорар взимать трудно, так как у Наробраза и Политпросвета, которые должны были оплатить счета театра, нет денег. В 1921 г. он же спрашивал, что ему делать: вышло постановление играть бесплатно, а билеты распространять через профсоюзы. Правда, спектакли могут и не состояться вовсе, так как нечем отапливать помещения, дров нет (675, 4, 21).
Томский агент жаловался в эти же годы, что военные культурно-просветительские организации отказываются платить за спектакли, потому что нет указаний сверху.
В столицах жилось не легче. На заседаниях Комитета в 1921 – 1922 гг. среди прочих было принято решение, занесенное в журнал: ввиду «неимоверной дороговизны на жизненные припасы выдать служащим к празднику Рождества Христова дополнительный оклад» (675, 1, 18).
И все-таки театральная жизнь в это время не прервалась. Новые сценические площадки появлялись в таком изобилии, что трудно представить, кто играл на них, кто был в зале.
В перечне московских сцен знакомые названия терялись среди названий, соответствующих духу и стилю времени: Клуб имени Ленина, Пресненский советский 853 театр, Дом Союзов (Благородное собрание), театр «Коммуна», театр «Трудовая жизнь», Клуб милиции, Сретенский советский театр, Пролеткульт, Клуб Парижской Коммуны, Театр-кабаре «Не рыдай», «Пролетарская кузница» и др. (675, 4, 9).
В Петрограде в конце 1910 – начале 1920-х гг. площадок числилось не меньше: Клуб имени Ленина, Клуб 25-го Октября, Революционная эстрада, «Отдых милиционера», Клуб Луначарского, Клуб плавучих средств, Клуб Володарского, Клуб «Молодой моряк», Театр веселых шутов, «Водевиль», «Арго», «Трокадеро», «Фортуна». Очень часто названием служил адрес — улица, номер дома (675, 4, 15; 17).
Гонорарные книги зафиксировали репертуар этих лет. Как и в 1917 г., еще шли пьесы драматургов, современников А. П. Чехова. По-прежнему исчислялись тысячами постановки пьес А. Н. Островского. Чаще других ставились «Гроза», «Без вины виноватые», «Бедность не порок», «Бешеные деньги», «Бесприданница». Не иссякал поток миниатюр, фарсов, переводных комедий, одноактных шуток.
К сожалению, по сохранившимся материалам трудно полно и точно восстановить организационные преобразования в Обществе и Драмсоюзе. Но к середине 1920-х гг. уже не однажды вставал вопрос об объединении этих организаций.
Однако давнее противостояние, теперь уже Московского общества драматических писателей и композиторов (МОДПиК) и Ленинградского общества драматических и музыкальных писателей (ЛОДиМП), преодолевалось с трудом.
Новые постановления об авторском праве, трудности выдачи гонорара в связи с переходами драматургов из одного общества в другое, появление в обществах новых секций (эстрады, киносценаристов), — все подвигало к объединению.
Но препятствий оказалось больше, чем стимулов. Комитет МОДПиК и Правление ЛОДиМП жаловались друг на друга своему начальству в Главнауке и в Наркомпросе. Называли формы конкуренции «уродливыми», а действия «противника» — «агрессивными и антиобщественными».
Новая фразеология уснащала официальные ответы и отклики на политические события в стране. В 1927 г. драматурги выразили «глубокое соболезнование Правительству СССР и семье предательски убитого представителя СССР т. Войкова» и подчеркнули, что это убийство «является новым звеном в той цепи, которой империализм стремится сковать первое рабоче-крестьянское государство». Они призывали писателей СССР «еще теснее сплотиться вокруг ВКП (б) и Советского Правительства, дабы под их руководством всемерно работать над укреплением мощи СССР» (675, 1, 12, л. 14).
За минувшие десять лет документы заговорили другим языком и о других проблемах. Теперь не спорили о зарплате секретаря и казначея, не рассуждали о том, должно ли Обществу заботиться о развитии сценического искусства или у него исключительно коммерческая задача — взимание с театров авторского гонорара.
Канцелярия отвечала на разнообразные запросы. Например, в 1927 г. Всесоюзное общество культурной связи с заграницей просило сообщить сведения о новейших драматургических произведениях, преимущественно связанных с предстоящим 10-летием Октябрьской революции, а также снабдить данными о театральном законодательстве и о деятельности театральных объединений.
854 Запрос объяснялся предстоящим визитом О. Д. Каменевой в Турцию, где она «хотела бы познакомить турецкие литературные круги» с этими данными (675, 1, 12, л. 174).
Соответствующий список был отправлен. Выглядел он следующим образом: В. М. Киршон и А. В. Успенский («Ржавчина»), А. В. Луначарский («Канцлер и слесарь», «Поджигатели», «Медвежья свадьба»), К. А. Тренев («Пугачевщина», «Любовь Яровая»), А. М. Файко («Евграф, искатель приключений», «Учитель Бубус»), Б. С. Ромашов («Воздушный пирог», «Конец Криворыльска»), В. Н. Билль-Белоцерковский («Шторм», «Штиль», «Лево руля», «Эхо»).
Указаны в списке несколько книг: «Драматургия» (В. М. Волькенштейн), «За советский театр» (А. И. Пиотровский), «Статьи о театре» (С. Э. Радлов).
В одном из дел сохранилось машинописное письмо от 1928 г. на бланке ГосТИМа за собственноручной подписью В. Э. Мейерхольда.
Он переадресовал в МОДПиК просьбу англичанина Х. Картера. Автор книги «Театр и кино в Советской России», вышедшей в 1922 г., просил Мейерхольда сообщить ему в связи с подготовкой новой книги о театре названия пьес, поставленных в ознаменование десятилетней годовщины Октябрьской революции.
К ответному письму был приложен список спектаклей с указанием автора пьесы и театра, в котором она была поставлена (675, 1, 52). Среди них: «Бронепоезд 14-69» Вс. В. Иванова (МХАТ), «Взятие Бастилии» Р. Роллана (МХАТ II), «Разлом» Б. А. Лавренева (Театр имени Евг. Вахтангова), «Мятеж» Д. А. Фурманова (Театр имени МГСПС), «Голгофа» Д. Ф. Чижевской (Театр Революции), «Окно в деревню» Р. М. Акульшина (Театр имени Мейерхольда).
Приведенные списки дополняют сведения о пьесах, поступивших в Главлит в 1926 – 1927 гг. Названия пьес передавали новую социально-политическую конъюнктуру: «Смычка», «Краском», «Провокатор», «Николай II и Григорий Распутин», «Галстук пионера», «К Ленину», «Керенский», «Крепи кооперацию», «В дни Парижской Коммуны» и др. (675, 1, 37).
В переписке с драматургами теперь обсуждались не столько денежные вопросы, сколько формальные. Вступающие указывали в анкете национальность, происхождение, социальное положение, род занятий, место службы до Февральской революции, с Октября 1917 г. и в момент подачи заявления. Требовалось обозначить партийность и политические убеждения.
Один из пунктов анкеты — наличие судимости. В конце 1920-х гг. он приобрел уже особую значимость. Один из тех, кто хотел вступить в Общество, упоминал в своем письме, что пять лет назад его выслали на Соловки, потом в Казахстан. Он не знал за что. Срок его окончился, и он полгода ожидает в Актюбинске решения своей участи (675, 1, 23 а).
Среди многочисленных заявлений сохранились заявления Б. В. Алперса, В. Р. Гардина, Р. Л. Глиэра, М. И. Курилко, Н. П. Охлопкова, Вс. И. Пудовкина, С. И. Юткевича (675, 1, 6; 52). Членами МОДПиК были И. Э. Бабель, Б. В. Барнет, Г. М. Козинцев, Вс. В. Иванов, Я. А. Протазанов, А. М. Роом, Ю. Н. Тынянов, М. Е. Чиаурели, Ф. М. Эрмлер.
Таким образом, фонды 2097 и 675 представляют интерес не только для исследователей истории театра, но также кино и музыки 1920-х гг. Например, одно 855 из дел — это материалы I Конференции композиторов Москвы и Ленинграда, состоявшейся в 1929 г.
Выступления имели яркий отпечаток времени. Сразу была провозглашена цель конференции, на которой предстояла «первая организованная встреча композиторов между собою, — композиторов с общественно-партийной мыслью в лице Агитпропов ЦК и МК — партии с представителями нашей прессы и с лицами, ведущими музыкальную политику Главискусства» (675, 1, 54, л. 1).
Заявление, что «на музыкальном фронте не все благополучно: отсутствие массовой песни, кризис оперы, кризис эстрадного юмора», завершалось призывом: «Товарищи композиторы, покажем себя организованной частью пролетариата <…> будем решать вопросы в связи с общими задачами дня, то есть в связи с установленным темпом индустриализации страны».
Далее эти задачи конкретизировались: «Дадим бодрую новую песню!»; «Выявим те музыкальные прослойки, которые идут по пути с пролетариатом, и отринем те, которые идут назад от борьбы за новый быт, нового человека»; надо выполнить «социальный заказ»; «пусть в Вашей музыке прозвучит не “Вальс осенних листьев” и “Люблю тебя”, а пафос и строительство нашей великой эпохи».
В приветственных речах звучали призывы: «Из МОДПиОКских углов на широкую арену служения делу пролетариата!»; «Музыка — массам!»; «Да здравствует пролетарская муза!»; «Да здравствует Ленинский комсомол и его славный Центральный Комитет!» В конце конференции было принято обращение к ВКП (б). Кончалось оно здравицей: «Да здравствует руководитель и вождь Советской культурной жизни — Ленинский ЦК ВКП (б)!» (675, 1, 54).
Призывы покинуть «углы» МОДПиК, хотя конференция была организована именно МОДПиК совместно с Главискусством, означали, что дни этого объединения сочтены.
Еще в мае 1927 г. состоялось Чрезвычайное собрание Московского общества драматических писателей и композиторов. Сохранился подробнейший протокол, заслуживающий особого внимания исследователей. Три дня продолжались споры, дебаты. Звучали политические обвинения, решалось, сколько членов партии должно быть в Правлении и т. д.
Но в конце концов, было высказано предложение, уже несколько лет вызревавшее в недрах официальных учреждений — о создании Всероссийского общества драматургов и композиторов (Всероскомдрам) с новым уставом, новыми задачами и целями (675, 1, 13). Оно появилось в 1930 г.
Общество, организованное более полувека назад А. Н. Островским, окончило свое многолетнее существование, запечатленное в огромным своде документов, которые достойны специального заинтересованного изучения.
856 Комментарии
1 См.: Литературные объединения Москвы и Петербурга. 1890 – 1917: Словарь. М., 2004.
2 Островский А. Н. Собраний сочинений: В 10 т. М., 1960. Т. 10. С. 123 – 124.
3 Там же. С. 88, 94.
4 Там же. С. 95 – 105.
5 Родиславский В. Об авторских правах на сценические произведения // Русский вестник. СПб., 1870. Т. 88. Июль – авг. С. 515.
6 Там же. С. 520.
7 Деятельность СДП освещена в самом общем виде в юбилейном издании: Обзор деятельности Общества русских драматических писателей и оперных композиторов за XXV-летие его существования. М., 1899.
8 См.: Из воспоминаний Ф. А. Бурдина // Вестник Европы. СПб., 1898. № 12. С. 576.
9 См.: Устав Общества русских драматических писателей. М., 1874.
10 См.: Обзор деятельности Общества русских драматических писателей и оперных композиторов за XXV-летие его существования. М., 1899. С. 10.
Протоколы общих собраний и заседаний Комитета ОРДП сохранились далеко не полностью. Часть их в виде выписок из журналов заседаний Комитета за 1881, 1883, 1884, 1886, 1891, 1901, 1911 и 1914 гг. находится в Государственном литературном музее (ф. 151). См.: Овчарова П. И. Общество русских драматических писателей: Обзор рукописного фонда // Новые материалы по истории русской литературы: Сб. научн. трудов (ГЛМ). М., 1994. С. 131 – 152.
11 Устав Общества русских драматических писателей. М., 1874. С. 1.
12 Устав Общества русских драматических писателей и оперных композиторов. М., 1896. С. 3.
13 См.: Петербургская газета. 1875. № 45. 23 марта. С. 2.
14 См.: Московские ведомости. 1875. № 87. 5 апр. С. 1.
15 См.: Обзор деятельности Общества русских драматических писателей и оперных композиторов за XXV-летие его существования. С. 96.
16 Там же. С. 23.
17 Небесная Т. С. Театральная афиша дореволюционной провинции России конца XIX – начала XX вв. // Вестник истории, литературы, искусства. М., 2007. Т. IV. С. 472.
18 Такое резюме Александр III начертал на записке И. Н. Дурново от 22 декабря 1898 г. Опубликовано: Покровский Ф. В. Г. Короленко под надзором полиции (1874 – 1903 гг.): К сорокалетию литературной деятельности // Былое. 1918. № 13. Кн. 7. С. 8 – 9; В. Г. Короленко в воспоминаниях современников. М., 1962. С. 178.
Письма В. Г. Короленко в ОРДПиОК, судя по всему, никогда не публиковались. Об этом свидетельствует лист использования данной единицы хранения фонда 2097.
До 2012 г. эти материалы никому не выдавались. Они отсутствуют в изданиях писем Короленко за разные годы. Только в одном из них, в примечании к письму В. Г. Короленко к Е. С. Короленко от 13 марта 1892 г. сказано: «В. Г. Короленко состоял с 1889 г. до конца своего пребывания в Нижнем Новгороде представителем “Общества драматических писателей и оперных композиторов”. На время своего отсутствия он поручал ведение дел Общества брату И. Г. Короленко» см.: Короленко В. Г. Избранные письма: В 3 т. / Под ред. и с примеч. Н. В. Короленко и А. Л. Кривинской. М., 1932. Т. II. С. 35.
857 О театральной жизни Нижнего Новгорода в эти годы см.: Фельдман О. М. Провинциальный театр // История русского драматического театра: В 7 т. / Редкол.: Ю. А. Дмитриев [и др.]. Т. 6: (1882 – 1897). М., 1982. С. 408 – 409; Беляков В. Н. Летопись нижегородского театра. Горький, 1967. С. 49 – 54.
19 Невежин П. М. Воспоминания об А. Н. Островском // А. Н. Островский в воспоминаниях современников. М., 1966. С. 257.
20 Устав Общества русских драматических писателей и оперных композиторов. М., 1896. С. 4.
21 Кропачев Н. А. А. Н. Островский: (Воспоминания его бывшего секретаря) // А. Н. Островский в воспоминаниях современников. М., 1966. С. 211 – 212.
22 Там же. С. 112, 556.
23 Невежин П. М. Указ. соч. С. 259.
24 Там же. С. 264 – 265.
25 Буренин В. Критические очерки: О современной драматургии // Новое время. 1895. № 7105. 8 (20) дек. С. 2.
26 Невежин П. М. Указ. соч. С. 273 – 275.
27 См.: Стрельцова Е. И. Частный театр в России: От истоков до начала XX века. М., 2009.
28 См., напр.: Каталог пиес членов Общества русских драматических писателей и оперных композиторов. М., 1887; Каталог пьес членов Общества русских драматических писателей и оперных композиторов. М., 1907 и др.
29 См.: Сочинения А. Лугового (А. А. Тихонова): В 3 т. Т. 1: Статьи, повести, рассказы и драматические произведения. СПб., 1894. С. 573. См. также фундаментальные исследования провинциального театра О. М. Фельдмана (История русского драматического театра. Т. 5. С. 259 – 388; Т. 6. С. 291 – 416).
30 Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма. Т. 7. М., 1979. С. 108.
31 Там же. С. 106.
32 См.: Обзор деятельности Общества русских драматических писателей и оперных композиторов за XXV-летие его существования. С. 43, 45.
33 См.: Петербургский листок. 1889. № 81. 25 марта. С. 2.
34 См.: Обзор деятельности Общества русских драматических писателей и оперных композиторов за XXV-летие его существования. С. 43 – 46.
35 См.: Московский листок. 1889. № 101. 12 апр. С. 2 – 3.
36 См.: Новости дня. 1889. № 2071. 12 апр. С. 3.
37 Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. Т. 2: 1889 – апрель 1891 / Сост. И. Ю. Твердохлебов. М., 2004. С. 373.
38 Член Общества. На заседании Общества драматических писателей // Московский листок. 1890. № 105. 16 апр. С. 3.
39 Немирович-Данченко Вл. И. Чехов // А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 288.
40 См. об этом: Обзор деятельности Общества русских драматических писателей и оперных композиторов за XXV-летие его существования. С. 51 – 55.
41 См.: Театр и искусство. 1897. № 6. 9 февр. С. 102.
42 См.: Там же. 1898. № 10. 8 марта. С. 198.
43 См.: Курьер. 1899. № 291. 21 окт. С. 3.
44 Дорошевич В. Юбилей Общества русских драматических писателей // Россия. 1899. № 179. 24 окт. С. 2 – 3.
45 858 См.: Новости дня. 1901. № 6390. 30 марта. С. 3; Курьер. 1901. № 88. 30 марта. С. 3.
46 Билибин В. Что творится в Обществе русских драматических писателей // Театр и искусство. 1901. № 47. 18 нояб. С. 844.
47 См.: Театр и искусство. 1902. № 51. 15 дек. С. 974; № 52, 22 дек. С. 1002. Подробнее см.: Королев Д. Г. Издательская деятельность Общества русских драматических писателей и оперных композиторов // Книга: Исследования и материалы. М., 1988. Сб. 75. С. 145 – 161. А также материалы фонда 2097: 1) дело о библиотеке ОРДПиОК и об издании пьес с 1890 г. В данной единице хранения — переписка С. Ф. Рассохина с Комитетом за разные годы; переписка с различными библиотеками, в том числе с Публичным и Румянцевским музеями, с Главным управлением по делам печати, с типолитографиями; списки афиш; списки пьес, сданных в библиотеку Общества (печатные и литографированные издания); финансовые документы по содержанию библиотеки и др. (1, 91); 2) материалы о литографировании дополнений к каталогу пьес членов Общества, списки пьес и др. (2, 1716).
Еще в 1883 г. Чехов аттестовал в своих фельетонах «Осколки московской жизни» деятельность Рассохина, иронизируя, что его Театральная библиотека известна «своей таксой, которую сочиняли для Рассохина нарочно приглашенные для этого цыгане и аптекари. За либретто, состоящее из каких-нибудь 3-4 страничек, дерет она 75 коп., за маленький водевильчик рубль, два… Продает дорого, покупает же по цене, получившей свое начало от князей-татар, скупающих поношенное старье…» (См.: Чехов А. П. Полн. собр. соч. Сочинения. М., 1979. Т. 16. С. 60 – 61).
Судьба библиотеки ОРДПиОК, которой никто не пользовался, неоднократно обсуждалась на общих собраниях и заседаниях Комитета.
48 Общество Русских Драматических Писателей и Оперных Композиторов. Записка В. В. Билибина. М., 1901. С. 18.
49 Ожигов Ал. [Ашешов Н. П.]. Немощи драматургов // С.-Петербургские ведомости. 1901. № 323. 24 нояб. С. 5.
50 См.: Московские ведомости. 1902. № 35. 4 февр. С. 5; Театральные известия. 1902. № 1312. 6 февр. С. 2.
51 Там же.
52 ГЦТМ. Ф. 324. Ед. хр. 204. Л. 1 – 2 об.
53 Там же. Л. 3 – 4.
54 См.: Московские ведомости. 1902. № 64. 6 марта. С. 5.
55 См.: Петербургская газета. 1902. № 87 и 89. 30 марта и 1 апр. С. 2.
56 Фланер [Кугульский (прав.: Кегулихес) С. Л.]. Заметки // Новости дня. 1902. № 6764. 10 апр. С. 2.
57 S [Кугульский С. Л.]. Буря в стакане воды // Новости дня. 1902. № 6765. 11 апр. С. 3.
58 Там же.
59 Э. Э. Матерн, как явствует из газетных публикаций, часто выступал заодно с В. А. Александровым. Еще в 1885 г. А. Н. Островский заметил в письме к И. М. Кондратьеву в связи с одним из инцидентов: «Александрова поджигают Немирович [Вл. И. Немирович-Данченко], Сумбатов, Матерн, Гридин и др.» (См.: Литературное наследство. Т. 88. М., 1974. С. 212).
60 См.: Московские ведомости. 1902. № 101. 12 апр. С. 5.
61 См.: Петербургская газета. 1902. № 99. 11 апр. С. 5.
62 859 Сумбатов А., кн. Острый момент Общества русских драматических писателей // Новости дня. М., 1902. № 6936. 30 сент. С. 2 – 3.
63 Сумбатов А., кн. Острый момент Общества русских драматических писателей // Новости дня. 1902. № 6937. 1 окт. С. 2.
64 См.: Островский А. Н. Указ. соч. Т. 10. С. 91 – 92, 214.
65 Там же. С. 338.
66 См.: Очерк десятилетия деятельности Союза драматических и музыкальных писателей (1903 – 1913). СПб., 1913. С. 4.
67 В первом уставе СДиМП среди целей были заявлены, кроме охраны авторских прав, содействие развитию драматической литературы и музыкального творчества в России, оказание всякого рода нравственной и материальной помощи членам Союза. Для этого Союз предполагал устраивать различные учреждения взаимопомощи (пенсионные, сберегательные, ссудные, потребительские, похоронные, страховые и проч.); учреждать для своих сочленов и их семейств приюты, санатории, больницы, общежития и проч.; учреждать и выдавать стипендии, пособия; устраивать спектакли, литературные и музыкальные собрания, публичные чтения; мог открыть клуб, музей, выставку; проводить конкурсы; охранять могилы умерших членов Союза; выдавать жетоны и т. д. и т. п. (См.: Устав Союза драматических и музыкальных писателей. СПб., 1903).
68 См.: Очерк десятилетия деятельности Союза драматических и музыкальных писателей (1903 – 1913). С. 7.
69 См. о деятельности СДиМП: Отчет СДиМП. СПб., 1905 – 1917; Каталог произведений членов СДиОК взамен всех каталогов, дополнений и прибавлений, изданных с 1903 г. по 1 сентября 1913 г. СПб., 1913; Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890 – 1917. М., 2004. С. 224 – 225.
70 См.: Московские ведомости. 1905. № 102. 13 апр. С. 5; 1914. № 85. 13 апр. С. 5; 1916. № 90. 20 апр. С. 5.
71 См.: Голос Москвы. 1909. № 70. 27 марта. С. 4.
72 Там же.
73 См.: Московские ведомости. 1910. № 69. 25 марта. С. 4.
74 См.: Московский курьер. М. 1914. № 11. 22 сент. С. 3.
75 См.: Обзор деятельности Общества русских драматических писателей и оперных композиторов за XXV-летие его существования. С. 28.
76 Открытие памятника А. Н. Островскому в Москве состоялось в 1929 г. (скульптор Н. А. Андреев, архитектор И. П. Машков).
77 См.: Матерн Э. А. Н. Островский и Общество русских драматических писателей и оперных композиторов // А. Н. Островский. 1823 – 1923: К столетию со дня рождения. М., 1923.
78 В связи с этим особый интерес представляет суждение А. П. Чехова о сути и о присуждении Грибоедовской премии, высказанное им в очередном фельетоне «Осколки московской жизни» в 1885 г. То бвло время, предшествующее созданию «Иванова», но уже после написания «Безотцовщины». Чехов писал: «Судьбы Грибоедовской премии, как и все, выходящее из-под станка нашего Общества драматических писателей, поразительны своею странностью. Известно, что эта злополучная премия была учреждена с целью поощрения молодых, начинающих драматургов, а между тем до сих пор она была выдана только двум лицам: председателю общества г-ну Островскому и г-ну 860 Чаеву, лицам не молодым, не начинающим и столько же нуждающимся в поощрении, сколько мед в подсахаривании. Поощрять нужно прапорщиков и поручиков, но не таких генералов от драмы, как А. Н. Островский. К чему поощрять генерала, если он и без того уже генерал? Кстати сказать, генерал получил 400 руб. премии за “Без вины виноватых”, которые успеха не имели. Г. Чаев получил такие же деньги за своего “Шуйского”, который провалился с парадом и колокольным трезвоном. И выходит, значит, что до сих пор Грибоедовская премия приносила один только вред: поощряла немолодых драматургов писать плохие пьесы — совершенно обратное тому, что имели в виду учредители премии» (см.: Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. М., 1979. Т. 16. С. 167, 478).
В подтексте этой сердитой иронической реплики о «генералах» и «прапорщиках и поручиках» от драмы, т. е. о молодых и начинающих драматургах, конечно, проступает скрытое противостояние Чехова предшественникам в области драматического творчества.
79 См.: История русского драматического театра. Т. 7. С. 39 – 100.
80 См.: Летопись литературных событий в России конца XIX – начала XX в. (1891 – октябрь 1917): В 3 вып. М., 2002 – 2005.
81 Доклад Комитета Общества русских драматических писателей и оперных композиторов за 1900 г. М., 1901. С. 7.
82 Немирович-Данченко Вл. И. Творческое наследие: В 4 т. / Сост., ред., коммент. и статья И. Н. Соловьевой. М., 2003. Т. 2. С. 580, 581.
861 Указатель имен114*
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н
О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я A-Z
Абрамов Г. М. 690, 703, 723, 735, 741
Аброскина И. И. 733
Аввакум Петрович 688
Авелин А. 582
Аверинцев С. С. 737
Аврелий М., имп. 303, 409, 449
Агаджанова-Шутко Н. Ф. 284
Адамович Е. М. 11, 82, 88, 102, 111, 113, 122, 173, 177, 192
Адан А. 320, 483, 576, 581, 626
Айвазовский И. К. 105
Айзман Д. Я. 846
Акимова М. В. 549
Аксаков С. Т. 111
Аксельрод Л. И. 746, 759, 760, 767, 768, 774, 778, 800
Акульшин Р. М. 854
Александр — см. Кочетовский А. В.
Александр Александрович, вел. кн. 63, 163
Александр Михайлович, вел. кн. 162, 163
Александр Ольденбургский, принц 299
Александр II, имп. 28, 61, 63, 144, 148, 159, 161 – 164
Александр III, имп. 24, 28, 35, 36, 46, 47, 63, 64, 69, 74, 78, 126, 153, 169, 821, 856
Александра Федоровна, имп. 29, 61, 143, 161, 162
Александра Фридерика Вильгельмина Ольденбургская 162
Александров В. А. 828, 831, 832, 846, 851, 858
Александрова (в замуж. Лепетич) Л. П. 253, 259, 289
Александрова Н. А. 165
Алексеев В. С. 573
Алексеев Вл. С. 826
Алексеев П. В. 803
Алексеевцева В. А. 186
Аллан М. 300
Аллегри О. К. 139
Альбенис И. 504, 526, 529
Альфонсо XIII, король 238, 239, 527
Алянский Ю. Л. 141
Амаглобели С. И. 625
Амфитеатров А. В. 836
Анатолий Петрович — см. Большаков А. П.
Андерсон Е. Ю. 88, 111, 176, 203
Андерсон Ш. 673, 681, 682, 705, 739
Андреев Д. А. 144
Андреев И. П. 19, 134, 136, 152
Андреев Н. А. 859
Андрей Белый [Бугаев Б. Н.] 531, 541, 542, 729
862 Андрей Владимирович, вел. кн. 29, 144
Андрей Печерский — см. Мельников П. И.
Анненков П. В. 801
Анненский И. Ф. 723
Ансерме Э. 214, 230, 235, 523 – 525
Антониони М. 726
Антропов В. Л. 828
Анциферов Н. П. 755
Аполлинер Г. 686
Апухтин А. Н. 154
Арбенин Н. Ф. 842
Арендс А. Ф. 22, 97, 98, 104, 107, 111, 116, 135, 145, 173, 192, 194, 198, 623
Ариосто Л. 285
Аристов Н. В. 828
Армсгеймер И. И. 185
Аронсон Б. 308
Арцыбашев М. П. 846
Асафьев Б. В. 7, 67, 70, 168, 419, 481 – 488, 629 – 662, 656
Асеев Н. Н. 585, 587, 607 – 610, 613, 619, 620, 622
Аташева П. М. 738
Афиногенов А. Н. 795
Бабанова М. И. 537
Бабель И. Э. 854
Багров М. Ф. 412
Бакеркина Н. А. 9, 11, 40, 59 – 61, 128, 129, 149, 158
Бакст [Розенберг] Л. С. 123, 174, 209, 214, 226, 228, 230 – 232, 235, 239, 296, 301, 371, 389, 419, 433, 457, 467, 505, 511, 526, 527, 531, 532, 533
Балакирев М. А. 122, 202, 208, 852
Баланчин (Баланчивадзе) Дж. 157, 229, 245, 246, 248, 283, 287, 290 – 292, 294 – 296, 426, 455, 456, 470, 476, 478
Балашова А. М. 19, 23, 82, 85, 123, 133, 194, 205, 207, 208, 561, 568, 571
Балдина А. В. 198
Балла Дж. 226, 239, 240, 241, 421
Балонов Ф. Р. 792
Бальмонт К. Д. 846
Барабанов Н. Ф. 300
Барлах Э. 687
Барнет Б. В. 854
Барокки Р. 466, 480, 509, 517, 518, 528
Басин Е. Я. 736
Бах И. С. 306, 473, 475, 632, 701, 737, 738
Бахрушин А. А. 9, 10, 12, 26, 58, 77, 81, 170, 745, 788, 797, 809
Бахтин М. М. 687
Бачелис И. И. 585 – 587, 590, 592, 615, 619, 622, 628, 685
Бегичев В. П. 69
Безобразов Н. М. 129
Беклемишева В. Е. 207, 789, 810
Беклин А. 685
Белая [Богдановская] С. И. 847
Белинков А. А. 679, 693, 709, 737, 739, 740
Белинская С. С. 182
Белов П. А. 680
Беляев 301
Беляева-Экземплярская С. Н. 773, 804
Беляков В. Н. 857
Бенвенист Э. 722
Бенкендорф П. К. 161
Бенуа А. Н. 100 – 102, 123, 131, 174, 175, 191, 209, 285, 301, 389, 447, 457, 468, 483, 505, 523, 527, 532, 569, 582
Бенуа Н. А. 294
Беньямин В. 807
Бер Б. Б. 623
Берар К. 286
Берг Ф. Ф., граф 164
Бергер А. 426
Бергер Н. А. 149
Бергман И. 725
Бергсон А. 685, 728 – 730, 742
Бердяев Н. А. 679
Береда Э. Н. 297, 300, 303, 314, 350, 365, 413, 418, 425, 429, 431, 438, 466, 470 – 472
Берже М. 426
Берзиньш Р. 579
Берковский Н. Я. 680
Берман Н. М. 797
Бернарделли 95
Бернерс Л. 574
Берри Дж. 475
Бертон К. 165
Бессарабова Н. 174
Бессель В. 301
Билибин В. В. 834 – 837, 840, 858
Билль-Белоцерковский В. Н. 807, 854
Благовещенская М. П. 449
Блохина И. Ф. 174
Блюменталь-Тамарин А. Э. 828
Боборыкин П. Д. 823, 831, 836, 846
Боброва Е. И. 170
Богданов А. А. 679
Богданов А. Н. 13, 90, 109, 127, 184
Богданов-Березовский В. М. 648, 655, 656, 662
Бодлер 197
Бойс У. 467
Бок П. — см. Bock P. D.
Боккерини Л. Р. 295
Бокль Г. 682
Болконский В. П. 844
Боль Н. фон 198
Больска (Скомпская) А. Ю. 42, 150
Большаков А. П. 211 – 228, 233, 234, 243, 468
Бомон Э. де 244, 283, 284, 285, 294
Бомонт С. У. — см. Beaumont C. W.
Бонапарт — см. Наполеон Бонапарт
Бонгарт 515
Бонч-Бруевич В. Д. 805
Борискович В. Г. 648, 653, 661
Борисов-Мусатов В. Э. 685
Борисоглебский М. В. 153, 185, 573
Борованский Э. 467
Бородай М. М. 827
Бородин А. П. 189, 198, 302, 312, 420, 525, 852
Боря — см. Кохно Б. Е.
Босх И. [Ерун Антонисон ван Акен] 687
864 Боттичелли С. 697, 698, 737
Боулт Дж. Э. 496
Бочаров М. И. 19, 25, 26, 40, 134, 136, 149
Бошан А. 290
Брамс И. 104, 111, 116, 133, 249, 286, 295
Брандт В. Э. 146
Брейгель П. 687
Брехт Б. 685
Брик (Каган) Л. Ю. 536, 551, 553
Брик О. М. 536
Бриттен Б. 678
Броан А. 165
Бродерсен Ю. Г. 655, 660
Бродский И. А. 685
Бродский Н. Л. 746, 750, 753, 757 – 759, 762, 764 – 766, 768, 769, 771, 782, 785, 786, 790, 791, 795, 796, 809
Бронштейн П. 449
Брук П. 685
Бруни Т. Г. 655
Брускетти-Митрохина А. Я. 497
Брюллов К. П. 105
Брюнель Р. 582
Брюсов В. Я. 533, 782, 844, 846
Булгаков А. Д. 20, 21, 82, 92, 134, 182
Булгаков М. А. 140, 476, 695, 755, 792, 795, 799
Бурджалов Г. А. 200
Бурдин Ф. А. 856
Буренин В. П. 823, 825, 836, 839, 857
Буржуа Л. 185
Буров А. К. 687
Буткевич М. Р. 663
Бутковская Н. И. 558, 563 – 566, 568 – 572, 574, 579, 581
Бутлерова А. С. 47
Буховецкая Ф. 161
Буцкой А. 319
Бэр Норман Ван Н. — см. Baer Van Norman N.
Бюфе Г. 550
Ваганова А. Я. 158, 320, 347, 426, 556, 630, 638, 655, 658, 662
Вагнер Р. 115, 139, 188, 202, 407, 409, 448, 449, 558
Вазем Е. О. 33, 47, 74, 146, 149, 153, 164, 167, 169, 184
Вайдман П. Е. 125
Вальтер В. Г. 169
Вальтер Федорович, Валечка — см. Нувель В. Ф.
Вальц К. Ф. 26, 55, 97, 134, 137, 139, 173, 189, 190, 195
Ван Гог В. 97
Ван Дейк 105
Вангер В. 290
Варковицкий В. А. 636, 655, 657
Варунц В. П. 176, 231, 526, 532
Васильев А. А. 665, 667, 668, 733, 735, 736, 738, 741
Васильева А. Г. 100
Васнецов В. М. 43, 80, 151, 168
Ватто А. 196
Вацлав, Ваца, Вацунел — см. Нижинский В. Ф.
Вебер К. М. фон 197
865 Веймарн К. П. 65, 165, 166
Вейнберг П. И. 846
Веласкес Д. 239
Великанов А. А. 738
Великанов В. В. 633, 634, 643, 644, 656
Венявский Г. 133
Вераша — см. Фокина В. П.
Вербицкая А. А. 829
Веригина В. П. 685
Вериковский М. И. 319
Веснин А. А. 687
Веснин В. А. 687
Ветрова Н. 416
Вечеслова Т. М. 657
Виале Ж. 476
Видор К. 727
Вильзак (Вильтзак) А. И. 301, 563, 577
Вилькина Н. М. 664
Вильтзак В. 301
Витвицкая Б. И. 573
Виттадини Ф. 294
Витте М. И., графиня 164
Витте С. Ю., граф 164
Вишневский А. Л. 823
Владимир Александрович, вел. кн. 63, 144, 163
Владимиров П. Н. 466, 479, 515, 531, 563, 568, 571, 576, 580, 581
Власов А. 551
Воейковы, семья 18
Войков П. Л. 853
Войнич Э.-Л. 808
Волинин А. Е. 197
Волков Е. 142
Волков Н. Д. 173, 589, 634, 657, 746, 766, 791, 798, 799, 811
Волкогонов Д. А. 665
Волконский [Муравьев] Н. О. 775, 804
Волконский С. М., кн. 55, 82, 93, 96, 102, 104, 130 – 132, 143, 156, 186, 194, 207, 245, 284, 304
Волошинов В. В. 655
Волынский [Флексер] А. Л. 14, 70, 71, 127, 139, 408, 449, 561, 574, 575, 582, 616, 625, 628, 798
Вольгейм (Вольхейм) Э. 569, 570, 580
Волькенштейн В. М. 854
Вольтер [Аруэ Франсуа-Мари] 167
Вольф А. И. 70 – 72, 153, 167, 168
Вонлярская / Фонлярская (Уварова) М. Ф. 165
Вонлярский / Фонлярский Ф. А. 265
Воннегут К. 704
Воробьев В. Е. 658
Воробьева А. М. 310, 320, 417, 425
Воронов-Гейкблюм Б. О. 116, 205
Воронцов-Дашков И. И. 153, 159
Врангель М. Д. 574
Всеволожская Е. Д. 24, 136, 137
Всеволожский И. А. 10, 24, 25, 30, 36, 40 – 42, 44 – 48, 56 – 58, 61, 73 – 75, 78 – 80, 82, 126, 129, 131, 136, 147, 152, 153, 158, 189, 194, 555, 573
Вуйциховская (Антонова) Е. 475
Вульф Е. И. 310
Вучетич Н. Г. 820
Выготский Л. 308
Высоцкая С. 308
Вязовкина В. А. 192
Габович М. М. 585, 588 – 590, 601, 606, 608, 609, 619, 623, 624
Габрилович Е. И. 534, 536, 540
Гаврилов А. М. 292
Гагарин 65
Гадон (Лихардова) С. В. 165
Гадон В. С. 48, 61, 62, 64, 126, 158, 159, 161, 166
Гадон С. С. — см. Иордан (Гадон) С. С.
866 Гадон Сергей Сергеевич 65, 165
Гадон Сергей Станиславович 165, 166
Гадон Софья Сергеевна 65
Гаевский В. М. 126, 142, 473, 574
Галат Н. П. 491
Галлиани В. А. 819
Гамсун К. 792
Гамула И. П. 157
Ганьи Р. — см. Гане Р.
Гапонов О. И. 169
Гарафола Л. 297, 413, 419, 421, 422, 425, 432, 438, 491, 497
Гардин В. Р. 854
Гаррик Д. 678
Гарсиа Лорка Ф. 737
Гартман Н. 728
Гаршин В. М. 49
Гаузнер Г. И. 536
Гвоздев А. А. 537, 551, 755, 779, 795, 805
Гедеонов А. М. 153
Гедеонов С. А. 46, 47, 72, 153, 168, 814
Гези П. 530
Гейер Б. Ф. 830
Гейерманс Г. 808
Гейне Г. 80, 171, 197, 617, 628
Гейнсборо Т. 678
Гейтен Л. Н. 189
Гельмер Г. 166
Гельфрейх (Виллие) Е. Я. 65, 165
Гельфрейх А. Б. 165
Гельцер В. Ф. 18, 69, 96, 97, 103, 128, 132, 190
Гельцер Е. В. 14, 18, 21, 23, 27, 31, 56, 58, 82, 88, 105, 106, 107, 110 – 113, 116, 117, 120, 123, 128, 132, 135, 145, 192, 195, 199 – 205, 207 – 209, 782, 807
Гендель Г. 574
Генис А. А. 795
Генке Н. 309
Георг V, король 88, 111, 564, 577
Гердт П. А. 47, 90, 92, 95, 153, 175, 183, 184, 186
Герман М. 740
Геронский [Янов] Г. И. 585, 612, 622
Гершуни Е. П. 655
Гессен И. В. 164
Гете И.-В. фон 197
Гизи 513
Гинзбург Л. Я. 741
Гинсбург Р. 289
Гиффорд Дж. 291
Глаголин Б. С. 809
Гладков Ф. В. 665, 733, 738, 792
Гладков А. К. 792
Глазунов А. К. 16, 22, 30, 31, 37, 52, 68, 75, 91, 95, 108, 111, 113, 115, 116 – 118, 122, 129, 131, 135, 148, 167, 181, 194, 198, 205, 208, 300, 443, 446, 483, 626, 627, 845
Гленвилл Дж. 427
Глинка М. И. 19, 45, 114, 150, 197, 301, 636, 656
Глиэр Р. М. 114, 173, 174, 202, Р. М. 627, 854
867 Гоголь Н. В. 45, 54, 55, 673, 683, 684, 686, 759, 775, 786, 808, 828, 830
Гозенпуд Н. А. 151
Голейзовский К. Я. 9, 11, 16, 19, 37, 131, 133, 208, 306, 414, 426, 472, 537, 585, 588, 591, 600, 602, 605, 607, 620, 622, 623 – 627, 631, 682, 685
Голицина С. К. 81, 130, 154, 172, 199
Голицын Д. М. 172
Голованов Н. С. 589
Головашенко Ю. А. 793
Головин 47
Головин А. Я. 37, 41 – 43, 82, 84, 87, 97, 98, 100, 101, 104, 105, 118, 134, 148, 150, 176, 189 – 191, 206, 533, 558
Головицер В. 581
Головкова Л. 159
Голубев В. 11
Гольденбродт Г. П. 849
Гольдштейн М. 205
Гомер 773
Гонгора Л. де 737
Гонтарев Е. А. 849
Гончарова Н. С. 7, 212 – 215, 223, 226, 229, 230, 235, 243, 371, 433, 453, 457, 468, 502 – 533
Горман Р. 554
Городецкий И. Д. 449
Горохова А. А. 579
Горская В. А. 90, 135, 173, 177, 184, 200
Горский А. А. 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18 – 24, 26, 29 – 31, 37, 42, 53, 58, 68, 70, 81 – 123, 127 – 129, 133, 134, 136 – 138, 145, 148, 149, 167, 172 – 174, 184, 304, 385, 386, 401, 440 – 444, 483, 555, 557, 558, 573, 588, 605, 625 – 627
Гофман Э. Т. А. 57, 58, 284, 408, 627, 793
Грабарь И. Э. 805
Гревс И. М. 755
Грейг А. С. 164
Грейг Ю. С. 164
Грекова И. [Венцель Е. С.] 681, 682
Гремина Н. С. 928
Григ Э. 23, 85, 113, 115, 133, 167, 198, 200
Григорьев С. Л. 175, 214, 215, 217, 229, 233, 234, 235, 239, 462, 467, 474, 479, 489, 494, 496, 499, 501, 514, 515, 517, 523 – 525, 528, 530, 559, 560, 563, 574, 577
Гридин 858
Гримальди Э. 82, 173, 190, 289
Гримальди, семья 474
Грипич А. Л. 685
Грир 291
Гриша — см. Мясин Г. Ф.
Гришин А. И. 580
Гроссе Э. 802
Грубин А. А. 792
Груздева И. В. 297, 414, 419, 470, 487, 498
Гуревич Л. Я. 745, 747, 749, 757, 766, 781, 782, 794, 798, 806, 810
Гуревич Я. Г. 798
Гуреневич М. 155
Гусев П. А. 661
Гуцков К. 846
Гюго В. 17, 35, 71, 103, 193, 197, 786, 808
Гюмери Ш.-А. 146
Давыдов [Горелов] В. Н. 54, 156
Дадамян Г. Г. 795
Дали С. 686
Данилин Я. 449
Данин Д. С. 682
Дарвин Ч. 84
Даргомыжский А. С. 197
Даунс О. 231
Дашевский 467
Де Базиль [Воскресенский В. Г.] 248, 285, 291, 420, 467, 473, 474, 479, 526
Дебюсси К. 208, 230, 500, 574, 632, 685
Девильер Е. Л. 113, 173, 515, 529, 530
Декарт Р. 794
Деларова Е. М. 247, 249 – 251, 274, 275, 276, 281, 285, 286, 293, 296
Деларош П. 105
Дельво П. 686
Дельдевез Э. 560
Дельдевез Э. М. 483
Демидов Г. А. 165
Деперо Ф. 240
Детома М. 468
Дефлен Э. 415
Дешевов В. М. 624
Джонс Р. Э. 232
Джонсон А. 286
Джордано Н. Р. 496
Джури А. А. 44, 82, 101, 152, 190, 626
Дивуар Ф. — см. Divoir F.
Дидло К. 41, 73, 110, 119, 150
Дитиненко В. П. 12, 177, 185, 789, 810
Дмитриев А. Н. 633, 636, 656, 657
Дмитриев Ю. А. 857
Дмитриевский И. А. 829
Дмитрий Романович — см. Костровский Д. Р.
Добржанская Л. И. 664
Добровольская Г. Н. 139, 199, 500, 654, 661
Добролюбов Н. А. 800
Добужинский М. В. 123, 209, 229
Долгополов М. 625
Долгорукая Е. М., княжна 162, 163
Долгоруков В. А. 815
Долин А. 455, 469, 559, 574, 576, 577
Долл Г. Дж. 285
Домашев Н. П. 624
Домбровский Н. С. 623
Доме-Львовский К. 429
Доренговская Н. А. 847
Дорошенко 156
Достоевский Ф. М. 482, 579, 673, 683, 686, 794, 810, 848
Дрейер К. Т. 681
Дриго Р. Е. 17, 95, 111, 121, 131, 140, 152, 157, 185, 205, 559, 560, 580
Дризен Н. В., бар. 130
Дробыш-Дробышевский А. А. 821
Дружинин А. В. 165
Дубровская [Длужневская] Ф. Л. 515, 531, 563, 576
Дукельский В. А. 284, 296, 526
Дунаева Н. Л. 170, 175, 230, 497
Дункан А. 14, 19, 31, 82, 85, 86, 120, 128, 133, 135, 196, 197, 202, 206, 300, 312, 386, 387, 395, 397, 398, 445, 483, 590, 594 – 596, 598, 600, 607, 614, 620, 625, 631
Дуччио — см. Дуччо ди Буонинсенья
Дымов [Перельман] О. 846
Дьюк В. — см. Дукельский В. А.
Дюбиссон 165
Дюкова А. Н. 827
Дягилев С. П. 559, 560, 563 – 565, 569 – 572, 576, 580, 581, 587, 600, 602, 620, 626
Дягилев С. П. 7, 11, 14, 82, 85, 88, 107, 109, 113, 129, 134, 173 – 176, 211 – 219, 228 – 241, 243 – 248, 252, 260, 261, 264 – 267, 269, 272, 279, 280, 283, 284, 286 – 292, 294 – 298, 300, 304, 305, 312, 314, 321, 338, 360, 365, 368 – 374, 386, 389, 396, 416, 419 – 421, 423, 424, 426, 427, 429, 431 – 438, 450 – 481, 483, 489, 493, 494, 496 – 533, 552
Евреинова А. А. 581
Еврипид 681
Егиазаров Р. И. 807
Егоров Б. Ф. 165
Егорова Л. Н. 100, 200, 427, 491, 563, 577
Елизавета Степановна — см. Авдеева Е. С.
Епифаний Премудрый 688
Ермолова М. Н. 780
Есенин С. А. 773
Ефимов К. Н. 657
Жабчинская Е. 301
Жак-Далькроз Э. 304, 310, 489, 491, 493, 498, 499
Жаховская-Чухманенко К. Г. 316, 331, 340, 374, 422
Жегин Н. Т. 125
Жемчужников А. М. 165
Женя — см. Мясина Евгения М.
Жерве 48
Жженов Г. С. 681
Живова З. С. 663
Жорж-Мишель М. 523
Жуков П. Ф.
Жуковский В. А. 197
Жуковский Р. К. 168
Завадский Ю. А. 663
Загорский М. Б. 756, 792, 793, 795
Задкова-Хвощинская Р. 503, 525
Займовский С. 449
Зайцев Д. О. 657
Замбелли К. 582
Занд Ж. 197
Засодимский [Вологдин] П. В. 824
Захаров Р. В. 555, 631, 634, 640, 642, 657, 659 – 661
Звегинцев В. А. 736
Звездочкин В. А. 629, 654, 655
Звенигородская Н. Э. 186, 193, 573
Зверев Н. М. 215, 217, 220 – 227, 231, 233, 234, 244, 288, 530
Зданевич И. М. 550
Земская Е. А. 795
Зивельчинская (Завильчинская) Л. Я. 771, 773, 774, 803
Зильберштейн И. С. 230
Зимин И. 162
Золотницкая Т. Д. 137
Зонн Д. 475
Зонов А. И. 799
Зорина В. [Хартвиг Е. Б.] 250, 251, 286, 296
Зорич С. 810
Ибер Ж. 468
Иванов Вс. В. 854
Иванов Вяч. Вс. 549, 695 – 697, 736, 737, 755, 799
Иванов Л. И. 10, 13, 18, 19, 24 – 26, 32, 57, 58, 67, 68, 95, 96, 102, 127, 129, 131 – 134, 137, 139, 140, 144, 145, 148, 157, 183 – 185, 188, 189, 192, 198, 205, 300
Иванов М. М. 30, 31, 75, 145, 170, 446
Иванова В. 573
Иванова Е. Т. 136
Иванова М. С. 733
Ивановский [Иванов] Н. П. 633, 637, 638, 646, 649, 651 – 653, 656, 662
Иващенко А. Ф. 137
Игорь — см. Стравинский И. Ф.
Игорь Глебов — см. Асафьев Б. В.
Ильин А. А. 798
Ильин П. И. 804
Ильинский А. А. 68, 110, 147, 198, 535
Ильф И. [Файнзильберг И. А.] 665, 667
Иогансон Х. П. 31, 90, 183, 184
Иолшин А. А. 77
Иолшина Л. А. 77
Иолшины, семья 77
Иордан О. Г. 657
Ипполитов-Иванов М. М. 123, 209
Ира — см. Нижинская-Кочетовская И. А.
Исаев Л. Л. 207
Искольдов 467
Иславина О. В. — см. Рыжова (Иславина) О. В.
Йейтс У. Б. 673, 685, 706, 792
К. Р. — см. Романов К. К., вел. кн.
Кавальканти Г. 726
Каверин Ф. Н. 746, 750, 757, 759, 769, 771, 801
Казовский Г. 415
Калтроп Д. К. 286
Каменев [Розенфельд] Л. Б. 76, 170, 854
Каменский А. П. 846
Каминка Э. И. 585, 586, 593, 623
Камышов (Камешев) 519
Камю А. 687
Кан А. 687
Кандауров П. 198
Кандинский В. В. 413, 686, 805
Каплан И. Л. 655
Капрович А. 551
Караваджо М. 699
Каравайчук О. Н. 656
Каралли (Коралли) В. А. 23, 82, 85, 102, 107, 108, 110, 117, 135, 173, 175, 192, 193, 195, 196
Карнецкий В. 420, 430, 432, 456, 462
Карпов Е. П. 830, 837, 846, 850, 852
Карпов П. И. 810
Карр Э. 687
Карсавина Т. П. 82, 158, 173, 214, 215, 224, 229, 299, 314, 320, 347, 426, 456, 470, 491, 556, 561, 568 – 571, 580, 581
Картер Х. 854
Карцев Г. П. 131
Катаев В. И. 799
Катанян В. В. 551
Каффи И. И. 136
Качалов [Шверубович] В. И. 746, 793, 799
Качуба В. 237
Кашин Н. П. 745, 746, 790, 811
Кашкин Н. Д. 25, 138, 139, 150, 189
Квалиашвили М. Г. 623
Квашнин-Саморин С. В. 52
Квецинский В. Ф. 847
Келлерман Б. 536
Киреев И. Н. 561
Кирико Дж. де 687
Кирочка — см. Нижинская К. В.
Киршон В. М. 854
Кистер (Кюстер) К. К. 45, 47, 78, 148, 152 – 154, 169
Кичеев П. И. 825
Клагсман Ж.-Б. 146
Кларк М. — см. Clarke M.
Клее П. 686
Клейман Н. И. 738
Клейнмихель М. Э. 163
Клейнмихель Н. П. 165
Клепинина В. Н. 535
Клер Р. 726
Клиберн В. 10
Книппер-Чехова (Книппер) О. Л. 746, 799
Коваленко Г. Ф. 308, 309, 414, 415, 425, 427, 574
Козачинский Ф. С. 131
Козинцев Г. М. 854
Козлов А. А. 449
Козлов А. М. 187
Козлов Ф. М. 23, 136, 195, 198, 231
Кокран Ч. Б. 244 – 246, 248, 250, 269, 270, 274 – 276, 283, 286, 288, 428
Кокто Ж. 218, 232, 283, 454, 455, 469
Колзаков К. П. 164
Колосова А. М. 106
Колосова Е. И. 106
Колышко И. И. 846
Кольер А. 794
Коля — см. Кремнев Н. В.
Комиссаржевский Ф. Ф. 207, 844
Конаев С. А. 9, 192, 200, 297, 434, 435, 436, 442, 489, 497, 499, 555
Кондратьев А. И. 753, 789 – 791, 797, 801
Кондратьев И. М. 820 – 823, 827, 830 – 833, 837, 841, 843, 844, 847, 849, 852, 858
Конецкий В. В. 682
Кони А. Ф. 824
Константин Константинович (К. Р.), вел. кн. 419
Константин Николаевич, вел. кн. 63
Константин Фридрих Петро Ольденбургский, герцог 162
Конюс Г. Э. 104
Копельман С. Ю. 810
Копо Ж. 293
Коппини А. 483
Копытова Г. В. 137
Корвин-Круковской В. В. 49, 50, 80, 155
872 Корвин-Круковской С. С. 155
Корвин-Круковской Ю. В. 49, 155, 171
Коренев М. М. 796
Корень С. Г. 657
Корещенко А. Н. 104, 105, 148, 194
Корибут-Кубитович П. Г. 451, 463, 467, 475
Коровин К. А. 23, 41 – 43, 82, 84, 87, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 110 – 112, 114 – 116, 117, 120, 134, 149, 150, 151, 156, 175, 189, 190, 191, 196, 199, 203, 205, 206, 208, 209, 584
Королев Д. Г. 858
Короленко Е. С. 856
Короленко И. Г. 856
Короленко Н. В. 856
Корсаковы, семья 50
Корсов Б. Б. 150
Коршунова В. П. 738
Коршунова Н. А. 629
Косоротов А. И. 846
Костомолоцкий А. И. 536
Костровский Д. Р. 217, 223 – 225, 227, 232, 235
Костя — см. Мясин К. М.
Кохно Б. Е. 244, 246, 283, 284, 290, 292, 476, 506, 515, 517, 520 – 522, 527
Кочетовская (Раковская) Д. 438
Кочетовский А. В. 297, 299 – 302, 306, 341, 342, 347, 371, 372, 375, 376, 412, 413, 414, 420, 422 – 424, 427, 437, 470, 476, 491
Кочетовский В. А. 438
Кочетовский Л. А. 333, 341, 364, 424, 470
Крандиевская Н. В. 550
Красовская В. М. 133, 191, 482, 487, 638, 658
Красовский Ю. А. 738
Крейн А. А. 623
Кремлевский [фон Эльтерман] Ф. И. 50, 155
Кремнев Н. В. 220, 222, 233, 234, 239, 563, 577
Кривинская А. Л. 856
Кривинская Е. 421
Кригер В. В. 19, 133, 201, 287, 306
Кронек Л. 84
Кротков Н. С. 561
Кругликов С. Н. 105
Крылов В. А. 809, 823, 825, 846
Крымова Н. А. 733
Крэг Э. Г. 685
Крюков А. Н. 656
Крюковский А. Ф. 846
Ксеничка — см. Сеченова-Иванова К.
Кубиков [Дементьев] И. Н. 757, 759, 767, 769, 773, 800
Кувакин К. С. 134
Кугель А. Р. 842
Кугульский [Кегулихес] С. Л. 858
Кудрина Ю. В. 161
Кузичева А. П. 813
Кузнецов А. В. 135, 138, 187, 192, 573
Кузнецов П. В. 208
Кузнецова-Бенуа М. Н. 570, 578, 580
Куилтер Р. 286
Куклимати П. 550
Куликов В. 174
Куликов Н. И. 169
Куличевская К. М. 95, 186, 188, 483
Купер Э. А. 207, 208, 500, 656
Курбас Лесь 309, 317 – 319, 417, 418
Курепин А. Д. 833
Куринная М. 308, 311, 312, 412, 413, 415, 416, 417
Куросава А. 684
Курочкин В. С. 823
Кшесинская М. Ф. 11, 14, 18, 26 – 29, 34, 49, 58 – 60, 82, 100, 112, 127, 129, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 157, 158, 483, 488, 490, 491, 559, 574
Кшесинский И. Ф. 10, 28, 59, 125, 142, 148, 167
Кшесинский Ф. И. [Кржесинский-Нечуй А.-В. Я.] 18, 132, 145, 187
Кьеркегор С. 687
Кякшт (Кякшто) Г. Г. 94, 96, 188, 347, 426
Лавренев Б. А. 854
Лавровский Л. М. 631
Ладовский Н. А. 687
Ладыженский Е. Б. 687
Лаксмур 291
Лалетин С. В. 581
Лалу Ф. 185
Лалуа Л. 285
Ламарк Ж.-Б. 84
Ламберт К. 451, 455, 456, 464, 467, 470, 476
Ланнер Ж. 476
Лао-цзы 684
Лапицкий Е. 311, 421, 461, 472, 473, 475, 476, 478
Лапицкий И. М. 44, 45, 151, 152, 463
Ларионов М. Ф. 7, 213 – 215, 223, 226, 227, 230, 232, 235, 240, 243, 371, 433, 451, 457, 467, 468, 502 – 533, 539
Ларош Г. А. 56, 70, 157, 167, 168
Лачинов В. П. 497
Лебедев П. Ф. 137
Лев, Лева, Левушка — см. Кочетовский Л. А.
Левинсон А. Я. 119, 194, 206, 562, 574, 581, 582
Левитан И. И. 805
Левицкий 321
Легат Н. Г. 23, 94, 96, 123, 136, 198, 199, 208, 277, 295, 419, 427, 483, 484, 487, 488, 559
Лейда Дж. 623
Леля — см. Мясин Л. Ф.
Леля, Лелечка — см. Мясина Елена М.
Ленский [Вервициотти] А. П. 82, 173
Лентовский М. В. 823
Леньяни П. 14, 18, 21, 22, 27, 79, 95, 127, 131, 132, 141, 145, 188
Леонардо — см. Винчи Л. да
Леонидов Л. М. 799
Леонкавалло Р. 236
Леонов Л. М. 799
Леонтьев И. Л. 155, 823, 837, 846
Лепешинская О. В. 657
Лепковская А. Н. 778, 780, 805
Лепковский Е. А. 805
Лермонтов М. Ю. 169, 206, 773, 848
Лернер Н. Н. 804
Лесков Н. С. 531, 798, 823, 830
Лесли Э. 554
Лешков Д. И. 73, 131, 169, 170, 573, 575
Лешковская Е. К. 800
Ливский М. П. 847
Лившиц Б. К. 308
Ликиардопуло [Попандопуло] М. Ф. 199, 201
Лилина (Перевощикова) М. П. 799
874 Лина — см. Хаскелис Л.
Линев Д. А. 832
Линевская Е. Э. 491
Линецкий П. И. 449
Липман Д. Я. 537
Липская Н. Ф. 316, 317, 322, 326, 327, 329 – 334, 347, 356, 361, 362, 363 – 366, 368, 369, 370, 419, 426, 428, 431
Липцын О. Ф. 663, 676, 733, 735
Лисициан С. С. 555
Лисицкий Эль 687
Лиссим С. М. 308
Лист Ф. 18, 19, 104, 132, 133, 290, 312, 315, 320, 333, 335, 421, 423, 424, 471, 626
Литвин Ф. В. [Шютц Ф.-Ж.] 42, 150
Литовский О. С. 625
Лифарь С. М. 319, 417, 421, 455, 456, 461, 469, 472, 473, 475, 478, 504, 520, 525, 526
Лишин Д. 296
Лобанов В. М. 169
Лобанов-Ростовский Н. Д., кн. 467
Лободанов А. П. 549
Лойтер Э. Б. 418
Локк Дж. 678
Лопухов А. В. 190
Лопухов Ф. В. 68, 128, 173, 443, 556, 580, 585, 624, 625, 630, 647, 655, 661
Лопухова Л. В. 216, 231, 435, 465, 478, 480, 509, 528, 556, 560, 563, 574, 577
Лоран, псевд. 185
Лужский В. В. 799
Луиджини А. 111
Луис П. 429
Лукас Л. 420
Лукомский Г. К. 578
Луначарский А. В. 55, 156, 210, 587, 589, 624, 746, 763, 796, 802, 854
Лунд Н. 319
Лурье Е. 286
Лыщинский 181
Львова М. Е. 165
Любимова К. 159
Любимов-Ланской Е. О. 807, 809
Людмила — см. Шоллар Л. Ф.
Людовик II, король 449
Людовик XIV, король 25, 33, 602
Люкас Л. 476
Люрса Ж. 296
Лютецкий А. О. 815
Лядов А. К. 105, 218, 227, 232, 239, 240, 300, 301, 430, 477, 525, 852
Лярская 165
Магритт Р. 686
Маевская Е. Л. 665
Маевский Л. К. 155
Мазилье Ж. 121
Майков А. А. 815, 816, 831, 832, 834, 837 – 839, 841
Майя [Боголюбова] В. В. 306, 623
Макарова — см. Макарова-Юнева Е. А.
Макарова А. П. 164
Максим Горький [Пешков А. М.] 660, 798, 800, 823, 846, 847
Максимова Е. С. 685
Максимовичи, семья 18
Малафеев В. М. 100
Малахиева-Мирович В. Г. 408, 439, 440, 448
Малевич К. С. 304, 305, 413, 686
Малиновская Е. К. 122, 126, 193, 199, 206, 208, 210, 303, 304, 588, 589
Малютин С. В. 151
Малютин Я. О. 155
Мама — см. Береда Э. Н.
Мамонтов С. И. 43, 77, 82, 130, 151
Мамонтов С. С. 134, 135, 175, 201
875 Мандельштам О. Э. 541, 737, 795
Мансфельд Д. А. 825
Марголин С. А. 319
Марджанов (Марджанишвили) К. А. 200, 320
Мария Александровна, имп. 162
Мария Павловна, вел. княг. 144
Мария Федоровна, имп. 62 – 64, 126, 161, 162, 170
Марк — см. Терещенко М.
Маркевич И. Б. 428
Марков П. А. 141, 745 – 747, 757, 760, 766, 769, 774 – 776, 778, 780, 793, 799, 811
Маркс К. 709
Маркуш Э. 479
Мартини С. 214
Масленников И. Ф. 658
Массне Ж. 139
Матвеич — см. Зверев Н. М.
Матерн Э. Э. 825, 847, 851, 858, 859
Матисс А. 240
Махайский В. К. 807
Машков И. П. 859
Маяковский В. В. 551, 623, 718, 759, 768, 799
Медведев П. М. 827
Мейербер Дж. [Бер Я. Л.] 35, 36, 40, 71, 73, 80, 147, 168, 295, 467
Мейерхольд Вс. Э. 126, 173, 176, 206, 309, 450, 471, 477, 534 – 554, 558, 630, 666, 685, 744, 746 – 748, 756, 757, 762, 764, 780, 786, 792, 794, 795, 799, 802, 806, 808, 809, 842, 854
Мекк М. К. фон 80
Мекк Н. Ф. фон 9, 15, 125, 127, 130, 131, 142, 155, 156, 172, 192
Мекк О. М. фон 80
Мекк С. К. фон — см. Голицина С. К.
Меллер В. Г. 308, 309, 311 – 314, 318, 319, 416, 420 – 422, 477
Меллер Н. Г. 422
Мельников И. А. 42, 54, 150, 156
Мельцер Р.-Ф. 146
Менжинская Л. Р. 851
Мердер З. П. 165
Мережковский Д. С. 202, 798, 848
Мессерер А. М. 133, 156, 173, 192, 193, 590, 624, 625
Метерлинк М. 295
Метнер Н. К. 306, 312, 316, 320, 346, 413, 425, 471
Меццакапо Э. 205
Мещерский И. А. 815
Мидзогути К. 725
Милле Э. 146
Минина Е. Н. 9, 28, 37, 62, 65, 66, 142, 495, 501
Минкус Л. 37, 104, 105, 123, 144, 145, 146, 168, 185, 193, 201, 205, 560, 580, 584
Минский [Виленкин] Н. М. 798
Миртов О. [Котылева О. Э.] 846
Мислер Н. 549
Мистенгет [Буржуа Ж.] 452, 468
Михаил Николаевич, вел. кн. 143
Михайлов А. Д. 737
Михайлов В. П. 738
Михайлов М. М. 662
Михалков Н. С. 682
Миша — см. Стефанович М. П.
Млодецкий И. О. 169
Мнухин Л. А. 578
Мовшенсон А. Г. 189
Модильяни А. 686
Моисеев И. А. 173, 585, 588, 589, 623, 624
Мокульский С. С. 308
Молчанов А. Е. 843
Мольер Ж.-Б. 261, 289, 415, 468, 786, 808
Монахов А. М. 555, 573, 588, 627
Мони К. — см. Money K.
Монте П. 523
Монтеклер М. де 468
Мордвинов [Шефтель] Б. А. 156
Мординсон Г. З. 155
Мордкин М. М. 82, 85, 107, 108, 110, 119, 135, 173, 175, 193, 236, 288, 299, 300, 306, 307, 318, 414, 417
Морин А. Г. 436
Морозов В. А. 658
Мосолова В. И. 85, 106, 108, 197, 198
Мравина [Мравинская] Е. К. 54, 156
Мравинский Е. А. 655
Мстиславский С. Д. 320
Мудрак М. М. 310
Мунштейн Л. Г. 844
Мур Г. 687
Муравьев Д. 736
Мурасаки Сикибу 738
Мусоргский М. П. 114, 201, 302, 312, 468, 476, 852
Мухина В. И. 661
Мэй [Гольденбер] Э. И. 610, 627, 628
Мюэлль М. де 285
Мясин К. М. 256, 258, 259, 274, 277, 278, 282, 288
Мясин Л. Ф. 7, 211 – 296, 427, 433, 437, 451, 453, 465, 467, 468, 469, 477, 478, 503, 507 – 513, 521, 523 – 525, 528, 529, 433, 559
Мясин Ф. А. 250, 254, 255, 264, 274 – 277, 287
Мясина (Милишникова, сценич. псевд. Орлова) Т. 251, 286
Мясина Евгения М. 243, 263, 278, 282, 289
Мясина Елена М. 252, 256, 258, 259, 262, 263, 264, 268, 270, 271, 272, 274, 277, 282, 287, 296
Мясина Р. Ф. 255 – 257, 259, 263, 268, 270, 273, 275, 282, 288
Мясина С. К. 252, 253, 254, 256, 258, 263, 268, 269, 277, 278, 282, 287
Мясина-Вайнбаум Т. Л. 251, 286
Мясницкий [Барышев] И. И. 847
Мятельникова Ф. 316
Набоков Н. Д. 266, 269, 284, 286, 290
Назаров А. М. 847
Наполеон Бонапарт, имп. 84
Наполеон III, имп. 34
Направник Э. Ф. 43, 147, 150, 151, 169
Не балетоман, псевд. 487
Небесная Т. С. 856
Небольсин В. В. 173
Невежин П. М. 823, 825, 846, 857
Нежданов Л. 627
Незлобин [Алябьев] К. Н. 568, 579, 827, 848
Некрасова О. В. 24, 137, 148, 177, 626
Нелидова Л. Р. 576
Неменский И. И. 137
Немирович-Данченко Вл. И. 10, 84, 116, 126, 192, 200, 202, 207, 209, 744, 746, 792, 793, 799, 823, 830, 832, 833, 849, 857, 858, 860
Немчинова В. Н. 237, 244, 256, 257, 265, 288, 479
Немчинова Л. Н. 237
Нерлер П. М. 737
Нестеренко 156
Нижинская-Кочетовская И. А. 297, 300, 303, 333, 341, 413, 423, 424, 470
Нижинская Б. Ф. 7, 170, 185, 218, 229, 235, 261, 289, 291, 297 – 480, 482, 483, 487, 488, 491, 498 – 500, 518, 524, 525, 531, 556, 559, 563, 574, 577
Нижинская Т. В. — см. Nijinsky T.
Нижинский В. Ф. 7, 212, 214 – 218, 220, 224, 227, 228 – 230, 232, 234, 236 – 241, 298, 299, 301, 303, 314, 320, 321, 325, 333, 346, 347, 350, 351, 354 – 356, 359 – 362, 364, 365, 369, 374, 412, 413, 415, 420, 423, 425 – 431, 434, 438, 440, 459, 462, 465, 466, 470, 471, 477, 479, 481 – 489, 498, 500, 502, 523, 682
Нижинский Л. А. 310
Нижинский-Маркевич В. И. 428
Никифоров Н. Н. 655
Николаев А. Н. 847
Николаев В. Н. 422
Николай Александрович, вел. кн. 28, 29, 59, 63, 64
Николай Константинович, вел. кн. 63, 162
Николай Михайлович, вел. кн. 28, 29, 143
Николай Николаевич младший, вел. кн. 161
Николай Николаевич старший, вел. кн. 34, 62, 162
Николай I, имп. 36, 61, 62, 143, 160 – 162
Николай II, имп. 27, 36, 75, 142, 143, 161, 185, 193, 848
Никольский З. А. 763
Никонов Б. 447
Нина — см. Липская Н. Ф.
Нина Моисеевна — см. Стефанович (по первому мужу Горкина) Н. М.
Ницше Ф. 303, 407, 408, 409, 444, 448, 449
Новерр Ж.-Ж. 41, 150, 447, 605, 627
Новиков И. А. 746, 766, 768, 797
Новицкий В. Д. 162
Новицкий П. И. 585, 586, 589, 592, 599 – 604, 611, 613, 615, 619, 622, 625
Носилов (Насилов) Н. И. 40, 125, 129, 149, 184
Нотович О. К. 836
Нувель В. Ф. 422, 438, 451, 461, 465, 467, 474, 476, 477 – 479, 515, 520, 522, 531
Облаков М. К. 96
Обухов А. Н. 466, 479, 571, 580
Обухов М. К. 94, 187, 466, 483
Обухова Е. К. 132
Овчарова П. И. 856
Оге Г. 145
Олеша Ю. К. 673, 679, 690, 691, 693, 695, 697, 701, 709 – 712, 714, 715, 719, 720, 737, 739, 740, 754, 795
Ольга Дмитриевна — см. Форш О. Д.
Ольденбургский П. 167
Онеггер А. 285
Оранский В. А. 623
Орик Ж. 245, 284, 285, 289, 295, 296, 458
Орлова (Милишникова) Т. — см. Мясина (Милишникова, сценич. псевд. Орлова) Т.
Ортодокс — см. Аксельрод Л. И.
Островский А. Н. 46, 62, 161, 746, 794, 808, 811, 812, 814 – 816, 823, 825, 828 – 830, 835, 838, 841, 842, 844, 845, 848, 852, 853, 855 – 860
Отказов Ф. — см. Каравайчук
Офицерова Е. М. 136
878 Оффенбах Ж. 145, 248, 285, 294, 428
Охлопков Н. П. 854
Павел Александрович, вел. кн. 63, 160, 162
Павлова А. П. [А. М.] 14, 23, 82, 100, 127, 136, 200, 224, 228, 236, 237, 266, 269, 287, 290, 292, 300, 320, 347, 386, 387, 426, 442, 479, 483, 487, 488, 491, 497, 526, 531, 562, 576, 581 – 584, 682
Пальмский Л. Л. 828
Парнах В. Я. 7, 534 – 554
Пастернак Б. Л. 782
Пати — см. Жаховская-Чухманенко К. Г.
Пашковская А. 310
Пельше Р. 795
Пенхержевский М. А. 164
Перголези [Драги] Д. Б. 523
Перегудова З. И. 144
Перетти С. 583
Перов В. Г. 805
Перро Ж. 13, 25, 32, 33, 37, 40, 67, 73, 119, 121, 127, 128, 145, 146, 188, 207, 582, 626
Перэ Б. 549
Пестриков В. Н. 561
Петерсон С. А. 657
Петипа Л. М. 147
Петипа М. И. 9 – 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22 – 25, 28 – 42, 53 – 59, 65 – 78, 81 – 85, 90, 91, 93 – 95, 97 – 99, 102, 104 – 107, 110, 112, 118 – 121, 125, 128, 129, 131, 132, 134 – 136, 138 – 140, 144 – 146, 148, 149, 152, 157, 167 – 170, 172, 175, 183 – 186, 188, 192, 194 – 196, 207, 304, 373, 405, 435, 441, 442, 446, 467, 468, 531, 556, 558 – 560, 562, 573, 575, 576, 582, 626, 627
Петипа Мариус Мариусович 23, 35, 147
Петипа Мария Мариусовна 38, 41, 75, 76, 94, 128, 136, 143, 170, 187, 483
Петипа Н. М. — см. Петипа-Чижова Н. М.
Петипа-Суровщикова М. С. — см. Суровщикова-Петипа М. С.
Петипа-Чижова Н. М. 75, 76, 170
Петракевич [по сцене Петрова] В. 584
Петрицкий А. Г. 319
Петров А. 549
Петров Е. [Катаев Е. П.] 665, 667
Петров Ф. Н. 745
Петрова О. 637
Петров-Водкин К. С. 685
Петровский А. П. 789, 790, 810
Петропавловская Л. В. 188
Петрушевский Д. М. 808
Петухова Ю. Н. 654
Пешков З. А. 823
Пикассо П. 213, 218, 226, 232, 239, 283, 284, 371, 433, 457, 467, 469, 527, 539, 574, 687, 699
Пиок Ж. 582
Пиотровский Адр. И. 854
Писемский А. Ф. 823
Пистолькорс О. В. 162
Плаггенборг Шт. 795
Плещеев А. А. 14, 66, 107, 127, 134, 153, 167, 192, 193, 195, 823, 830, 844
Плутарх 409
Победоносцев К. П. 46, 74, 75, 152, 153, 169
Погожев В. П. 45, 48, 79, 136, 137, 147, 152, 154, 170, 171
Подгаецкий М. Г. 536
Позняков Н. 626
Покровский М. И. 164
Покровский Ф. 856
Полдовский К. 475
Поливанов И. Л. 809
Поливанов Л. И. 789
Полунин В. Я. 285
Померанцев Ю. Н. 193
Понкиелли А. 148
Поплавская Е. Ф. 560, 561, 563, 564, 566 – 572, 576, 583, 584
Попов А. А. 664
Попов А. Д. 623, 664, 676, 732
Попов Н. А. 48, 116, 146, 155, 204, 322, 418
Попова (Новосельская) Н. В. 320, 425
Потемкина С. Б. 497, 451, 585, 624
Потехин Н. А. 825
Потулов Н. П. 165
Похитонов Д. И. 633, 638, 651 – 653, 656
Пратези Дж. 294
Преображенская О. И. [О. О.] 14, 18, 27, 56, 82, 92, 95, 128, 132, 190 – 192, 421, 574, 584
Притчард Дж. — см. Pritchard J.
Прозоровский Л. М. 804
Прокофьев С. И. 808
Прокофьев С. С. 214, 230, 235, 245, 261, 284, 306, 451, 460, 465, 467, 472, 478, 500, 516, 521, 524, 526, 530, 533, 632
Пропп В. Я. 707, 727 – 730, 739, 742
Протопопов В. В. 846
Пруна П. 574
Пруст М. 696
Прюн П. 284
Пуаре (Карпова) С. В. 301, 489 – 501
Пуаре В. Я. 490
Пуаре Э. Я. 490
Пуаре Ю. В. 490
Пуаре Я. В. 490
Пудовкин В. И. 854
Пульски Р. де 217, 218, 224, 229, 232, 237, 320, 333, 351, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 418, 423, 425, 429, 430, 459, 466, 470, 471, 474, 479
Пуни Ц. 37, 105, 106, 111, 112, 123, 132, 140, 144 – 146, 148, 157, 167, 201, 561, 626
Пуччини Дж 623
Пушкин А. С. 44, 54, 55, 104, 126, 587, 636, 657, 661, 695, 719, 737, 740, 773, 786, 808, 830
Пчельникова П. 137
Пьо Р. 526
Пюви де Шаванн П. С. 685
Рабинов М. 236
Рабинович И. М. 55, 56, 152, 156, 284
Рабле Ф. 687
Равель М. 504, 526, 527, 529, 632
Радунский А. И. 657
Разлогов К. Э. 741
Райан Э. Г. 199
Райн Е. Г. 111
Райнис Я. 560
Райт Ф. Л. 687
Рамбер / Рамберг М. 440, 489, 491, 494, 498 – 501, 560, 574
Рамю / Рамюз Ш.-Ф. 468
Расин Ж. 284
Распутин (Новых) Г. Е. 62, 161
Рассохин С. Ф. 155, 834, 837, 839, 842, 846, 858
Растрелли Б. 428
Ратанова М. Ю. 306, 414, 416, 419, 470, 487, 498
Рафаэль Санти 105
Рахманов В. П. 185
Рахманов Н. Н. 628
Рая — см. Туткевич Р.
Ребиков В. И. 685
Редер Г. М. 844
Рейнольдс Дж. 678
Рейнсгаузен Ф. А. 198
Рейнхардт [Гольдман] М. 248, 276, 278, 285, 294, 295, 428, 789, 811
Ремизов А. М. 846
Ренуар Ж. 727
Рерих Н. К. 176, 200, 301, 489, 493, 497, 498, 500
Рескин Дж. 735
Респихи О. 294
Риго Ж. 550
Риети В. 296
Римская-Корсакова А. В. 52, 134
Римский-Корсаков А. А. 16, 59, 125, 130, 134, 169
Римский-Корсаков А. Г. 142, 155, 156, 172, 192
Римский-Корсаков Б. А. 18, 132
Римский-Корсаков В. А. 52
Римский-Корсаков Г. А. 7, 9 – 210, 441, 443
Римский-Корсаков Н. А. 9, 43, 77, 78, 151, 174, 212, 215, 229, 232, 235, 296, 446, 453, 503, 523, 528 – 530, 632, 655, 852
Робеспьер М. 84
Ровескалли О. А. 294
Рогинский Б. А. 804
Родзянко М. В. 162
Родионов А. М. 761, 762, 777, 779, 783, 784, 788, 790, 805
Родиславский В. И. 815, 816, 818, 828, 856
Родченко А. М. 284
Рознер Э. 287
Розо А. 155
Рокси — см. Ротафель С. Л.
Роллан Р. 854
Ролло Ж. 318
Романов А. А. 574
Романов Б. Г. 59, 157, 300, 368, 431, 466, 473, 479, 571, 580, 581
Романов К. К., вел. кн. 15, 130
Романов Н. И. 800
Романович — см. Костровский Д. Р.
Романовский А. А. 310
Ромашов Б. С. 854
Ромола, Рома, Ромушка — см. Пульски Р. де
Роом А. М. 854
Рославлев У. (Ульяновский Р. А.) 622
Рославлева Л. А. 24, 82, 94, 97, 137, 190, 207
Россини Дж. 529
Ростоцкий Б. И. 450
Ротафель С. Л. 247, 248, 250, 268, 270, 274, 285, 290, 292, 272 – 274, 277, 290, 291
Роулинсон Д. 423
Рош М.-Д. 829
Рубинштейн А. Г. 85, 108, 111, 169, 170, 198, 203, 205, 301, 623, 845, 852
Рубинштейн И. Л. 228, 247, 269, 270, 272, 284, 285, 293, 314, 316, 420, 426, 467, 473, 476, 528
Румнев [Зякин] А. А. 306
Руо Ж. 574
Руставели Ш. 123
Руше Ж. 426, 565, 571, 572, 578
Рыжова (Иславина) О. В. 49, 80, 171
Рыжова В. Н. 800
Рыхлова К. 174
Рыхлякова 182
Рышков В. А. 58, 143, 157, 846
Рэй М. 550
Рюмин И. И. 186
Рябов В. А. 97
Рябов С. Я. 189
Рябцев В. А. 19, 82, 112, 116, 119, 133, 628
С. П., Сергей Павлович — см. Дягилев С. П.
Сабанеев Л. Л. 737
Сабуров С. Ф. 847
Савина [Кларк] В. 244, 245, 247, 249, 283, 287
Савина (Подраменцова) М. Г. 15, 27, 54, 130, 141, 156, 182, 780
Савицкая В. 480
Савицкий И. Ф. 137
Савицкий М. 480
Садовская (Лазарева) О. О. 204, 253, 288, 289
Садовская О. А. 116
Садовские 253
Садовский М. П. 253, 288, 289, 835
Садовский П. М. 800
Сазонов Н. Ф. 49, 155, 159, 160
Сакулин П. Н. 799
Салливен Л. 687
Салов И. А. 846
Салтыков-Щедрин М. Е. 623, 759, 769, 801, 823
Самарин С. Н. 574
Самков В. А. 230
Сангович Я. Г. 657
Санин [Шенберг] А. А. 322, 418
Сануйе М. 549
Сапелли Л. 294
Сати Э. 218, 232, 283, 284, 529
Сафо 429
Сафонов В. И. 135
Сахаров С. С. 661
Сахновский В. Г. 745 – 747, 750 – 753, 757, 759, 760, 770, 771, 777, 778, 780 – 782, 793, 794, 802
Саша — см. Кочетовский А. В.
Свердлин Л. Н. 537
Светинская В. Н. 177
Светлов [Ивченко] В. Я. 14, 127, 149, 150, 170, 192, 230, 405, 440, 443, 446, 447, 448, 487
Свешникова А. Л. 145
Свобода Вяч. 472
Секар-Рожанский [Рожанский] А. В. 43, 151
Семенов Н. П. 473
Семенова М. Т. 60
Сен-Леон А. [Мишель Ш.-В.-А.] 13, 32, 36, 66, 67, 70 – 73, 92, 103, 127, 128, 132, 145, 157, 167, 189, 193
Сергеев К. М. 657
Сергеев Н. Г. 129, 156, 185, 186, 385, 435, 441, 452, 467, 468, 555 – 584
Сергеев П. П. 137
882 Сергей Александрович, вел. кн. 61, 63, 158, 159, 160, 162, 193
Сергей Михайлович, вел. кн. 28, 29, 60, 143, 144
Сережа — см. Унгер С.
Серов А. Н. 104
Серов В. А. 151
Серт (Годебска, затем Натансон, Эдвардс) М. 228, 232, 235, 291, 507, 527
Сеченов И. М. 481
Сеченова-Иванова Е. 481, 482, 487
Сидоренко Л. 160
Сидорова И. Е. 174
Симонов Р. Н. 623
Синельников Н. Н. 827
Сиротинин Н. В. 419
Сиротинина И. Н. 419
Сироткина И. Е. 549
Скальковский К. А. 14, 34, 47, 127, 129, 153
Скриб Э. 284
Скрябин А. Н. 306, 312, 331, 422, 423, 460, 472, 478, А. Н. 685
Славина М. А. 156
Славинский (Славиньский) Т. 230, 431, 433, 451, 467, 503, 504, 516, 524, 526
Слонимский Ю. И. [Ю. О.] 10, 53 – 58, 66, 67, 69 – 74, 78, 79, 125, 138, 139, 157, 169, 500, 591, 625, 632, 642, 644, 659 – 661
Смирнов А. 319
Смирнов И. М. 137
Смирнова А. В. 685
Смирнова Е. А. 59, 157, 368, 431, 432, 466, 479, 571, 580, 581
Смирнова-Искандер А. В. 306, 313, 416
Смирнова-Сазонова С. И. 159
Смолич Д. П. 623
Смольцов И. В. 174, 264, 268, 281, 290, 588, 624
Смолярова Т. И. 577
Смышляев В. С. 739
Собинов Л. В. 82, 207, 872, 807
Собольщиков-Самарин Н. И. 820, 827
Соге А. 285
Соколов И. В. 536
Соколова (Sokolova) Л. [Маннингс Х.] 220, 230, 234, 515, 530
Соколова Е. П. 14, 47, 65, 127, 142, 153, 489, 491, 493, 495, 497
Сократе К. 232
Сокуров А. Н. 658
Солженицын А. И. 680
Соллертинский И. И. 625
Соловейчик Б. 408
Соловцов Н. Н. 827
Соловьев В. С. 449
Соловьев Н. Я. 823
Соломко 52
Сомов К. А. 224
Соня — см. Мясина С. К.
Сопкевич — см. Собкевич П. А.
Сосницкий И. И. 810
Софокл 680
Спенсер Г. 682
Спесивцева О. А. 215, 231, 292, 472, 473, 561, 564, 571, 572, 574 – 577, 581 – 584
Сталин [Джугашвили] И. В. 623, 694
Сталинский О. Н. 315, 635, 657, 660
Станиславский [Алексеев] К. С. 14, 44, 84, 86, 129, 151, 155, 309, 445, 666, 670, 675, 676, 683, 695, 702, 723, 730, 746, 798, 799, 826
Старый балетоман — см. Худеков С. Н.
Стасов В. В. 56, 150, 157, 168, 169, 662, 798
Стась — см. Нижинский С. Ф.
Стахович Александр А. 61, 153, 159, 160
Стахович Алексей А. 160
Стейнберг С. 687
Стенбок Г. К. 164
Стенбок-Фермор Я. И. 199
Степанов В. И. 14, 24, 92, 93, 96, 128, 129, 142, 185, 186, 385, 400, 440 – 443, 555, 556, 573
Степанова В. В. 50, 80, 81, 155
Степанова С. Р. 207
Стерн Л. 666, 672, 673, 677, 678, 689, 690, 693, 695, 699, 700, 702 – 705, 708, 721, 722, 724, 726, 729, 730, 735, 736, 740, 741
Стефанович (по первому мужу Горкина) Н. М. 417, 420, 422, 438
Столл (Столь) О. 290, 560, 564, 565, 569, 570, 576, 577
Столыпин П. А. 806
Стравинский И. Ф. 68, 167, 174, 176, 208, 214, 215, 223, 227 – 229, 231, 235, 237, 239, 240, 246, 266, 290 – 292, 312, 371, 415, 419, 421, 426, 433 – 435, 446, 452, 453, 468, 476, 489, 493, 494, 497 – 500, 505, 521, 525, 529, 532, 533, 574, 576, 618, 628, 632
Стравинский Ф. И. 42, 92, 150, 498
Стрельцова Е. И. 857
Стрепетова П. А. 92, 170, 182, 185, 780
Стриндберг А. 792
Стуколкин Т. А. 32
Суворин А. С. 49, 105, 194, 809, 833, 837, 842
Суворов Н. 174
Судейкина (де Боссé, в замужестве также Люри, Шиллинг, Стравинская) В. А. 563, 576
Судзука 447
Судэ П. 582
Сулэн П. 578
Сумарокова Л. 475
Сумароковы, сестры 237
Сумбатов (по сцене Южин) А. И. 800, 823, 832, 833, 835, 840 – 843, 846, 847, 849, 858, 859
Сургучев И. Д. 846
Суриц Е. Я. 20, 152, 174, 192, 208, 230, 231, 283, 297, 413, 414, 419, 451, 470, 487, 497, 498, 506, 525, 573, 654
Суровщикова-Петипа М. С. 66, 167, 207
Сухово-Кобылин А. В. 828
Схейен Ш. 523
Сыркина Ф. Я. 189
Таиров [Корнблит] А. Я. 208, 284, 306, 307, 309, 317, 414, 477, 666, 745, 746, 793
Талов М. В. 535, 536, 549 – 552
Тальновский А. А. 310
Танге (Тангэ) К. 687
Тарновский К. А. 824
Тартаковский М. Д. 822
Татаринов В. Н. 739
Татлин В. Е. 687
Твен М. 623
Твердохлебов И. Ю. 857
Теляковская (Миллер) Г. Л. 97, 137, 189, 190
Теляковский В. А. 12, 26 – 28, 30, 36, 41, 42, 48, 82, 84, 87, 94, 97, 99, 106, 107, 108, 109, 121, 139, 141, 142, 147, 150, 153, 186, 189, 190, 191, 193, 195, 198, 556 – 559, 573
Терещенко М. 315, 317, 318, 319, 344, 417, 425
Тимирязев К. А. 81
Тимофеев Л. И. 736
Тинторетто (Якопо Робусто) 699
Тихомиров В. Д. 21, 31, 39, 82, 88, 106, 110 – 112, 120, 121, 134, 173, 183, 200, 204, 206, 207, 210, 555, 585, 626, 782, 807
Тихонов (Луговой) А. А. 857
Тихонович В. В. 747, 758, 759, 760, 771, 775, 776, 780, 803
Тициан (Тициано Вечеллио) 699
Тищенко Б. И. 632
Ткач В. 318
Тодоров Ц. 736
Толлер Э. 535
Толстой Л. Н., граф 80, 152, 169, 170, 303, 439, 667, 759, 768, 794, 798, 801
Тольская Р. А. 733
Томмазини В. 239
Травский В. К. 847
Трахтенберг А. О. 846
Трегулова З. 496
Тренев К. А. 854
Трефилова В. А. 9, 125, 466, 480, 487, 491, 559, 563, 564, 577
Трибуц В. Ф. 661
Триоле (Каган) Э. 536, 551, 553
Трифонов Ю. В. 681
Троцкий [Бронштейн] Л. Д. 302, 755, 756, 795
Трувит — см. Абрамов А. И.
Труханова (Бостунова) Н. В. 504, 505, 526
Туано Арбо [Табуро Ж.] 440
Туманова А. С. 796
Тураев С. В. 736
Турбин С. И. 830
Тургенев И. С. 45, 768, 769, 797, 800, 823
Турчанинова Е. Д. 800
Туткевич Р. 330, 331, 421
Тынянов Ю. Н. 854
Тыркова А. 449
Тэсса — см. Шмедес (Пульски де) Т.
Тяпкин С. А. 847
Уайльд О. 303, 306, 409, 449, 801, 848
Уварова П. С. 77
Ук И. 551
Уланова Г. С. 657
Унгер С. 310, 311, 324, 419, 421, 461, 463, 472, 473, 476, 478
Унковские, семья 18
Уоррен Г. 554
Урванцев Л. Н. 846
Урусов Л. 449
Успенский А. В. 854
Успенский П. Д. 305
Фаберже К. 60
Фадерман Л. 317
Фараго Г. 286
Февральский [Якоби] А. В. 450, 755
Федор — см. Шаляпин Ф. И.
Федоров А. М. 846
Федоров В. Ф. 537, 550, 551, 553, 756, 795, 796
Федоров Л. И. (Федоров 2-й) 18, 132
Федоров П. С. 165
Федорова А. А. 561
885 Федорова Н. П. 761, 781, 782, 806
Федорова С. В. 82, 85, 103, 104, 108, 112, 119, 173, 200, 204, 205
Федоров-Давыдов А. А. 778, 779, 805
Федосова Е. М. 581
Фейе Р.-О. 440
Феликс [Гарсия Фернандес] 219, 241
Фелльнер Ф. 166
Фельдман О. М. 186, 193, 573, 857
Фенстер Б. Я. 655
Феоктистов Е. М. 153
Фигнер Н. Н. 16, 17, 28, 54, 126, 131, 142, 156
Фидлер В. В. 655
Филиппов В. А. 745, 746, 758, 759, 760, 764, 765, 770, 779, 780, 784, 796, 797
Филипповский Н. Т. 822
Фитингоф-Шель Б. А. 30, 144, 145, 157
Фихте И. 681
Флаэрти Р. 727
Флобер Г. 698
Фокин А. М. 300
Фокин М. М. 11, 14, 37, 42, 55, 68, 70, 82, 84 – 88, 96, 107, 108, 115, 120, 128, 129, 167, 172, 174, 176, 182, 198, 199, 206, 211, 228, 230 – 233, 236, 237, 239, 290, 291, 296, 299 – 301, 304, 305, 313, 315, 368, 386, 397, 398, 419, 420, 422, 432, 433, 441, 443, 444, 446, 450, 473, 474, 477, 478, 483, 483, 500, 502, 523, 529, 532, 556, 580, 596, 597, 602, 614, 625, 626, 628, 630, 682
Фоломеев К. И. 837
Фомин И. А. 687
Фонвизин Д. И. 130
Фонтейн М. 561
Фореггер (Фореггер фон Грейфентурн) Н. М. 622, 780, 799, 806
Фортунатов А. А. 750, 761, 784, 785, 808
Фортунатов А. Ф. 808
Форш (Комарова) О. Д. 316, 335, 340, 343, 424
Фош Ф. 583
Фра Беато Анжелико [Гвидо ди Пьетро] 234
Франк — см. Федоров В. Ф.
Франсе Ж.-Р. 295
Франц-Иосиф, имп. 216
Фредерикс В. Б. 573
Фридберг 153
Фридрих II, король 167
Фроловский В. А. 78
Фукс Г. 446
Фуллер Л. 200
Фурманов [Фурман] Д. А. 809, 854
Хайдеггер М. 687
Хайченко Г. А. 792
Хализева М. В. 810
Хардт Э. 558
Хаскелис Л. 316, 330, 421, 422, 456, 462, 474
Хейльбрун К. Г. — см. Heilbrun C. G.
Херинг Х. 687
Хлебников В. В. 622
Хлопов Н. А. 825
886 Хлюстин И. Н. 13, 97, 127, 129, 172, 173, 189, 193, 195, 236, 526
Хмелев Н. П. 622
Хогарт У. 244, 286, 678, 720 – 722, 740
Ходасевич В. Ф. 792
Ходлер Ф. 685
Ходотов Н. Н. 155
Хоер Ч. 310, 422, 461, 472, 473, 475, 478
Хоер Я. 310, 324, 420, 421, 422, 461, 462, 472, 473, 475, 478
Хой-нэн 684
Хрусталев В. М. 144
Худеков С. Н. (псевд. Старый балетоман) 73, 74, 99, 100, 118, 119, 125, 129, 144, 145, 169, 190, 191, 200, 447, 578
Цветаев И. В. 800
Цветаева М. И. 695
Цинкейзен Д. 288
Цитович В. И. 632
Цфасман А. Н. 627
Чайковский М. И. 15, 26, 126, 130, 131, 140, 148
Чайковский П. И. 9, 10, 15, 16, 19, 24 – 26, 31, 37, 43, 44, 46, 52 – 58, 67 – 69, 75, 114, 116, 122, 125 – 127, 130, 131, 135, 136, 138, 139, 142, 148, 155, 156, 157, 167, 168, 172, 185, 186, 192, 193, 198, 204, 208, 236, 248, 286, 295, 301, 302, 315, 320, 371, 434, 443, 446, 467, 468, 477, 483, 531, 576, 581, 626, 627, 632, 655, 661, 662, 782, 806, 823, 845, 852
Чаплин Е. Н. 131
Чаплин Ч. 550, 630, 655, 687, 725
Чарноцкая И. А. 589, 604, 607, 614, 616, 620, 626
Чебан А. И. 739
Чекетти Э. 73, 92, 144, 145, 183, 186, 188, 214, 220, 230, 233, 234, 491, 495, 499, 501, 559, 563, 576
Чекрыгин А. И. 152, 156, 185, 385, 441, 555, 573, 627
Челищев П. Ф. 246, 284, 290, 308
Чемберджи Н. К. 585, 587, 608, 611, 622
Чен С. 585, 590, 599, 603, 604, 609, 610, 612, 615, 620, 623, 627
Чепуров А. А. 152
Черемухина Н. И. 767, 773, 800
Черепнин Н. Н. 113, 174, 176, 209, 312, 315, 421, 446, 471, 483, 487, 532, 685
Черкасский А. 755
Чернов [Эйнгорн] А. Я. 42, 150
Чернова Н. Ю. 625
Чернышева Л. П. 465, 478, 528, 563, 577
Чеснаков В. П. 654
Чехов А. П. 46, 50, 152, 623, 673, 676 – 682, 705, 722, 725, 768, 823 – 825, 829, 831, 832, 839, 844, 846, 847, 853, 857 – 860
Чехов М. А. 177, 666, 669 – 672, 674 – 678, 680, 682, 683, 685 – 687, 690, 695, 697, 701 – 706, 708 – 710, 721 – 725, 727 – 729, 733 – 735, 739 – 742, 789, 810
Чжуан-цзы 684
Чиаурели М. Е. 854
Чижевская Д. Ф. 854
Чижов К. М. 170
Чижова — см. Петипа Н. М.
Чистова И. С. 164
887 Чистякова В. В. 233, 274, 501, 528
Чистякова Н. А. 233, 474, 501, 528
Чудинов С. В. 18, 23, 133, 136, 187
Чулаки М. И. 655
Чулков Г. И. 746
Чюрленис М. 685
Шавров Б. В. 560, 561, 657, 662
Шаляпин Ф. И. 46, 82, 134, 151, 207, 313, 316, 322, 323, 327, 329, 336, 338, 339, 341 – 344, 347, 349, 354, 356, 358, 359, 362, 369 – 377, 419, 425, 428, 429, 434, 436, 482, 792
Шанель Г. 469
Шанявский А. Л. 806
Шаповаленко Н. Н. 804
Шапошников Б. В. 745
Шарафф И. 286
Шарашидзе Т. Е. 623
Шарбонье П. 284
Шаронов В. С. 150
Шаршун С. И. 534, 535, 549, 550
Шаховской 94
Швейцер А. 685
Шевченко Ф. В. 799
Шекспир У. 318, 587, 673, 685, 773, 775, 793
Шелепин А. И. 174
Шелепин В. И. 174
Шеллинг Ф. 681
Шеман Н. С. 413
Шервашидзе (Чачба) А. К., кн. 185, 435, 441, 442, 555 – 584
Шереметьев, граф 80
Шереметьевская Н. Е. 623, 630, 654, 655
Шерман Н. С. 413
Ширипина Е. В. 662
Ширяев А. В. 13, 14, 94, 95, 127 – 129, 132, 157, 188
Шифрин Н. А. 308, 311, 312, 322, 415, 419, 421, 422
Шишкин И. И. 805
Шишко Н. М. 149
Шишков М. А. 25, 40, 136, 139, 149
Шкловский В. Б. 755
Шмедес (Пульски де) Т. 346, 369, 425
Шмидт И. Ф. 145
Шмидтгоф А. 155
Шмыгов Ф. Г. 793
Шоллар Л. Ф. 466, 479, 495, 501, 563, 577
Шолом-Алейхем 623
Шопен Ф. 86, 108, 111, 112, 114, 116, 117, 133, 198, 200, 306, 312, 315, 320, 331, 342, 346, 355, 421, 422, 423, 426, 446, 460, 471, 478
Шор О. А. 753
Шостакович Д. Д. 629, 632, 655
Шпажинский И. В. 823, 832, 833, 839, 844 – 846, 849
Шпенглер О. 685
Шретер В. А. 166
Штейман М. Т. 500
Штейнбок, граф 64
Штейнер Р. 541
Штейнпресс М. С. 168
Штеренберг Д. П. 284
Штраус И. (сын) 133, 248, 285, 295
Штраус Р. 212, 217, 228, 232, 247, 267, 291, 630, 655, 685
Шувалов П. П., граф 64
Шувалов П. А. 63, 64, 162 – 164
Шумихин С. В. 805
Шурц Г. 802
Шухаев В. И. 550
Щеглов Ив. — см. Леонтьев И. Л.
Щекотов А. Н. 169
Щепкина-Куперник Т. Л. 746, 825, 844, 846
Щукин Б. В. 622
Эган Р. Б. 554
Эганбюри Эли [Зданевич И. М.] 526
Эдвардс — см. Серт М.
Эдуард Андреевич — см. Крушевский Э. А.
Эдуард VII, король 314
Эйзенштейн С. М. 284, 536, 551, 623, 674, 691, 692, 695, 697 – 699, 701, 703, 705, 706, 737 – 739, 780
Эйхенгольц М. Д. 745
Экстер (Григорович) А. А. 306 – 309, 311, 414, 415, 416, 420, 423, 476, 477
Элайас 199
Эль Греко [Теотокопулос Доменикос] 225, 238, 697
Эльслер Ф. 33, 129, 146, 617, 628
Элюар П. 550
Эна (Виктория Евгения Юлия), королева 238
Энгели, семья 50
Энгельс Ф. 709
Энсор Дж. 687
Энтовен 496
Эрве Ф. 145
Эрлер М. А. 573
Эрмлер М. Ф. 854
Эске 418
Эстер — см. Цеховая А. И.
Эсхил 681
Эфрон (Литвин) С. К. 809
Эфрос Н. Е. 745, 746, 792, 799, 844
Юденич Н. Н. 53
Юдин П. Ф. 585, 589, 611, 612, 623
Юзеф Муле, султан 583
Юм Д. 678
Юнгфер Н. В. 828
Юфит А. З. 551
Юшкевич С. С. 846
Яворская (фон Гюббенет, кн. Барятинская) Л. Б. 48, 154
Яворский Е. В. 146
Языкова М. 449
Якобсон П. М. 746, 750, 752, 753, 766, 767, 784, 794, 799
Якобсон Р. О. 696
Яковлев В. В. 746
Яковлев Л. Г. 125
Якулов Г. Б. 245, 284, 520, 533
Янек — см. Хоер Я.
Ярон И. Г. 828
Яруллин Ф. З. 629
Ярхо Б. И. 747
Ясинский И. И. 140
Albenis — см. Альбенис И.
Algeranoff H. 576
Amable — см. Эмэбль М.
Apter-Gabriel R. 415
Ayers R. — см. Эйер Р.
Baer Van Norman N. 303, 413, 414, 419, 420, 425, 432, 442, 470, 472, 475, 477
Baker J. 552
Barocchi — см. Барокки Р.
Blondot R. — см. Блондо Р.
Bouvet Ch. — см. Буве Ш.
Bowlt J. E. 416
Brachard A. — см. Брашар А.
Brussel R. — см. Брюссель Р.
Buckle R. 472
Byng G. — см. Бинг Дж.
Cardaso L. R. 561
Carter A. 199
Charlot — см. Чаплин Ч.
Chauvelin J. 416
Cooper D. 232
D’Andrea J. 413
Dalrymple H. L. 413
Danuser H. 496
Diagilev S. P. — см. Дягилев С. П.
Dolin A. — см. Долин А.
Faderman L. 417
Filatoff N. 416
Fox — см. Фокс У.
Fry R. E. — см. Фрай Р. Э.
Garafola L. — см. Гарафола Л.
Garcia-Marquez V. 283
Gordon M. 549
Graham M. 498
Greskovic R. — см. Грескович Р.
Heilbrun C. G. 412
Horbachev D. 416
Hutchinson G. A. 440
Jeschke С. 440
Kandinsky V. — см. Кандинский В. В.
Lahusen S. 413
Lambert C. — см. Ламберт К.
Law A. H. 554
Lem A. 413
Levinson A. — см. Левинсон А. Я.
Low I. — см. Литвинова А.
MacDonald N. 438
Makaryk I. R. 415
Malevich K. — см. Малевич К. С.
Meyer F. 496
Milne J. 413
Misler N. 549
Mosch U. 496
Mudrak M. M. 416
N. N., псевд. 104
Parnac V. — см. Парнах В. Я.
Preston-Dulop V. 413
Proctor Th. 413
Purvis A. W. 496
Rambert M. — см. Рамбер / Рамберг М.
Ravel M. — см. Равель М.
Reinhardt M. — см. Рейнхардт М.
Rollot J. 417
Rouché J. — см. Руше Ж.
Sarabianov D. 413
Semenoff M. 412
Shead R. 470
Stravinsky I. 496
Souritz E. — см. Суриц Е. Я.
Tisserand M. — см. Тисеран М.
Tristan Klingsor, псевд. 584
Valois N. de — см. Валуа Н. де
Washton Londol R.-C. 413
Wiley J. — см. Уайли Дж.
Winestein A. 496
Zimmermann H. 496
Zorina V. — см. Зорина В.
891 Указатель театральных произведений
A-Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л
М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю
«12-я рапсодия» на муз. Ф. Листа 312, 315, 316, 333, 335, 339, 342, 343, 421, 423, 424, 471
«5-я симфония» на муз. А. К. Глазунова 98, 106, 113, 114, 116 – 118, 122, 124, 172, 205, 206
«Aventure des jouets» по Г. Х. Андерсену 579
«Biches» — см. «Лани»
«Cuadro flamenco», танцевальная сюита на народную испанскую музыку 451, 467
«En blanc» («3-я сюита») на муз. П. И. Чайковского 114, 122, 167, 172, 208
«En orange» на муз. Э. Гиро 85, 113
«Hamlet» — см. «Гамлет» на муз. Ф. Листа
«Jardin public» — см. «Публичный сад»
«Le donne di buon umore» — см. «Женщина в хорошем настроении»
«Les Enchantements d’Alcine» — см. «Чары Альсины»
«Les petits rien» В. А. Моцарта 202
«March Fuèbre» — см. «Траурный марш»
«Marche militaire» Ф. Шуберта 114, 202
«Miracle» — см. «Чудо»
«Nobilissime visione» на муз. П. Хиндемита и др. 284
«The Dance Dreams» на муз. Л. Минкуса, Р. Дриго, Ю. И. Блейхмана и др. 88, 111, 199
«Авдотьина жизнь» С. А. Найденова 847
«Ада и Лоллий» С. С. Прокофьева 214, 235
«Адам и Ева» — см. «Ромео и Джульетта» К. Ламберта
«Адриенна Лекуврер» Э. Скриба и Э. Легуве 284
«Аз и Ферт» П. С. Федорова 65, 165
«Азра» М. М. Ипполитова-Иванова 209
«Аида» Дж. Верди 236, 560, 567, 579, 821
«Аленький цветочек» Ф. А. Гартмана 111, 113, 199, 483, 485, 487, 488
«Амфион» А. Онеггера 285
«Анатэма» Л. Н. Андреева 173
«Анна де Кервилер» Э. Легуве 48, 154
«Аполлон Мусагет» И. Ф. Стравинского 246, 290 – 292
«Армида» — см. «Павильон Армиды»
«Баба Яга» на муз. А. К. Лядова 232
«Бабочка» Л. Минкуса 40, 149, 416, 419, 487
«Бабочки» на муз. Р. Шумана 212
«Байка про лису» («Байка про лису, петуха, кота да барана», «Le Renard») И. Ф. Стравинского 433, 452, 468, 503, 519, 525, 526
«Балет Людовика XV» 474
«Барабау» В. Риети 287
«Барсова кожа» М. И. Ипполитова-Иванова 123, 209
«Барышня-крестьянка» Б. В. Асафьева 636, 646, 649, 657, 661, 662
«Батюшкина дочка, или Нашла коса на камень» А. А. Шаховского 94, 188
«Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева 70, 588, 626, 633, 634, 647, 656, 657, 659, 661
892 «Баядерка» Л. Минкуса 29, 30, 36 – 40, 68, 71, 72, 74, 97, 106, 112, 113, 118 – 121, 128, 144, 147, 148, 168, 169, 172, 198, 479, 484, 560 – 562, 566, 569, 570, 578, 580, 583, 584, 597, 605
«Бедность не порок» А. Н. Островского 62, 161, 853
«Без вины виноватые» А. Н. Островского 853, 860
«Белая лилия» Б. В. Асафьева 484, 487
«Беотцовщина» А. П. Чехова 859
«Бесприданница» А. Н. Островского 853
«Бешеные деньги» А. Н. Островского 853
«Блуждающие огни» В. Л. Антропова 828
«Бова» — см. «Бова-королевич и Царевна-Лебедь»
«Бова-королевич и Царевна-Лебедь» на муз. А. К. Лядова 232, 509, 510, 511, 512, 525, 528
«Богатыри» А. П. Бородина 525
«Боги-попрошайки» Г. Генделя 574
«Борис Годунов» А. С. Пушкина 786
«Борис Годунов» М. П. Мусоргского 61
«Брак» П. П. Гнедича 846
«Брат наркома» Н. Н. Лернера 775, 804
«Бронепоезд 14-69» Вс. В. Иванова 854
«Бронзовый конь» Д. Обера 92
«Буря» П. И. Чайковского 54
«В горах Кавказа» Ив. Щеглова 846
«В наши дни» Н. Н. Шаповаленко 775, 804
«В старые годы» И. В. Шпажинского 846
«В турне. Балетное ревю спорта и турне» на муз. Ф. Пуленка 475
«Вакханалия» А. К. Глазунова 301
«Вакханалия» из оперы «Тангейзер» Р. Вагнера 115
«Вакханалия» на муз. А. К. Глазунова 108, 198, 300, 471
«Вальпургиева ночь» Ш. Гуно 302, 474
«Вальс-каприс» на муз. А. Г. Рубинштейна 85, 198
«Вальс-фантазия» на муз. М. И. Глинки 133
«Вампука, Принцесса африканская» В. Г. Эренберга 155
«Ванька-ключник» В. Л. Антропова 828
«Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка 538, 654
«Величие мироздания» на муз. Л. ван Бетховена 585, 624
«Венгерская рапсодия» на муз. Ф. Листа 133
«Венгерская свадьба», композ. неизвестен 244, 286
«Вендетта» 847
«Венецианский карнавал» Ц. Пуни 66, 167
«Весенняя сказка» на муз. П. И. Чайковского 661
«Весна священная» И. Ф. Стравинского 176, 229, 234, 299, 313, 347, 427, 433, 477, 489, 490, 493, 494
«Весталка» М. М. Иванова 31, 71, 72, 74, 75, 95, 168, 446
«Вечер постановок балетмейстера К. Голейзовского» 626
«Взятие Бастилии» Р. Роллана 854
«Вишневый сад» А. П. Чехова 173, 847
«Власть тьмы» Л. Н. Толстого 46, 75, 152, 169, 170, 665, 667
«Власть» А. Г. Глебова 750, 754, 788, 790, 795, 809, 811
«Военный марш» — см. «Marche militaire»
«Военный полонез» на муз. Ф. Шопена 133
«Воздушный пирог» Б. С. Ромашова 854
«Возлюбленная» на муз. Ф. Шуберта и Ф. Листа 293
«Волки и овцы» А. Н. Островского 50
«Волшебная лавка» — см. «Фантастическая лавочка»
893 «Волшебная лавка» на муз. Дж. Россини 234
«Волшебная флейта» Р. Дриго 94, 188, 560, 566, 570, 578, 580
«Волшебное зеркало» А. Н. Корещенко 37, 38, 71, 104, 105, 113, 121, 128, 148, 168, 194
«Волшебные грезы» Ю. Н. Померанцева 102, 172, 193
«Волшебные пилюли» Л. Минкуса 92, 185
«Волшебный вальс» на муз. А. Шмидтгофа 50, 155
«Воображаемые» Ж. Орика 296
«Времена года» А. К. Глазунова 37, 95, 148, 556
«Все еще танцуем», программа ревю 244, 287
«Вторая молодость» П. М. Невежина 846
«Вы были бы удивлены» программа ревю 290
«Газовое сердце» Т. Тцары 534, 549
«Галстук пионеров» П. Яльцева 854
«Гамлет» на муз. Ф. Листа 318, 412, 470, 477, 525
«Гамлет» У. Шекспир 15, 130, 685, 694, 709 – 712, 722, 739, 740, 789, 810
«Гарлемский тюльпан» Б. А. Фитингоф-Шеля 30, 58, 144, 157, 205
«Генеральша Матрена» В. А. Крылова 846
«Гений Бельгии» Э. Меццекапо 116, 135, 205
«Гибель “Надежды”» Г. Гейерманса 786, 808
«Гиньоль» на муз. Ж. Ланнера 476
«Голгофа» Д. Ф. Чижевской 854
«Голубая георгина» Ц. Пуни 66, 167, 441
«Голубой Дунай» на муз. И. Штрауса 133
«Голубой экспресс» Д. Мийо 454, 455, 468, 469
«Горе от ума» А. С. Грибоедова 65, 67, 156, 165
«Гороскоп» К. Ламберта 467
«Горящие письма» П. П. Гнедича 846
«Граф Нулин» Б. В. Асафьева 636, 657
«Гроза» А. Н. Островского 50, 853
«Груди Тиресия» Г. Аполлинера 686
«Гугеноты» Дж. Мейербера 42, 71, 150
«Д. Е.» М. Г. Подгаевского 536 – 538, 544, 547, 548, 550, 551
«Давид» («Царь Давид») А. Соге 247, 271, 285
«Даешь Европу!» — см. «Д. Е.»
«Данте-соната» на муз. Ф. Листа 467
«Дафнис и Хлоя» М. Равеля 229, 527
«Дафнис» — см. «Дафнис и Хлоя»
«Дачный муж» Ив. Щеглова 846
«Два вора» — см. «Роберт и Бертрам, или Два вора»
«Два вора» И. Ф. Шмидта, Ц. Пуни
«Два подростка» Ф. А. Корша 846
«Два товарища» по В. Н. Войновичу 664, 733, 738
«Двенадцатая ночь» по И. Ильфу и Е. Петрову 665, 667
«Дева Дуная» А. Адана 37, 40, 148
«Декамерон» Дж. Боккаччо 244
«Демон» А. Г. Рубинштейна 623
«Демоны» на муз. Н. Н. Черепнина (?) 312, 315, 330, 421, 423, 471
«Деревенский балет», композитор неизвестен 474
«Дети Ванюшина» С. А. Найденова 820, 847
«Детские игры» на муз. Ж. Бизе 248, 283, 285, 295
«Джаз» на муз. И. Ф. Стравинского 476
«Джиоконда» Дж. Понкиелли 38
«Диана де Пуатье» Ж. Ибера 293
«Дионис» на муз. А. А. Шеншина 626
«Докучные» Ж. Орика 261, 284, 289, 468, 478, 479
«Домашняя дипломатия» К. Бертона 165
894 «Дон Кихот» Л. Минкуса 36, 38 – 40, 72, 82 – 86, 89, 97 – 103, 105, 106, 112, 120, 121, 128, 135, 147, 168, 172, 173, 189 – 191, 479, 557, 558
«Дочь Гудулы» А. Ю. Симона 86, 92, 103, 104, 106, 108, 110, 114, 119, 124, 172, 190, 193, 195
«Дочь Микадо» В. Г. Врангеля 95, 188
«Дочь снегов» Л. Минкуса 72, 128
«Дочь фараона» Ц. Пуни 26, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 66, 69 – 72, 106, 112, 120, 121, 128, 140, 147, 168, 172, 187, 194, 441, 442, 559, 574
«Дядя Ваня» А. П. Чехова 796, 847
«Евгений Онегин» П. И. Чайковского 15, 25, 43, 44, 45, 52, 54, 55, 130, 131, 139, 151, 152
«Евграф, искатель приключений» А. М. Файко 854
«Египетские ночи» А. С. Аренского 228, 301, 315, 332
«Елена!» — см. «Прекрасная Елена»
«Жар-птица» И. Ф. Стравинского 123, 208, 228, 432, 433, 468, 521, 533
«Жемчужина» — см. «Прелестная жемчужина»
«Жена напрокат» С. Ф. Рассохина 50, 155, 846
«Женитьба Фигаро» П. Бомарше 625
«Женская чепуха» Ив. Щеглова 846
«Женщина в хорошем настроении» на муз. Д. Скарлатти 218, 226, 227, 230, 239, 241, 478
«Жертва Амуру» Л. Минкуса 95, 188
«Жига» на муз. И. С. Баха, Г. Ф. Генделя и Д. Скарлатти 244
«Жизель» А. Адана 68, 83, 106 – 108, 112, 114, 119, 128, 172, 174, 188, 195, 196, 197, 290, 300, 347, 426, 479, 483, 561, 562, 569 – 571, 576, 581 – 583, 597, 602, 624 – 626, 659
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» Л. Стерна 672, 689, 690, 693, 703, 704, 708, 724, 730, 731, 735, 740
«Жирафовидный истукан», комп. неизвестен 534 – 537, 539 – 542, 544, 545, 551, 553, 554
«Жирофле-Жирофля» Ш. Лекока 284
«Зависть» по Ю. К. Олеше 701
«Загмук» А. А. Крейна 623
«Звезда Гренады» Ц. Пуни 66
«Зефир и Флора» В. Дьюка 245, 283, 284, 286
«Злоба дня» А. П. Потехина 846
«Зойкина квартира» М. А. Булгакова 140
«Золотая рыбка» Л. Минкуса 86, 97, 104, 108, 112, 113, 119, 121, 190, 193, 205
«Золотой век» Д. Д. Шостаковича 629, 630, 654
«Золотой петушок» Н. А. Римского-Корсакова 212, 433, 453, 468, 502, 503, 509, 523, 528
«Золушка» Б. А. Фитингоф-Шеля 30, 45, 74, 95, 127, 144, 187, 188
«Золушка» Б. В. Асафьева 481, 482, 484
«Зорайя» Л. Минкуса 72, 74, 128
«Иванов» А. П. Чехова 46, 152, 847, 859
«Игорь» — см. «Князь Игорь»
«Игры» на муз. К. Дебюсси 299, 477
«Из-за мышонка» А. Розо, переделка Л. К. Маевского (Людвигова) 50, 155
«Измена» А. И. Сумбатова 847
«Иоланта» П. И. Чайковского 75
«Иосиф Прекрасный» С. Н. Василенко 606, 623, 626, 627
«Искушение пастушки, или Любовь-победительница» на муз. М. де Монтеклера 468
«Исламей» на муз. М. А. Балакирева 301
«Испания» на муз. М. Равеля 504, 526, 529
«Испанское каприччио» на муз. Н. А. Римского-Корсакова 631, 655
895 «Испытание Дамиса» А. К. Глазунова 37, 45, 95, 148
«Испытание любви» на муз. В. А. Моцарта (?) 239
«Кавказский пленник» Б. В. Асафьева 659
«Камаринская» М. И. Глинки 301
«Каменный гость» («Хореографические сцены по А. С. Пушкину») на муз. М. И. Глинки 631 – 634, 636 – 638, 646 – 649, 653, 656 – 658, 660 – 662
«Канцлер и слесарь» А. В. Луначарского 854
«Капризы бабочки» Н. С. Кроткова 441, 561
«Каприччио» на муз. И. Ф. Стравинского 229
«Карлугас» («Ласточка») Н. К. Чемберджи 622
«Карманьола» А. Станисласа 245
«Кармен» Ж. Бизе 53, 126, 236, 580, 623
«Карнавал» на муз. А. Г. Рубинштейна и др. 113, 202, 301, 471
«Катарина, дочь разбойника» Ц. Пуни 95, 188
«Катарина» — см. «Катарина, дочь разбойника»
«Кикимора» на муз. А. К. Лядова 218, 227, 232, 238, 239, 433, 525
«Кин, или Беспутство и гений» А. Дюма-отца 846
«Клеопатра» на муз. А. С. Аренского и А. К. Глазунова и др. 300, 332, 423, 471, 597
«Клоп» Г. И. Фиртича и Ф. Отказова 654, 656
«Клоринда, царица горных фей» Э. И. Келлера 92, 102, 114, 172, 182, 186, 193, 441, 555
«Книга III, глава I» Дюбиссона
«Князь Игорь» А. П. Бородина 96, 115, 198, 203, 420, 519
«Коварство и любовь» Ф. Шиллера 796
«Комедианты» Р. М. Глиэра 606, 627
«Комедия о Фроле Скобееве» Д. В. Аверкиева 664, 738
«Комус» на муз. Г. Перселла 467
«Конек-Горбунок» Ц. Пуни и др. 18, 28, 36, 66, 70, 72, 73, 83, 92, 95, 103, 112, 116, 121, 132, 168, 173, 188, 190, 193, 205, 301, 302, 470, 491, 561, 576, 604, 626
«Конец Крыворыльска» Б. С. Ромашова 854
«Контрабандисты» («Сыны Израиля») В. А. Крылова и С. К. Эфрона (Литвина) 789, 809
«Контролер спальных вагонов» Ф. А. Корша 846
«Конькобежцы» на муз. Дж. Мейербера 467
«Коппелия» Л. Делиба 31, 32, 37, 38, 96, 105, 113, 119, 145, 148, 187, 194, 290, 347, 426, 562
«Король Лир» У. Шекспира 665, 667
«Король Убю» А. Жарри 686
«Корсар» А. Адан и др. 38, 39, 112, 128, 168, 172, 187, 188, 199, 200, 624
«Котильон» на муз. Э. Шабрие 294
«Красавица с острова Лю-Лю» С. С. Заяицкого 623
«Красные маски» — см. «Маска красной смерти»
«Красный вихрь» («Большевики») В. М. Дешевова 585, 624
«Красный мак» Р. М. Глиэра 83, 173, 585, 602, 603, 605, 606, 611, 623
«Красный цветок» И. Щеглова 49, 155
«Крещендо» неизв. композ. 244, 286
«Кручина» И. В. Шпажинского 846
«Кукла» — см. «Табакерка»
«Купец Калашников» А. Г. Рубинштейна 75, 169, 170
«Лани» Ф. Пуленка 412, 437, 454, 468, 469, 470, 478
«Лебединое озеро» П. И. Чайковского 10, 16, 19 – 21, 38, 40, 52, 56, 60, 67 – 70, 83, 92, 96, 101, 102, 104, 112, 121, 896 126 – 128, 131, 133, 134, 136, 172, 173, 185, 190, 192, 193, 300, 301, 315, 347, 426, 434, 441, 446, 471, 479, 483, 488, 562, 618, 624, 629
«Лево руля» В. Н. Билль-Белоцерковского 854
«Легенда об Иосифе» на муз. Р. Штрауса 211, 212, 216, 217, 220, 228, 232, 233, 267, 280, 291
«Ледяная дева» на муз. Э. Грига 68
«Лес» А. Н. Островского 50, 654, 751, 794
«Ливанская красавица» Ц. Пуни 66, 128, 167
«Лиса и Петух» — см. «Байка про лису»
«Литургия» 215, 230, 235, 371, 433, 503, 523, 525
«Лунный свет» на муз. Л. ван Бетховена 133
«Любовь быстра!» на муз. Э. Грига 68, 88, 106, 113, 114, 124, 167, 172, 202
«Любовь Яровая» К. А. Тренева 854
«Мазурка» на муз. Г. Венявского 133
«Макбет» У. Шекспира 318, 665, 692
«Максимисты» А. Э. Блюменталь-Тамарина 828
«Мандат» Н. Р. Эрдмана 750, 799
«Маркобомба, или Сержант-волокита» Ц. Пуни 32, 145, 146
«Марш Ракоши» на муз. Ф. Листа 133
«Маска красной смерти» Н. Н. Черепнина 113, 123, 176, 208
«Маскарад» М. Ю. Лермонтова 118, 176, 206, 848
«Матросы» Ж. Орика 245, 283, 284, 286 – 288, 295
«Медвежья свадьба» А. В. Луначарского 854
«Мельник — колдун, обманщик и сват» А. О. Аблесимова 786
«Менины» на муз. Г. Форе 218, 232, 238, 241, 574
«Менуэты» на муз. Л. ван Бетховена 133
«Меркурий» Э. Сати 239, 245, 261, 284
«Мефисто» — см. «Мефисто-вальс»
«Мефисто-вальс» на муз. Ф. Листа 312, 316, 340, 357, 424, 428, 471
«Мечты» на муз. Г. Берлиоза 300
«Мидас» М. О. Штейнберга 229
«Миллионы Арлекина» («Арлекинда») Р. Дриго 45, 152
«Милые призраки» Л. Н. Андреева 848
«Мистерия» — см. «Литургия»
«Мистерия-буфф» В. В. Маяковского 756
«Млада» Л. Минкуса 72, 73, 168
«Мятеж» по Д. А. Фурманову 788, 809, 854
«На Борисфене» С. С. Прокофьева 526
«На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского 799
«На дороге» на муз. Л. Лукаса 420, 476
«На жизненном пути» В. А. Александрова 846
«На перепутьи» И. И. Армсгеймера 129, 441
«Нарцисс и Эхо» Н. Н. Черепнина 313, 471, 519, 532
«Нарцисс» — см. «Нарцисс и Эхо»
«Нарцисс» на муз. Ф. Шопена 133
«Наше будущее» на муз. У. Бойса 467
«Наяда и рыбак» Ц. Пуни 129
«Недоросль» Д. И. Фонвизина 130
«Немая из Портичи» («Фенелла») Д. Обера 236
«Нерон» А. Г. Рубинштейна 115, 203, 205
«Несносные» — см. «Докучные»
«Нищие духом» А. П. Потехина 846
«Новый Фауст» В. В. Билибина 835, 837, 840
«Ноктюрн» на муз. П. И. Чайковского 204
897 «Ноктюрн» на муз. Ф. Шопена 200, 293, 310, 312, 421 – 423, 471
«Ночное солнце» — см. «Полуночное солнце»
«Ночь в Мадриде» М. И. Глинки 114, 202
«Ночь и день» Л. Минкуса 205
«Ночь на Лысой горе» М. П. Мусоргского 114, 172, 202, 312, 423, 468, 476
«Нур и Анитра» А. А. Ильинского 37, 68, 83, 86, 88, 106, 109, 113, 114, 120, 144, 147, 148, 167, 172, 198
«Обмануться в расчетах» А. Броан 165
«Овечий источник» Лопе де Вега 786
«Овод» по Э. Л. Войнич 786, 808
«Огненный ангел» С. С. Прокофьева 521, 533
«Ода» Н. Д. Набокова 243, 246, 269, 283, 284, 290 – 292
«Оживленные цветы» А. Ю. Симона 193
«Окно в деревню» Р. М. Акульшина 854
«Онегин» — см. «Евгений Онегин»
«Ориенталь» на муз. Ф. Шопена 133
«Орленок» Э. Ростана 846
«Орфей» К. В. Глюка 133, 445, 580
«Осенняя песнь» на муз. П. И. Чайковского 301, 302, 477
«Отелло» Дж. Верди 299
«Относительные ценности» Н. П. Коуарда 283
«Очарованный лес» Р. Дриго 58, 102, 157, 193, 205
«Павел I» Д. С. Мережковского 848
«Павильон Армиды» Н. Н. Черепнина 87, 88, 174, 198, 228, 315, 468, 483, 485, 519, 532
«Парад» Э. Сати 218, 232, 239, 243, 283, 437, 469, 478
«Парижские вечера графа Этьена Бомона» 245, 283, 284, 285
«Парижский рынок» Ц. Пуни 66, 167
«Парижское веселье» на муз. Ж. Оффенбаха 248, 283, 285
«Партизанские дни» Б. В. Асафьева 659
«Патетическая» на муз. Л. ван Бетховена 133
«Пахита» Э. М. Дельдевеза — Л. Минкуса 39, 78, 132, 187, 290, 483, 485, 560 – 562, 566, 568, 574, 578, 579, 584
«Паяцы» Р. Леонкавалло 224, 236
«Пер Гюнт» Г. Ибсена 86, 113, 173, 200
«Первая муха» В. А. Крылова 846
«Персефона» И. Ф. Стравинского 293
«Песнь горя» В. А. Александрова 846
«Песнь соловья» на муз. И. Ф. Стравинского 227, 240, 291
«Петрушка» И. Ф. Стравинского 68, 87, 88, 167, 174, 224, 228, 229, 233, 235, 291, 301, 308, 312, 314, 315, 323, 324, 326, 415, 419, 420, 423, 432, 433, 471, 491, 618, 628
«Петрушки» — см. «Петрушка»
«Пижама-джаз», композитор неизвестен 244, 288
«Пиковая дама» А. С. Пушкина 697, 737
«Пиковая дама» П. И. Чайковского 15, 43, 44, 52, 75, 126, 131, 152, 156
«Пионерия» («Чавдарчо») на муз. В. В. Волошинова и М. И. Чулаки 630, 655
«Пир короля» А. Г. Шапошникова 114, 123, 208
«Пираты» — см. «Бандиты» Л. Минкуса
«Пламя Парижа» Б. В. Асафьева 588, 591, 633, 656, 657, 659
«Плач Царевны-Лебедь» — см. «Бова-королевич и Царевна-Лебедь»
«Пляж» на муз. Ж. Франсе 295
«Поджигатели» А. В. Луначарского 854
«Половецкие пляски» А. П. Бородина 108, 115, 198, 301, 302, 304, 314, 315, 325, 331, 369, 420, 423, 432, 533
«Полонез» на муз. Ф. Шопена 133
«Полуночное солнце» («Ночное солнце») на муз. Н. А. Римского-Корсакова 215, 223, 230, 235, 241, 287, 433, 503, 509, 523, 528
«Помпеи à la Мясин» Л. Г. Ганна 244, 288
898 «Последний решительный» Вс. В. Вишневский 630, 654
«Послеполуденный отдых фавна» К. Дебюсси 214, 216, 224, 229, 230, 235, 236, 296, 299, 313, 440, 471, 477, 494, 500, 574
«Потонувший колокол» Г. Гауптмана 48, 154
«Похороны змея» на муз. А. К. Лядова 232, 525
«Поцелуй феи» И. Ф. Стравинского 293
«Поэма экстаза» на муз. А. Н. Скрябина 312, 331, 332, 422, 423
«Предзнаменования» на муз. П. И. Чайковского 248, 286, 295
«Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха 248, 274, 285, 294
«Прекрасный Дунай» на муз. И. Штрауса-сына и Й. Ланнера 243, 248, 285, 295
«Прелестная жемчужина» Р. Дриго 92, 185
«Прелюдия» («Прелюд») на муз. Ф. Шопена 133, 421, 422
«Прелюды» на муз. Ф. Листа 290
«Привал кавалерии» И. Армсгеймера 187
«Призрак розы» на муз. К. М. фон Вебера 229
«Приключение на искусственных водах» П. Каратыгина 65
«Принцесса Брамбилла» по Э. Т. А. Гофману 284, 751, 793
«Принцесса Греза» Э. Ростана 48, 154, 846
«Принц-садовник» на муз. А. А. Давидова 483
«Пробуждении Флоры» Р. Дриго 92, 95, 185, 188
«Проделки Скапена» Ж.-Б. Мольера 786
«Продолжаем танцевать», программа ревю 244, 286
«Пророк» Дж. Мейербера 295
«Публичный сад» В. Дьюка 280, 296
«Пугачевщина» К. А. Тренева 854
«Пульчинелла» И. Ф. Стравинского 229, 239, 243, 288, 437
«Путаница» П. С. Федорова 165
«Рабыни веселья» В. В. Протопопова 846
«Разбойники» Ф. Шиллера 767, 800
«Разлом» Б. А. Лавренева 854
«Раймонда» А. К. Глазунова 10, 16, 22, 23, 30, 37, 38, 40, 45, 53, 71, 72, 75, 83, 91, 96, 107, 110, 112, 121, 127, 128, 131, 134 – 136, 149, 152, 168, 172, 173, 175, 176, 195, 479, 483 – 485, 597, 604, 626, 627, 662
«Рапсодия» — см. «12-я рапсодия»
«Рапсодия» — см. «Венгерская рапсодия»
«Рапсодия» на муз. Ф. Листа (2-я рапсодия) 19, 133
«Расточитель» Н. С. Лескова 830
«Ревизор» Н. Н. Гоголя 54, 55, 156, 165, 750, 762, 786, 808
«Ревю Кокрана 1926», программа ревю 244
«Регтайм» на муз. И. Ф. Стравинского 229, 476
«Ржавчина» В. М. Киршона и А. В. Успенского 854
«Роберт и Бертрам, или Два вора» И. Ф. Шмидта, Ц. Пуни 32
«Родина» Г. Зудермана 50
«Родина» Е. Паладилье 295
«Роза, фиалка и бабочка» П. Ольденбургского 66, 167
«Роксана, краса Черногории» Л. Минкуса 72, 74, 128
«Роман бутона розы» Р. Дриго 441
«Ромео и Джульетта» К. Ламберта 451, 452, 455, 456, 458, 476
«Ромео и Джульетта» П. И. Чайковского 52, 54, 631, 655
«Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева 588
«Ромео и Джульетта» У. Шекспира 623
«Рот-Фронт» А. Н. Цфасмана 605
«Русалка» А. С. Даргомыжского 96
«Руслан и Людмила» М. И. Глинки 42, 150, 441
899 «Русские сказки» на муз. А. К. Лядова 218, 227, 232, 240, 287, 296, 433, 503, 512, 525, 528
«Руфь» М. М. Ипполитова-Иванова 209
«Ручей» Л. Делиба и Л. Минкуса 483
«Рычи, Китай!» С. М. Третьякова 538, 654
«Рюи Блаз» В. Гюго 786
«Садко» Н. А. Римского-Корсакова 43, 52, 77, 78, 151, 441, 511, 529
«Саламбо» А. Ф. Арендса 31, 83, 86, 106, 107, 110 – 114, 124, 145, 172, 173, 196
«Саламбо» А. Ф. Арендса 623
«Салтан» — см. «Царь Салтан»
«Сандрильона» — см. «Золушка»
«Свадебка» И. Ф. Стравинского 214, 223, 229, 235, 297, 313, 315, 371, 412, 433, 452, 453, 458, 468, 475, 503, 518, 520, 524, 532
«Свадебный кортеж» Д. Д. Шостаковича 654
«Свадьба Авроры» П. И. Чайковского 452, 468, 475
«Свадьба Амура и Психеи» А. Онеггера 293
«Свадьба в Кракове» на муз. К. Курпиньского и Ю. Дамсе 187
«Свадьба» — см. «Свадебка»
«Светлана, славянская княжна» Н. Кленовского 129
«Своенравная жена» А. Адана, Ц. Пуни и др. 94, 188
«Свои люди — сочтемся» А. Н. Островского 50
«Священные этюды» на муз. И. С. Баха 475
«Северная звезда» Дж. Мейербера 73, 168
«Село Степанчиково» по Ф. М. Достоевскому 848
«Семирамида» А. Онеггера 293
«Семь дочерей горного короля» А. А. Спендиарова 290
«Сестра Беатриса» м. Метерлинка 295
«Сильфида» Х. С. Левенскольда 602, 625, 643
«Сильфиды» — см. «Шопениана»
«Симфонические танцы» Э. Грига 115
«Симфония № 7» на муз. Л. ван Бетховена 133
«Синий бог» («Голубой бог») Р. Гана 229, 474
«Синяя Борода» Б. А. Фитингоф-Шеля 30, 45, 74, 128, 132, 144, 185, 372, 373, 434, 441, 558
«Сирано де Бержерак» Э. Ростана 846
«Сказание о невидимом граде Китеж» Н. А. Римского-Корсакова 53
«Слово о полку Игореве» 673, 688
«Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого 160, 723
«Смерч» Б. Б. Бера 585, 623, 624
«Снегурка» — см. «Полуночное солнце»
«Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова 43, 151, 215, 235, 503, 523
«Снежная королева» Б. В. Асафьева 481, 487
«Сны» — см. «The Dance Dreams»
«Соколы и вороны» А. И. Сумбатова 847
«Соловей» — см. «Песнь соловья»
«Сон Раджи» на музыку Л. Минкуса 560 – 562, 566, 570, 572, 580, 583, 584
«Спартак» А. И. Хачатуряна 586, 624, 629, 654
«Список благодеяний» Ю. К. Олеши 709, 739, 754, 795
«Спящая красавица» П. И. Чайковского 10, 24 – 26, 31, 38 – 40, 44, 45, 53 – 56, 71, 74, 75, 82, 92 – 94, 96, 128, 135 – 138, 140, 148, 150, 156, 168, 176, 185, 187, 233, 237, 280, 287, 296, 371 – 373, 433 – 438, 452, 457, 458, 465, 467, 468, 475, 477 – 479, 483, 517, 531, 558, 559, 562 – 565, 574, 576, 577, 582, 604, 618, 624, 629
«Спящая принцесса» — см. «Спящая красавица»
«Стальной скок» С. С. Прокофьева 243, 245, 269, 284, 289, 292
900 «Старый Милан» на муз. Ф. Виттадини 294
«Степной богатырь» И. А. Салова 846
«Странная ночь» А. М. Жемчужникова 65, 161, 165
«Табакерка» на муз. А. К. Лядова 301, 302, 423, 430, 477
«Талисман» Р. Дриго 128, 558, 559, 574
«Тамара» на муз. М. М. Балакирева 114, 122, 202, 208
«Тангейзер» Р. Вагнера 95, 188, 202, 203
«Танец Анитры» на муз. Э. Грига 85, 113, 133, 198, 200
«Танец мушкетеров» на муз. Ф. Шуберта 133
«Танцевальная греза» 199
«Танцевальные грезы» — см. «The Dance Dreams»
«Танцевальные сновидение» — см. «The Dance Dreams»
«Танц-симфония» на муз. Л. ван Бетховена 68
«Танцы народов», дивертисмент 116
«Темная сила» И. В. Шпажинского 846
«Теолинда» на муз. Ф. Шуберта 623
«Теплые ребята» С. Ф. Рассохина 846
«Тиль Уленшпигель» на муз. Р. Штрауса 217, 232, 423, 630, 631, 655
«Токката» на муз. С. С. Прокофьева 465, 478
«Трагедия Саломеи» Ф. Шмитта 300, 431, 474
«Траурный марш» на муз. Н. К. Метнера 312, 316, 346, 413, 425
«Трепак» на муз. А. Г. Рубинштейна 301, 302
«Треуголка» М. де Фалья 219, 239, 241, 243, 246, 249, 261, 280, 281, 287, 289, 296, 433, 437
«Три Ивана» («Иван-дурак и его братья») П. И. Чайковского 431, 452, 475
«Три сестры» А. П. Чехова 665, 847
«Три толстяка» В. А. Оранского 623
«Триана» на муз. И. Альбениса 504, 526, 529
«Трикорн» — см. «Треуголка»
«Трильби» Ю. Гербер 128
«Тристан и Изольда» Р. Вагнера 558
«Триумф Нептуна» Л. Бернерса 574
«Трубадур» Дж. Верди 168
«Трудовой хлеб» А. Н. Островского 50
«Турандот» Дж. Пуччини 623
«Тщетная предосторожности» П. Гертеля 37, 38, 95, 113, 147, 148, 188, 205, 290, 483, 560, 565 – 570, 624
«Убийство в соборе» Т. С. Элиота 685
«Ужас», хореограф. миниатюра без музыки 313, 471
«Уриэль Акоста» К. Гуцкова 846
«Утраченные иллюзии» Б. В. Асафьева 631, 633 – 636, 638 – 641, 644, 645, 656, 657, 659, 660
«Учитель Бубус» А. М. Файко 537, 538, 545, 553, 854
«Фавн» — см. «Послеполуденный отдых фавна»
«Фантастическая лавочка» О. Респиги 287, 288, 478, 529
«Фантастическая симфония» на муз. Г. Берлиоза 249, 286
«Фауст» Ш. Гуно 134, 302, 474, 574
«Федра» Ж. Орика 469
«Федра» Ж. Расина 284
«Фейерверк» И. Ф. Стравинского 239 – 241, 312, 331, 421, 422
«Фераморс» А. Г. Рубинштейна 441
«Фея кукол» Й. Баера 301
«Фиаметта» Л. Минкуса 188
«Флорида» Ц. Пуни 167
«Фофан» И. В. Шпажинского 846
«Фра-Диаволо» Дж. Мейербера 131
«Франческа да Римини» П. И. Чайковского 52, 54
«Футболист» В. А. Оранского 585, 603, 605, 606, 610, 611, 623, 624
«Фуэнте Овехуна» Лопе де Вега 627
901 «Хованщина» М. П. Мусоргского 113, 201, 202, 441
«Хореартиум» на муз. И. Брамса 249, 286, 295
«Художник и его модель» Ж. Орик 283
«Хризис» Р. М. Глиэра 86, 114, 174, 202
«Царевна-Лебедь» на муз. Н. А. Римского-Корсакова 293, 503, 509, 510, 511
«Царица льдов» Л. Минкуса 40, 149
«Царская невеста» Н. И. Римского-Корсакова 78
«Царь Борис» А. К. Толстого 159, 160
«Царь Давид» Я. Райниса 560
«Царь и Великий князь всея Руси Василий Иванович Шуйский» Н. А. Чаева 860
«Царь Кандавл» Ц. Пуни 30, 36, 71, 72, 128, 144, 147, 168
«Царь Салтан» Н. А. Римского-Корсакова 513, 530
«Царь Эдип» Софокла 318
«Цемент» по Ф. В. Гладкову 665, 668, 702, 733, 738
«Цепи» А. И. Сумбатова 847
«Чайка» А. П. Чехова 46, 152, 847
«Чан» на муз. Ф. Й. Гайдна 283, 288
«Чарда» Б. Б. Бера 626
«Чардаш» на муз. И. Брамса 133
«Чардаш» на муз. И. Листа 132
«Чары Альсины» Ж. Орика 247, 271, 284, 285
«Чевенгур» по А. Платонову 668
«Человек-масса» по Э. Толлеру 535
«Человеческая комедия» на муз. композиторов XIV в.
«Черные вороны» В. В. Протопопова 846
«Черный яр» А. Н. Афиногенова 754, 795
«Черт из табакерки» Э. Сати 529
«Четыре пьесы для танцовщиков» У. Б. Йейтса
«Чимарозиана» на муз. Д. Чимарозы 287
«Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини 573
«Чудо» Э. Хумпердинка 248, 276, 277, 285, 295
«Шесть персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло 667, 733
«Шехеразада» на муз. Н. А. Римского-Корсакова 52, 87, 174, 216, 217, 229, 232, 281, 296, 301, 372, 373, 432, 434, 452, 491, 597
«Школа танца» Ж.-Р. Франсе (на темы Л. Р. Боккерини) 283, 295
«Шопениана» на муз. Ф. Шопена 68, 88, 114, 228, 432, 446, 447, 471, 491, 626
«Штиль» В. Н. Билль-Белоцерковского 854
«Шторм» В. Н. Билль-Белоцерковского 750, 783 – 785, 807, 854
«Шубертиана» на муз. Ф. Шуберта 106, 113, 114, 124, 172, 202
«Шурале» Ф. З. Яруллина 629, 631, 632, 654
«Шут Тантрис» Э. Хардта 558
«Шут» («Сказка про шута, семерых шутов перешутившего») С. С. Прокофьева 214, 230, 433, 451, 467, 503, 513 – 517, 520, 524, 526, 529, 530, 531
«Щелкунчик» П. И. Чайковского 25, 26, 37, 56 – 58, 68, 74, 75, 86, 88, 94, 95, 108, 114, 120, 123, 139, 140, 148, 157, 167, 174, 187, 198, 208, 209, 434, 436, 452, 467, 468, 560, 562, 574, 597, 606, 626, 627, 662
«Эвника и Петроний» («Евника и Петроний», «Евника») на муз. Ф. Шопена 83, 86, 88, 106, 112, 113, 114, 116, 117, 124, 172, 199, 205
«Эвника» — см. «Эвника и Петроний»
«Экзерсис XX» И.-С. Баха в транскрипции ансамбля «Свингл Сингерз» 654
«Элегия» П. И. Павловского 664, 733
«Эпопея» на муз. Г. Уоррен и др. 534, 535, 537, 538, 541 – 543, 545, 550, 553
«Эрос» на муз. П. И. Чайковского 68
902 «Эсмеральда» — см. «Дочь Гудулы»
«Эсмеральда» Ц. Пуни 121, 300, 564
«Этажи иероглифов» на муз. Р. А. Уайтинга 534, 535, 537, 542, 543, 547, 548, 553, 554
«Этюд» на муз. Ф. Шопена 331, 346
«Этюды» на муз. А. Г. Рубинштейна, Ф. Шопена, Э. Гиро и др. 68, 83, 85, 88, 106 – 108, 113, 167, 172, 174, 195, 198, 200
«Этюды» на муз. Ф. Листа 471
«Эхо» В. Н. Билль-Белоцерковского 854
«Юлий Цезарь» У. Шекспира 173, 751, 793
«Юнион Пасифик» Н. Д. Набокова 248, 285, 286, 296
«Юноша и смерть» на муз. И. С. Баха 469
ПОСТРАНИЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
1* Пение преподавала ей А. В. Панаева-Карцева [примеч. Г. А. Римского-Корсакова].
2* Он здесь уже не был совой, а настоящим дьяволом с рогами, крыльями и хвостом [примеч. Г. А. Римского-Корсакова].
3* Кажется, этот вальс ставил не Петипа, а Иванов [примеч. Г. А. Римского-Корсакова].
4* ballabile (фр.) — балабиль, большой танец, исполняемый кордебалетом или кордебалетом с солистами.
5* Написано со слов В. Д. Тихомирова [примеч. Г. А. Римского-Корсакова].
6* Кажется, Врубеля [примеч. Г. А. Римского-Корсакова].
7* А. С. Бутлерова рассказывала со слов лейб-медика Головина, что однажды в Аничковском дворце один из слуг в присутствии царя вынул из кармана металлическую табакерку, которая блеснула на солнце. Все жили во дворце в постоянном страхе, ожидая покушения. Кто-то из приближенных царя громко вскрикнул, а сам Александр, подскочив к слуге, сшиб его с ног ударом кулака [примеч. Г. А. Римского-Корсакова].
8* В. С. Гадон утверждает, что этот анекдотический случай произошел с офицером [примеч. Г. А. Римского-Корсакова].
9* Записано со слов Мининой Е. И. [примеч. Г. А. Римского-Корсакова].
10* Любопытно отметить, что «Гугеноты» Мейербера были поставлены у нас впервые [русской оперной труппой] в том же 1862 году [примеч. Г. А. Римского-Корсакова].
11* manu militari (лат.) — силой.
12* См.: Погожев В. П. «10 лет реформ Петербургских императорских театров» [примеч. Г. А. Римского-Корсакова].
13* «Восхищение апостола Павла» — работа Горского-отца находится в художественном собрании Ватикана, а «Земфира-цыганка» — в Зимнем Дворце в Ленинграде [примеч. Г. А. Римского-Корсакова].
14* Вместе с А. А. Горским окончили школу: Булгаков, Солянников, Маржецкий и в женском отделении школы — О. О. Преображенская [примеч. Г. А. Римского-Корсакова].
15* grand pas hongrois (фр.) — большое венгерское па.
16* Ad hoc (лат.) — по случаю.
17* Рампа и жизнь. 1917. № 13. С. 9 [примеч. Г. А. Римского-Корсакова].
18* Poste restante — до востребования (фр.)
19* Plié (фр.) — балетный термин, обозначающий сгибание одной либо обеих ног, приседание на двух либо на одной ноге; общепринятое французское название для движения ног, которое по-русски обозначается словом «приседание». Наравне с подъемом на полупальцы / пальцы, вращением и прыжком, является основным элементом хореографии.
20* Все это неправдой оказалось [вписано по диагонали, через всю страницу, крупно].
21* Первоначальная краткая запись переработана Нижинской. Новый текст написан синим и красным карандашами между записями от 16 и 18 марта 1921 г.
22* Другой вариант чтения: «Мы».
23* В рукописи ошибочно указан март.
24* В рукописи у Нижинской грустная графическая игра (подчеркивания и ударения) с уже написанными словами: «не-вы‘носимая» и «без-у‘мная».
25* Неуверенность Нижинской в этом слове отразилась в том, что она подчеркнула «наслаждение» карандашом и поставила знак вопроса.
26* Помета Нижинской: «развить тему».
27* Помета Нижинской: «раз[вить] тему»
28* Первоначально было: «толпы», потом переправлено на «человечество» и ниже под строкой вновь вписано: «толпы?» К этому месту относится перечеркнутая помета Нижинской: «найти новую формулу для определения публики, толпы».
29* При просмотре текста Нижинской здесь поставлен знак вопроса.
30* Первоначально намечено: «предсказало».
31* Чтение фразы предположительно из-за дефекта копии.
32* Вычеркнув «дух», Б. Ф. Нижинская отметила: «развить тему». Внизу страницы она написала следующую вставку, которая, развивая тему, литературно не монтируется с исправленной фразой, а потому оставлена публикаторами в примечании: «Должно воспитывать в ученике радость от достижения в целом, а не в своей части, устранить зависть в каждом самом маленьком по размерам, можно творить большое и через это создавать целое».
33* Первоначально было: «Через [понимание — зачеркнуто] веру — глуб[же] понимание, через понимание — глуб[же] чувствование». Над фразой две пометы Нижинской: «развить тему».
34* Помета Нижинской: «Дух дает качество или культура? Обдумать».
35* Вторая половина тетрадной страницы (л. 5) заполнена вензелями Нижинской, надписями и рисунками, под которыми можно разобрать отдельные фрагменты фраз: «Что жизнь принимает ту или иную форму», «Искусство как предчувствие» и т. д. Оборот ее (л. 6) не заполнен, поэтому следует считать, что изложение на этом месте прерывается. На следующих страницах Нижинской предпринята новая попытка литературно оформить все тот же круг идей, что характерно для большинства записей в общей тетради.
36* По-видимому, синонимом этому несколько раз употребленному Нижинской глаголу следует считать «профанируется».
37* На соседней странице (л. 6) выписана замена: «Душа дилетантирует и превращаясь в дух в сравнении возможностей культуры духа». Правка Нижинской не закончена: слово «душа» в начале предложения переправлено на «дух», отчего и без того тяжелая для понимания фраза теряет смысл. Строки свидетельствуют о попытках Нижинской как начинающего писателя и мыслителя выстроить иерархию понятий и попытке определить для себя, что занимает ее вершину — «душа» или «дух».
38* Первоначально было: «великие души».
39* Первоначально было: «но неизвестно чем было бы».
40* Текст, выделенный мелким шрифтом, поставлен Нижинской под вопрос и намечен к сокращению (пометы «Плохо», «Плохо к пример[ам?]», «Раз[вить] тему»).
41* Выделенные мелким кеглем предложения подверглись незаконченной правке (вымарыванию отдельных слов, концов фраз и т. п.) и в итоге сокращению (текст взят в скобки).
42* Другой вариант прочтения: «тон».
43* Первоначально было: «в какой привык человек ощущать».
44* Первоначально было: «искусство ради искусства, то есть [дух — зачеркнуто] красота».
45* Весь текст, выделенный мелким кеглем, от заголовка «О школе» до этого места поставлен Нижинской под сомнение. Он сопровождается пометой: «надо разработать и обдумать» и знаками вопроса.
46* Помета Нижинской «Развить тему».
47* Помета Нижинской: «???».
48* Первоначально было: «Если футуризм отрицает условную форму, если футурист пишет портреты [иначе, чем было принято раньше] и все же в его полотнах мы видим [эту условную форму] хотя и не [недописано]».
49* Первоначально было: «Я хочу сказать, что картина должна переменить абсолютно свою форму…»
50* Фраза вписана между строк и по смыслу заменяет первоначальную, которая по случайности осталась не вычеркнута: «Сколько художник тратит силы [на изображение — зачеркнуто], например, на изображение нагого тела, которое [недописано]».
51* Первоначально было: «… чувствовать, что творит дух художника, только дух, и это не будет заслоняться…» и т. д.
52* К этому фрагменту текста на л. 24 относится помета Нижинской: «перенести назад» и значок. Такой же поставлен на л. 21, возле слов «Эта форма ведь совсем не нужна, и настоящий ценитель…». Несмотря на то что отмеченный фрагмент действительно развивает и уточняет те же идеи, выполнить авторское указание невозможно не нарушив стройность изложения текста на л. 21.
53* Первоначально было: «С 1899 года, когда впервые была выпущена А. Горским “Таблица знаков [для] записывания движений человеческого тела [по системе] В. И. Степанова” и к ней еще одна книга с примерами А. А. Горского, — мы видим [недописано]».
54* Поверх строки Нижинская вписала указание «Это место вынуть до ***. Павлова и Дункан», причем «вынуть» затем ею вычеркнуто. По-видимому, она планировала переписать весь фрагмент, развив тезис о влиянии Дункан и Павловой на современный балет.
55* К этой фразе, вписанной карандашом, относится помета Нижинской: «Классика и стиль». В другой записи она подробнее раскрывает этот тезис, считая упражнения в точности стилизации разновидностью акробатизма — только «духовного».
56* Первоначально было: «Нигде в других искусствах этого [не] отражено».
57* Здесь фраза, написанная чернилами, разрывается следующей карандашной вставкой: «Думаю, что произошло это зло от непонимания нашей школы и [от] не до конца выполненных в ней задач — а выполнив эти [нрзб.] [дефект копии]». Новый вариант явно недописан и при воспроизведении лишает смысла вторую половину исходной фразы.
58* Нижинская долго подбирала точные слова, характеризуя эти основные движения, зачеркнув последовательно несколько вариантов: «созданные», «нужные для создания и выражения», «которыми надо пользоваться».
59* Первоначально было: «… что нет протеста».
60* Вставка, не поддающаяся прочтению из-за дефекта копии. Различимы только первые слова: «и которые редко творят».
61* Абзац занимает весь л. 39. Прежде чем вычеркнуть его, Нижинская поставила на нем большой знак вопроса.
62* Нижинская хотела исправить эту фразу на «Даже сами композиторы-балетмейстеры не разбираются в нем [в искусстве хореографии]», вписав «не разбираются в нем» и начав исправлять согласования (исправив «балетмейстерами» на «балетмейстеры»), но исходный вариант не зачеркнула и правку до конца не довела.
63* Первоначально вписано на л. 44 после слов «образовался т. н. классический танец», при этом сопровождается знаком вставки и указанием Нижинской: «Перенести на первую страницу», т. е. на л. 43 в конец этого абзаца, где имеется тот же знак.
64* Через весь абзац по диагонали помета Нижинской: «разработать».
65* Следует читать: «при котором они развернуты наружу, или, как его называют в балетной школе, — выворотное положение».
66* Первоначально было: «рассчитывалось, вероятно, что, [преодолев — зачеркнуто] подготовив свое тело для этого неестественного положения и усвоив все основные точки движения в выворотном, самом трудном положении».
67* Следует читать: «не потребуют особой школы и упражнений».
68* В начале строки вписано и вычеркнуто: «Все могло быть выражено [2 слова нрзб.] на основании создавшейся школы».
69* Первоначально было: «по признанному праву еще в Греции этого танца за искусство, чем искренно… [недописано]».
70* Первоначально было: «вывернутое наружу, вывернутое внутро».
71* Следует читать: «право за этими акробатическими трюками называться “искусством”».
72* Первоначально было: «и где танец считался [ценился — зачеркнуто] одним [целым] культом».
73* Первоначально было: «Где у нас любовь к движению? Где желание найти новые линии в движении? В них вылить свое внутреннее состояние?»
74* Первоначально было: «и берут “стильные” движения — пока по близорукости не видя — хорошо».
75* Первоначально было: «Значит, [есть — зачеркнуто] пробуждается потребность [создавать — зачеркнуто] к творчеству — пока в [недописано]. Отсюда родится любовь к движению…» и т. д.
76* Первоначально было: «Мы [выразим — зачеркнуто] начнем выражать…»
77* Первоначально было: «Нас же до сих пор в клещах держит форма произв[едения]. Потому мы все время толчемся на месте и не подходим ближе к чистому творчеству».
78* Первоначально было: «Но для творчества чистого нужны и чист[ые творцы]…»
79* Первоначально было: «будет потребностию духовн[ой] и выявление его будет духовною задачею [?]…»
80* Первоначально было: «тем искусство является для наших чувств — духовной стороны жизни…»
81* Первоначально было: «и наряду с этим дать [хо[тела?] — зачеркнуто] возможность».
82* Зачеркнуто: «а может быть впере[ди их]».
83* Зачеркнуто: «чтобы оно могло в будущем руководить».
84* Первоначально после слов «я старалась выработать программу школы» было: «чтобы создать атмосферу в школе, которая помогла бы мне создать артистов, единственная задача которых будет только чистое творчество и с э[тими артистами — недописано], чтобы эти люди в свою очередь отдавали все свои познания находящимся около них [людям — зачеркнуто] молодым творцам и не позволяли бы этому чудному искусству опускаться [?] до наслаждения акробатизмом».
85* Вписано и вычеркнуто: «всесторонней».
86* Первоначально было: «как и классический танец».
87* Первоначально было: «[нрзб.] не понималось, что стиль танца [недописано]».
88* Первоначально было: «есть [нрзб.] знание известной эпохи и вы[разить]» [далее недописано]
89* Вписано и вычеркнуто: «в выражении движения».
90* Перечеркнув окончание фразы, Нижинская заменила его лаконичным «творить». Однако это ее не удовлетворило, и над «творить» появилось еще несколько уточняющих поправок, которые теперь не читаются из-за вымарок, — новый вариант был тоже в итоге отвергнут.
91* Весь этот фрагмент (от слов «О композиции танца…» до «Очень мало кто не только») вычеркнут Нижинской.
92* Первоначально было: «извращают, т. е. ставя другие движения и выдавая за свои…»
93* Переправлено на «Величина ноты» и вычеркнуто.
94* Фразу «которой управляется движение» Нижинская взяла в скобки, поставив рядом с ней знак вопроса. От нее идет стрелка на соседнюю страницу, к недописанному абзацу:
«Отдельные движения тела, их пределы, т. е. те крайние точки, которые возможны в каждом отдельном суставе.
Если принять [запись] Степанова не как статические моменты, а как движения и такты [рис.]».

95* Две эти фразы выписаны на вкладном листе (л. 70 – 71), к ним со страницы тетради (л. 68) ведет стрелка. Заполнив тетрадную страницу до конца, Нижинская фразу, начинающуюся со слова «Другое», продолжила поперек вкладного листа.
96* В конце нумерованного перечня Нижинская указывает: «1) В каком плане находится тело». Упомянув этот вопрос в последнюю очередь, автор сделала его первым, продублировала в левой колонке и сопроводила рисунком положений танцовщика относительно точек зала, зеркальным тому, что приводит А. А. Горский в «Таблице…» (у Нижинской счет точек идет против часовой стрелки).
97* Фраза перенесена сюда стрелкой с соседней страницы.
98* Далее следовало: «Проходящая ли это точка (без
остановки) или есть задержка, тогда какого она размера —
![]() ».
Абзац перечеркнут и стрелкой перенесен на соседнюю страницу, что, в частности,
позволяет восстановить последовательность заполнения листов и, таким образом,
порядок изложения.
».
Абзац перечеркнут и стрелкой перенесен на соседнюю страницу, что, в частности,
позволяет восстановить последовательность заполнения листов и, таким образом,
порядок изложения.
99* Далее следовало: «Постепенно в движении меняется это положение тела или делается сразу. Отрывисто или legato. [1 строка вымарана]». Абзац перечеркнут, стрелкой перенесен на соседнюю страницу и выписан там заново, с более подробной разработкой мысли.
100* Первоначально: «Ритмы и размеры движения».
101* Возле этого места строка по-польски: «Czekaj niezwłocznie odpowiem, że my mamy jechać» («Жди немедленный ответ, что мы собираемся ехать»).
102* Другой вариант прочтения: «звук, краски, движение».
103* Помета Нижинской «разработать».
104* Подчеркнуто Б. Ф. Нижинской.
105* Первоначально было: «Никогда не надо заботиться о форме».
106* Первоначально было: «надо перестать хвалиться своей красивостью, своей знаменитостью, потому что не каждый день можно этим быть».
107* Первоначально было: «Если обстоятельства начинают мешать мне — надо увидеть то злое побуждение, [кото]рое сосредотачивает меня на борьбе с обстоятельствами и мешает работать над [собою] и бороться [с ним — зачеркнуто] не с обстоятельствами, а с этим злом. Если сосредоточусь на обстоятельствах, потеряю счастье, перестану жить [в себе и в других — зачеркнуто]».
108* У Нижинской здесь знак **, указывающий на вставку. Внизу страницы Нижинская дописала две вставки. Вставка, обозначенная одинарной звездочкой (*), по смыслу продолжает указанный пассаж: «Надо выветрить специфический вид у танцовщицы — снять с нее все кружевца и бантики, которыми “балетные” охорашиваются. [Нарушить — зачеркнуто] Нельзя оставить его таким резким [скверным — зачеркнуто] нарушающим пятном». Вставка, обозначенная двойной звездочкой (**), перечеркнута и не поддается расшифровке из-за дефекта копии, кроме первого слова: «лица».
109* Первоначально было: «Балетмейстер — композитор танца — должен идти в полной согласованности с режиссером, [должен] перестать ставить дивертисментные номера, а сделать тот подход, который укажет режиссер».
110* В смысле: «иначе нельзя объяснить их присутствие».
111* Первоначально было: «Самих же танцовщиц надо обязать».
112* A propos (фр.) — кстати
113* Далее в скобках при ссылках на этот фонд указываются: номер описи, единица хранения и лист, в случае цитирования.
114* В указатель не вошли бегло упомянутые лица, чьи имена и фамилии несущественны для понимания материалов, включенных в книгу. Полужирным шрифтом отмечены страницы, где даются основные биографические сведения об упоминаемом лице. В квадратных скобках дается реальная фамилия (инициалы) лица, фигурирующего под псевдонимом.

