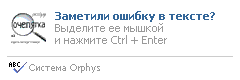3 Глава 1
Непонятно, но глубоко волнующе
В семье горного инженера В. А. Петрова всегда жила любовь к театру. Театром увлекались все. Инженер любил водить в театр всю семью. Жена инженера любила, когда дома у них бывали актеры. Старшая дочь уже сама участвовала в любительских спектаклях, а младшая, бывая в театре, на другой же день перекладывала все виденное в пьесы на троих действующих лиц и, обучив своих младших братьев, вечером показывала эти спектакли своим постоянным зрителям — кухарке, гувернантке-француженке, горничной, а иногда и кучер посещал эти представления.
Так, будучи самым младшим в семье, начал я свою театральную деятельность.
Что это были за представления, конечно, я не помню. Но, странная вещь, какие-то мелочи, какая-то ерунда прочно засели в какой-то клеточке головного мозга и помнятся до сегодняшнего дня с такой яркостью, с такой четкостью, как будто это было вчера или третьего дня.
Красный фрак, сшитый сестрой из кумача, с четырьмя золотыми пуговицами, в котором я щеголял, произнося довольно непонятную фразу: «Никакой прокламации, одна диссертация», — 4 почему-то застрял в сознании и вот через шестьдесят лет даже запросился на страницы печати.
Этот красный фрак был самым первым моим театральным ощущением, почему я и считаю необходимым упомянуть о нем.
Но что такое театр? Для чего он существует? В чем смысл этого таинственного явления? — было мне неизвестно, и знал я обо всем этом только из рассказов старших, из страстной деятельности младшей сестры, из наших «спектаклей», из того волнения, которое невольно испытывал, гуляя в красном фраке и произнося непонятные для себя фразы.
Выходит, что можно быть сценически взволнованным, даже, как ни странно, не понимая полностью того, что ты делаешь.
Я понимаю, что данная эстетическая концепция целиком идеалистическая, — но нельзя же требовать марксистско-ленинского понимания вопросов искусства у восьмилетнего мальчика, точно так же, как нельзя требовать крупных театральных подвигов от юноши, — и вот почему, дорогой читатель, в начале моей книги ты зачастую будешь наталкиваться и на малые дела, и на идеалистические установки, и на факты, которые могут показаться вовсе не значительными.
Но не следует забывать слова Маяковского:
… бывает
жизнь
встает
в другом разрезе,
и большое
понимаешь
через
ерунду… —
и уметь через «ерунду» видеть большое.
Летом 1916 года, во время летнего сезона в Петрозаводске, ставил я пьесу Эрнста Хардта «Шут Тантрис». Пьеса из цикла легенд о Тристане и Изольде.
На другой день, бреясь у парикмахера, я заметил его особо деликатное прикосновение к своему лицу.
— Были вчера в театре? — спросил я его.
— А как же, — отвечал потомок Фигаро.
— Ну и как, понравился вам спектакль?
Потомок Фигаро не принадлежал к французской нации и не обладал способностью легкого, быстрого и остроумного 5 ответа. Он скорее напоминал мудрого раввина, и его высказывания порой получали широкую известность в петрозаводском обществе.
Он откинул руку с бритвой в сторону и, как бы дирижируя ею, грустно глядя на меня, произнес:
— Непонятно, но глубоко волнующе…
И «красный фрак», и «петрозаводский парикмахер» сохранились в моей памяти, хотя все мы великолепно знаем, что «мир познаваем», что нет ничего необъяснимого и все случающееся в жизни имеет свое объяснение. Но мы также хорошо знаем, что есть явления, еще не познанные до конца, и что кое-что еще осталось в мире для объяснения последующими поколениями.
Полагаю, что и в театральном искусстве еще далеко не все объяснено, и есть еще «белые пятна» и в этой области. Но в те далекие времена, о которых идет речь, еще очень мало театральных деятелей задумывались над этими проблемами. В огромной своей массе они просто играли, они были актерами, и театр представлял собой нечто совершенно иное, чем то, что он есть сегодня. Но об этом несколько позднее, а сейчас посмотрим, как же я познакомился с настоящим театром.
Это актеры, а не животные
Однажды во время обеда, в перерыве между вторым блюдом и сладким, отец, обращаясь к нам, мальчикам, торжественно произнес: «Сегодня поедете в театр смотреть дрессированных животных Дурова».
Почему театр, если дрессированные животные?
И если животные Дурова, то при чем тут театр?
Но мы и не пытались вносить ясности в эти вопросы: радость от возможности впервые увидеть театр была настолько велика, что мы, мгновенно расправившись со сладким, бросились одеваться.
Итак, мы едем в театр.
Шел снег, дело было зимой. К освещенному подъезду театра беспрерывно подъезжали сани, так что образовался некоторый затор и мы с братом все время нервничали, боясь 6 опоздать. Уж очень хотелось нам и побывать в театре и посмотреть животных Дурова.
Но наконец все тревоги позади, и мы радостные и несколько торжественные входим в ложу.
Никогда не забуду первого впечатления от освещенного зала, заполненного шумными зрителями, поспешно занимающими свои места, так как уже прозвучал второй звонок.
К шуму зрительного зала примешивались нестройные звуки в оркестре. Это музыканты настраивали свои инструменты. Глядя на оркестр, я невольно был поражен огромным висевшим за ним полотнищем, на котором был изображен зеленый дуб, обвитый золотой цепью. К концу этой цепи был привязан кот, он с важностью, подняв хвост трубой, выходит из-за дуба, посматривая на курчавого человека с бачками, который, держа золотую лиру, сидел под дубом, устремив взоры вверх. На краю занавеса, вверху, была надпись: «Делу время — потехе час».
— Это театральный занавес, — объяснил нам отец. — А это нарисован на нем Пушкин. Помните?
У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том…
Грянул оркестр, исполняя перед началом спектакля какую-то бравурную вещь.
Люди, сидевшие в зале, начали почему-то хлопать. Захлопали и мы с братом. Уж очень все было необычно. Свет в зрительном зале погас, а «дуб зеленый» и «кот ученый» осветились еще ярче светом снизу. Наступила торжественная минута. Вот сейчас в театре будут показывать дрессированных животных. Театральный занавес вздрогнул и не очень уверенно начал подниматься вверх. Сцена изображала скалы и горы, по бокам был лес. Справа виднелся большой сруб колодца. Сцена была пуста и никаких животных на ней не было. Но вдруг за кулисами раздался дикий хохот и на сцену выскочило странное существо в шерсти, с хвостом и рогами. Существо бегало на задних лапах. Заглянув в колодец и дико захохотав, оно исчезло за кулисами.
— Какое это животное? — нетерпеливо спросил меня брат.
— Это не животное, а актер, — ответил отец. — И, пожалуйста, не разговаривайте, вы мешаете слушать.
7 Таковы были первые «предлагаемые обстоятельства» моего первого впечатления от театра в городе Екатеринбурге в 1897 году на спектакле «Потонувший колокол» Гергарда Гауптмана в антрепризе П. П. Струйского.
Конечно, я ничего не понял из того, что происходило на сцене, и индивидуалистическая философия литейщика Генриха не могла дойти до моего сознания. Но память сохранила фамилии и артиста Зубова, игравшего Лешего (существо в шерсти), и П. П. Струйского, игравшего Водяного, и актрису Абаринову, игравшую Магду, жену литейщика Генриха, которого великолепно играл Я. Орлов-Чужбинин. И когда через тридцать шесть лет мне пришлось случайно встретиться с Орловым-Чужбининым в Харькове, то невольно воскресли воспоминания от этого первого театрального впечатления — воспоминания об огромной моей взволнованности при полном непонимании всего происходящего на сцене. Только как-то ниже ростом стал «мастер Генрих» и заметнее был его актерский апломб, принимаемый нами в те далекие времена за творческое величие.
«Непонятно, но глубоко волнующе»…
А понятной, но менее волнующей в тот исторический для меня вечер была вторая часть представления, когда на сцене театра, после того как актеры закончили трагедию в стихах о непокорном мастере Генрихе, появились дрессированные животные и разыграли знаменитую дуровскую «железную дорогу». Но от этой понятной части представления не сохранилось в памяти ни одной мелочи, ни одной детали…
«Гений и беспутство»
В нашей семье, как я уже говорил, любили театр, и постепенно мы с братом стали постоянными спутниками сестер в их театральных походах.
Мы ходили и в городской театр, где кроме перечисленных актеров благодарная память сохранила актерские фамилии и Миганович, и Малаксиановой, и Киенского, и Диевского. Бывали мы также и в Верх-Исетском театре, находившемся на окраине города, у заводского поселка. Этот театр держал антрепренер А. Л. Любов. Героиней в нем была Токарева, 8 его жена, а инженю-драматик — их дочь Евгеньева, которая была любимицей молодежи, и ее бенефисы проходили с наибольшим успехом и шумом.
Особенно бережно память моя сохранила облик великолепного русского артиста Мамонта Дальского, который играл целый зимний сезон в Екатеринбурге.
Было это в 1902 или 1903 году.
Дальского по истории русского театра все знают как страстную, талантливую, анархическую натуру — это был своеобразный русский «гений и беспутство». Он очень крупно и азартно играл в карты. В тот сезон, приехав на гастроли в Екатеринбург, Дальский проиграл большую сумму денег, и с него взяли подписку о невыезде. Этим воспользовался антрепренер городского театра, внес за него весь долг и предложил Дальскому отыгрывать эти деньги, работая в труппе до конца сезона, на что он и согласился.
Таким образом, в мальчишеские годы мне довелось видеть Мамонта Дальского не только в его гастрольных ролях, но и в обычном сезонном репертуаре. Я видел Дальского и в «Отелло», и в «Гамлете», и в «Кине», помню его участие и в «Разбойниках», но также помню и в ролях Парфена Рогожина, и Мити Карамазова, и в «Арказановых» Сумбатова, и даже в пьесе Найденова «Дети Ванюшина», в которой он великолепно играл Константина.
Конечно, уровень понимания вопросов театра двенадцатилетним мальчиком не дает права говорит о Дальском как об актере, но на одном факте мне хотелось бы остановиться, так как он касается не столько самого актера Дальского, сколько того воздействия, которое оказывал знаменитый трагик на нас, молодежь.
В ту пору мы особенно увлекались так называемыми «костюмными» спектаклями. Нас гораздо больше радовали на сцене трико, сапоги с отворотами и шляпы с перьями, нежели обычные костюмы, которые мы привыкли видеть в жизни. Когда открывался занавес и мы видели исполнителей, облаченных в «испанские» плащи, то уже заранее предвкушали удовольствие от спектакля и, наоборот, бывали разочарованы, когда актеры на сцене разгуливали в обыденных пиджаках.
Так вот, Дальский совершил поворот в нашем сознании. Он заставил нас, молодежь, полюбить «пиджаки», полюбить 9 жизнь без театральных атрибутов, полюбить простые человеческие чувства, а не чувства на котурнах. Он приучил нас не только чувствовать в театре, но и мыслить. И его классические образы далекой истории были любимы нами не только за их взволнованную театральную романтику, но главным образом за их человеческую мысль, за их человеческие чувства. Дальский, этот «гений и беспутство», этот буйный анархист, помог нашему поколению спуститься с облаков театральности и понять, что и на земле очень много интересного, только это интересное нужно уметь увидеть. И, раскрывая глубочайшие тайны человеческой психики в простом обыкновенном человеке в пиджаке, он как бы говорил:
— Смотрите, какое богатство вокруг!..
Правда, слишком молоды мы тогда еще были, но он заставил нас задуматься и заинтересоваться простым человеком, а это уже очень много, и за это спасибо великому русскому трагику.
1905 год
Летом 1904 года отца назначают начальником Ярославско-Вологодско-Архангельского горного округа, и вся семья вслед за ним из Екатеринбурга переезжает в Вологду.
Вологда в те времена была местом ссылки «политических», и именно они — революционно настроенная интеллигенция — определяли в основном характер общественной жизни города. И как ни странно, но даже административная верхушка города — и губернатор и полицеймейстер — была «опосредована» своими подопечными. Особенно очевидным это стало после революции 1905 года, когда все они были смещены за излишний либерализм и на их сиеста прибыли «подлинные блюстители порядка».
Итак, в 1904 году, в канун первой революции, семья горного инженера Петрова, покинув рафинированную столицу Урала, прибыла в демократическую Вологду.
Все здесь было иным по сравнению с Екатеринбургом, решительно все, начиная от ритма самой жизни и кончая необязательностью формы, установленной для учащихся реального училища. В Екатеринбурге были обязательны и мундиры и форменные 10 куртки, а в Вологде мундиров не было ни у одного ученика, а вместо установленных по форме курток надевались блузы или даже рубашки.
Вольный и свободный дух царил в этом городе, столь не похожем на чопорный Екатеринбург, с его замкнутой инженерской средой, возглавляемой начальником Гарного округа П. П. Боклевским. Здесь же на всю Вологду отец был единственным горным инженером.
Общий революционный подъем в России в 1904 – 1905 годах необычайно сказался в Вологде. Постоянно проходили митинги, организованные социал-демократами и социал-революционерами. Оформлялась кадетская партия. Приезжал анархист Бунаков и делал доклады. Вся эта революционная деятельность происходила в театральном помещении, принадлежащем обществу «Помощь», где в фойе продавалась партийная литература всех политических группировок.
Различные партийные группировки создавали подпольные молодежные кружки, и мы, молодежь, не очень хорошо разбираясь в существовавших политических разногласиях, принимали в них самое горячее участие. Не очень хорошо помню сейчас, кто руководил кружком, который я посещал, помню только, что помимо теоретических занятий мы печатали на гектографе прокламации, а также и то, что состоял я в какой-то боевой организации и что вооружен был браунингом и небольшим ружьем, которое называлось «винчестером» и одновременно заряжалось девятью патронами.
Помню тревожную маевку 1905 года.
Загородный массовый митинг проходил с большим подъемом, но все время ощущалась какая-то настороженность, так как зашевелились в Вологде и реакционные силы и именно к Первому мая ждали активных действий и с их стороны.
Был тихий солнечный день. Митинг проходил в пяти-шести километрах от города, на небольшой поляне, откуда открывалась широкая панорама мирной Вологды.
«Долой самодержавие!» — закончил очередной оратор свое выступление под бурные аплодисменты и начал спускаться с трибуны. И вот именно в этот момент, когда все участники митинга подхватили его восклицание и хором закричали: «Долой самодержавие!» — за спиной оратора, где-то в центре города, показался высокий столб дыма. День был безветренный, и дым медленно и величественно поднимался к небу.
11 «Пожар!» — пронеслось по рядам митингующих.
— Но почему же не бьют в набат? Почему такая тишина?
Председатель митинга тов. Нетовный (память сохранили эту фамилию) обратился к нам, молодежи, носившей оружие, и предложил немедленно на велосипедах съездить в город и узнать, что там происходит.
— А мы будем продолжать митинг в ускоренном темпе, — сказал он.
Двенадцать молодых людей вскочили на велосипеды и помчались в город. О, это были незабываемые минуты! Я думаю читатель понимает, как горды мы были оказанным нам доверием и с какой энергией работали наши ноги, нажимая на педали велосипедов.
Подъезжая к городу, мы увидели, что пожар где-то в центре, так как дым поднимался над зеленым массивом старых берез.
«Горит общество “Помощь”!» — сообразили мы и, промчавшись по бульварам, увидели, что не ошиблись. Горел театр. Совершив свое гнусное дело, громилы отправились куда-то дальше, а возле пожарища не осталось никого, кроме досужих обывателей, которые равнодушно смотрели на разгромленное и догоравшее здание. На земле были разбросаны партийная литература, брошюры и листовки, частично сожженные, частично втоптанные в грязь. Пятьдесят лет прошло с тех пор, но я ясно помню то странное ощущение, которое испытали мы, глядя на пожар, который никто не тушил, и на затоптанные в грязь книги…
— Куда пошли погромщики? — спросили мы у одного из обывателей, который, подняв «Хитрую механику», осторожно перелистывал ее страницы. Если бы он знал, что грозит ему за прикосновение к этой брошюрке, он швырнул бы ее на землю и, вероятно, так же как и погромщики, затоптал в грязь. Но обыватель не знал этого и флегматично ответил нам:
— Вероятно, они пошли к редакции «Северный край».
Три-четыре квартала отделяло нас от редакции, и мы помчались туда. Но и сюда мы опоздали, так как, не доезжая квартала до редакции, увидели разбросанные на улице листы газетной бумаги, а подъехав к зданию, могли только засвидетельствовать полный разгром редакции невинной либеральной газеты.
12 — На набережную, к дому Калугина! — крикнул кто-то из молодежи, и мы помчались туда.
Калугин был городским головой, славившимся своими либеральными взглядами.
Мы подъехали к его дому (он был около моста) как раз в тот момент, когда с другой стороны на мост уже вступала толпа погромщиков. Они несли портрет царя и орали «Боже, царя храни».
Нами никто не командовал, мы посланы были только на разведку, но, вероятно, виденное и испытанное за сегодняшний день, наш гнев и негодование при виде гнусных поступков погромщиков были столь велики, что мы без всякой команды выбежали на середину моста и, сбросив с плеч винчестеры, приготовились к бою. Не знаю, как долго устояли бы мы, двенадцать человек, против тысячной толпы, если бы дело дошло до серьезной схватки…
В самый напряженный момент, когда мы стояли с винчестерами наготове, а погромщики с пением гимна двигались навстречу, на мост неожиданно въехала коляска полицеймейстера и остановилась посредине — между нами и погромщиками. Стоя в коляске, Р. Р. Дробыш-Дробышевский обратился к толпе, предлагая всем разойтись.
Разумеется, более всего полицеймейстер заботился о благополучии городского головы, но по мизансцене получалось так, что он как бы защищал нас от погромщиков.
В толпе зашумели, послышалась ругань и неожиданно кто-то бросил кирпич. Полицеймейстер упал, обливаясь кровью, а толпа двинулась на нас. Инстинктивно мы подняли винчестеры и дали залп в воздух. Погромщики ахнули и в панике покинули поле сражения, матерно ругаясь и посылая угрозы и проклятия и Калугину, и нам, и полицеймейстеру. На мосту валялся портрет царя. Наиболее рьяные из нас кинулись к портрету и с криком «Долой самодержавие!» швырнули его в воду.
Все описанное произошло в какие-нибудь тридцать-сорок секунд. Мы вскочили на велосипеды и помчались за город рапортовать о событиях.
Так состоялось мое боевое крещенье в революционных событиях вологодской жизни.
Беспокоясь за будущее своих дочерей и желая оградить их от надвигающихся революционных событий, отец, еще будучи 13 в Екатеринбурге, отправил обеих сестер за границу продолжать свое образование.
Но получилось как раз наоборот. Именно там-то они и столкнулись с деятельностью эмигрантских революционных кружков. Младшая сестра, живя в Женеве, бывала в кафе, где проходили собрания русской колонии, и слушала горячие споры Ленина и Плеханова. Вернувшись затем в Россию и живя на нелегальном положении, она участвовала в подпольной революционной деятельности.
Так и не удалось отцу оградить своих детей от опасного влияния революционных идей. Брат изучал программу социал-демократов, старшая сестра интересовалась народниками, младшая была анархисткой. Отец исповедовал программу кадетов, а я, ничего еще не понимая в тех ожесточенных опорах, которые происходили у нас дома за обедом, волей-неволей оставался на нейтральных позициях.
Вероятно, такая разноголосица политических воззрений была характерна для большинства семейств интеллигенции в это бурное революционное время.
Ведь это был исторический 1905 год.
И как затихло все в Вологде, какая душная наступила тишина, когда отзвучали раскаты залпов пресненских баррикад, когда безжалостно подавленная революция начала уходить в подполье, когда во главе административной жизни города появились верные сыны «царя и отечества», когда губернатором назначили Хвостова, будущего министра внутренних дел. И даже у нас, в реальном училище, сменили нашего очаровательного директора А. К. Янсона и на его место приехал рыжий Юрьев.
Драматический кружок
В реальном училище появились форменные куртки; был вывешен приказ об обязательной форме — «мундир, в дни праздников». И только на нас, старшеклассников, рыжий Юрьев махнул рукой.
«Не будем их трогать. Пусть они скорее кончают и не мутят младшие классы». Так решило новое начальство. Правда, нам разрешили организовать драматический кружок, в который 14 вошли учащиеся четырех учебных заведений: реального училища, мужской гимназии и двух женских гимназий.
Вероятно, это было придумано, чтобы отвлечь наше внимание от революционных идей и переключить нашу вздыбленную энергию на увлечение театральным искусством. Начальство довольно правильно рассчитало, бросив нам эту кость. Кружок быстро сорганизовался. В него вошло около ста человек молодежи. Председателем кружка избрали гимназиста Сергея Краснораменского, а его заместителем меня как представителя реального училища, в котором я уже завоевал популярность организацией концертов и спектаклей с благотворительной целью. Программу первого спектакля мы выработали следующую: второй акт «Дяди Вани» Чехова, третий акт «На дне» Горького и одноактный драматический этюд П. Вейнберга «Пятая сторожка». Вероятно, уже тогда во мне была заметна организационная жилка, так как постановку этого спектакля поручили мне и даже командировали на один день в Москву, чтобы я посмотрел в Художественном театре спектакль «На дне».
Что такое «Дядя Ваня», нам казалось, мы понимали хорошо, а вот что такое «На дне» — это для нас было не особенно ясно. Так впервые я увидел спектакль Московского Художественного театра, и увидел не как обычный, зритель, а как «будущий постановщик» этого же спектакля. Огромное впечатление произвел на меня тогда этот театр, и даже не столько игрой актеров, сколько своей непохожестью на те обычные театры, которые мне довелось видеть.
Возвращался я в Вологду буквально потрясенный впечатлениями одного вечера. Все меня восхищало: и внутренняя отделка театра — простая и строгая, и мягкие ковры по коридорам, и запрет входить в зрительный зал после поднятия занавеса, и отсутствие музыки перед началом спектакля и в антрактах, и медленно затухающий свет в зрительном зале, и раздвижной занавес вместо обычного, подымающегося вверх, и декорации, которые действительно были похожи на ночлежку, и, наконец, сама манера актерской игры, которая была предельно проста и жизненна.
Все это так противоречило моим привычным представлениям о театре, что я, ошеломленный и потрясенный, не мог сосредоточить внимание на самом спектакле. Ведь я смотрел его как «будущий постановщик». Мне хотелось запомнить решительно 15 все, до последних мелочей. В результате, растерявшись в бесконечном богатстве новизны, обрушившейся на меня в тот вечер, я, выйдя из театра на улицу, к ужасу своему понял, что не сумел ухватить нужное мне в спектакле. Единственным утешением было то, что в антракте я купил комплект открыток, на которых были засняты почти все основные мизансцены постановки. Наше понимание роли режиссера не шло дальше разводки актеров на сцене, и главное, как мне тогда казалось, было у меня в кармане.
Открытие спектаклей нашего кружка было торжественным, и даже как-то взволновало театральную общественность Вологды. Нас поздравляли, хвалили — ведь в этот вечер в зрительном зале были в основном родные и друзья нашей «труппы» почти в сто человек.
И в то же время спектакль этот оставил у нас, участников, какое-то двойственное чувство. Наряду с приятным ощущением от похвал и поощрений мы испытывали огромную личную неудовлетворенность. В Приказчичьем клубе, где мы играли, нельзя было постлать ковров в коридоре, свет в зале выключался сразу, занавес поднимался вверх, и декорации были очень далеки от нашей мечты. И хотя мы и были внешне, то есть костюмами, похожи на актеров Московского Художественного театра и расположение наше на сцене было примерно таким же, как на открытках, но ничего похожего на виденный мной спектакль у нас не получилось. В чем же был секрет — это осталось для нас глубокой тайной, но что секрет в чем-то был — ясно было для всех.
К нашему кружку примкнул молодой писатель Петр Козлов, который жил в Вологде на положении политического ссыльного. Он уверял нас, что полного и подлинного успеха мы добьемся только тогда, когда поставим современную пьесу — пьесу, написанную на тему событий сегодняшнего дня. Такую пьесу, им написанную, он предложил нашему коллективу. Пьеса всех заинтересовала, и для второго спектакля было решено ставить ее.
— С этой пьесой мы прозвучим не меньше, чем Художественный театр со своим спектаклем «На дне», — уверял нас Козлов, — и я предлагаю ко дню спектакля напечатать ее, ну хотя бы двухтысячным тиражом.
Такая затея нас всех очень увлекла, мы продали мой велосипед, моего «боевого революционного коня», так как денег у 16 кружка, конечно, не было, и в день премьеры одновременно с программами продавали экземпляры пьесы Петра Козлова «Над жизнью».
Три факта, застрявшие в моей памяти, связаны с этим спектаклем.
Факт первый.
В этой пьесе были две роли — молодой девушки и юноши, любящих друг друга. Юношу играл я, а девушку играла гимназистка, которой я очень увлекался, но это увлечение скрывал, так как был застенчивым юношей. Застенчивым, правда, лишь в своих личных переживаниях, но очень беззастенчивым, как сейчас вспоминаю, в театральной деятельности. Постановка была поручена мне, и я мечтал о дне премьеры, когда смогу на спектакле открыто признаться девушке в своих чувствах. Во втором акте как раз была такая сцена — сцена признания в любви. Хотя впоследствии Петр Козлов в своей трагедии «Легенда о коммунаре» и отказался от обычных человеческих чувств и построил свою трагедию на столкновениях абстрагированных идей и страстей, но в то время он не пренебрегал реализмом.
На репетициях мы этой сценой не занимались и обычно ее быстро прочитывали, причем я убеждал, что такие сцены нужно играть прямо на зрителе. В них все ясно, говорил я, разбираться не в чем, и они обычно рождаются только на спектаклях. Я, разумеется, отнюдь не был убежден в справедливости моей теоретической концепции. Мне важно было осуществить свой план влюбленного, который хотел неожиданностью искреннего признания потрясти свою партнершу. Потрясти и в то же время сохранить свою тайну, намекнув, однако, о своих чувствах искренностью любовного порыва.
Спектакль шел нормально, я ждал центральной сцены второго акта и, помню, почти не сомневался в успехе задуманного мной плана действий.
Со всем пылом и страстью, на какую только способен семнадцатилетний юноша, провел я сцену объяснения и, как мне тогда казалось, никогда еще не играл так искренне и взволнованно.
— Ну, Николай, никогда ты так плохо не играл. Все было от начала и до конца ходульно, фальшиво, — буквально огорошили меня товарищи, смотревшие спектакль из зрительного зала.
17 — Вероятно, не мне суждено быть героиней романа Петрова, — сказала коварная партнерша, обидевшись на мою нелепую игру.
Когда я учился в Художественном театре, то рассказал как-то К. С. Станиславскому об этом эпизоде, и он, задумавшись о рассказанном, высказал такую мысль:
— Конечно, вы правильно сделали, что пошли от себя, от своих чувств, но, вероятно, вы ни шагу не сделали, чтобы приблизиться к образу. А нужно идти от себя для того, чтобы дойти до образа.
Так в дни своей юности пал я жертвой натурализма.
Факт второй.
Этим спектаклем мы не приобрели никакой славы, и распродано было только семь экземпляров пьесы Козлова, остальной тираж так и остался лежать у меня дама.
И, наконец, факт третий.
После спектакля «Над жизнью» наш кружок ликвидировали, усмотрев в пьесе революционные тенденции, которые не одобрил ни губернатор Хвостов, ни директор реального училища Юрьев.
Один только автор Петр Козлов был счастлив, уверяя нас, что мы сделали большое революционное дело, сыграв спектакль, который администрация запретила.
Смерть отца
… В день моего рождения, когда мне исполнилось шестнадцать лет, отец приехал из города на дачу, где отдыхала вся семья. Праздничный обед окончился, подарки были получены и мне очень хотелось обновить только что полученный новый велосипед «Энфильд». Случай как раз представился: после обеда старшая сестра попросила меня съездить в город и привезти какое-то лекарство для ее только что родившегося сына. Она была замужем за врачом и уже на третий день после рождения ребенка кормила его лекарствами.
Я согласился, сел на велосипед и с удовольствием поехал в город. Помню, что мне очень хотелось пойти в цирк и посмотреть Клавдию Королёву, которая, согласно афишам, Должна была исполнять новый танец «Ой-ру».
18 Вот эти мелочи — и Клавдия Королёва, и «Ой-ра», и великолепная живописная дорога в город, и удовольствие от легкости хода новой машины — почему-то цепко врезались в память, как будто это были события необычайной важности.
Город, лекарство куплено, просмотрена программа в цирке (Клавдия Королёва действительно интересна; бисировали «Ой-ру» три раза) и, наконец, пустая городская квартира — день моего рождения прошел, как мне казалось, прекрасно.
Ранним утром в шесть часов я был разбужен звонком. Приехали мама и брат.
Когда я открыл дверь, то был удивлен и ранним их приездом и тем, что мать была в длинной черной вуали.
Даже не поздоровавшись со мной, глядя пустыми глазами в пространство, она прошла в комнаты, а брат задержался в прихожей.
— Папа умер, — сказал он мне с растерянной и виноватой улыбкой.
Я очень хорошо помню этот эпизод далекого прошлого, и прежде всего до мелочей, до мельчайших подробностей помню весь ход своих мыслей и чувств, все свое поведение в этих драматических обстоятельствах. Впоследствии, анализируя сложный процесс внутренней жизни шестнадцатилетнего юноши, впервые в жизни столкнувшегося с фактом смерти близкого человека, я хорошо понял один из законов сценического поведения.
Неожиданное известие о том, что «папа умер», не вызвало у меня никаких особых эмоций. Я не был ни огорчен, ни растерян, ни потрясен. Короче говоря, у меня не возникло определенного отношения к факту, сообщенному братом, и не возникло, вероятно, потому, что самый факт был мне непонятен. И это естественно. Мои отношения с отцом складывались в течение шестнадцати лет, они были понятны, жизненны и конкретны; вчера я оставил его совершенно здоровым и живым на даче, а сейчас мне сообщили, что он умер.
Что же это такое — «умер»? Нет, я решительно не понимал этого.
Чувства остановились, замерли, но зато работала мысль. Подлая человеческая мысль, которая, будучи оторванной от чувства, никогда не поведет нас на правильный путь раскрытия жизни «человеческого духа».
19 Так вот — первая мысль, возникшая тогда, была столь внезапной, что о ней как-то даже неудобно и говорить. «Отец умер, — размышлял я, — значит два браунинга, два никелированных браунинга, которые он купил для предстоящей экспедиции по изысканию нефти на севере Печоры, будут принадлежать мне и брату».
Неожиданность подобной мысли смутила меня, и я безумно заволновался, что во мне не пробуждается никакого чувства, которое закономерно должно быть у сына, когда ему сообщают о смерти его отца.
Но чувства никакого не было, а мысли, одна нелепее другой, лезли в голову.
— Через час я вернусь домой, и мы поедем на дачу, — сказала каким-то бесстрастным голосом мама и вышла на улицу.
«А она успела переодеться в черное платье», — мелькнуло в сознании, когда дверь за ней закрылась.
Брат подробно рассказал, как все произошло.
Вечером, после ужина, когда начало смеркаться, отец вышел на террасу и, глядя на огромный куст распустившейся сирени в саду, сказал: «Как хорошо».
Это были его последние слова. Неожиданно он упал, и дальше брат уже не мог вспомнить подробностей.
Я слушал брата, пытался представить реальность происшедшего, но оно было вне меня, было мне непонятно, и я как-то не мог включить себя в случившееся, не мог стать участником этого трагически нелепого факта.
Через час мы ехали на дачу. В смятенном состоянии, полный лихорадочно скачущих алогичных мыслей, но при абсолютно неразбуженных чувствах, вошел я в комнату, где посредине на столе стоял гроб. Уже началась панихида. В комнате было много народу и трудно было разглядеть отца, лежавшего в гробу. Мешало этому, кроме всего, и обилие сирени, закрывающей стол.
«Со святыми упокой…» — пели священник и дьякон. Кругом плакали, а я стоял, как каменный, не понимая финального акта человеческой жизни.
«А вот он сейчас лукаво подмигнет всем, привстанет из гроба и с улыбкой скажет: “А я пошутил”» — неожиданно мелькнуло у меня в голове. Я даже готов был улыбнуться, но неумолимая логика обыденной жизни и обычное поведение 20 людей, присутствовавших на панихиде, подчеркнули нелепость моей мысли, и я вновь стоял, ничего не понимая, прислушиваясь к пению церковнослужителей.
На другой день утром к крыльцу подъехала телега, на которой стоял большой черный ящик с белым крестом на торце. Гроб опустили в ящик, закрыли крышкой, и равнодушный возница выехал со двора.
«Да неужели же я такое бессердечное существо? Где же мои сыновние чувства? Где же моя любовь к отцу? А ведь я его любил. Я это очень хорошо знаю!»
Лошадь со своим печальным грузом спускалась к реке, вот она переехала небольшой мостик, вот начала подниматься в гору, приближаясь к небольшому леску, который был на ее вершине.
И вдруг, в то мгновение, когда лошадь уже скрылась за первыми деревьями, когда осталось несколько секунд, чтобы за лесом скрылась и телега, когда на черном торце ящика в последний раз мелькнул белый крест, — вдруг именно в этот момент что-то сжало мне горло, из глаз брызнули слезы, и я неудержимо заплакал, не будучи в силах остановить потока нахлынувших чувств, которые буквально раздавили меня.
Каждый раз, когда на сцене или в театральной школе актер или студент стремится мгновенно реагировать на какое-нибудь полученное трагическое известие, я вспоминаю этот эпизод и объясняю им, что рождение чувства вещь очень сложная, а главное — длительная, и что между моментом восприятия какого-нибудь явления и возникновением чувства происходит сложнейший процесс. Этот процесс нужно построить, им нужно овладеть, овладеть органически, и только тогда как результат возникнет подлинное чувство. Оно будет закономерным результатом сложного процесса «жизни человеческого духа», а не самостоятельным сценическим моментом, мгновенно возникшим после неожиданно полученного известия.
Восприятие, осознание и действие — вот закономерная последовательность переживаний человека в жизни и на сцене.
Жизнь самая лучшая школа для актера, если мы научимся правильно понимать ее и разбираться в сложных процессах человеческой психики.
21 Бунт молодежи
Через год от рака умерла мать…
Мои сестры и брат уехали. Я остался в Вологде один. Прежде всего выяснилось, что нужно зарабатывать деньги. Затем нужно было определить дальнейший путь своей жизни. В этом вопросе, правда, была относительная ясность. Нужно было прежде всего кончить реальное училище (я был уже в седьмом классе), а дальше держать экзамен или в горный, или путейский институт.
Отец мечтал, чтобы я был путейцем, а брат — горным инженером. Что же касается меня, то, не выяснив еще точно, каким инженером я буду, я тем не менее держал на столе задачники Шмулевича и не скажу, чтобы часто, но все же иногда заглядывал в них. И все же будущее мое было неясно. Вздыбленное, взволнованное, но не организованное сознание никак не могло установить путь дальнейшей жизни. Не знал я тогда еще; что путь этот определяется конечной целью, которая в свою очередь намечает и ближайшие задачи.
Как я уже говорил выше, на нас, старшеклассников, директор реального училища Юрьев махнул рукой. Младшие классы жили в условиях аракчеевской дисциплины, а мы были на положении свободных художников.
Мы не стриглись, носили длинные волосы, ходили в пиджаках и вообще вносили вольный дух в жизнь училища. Все нам прощалось, и на все наши выходки Юрьев смотрел сквозь пальцы. Он знал, что пройдет год и вся эта «вольная нечисты», как он называл нас на педагогических советах, навсегда покинет стены вверенного ему реального училища. Однако произошло это гораздо раньше и вот при каких обстоятельствах.
За какой-то незначительный проступок, совершенный учеником третьего класса, Юрьев исключил провинившегося из училища. Все ученики были возмущены, и мы, семиклассники, решили взять на себя защиту пострадавшего и предъявили ультиматум Юрьеву.
«Или провинившегося возвращают в училище, или весь седьмой класс подает заявление об “уходе”». Мы были убеждены, что дирекция не пойдет на такой скандал перед учебным округом и требование наше будет удовлетворено. Но, последовательно проводивший свою жесткую политику, Юрьев даже как будто обрадовался, что ему представляется возможность единым махом освободиться от «вольной нечисти». Провинившегося 22 ученика в училище не вернули, а нам всем пришлось подать заявление об уходе. В архивах Министерства просвещения, вероятно, где-нибудь отмечено, что в 1906/07 учебном году в Вологодском реальном училище пришлось закрыть седьмой класс, так как все учащиеся подали заявление об уходе и объявили, что весной они будут держать экзамены экстерном.
Подготовка к экзаменам, была не очень трудна, и у нас оставалось много свободного времени. Куда же его истратить? Чем заняться? Эти вопросы невольно вставали перед нами, но ответить на них мы не могли, ибо сами еще недостаточно ясно понимали свои желания и стремления.
Жребий брошен
В Вологодском театре в ту пору работала труппа антрепризы А. П. Вяхирева. Так вот к нему-то я и обратился с предложением бесплатно работать в его деле.
Я имел урок, за который получал двадцать рублей в месяц, а жизнь в Вологде в то время была такова, что этих денег мне вполне хватало. Снимая комнату с завтраком, обедом, ужином и стиркой белья, я платил семнадцать рублей. Три рубля оставалось на карманные расходы.
Посмотрев на меня, как цыган смотрит на покупаемую на базаре лошадь, Вяхирев сказал:
— Зайдите к Петру Ивановичу и скажите, что я вас принял на работу.
— А кто это Петр Иванович?
— Наш режиссер. Васильев. Зайдите завтра, часов около трех. Он освободится после репетиции и поговорит с вами.
Радости моей не было конца, и я проклинал медленно текущее время, мечтая скорее поговорить с режиссером и включиться в творческую жизнь настоящего театра.
4 декабря 1907 года ровно в три часа я стоял за кулисами, дожидаясь когда Петр Иванович Васильев окончит репетицию и я смогу подойти к нему со своей просьбой.
Репетиция «Маскарада» окончилась. Затихли страсти сценической жизни, актеры, покидая сцену, обыденными голосами беседовали о своих будничных делах.
23 — Мне нужно поговорить с Петром Ивановичем, — обратился я к одному из них.
— А вон он на сцене разговаривает с Яшей… — ответил мне будущий Арбенин и, повернувшись спиной, взял под руку идущую со сцены актрису.
«Петя пытается создать иллюзию эпохи Лермонтова», — сказал он ей и оба громко засмеялись.
«Все мы жаждем любви, это наша святыня», — неожиданно услышал я со сцены. Это пел Васильев, обеими руками похлопывая по плечам Яшу. Затем он ткнул его пальцем в живот и с веселым смехом пошел прямо в ту кулису, где я его ожидал с заранее приготовленной речью.
Но режиссер театра не дал мне возможности высказаться. Он прервал мой монолог и, положив руку мне на плечо, сказал:
— Сегодня «Маскарад», завтра «Шерлок Холмс», послезавтра, 6 декабря, утренник, «Ревизор». — Он сделал паузу, во время которой ногтем указательного пальца поковырял в зубах, и неожиданно добавил: — Вот в «Ревизоре» я вас и выпущу в Свистунове. Гоголь не зря его назвал Свистуновым, — и, похлопав меня по плечу, он закончил нашу беседу, — у вас это получится.
Я был настолько потрясен неожиданностью и стремительностью разрешения мучавших меня проблем, что даже не заметил, как Васильев покинул меня, и только издали звучащая мелодия «Все мы жаждем любви» вернула меня к действительности.
«Значит, 6 декабря я играю в театре… Играю Свистунова… Гоголь не зря его назвал Свистуновым… У вас это получится… А когда же репетиции?.. А во что я буду одет? А когда мне приходить? А что это за роль Свистунова?» — бесконечное количество вопросов проносилось в моем сознании, пока я стоял на сцене, не зная, что ж мне предпринять. Вероятно, я так простоял бы довольно долго, если бы не новое появление Васильева, но уже в николаевской шинели и бобровой шапке, лихо заломленной на затылке.
— А вы, юноша, еще здесь? О чем же вы мечтаете?
— Петр Иванович, а когда же репетиция? — робко спросил я.
— «Ревизора», юноша, не репетируют, а играют! Выучите текст, а перед началом спектакля я вам покажу места.
Двое суток прошли, как в тумане. Зубрежка текста. Репетиции 24 с самим собой. Репетиции перед зеркалам и репетиции без зеркала. Размышления о том, почему Гоголь назвал свой персонаж Свистуновым. Непонимание, почему Васильев не побеседовал со мной на волнующие меня вопросы.
Ночь я почти не спал и в десять часов утра явился в театр.
Уборщица подметала сцену. В театре не было еще никого.
Я слонялся по сцене, обошел пустые актерские уборные и бесконечно был огорчен спокойствием и будничностью, которые царили во всем здании театра.
В одиннадцать часов на сцене двое рабочих начали ставить декорации, а костюмерша разносить костюмы в актерские уборные. Мне бесконечно стыдно было обратиться к кому-нибудь и спросить, где же я буду одеваться и в какой костюм. А время между тем шло. Начали собираться актеры, одеваться, гримироваться. Васильева в театре все еще не было. Оставалось двадцать минут до начала спектакля. Преодолевая смущение, я обратился к Яше, бывшему помощником режиссера, и сказал ему, что в сегодняшнем спектакле я должен играть Свистунова.
— Ах, так это вы Петров. Идите наверх, там вас обработают. Только торопитесь, через пятнадцать минут начало спектакля.
«Обработали» меня действительно быстро, и через десять минут, нелепо одетый (костюм был мне велик) и чудовищно загримированный (мне приклеили только баки и усы, оставив неприкосновенным мальчишеское лицо), я уже был на сцене, разыскивая Васильева, чтобы узнать хотя бы, в какую дверь я выхожу.
— Ну-с, юноша, поздравляю вас с началом вашей театральной карьеры, — весело обратился ко мне Васильев. — Значит, так… выходите вы вот в эту дверь, встречаетесь с Мирским, он играет городничего, а дальше все пойдет как по маслу. Прекрасно выглядите. Яша, давайте третий звонок и начинайте спектакль. Ну, с богом. — И с этими словами режиссер театра исчез, оставив меня в еще более взволнованном состоянии, чем утрам.
Как шел спектакль, что я делал на сцене, совершенно выпало из моего сознания. Я выскакивал на сцену, когда Яша говорил «пошли» и ударял меня по спине. Я выкрикивал зазубренные слова, стремясь говорить на низах, невероятно 25 пучил глаза и исчезал со сцены согласно установленным авторским ремаркам. И тем не менее, вероятно, все прошло благополучно, так как после конца спектакля Васильев мне сказал: «Завтра повторяем “Маскарад”, будете играть первого игрока». А вот как я играл Свистунова, — об этом ни один человек не сказал мне ни одного слова.
Я не остановил хода машины провинциального спектакля, и это, видимо, уже являлось плюсом. Грустный, разочарованный, но в то же время в несколько приподнятом настроении возвращался я домой после «начала своей театральной карьеры».
На другой день я играл первого игрока в «Маскараде» в тех же условиях и с тем же результатом, с той лишь разницей, что эта роль была в стихах.
Примитивная, но в чем-то и сложная машина провинциального театра работала четко и без срывов, сообщая мне свой ритм, разрушая мечты, с которыми не хотелось расставаться, и в то же время воспитывая профессионализм провинциального актера с его навыками и ограниченным пониманием задач театрального искусства.
Современный зритель не имеет ни малейшего представления о провинциальном театре тех времен, да и среди театральных деятелей не много осталось людей, которые помнят и по собственному опыту знают, что это было такое.
Некоторые актеры в труппе Вяхирева обладали голосами, а поэтому мудрый антрепренер и решил, что наряду с драматическими спектаклями можно иногда показать публике и оперетту, тем более что опереточный спектакль можно повторить четыре-пять раз, а драматические спектакли обычно проходили по одному разу.
Среди намеченных для постановок оперетт была и «Веселая вдова», имевшая в то время огромный успех на русской сцене. Мелодии этой оперетты распевались повсюду.
— Что же будет, когда мы ее поставим? — говорил Васильев. — Вся Вологда запоет.
Роли, правда, разошлись с трудом. Даже мне была поручена роль секретаря посольства Негуша, разумеется, потому, что некому было ее играть. Но за исполнение центральных ролей — Гянны Главари и князя Данилы — и антрепренер и Васильев были совершенно спокойны. Они знали, какой успех у зрителей всегда имели и Ижевская и Ярославцев, выступая 26 в опереточных спектаклях. На постановку «Веселой вдовы» было отведено пять репетиций, что являлось неслыханной роскошью, так как любой драматический спектакль играли с одной, самое большее с двух репетиций.
Все шло благополучно. В четыре репетиции Васильев поставил весь спектакль, а пятая, нечто вроде генеральной, должна была быть в день премьеры, утром. Способность Васильева так быстро наладить сложный опереточный спектакль объяснялась тем, что раньше он служил в Москве у Омона (а что за вертеп был московский Омон — читатель лучше всего узнает, если прочтет о нем у Горького в его романе «Жизнь Клима Самгина»).
Итак, утром, в день премьеры «Веселой вдовы», все участники собрались на репетицию. Оркестр повторял отдельные номера, хлопотливый Яша подвешивал на сцене качели для последнего акта, неутомимый Васильев репетировал хоровые ансамбли, словом, все было готово к началу так называемой генеральной, но ее не начинали, так как не было Ижевской.
— Где Ганна? Почему опаздывает Ганна? — спрашивал Васильев и тут же, прислушиваясь к оркестру, кричал дирижеру: — Сережа! Качели играйте медленнее и торжественнее!
— «Ти-хо и плав-но ка-чаясь», — запел он своим специфическим безголосым режиссерским голосом, устанавливая для Сережи темп знаменитой песенки на качелях.
— Петр Иванович, Софья Алексеевна пришла, — доложил Яша Васильеву.
— Сонечка, ну как не стыдно опаздывать в такой день… — Но, увидев лицо Ижевской, Васильев с тревогой опросил: — Что с тобой?
— У меня совершенно пропал голос. Что я ни предпринимала, ничего не помогает. Не только петь, я даже говорить не могу. Слышите? — печально сказала Ижевская, испуганно поглядывая на собравшихся вокруг нее актеров.
— Почему не начинают репетицию? — неожиданно раздался вопрос Вяхирева, по-хозяйски, в шубе и шапке, вошедшего на сцену.
— У Ижевской совершенно пропал голос, Александр Петрович. Что будем делать? — как-то беззаботно, точно ничего и не произошло, ответил ему вопросом на вопрос Васильев.
— Вот ты, Софья, всегда так, — злобно фыркнул антрепренер и, обращаясь к Васильеву, сказал:
27 — Пойдем, Петр.
Антрепренер и режиссер покинули сцену. Кипучая предрепетиционная деятельность замерла, и водворилась тишина.
И, казалось, оркестру никогда не сыграть ни увертюры, ни «качелей» в нужном темпе, не будут качели качаться или оборвутся и уж, конечно, не вспыхнут на них в нужный момент электрические лампочки, о которых так хлопотал Яша, договариваясь с электриками. Вся подготовка к репетиции, проходившая на нерве неизбежного вечернего спектакля, лопнула как мыльный пузырь.
Общую тревожную паузу ожидания прервал выход на сцену руководства театра.
Впереди шел не снявший ни шубы, ни шапки Вяхирев, а за ним, мурлыча какой-то легкомысленный мотив и перебирая комплект ролей, шествовал Васильев.
— Вечером будете играть «Дядю Ваню», — буркнул антрепренер и направился к выходу из театра. — Не забудьте заказать афишу и чтобы через час она была вывешена, — такова была последняя реплика хозяина театра, покинувшего сцену.
Команда была дана, оставалось ее выполнить. Ни у кого даже не мелькнула мысль опротестовать это нелепое распоряжение.
— Яша, раздайте роли, — сказал Васильев, передавая Яше истрепанные тетрадки. — Серело, отпускайте оркестр. Вы сегодня свободны. Не додумался Чехов написать финальный монолог Сони в стихах и окончить пьесу дуэтом дяди Вани и Сони. Смелости не хватило. А какой был бы успех.
Яша раздал роли, музыканты покинули сырую оркестровую яму, ушли также и актеры, не получившие ролей. На сцене остались только занятые в «Дяде Ване» и Васильев. Даже Яша ушел заказывать афишу. Через час она должна была известить жителей Вологды, что сегодня в Городском театре вместо «Веселой вдовы» пойдет «Дядя Ваня» Чехова.
— У кого играны роли в «Дяде Ване»? — обратилась режиссура к участникам вечернего спектакля.
Оказалось, что только Соня и Астров играны у двух исполнителей в прошлогоднем сезоне, а из остальных актеров никто, нигде и никогда не играл в «Дяде Ване». Но это не смутило Васильева. Он весело посматривал на актеров, перелистывавших истрепанные тетрадки, в которых от руки был переписан текст, затем взглянул на часы и неожиданно сказал:
28 — А чего тут репетировать? Идите домой, прочтите роли, а вечером перед каждым актом я скажу, кто где находился на сцене. Будем «тихо и плавно качаться» в чеховском тексте. До вечера.
И вечером, ровно в восемь часов, поднялся занавес, актеры играли, а зрители доверчиво смотрели на сцену и верили, что им показывают чеховского «Дядю Ваню».
Смотрел это рискованно смелое представление и я, невольно вспоминая наш второй акт из «Дяди Вани», который мы играли на открытии нашего драматического кружка. И где-то в глубине души рождалось гордое чувство от того, что мы, любители, делали это серьезнее и творчески интереснее, несмотря на профессионализм сегодняшнего вечернего безобразия. Мы уже смутно понимали, что в театральном искусстве существуют какие-то сложные и неясные нам пока вопросы, и уж, конечно, догадывались, что не все режиссеры похожи на Петра Васильева.
Вспоминаю еще один эпизод, ярко характеризующий жизнь театрального искусства того времени.
Вечером шел спектакль «Новый мир». Васильев играл в нем роль Нерона. Я также был занят, изображая какого-то Эвлоджио — торговца невольниками. По окончании спектакля, когда мы все шли разгримировываться и проходили мимо уборной Вяхирева, он остановил Васильева и, передавая ему экземпляр пьесы, сказал:
— Завтра играем «Консула Берника».
— А кто автор? — спросил режиссер.
— Ибсен, — отвечал Вяхирев.
— Не слыхал, — произнес Васильев, подбросил на ладони экземпляр неизвестного ему Ибсена и, как всегда напевая «Все мы жаждем любви», начал подниматься по скрипучей деревянной лесенке в мужские уборные, бывшие на втором этаже.
Когда через много лет я вновь попал в Вологду, то не нашел ни старинных бульваров, ни театра, который, как мне сказали, давно уже сгорел. А сколько воспоминаний связано с этим деревянным зданием, где началась моя театральная жизнь! Здесь впервые увидел я «Передвижной театр» и был поражен новизной театральной культуры, страстным проповедником которой был П. П. Гайдебуров. Здесь, будучи еще реалистом, познакомился я с П. П. Гайдебуровым, и с Н. Ф. Скарской, и с А. А. Брянцевым; наше знакомство, завязавшееся 29 в те далекие годы, переросло в большую человеческую дружбу, основанную на искреннем уважении друг к другу.
В Вологде же, на гастролях, впервые привелось мне увидеть М. Г. Савину, и, откровенно говоря, она мне очень не понравилась. Только через шесть-семь лет, работая в Александринском театре и постоянно наблюдая ее и как человека и как художника, понял я значение для русской сцены этой замечательной актрисы.
В этом же деревянном театре, в спектакле, организованном выпускниками реального училища в пользу недостаточных учеников, играл я старика Ванюшина в пьесе Найденова, а Арину Пантелеймоновну, жену Ванюшина, играл шестидесятилетний профессиональный актер Пузинский. В первый раз в жизни видел я в этом же театре, во время великого поста, и гастрольный сеанс синематографа, где нам показывали, как упрямый ослик разбивал копытами корзинку с яйцами, и мы все смеялись до упаду. Драматург Афиногенов ввел этот рассказ в текст академика Окаемова в пьесе «Машенька». Афиногенов любил, когда я ему рассказывал эпизоды далекого прошлого, и называл меня «рассказчиком о темном прошлом».
Много воспоминаний связано у меня с этим деревянным вологодским театром.
Здесь я увидел, как вместо керосиновой лампы пришла на сцену и в зал электрическая лампочка, как писаные красные пышные падуги заменились потолком, как трафаретные всеобщие павильоны уступили место в театре Гайдебурова специальным декорациям. Именно в этом театре в годы революционного подъема я был завсегдатаем, имея корреспондентский билет постоянного рецензента журнала «Объединение», который подпольно, на гектографе, издавали наши политические кружки. Многое увидел и познал я, работая в этом театре.
На рубеже двух столетий и особенно в начале нашего столетия ломалась жизнь царской России. Словами Ани из «Вишневого сада» Чехов прощался с прошлой жизнью: «Прощай, дом, прощай, старая жизнь», — и через неясное, но взволнованное сознание Пети Трофимова приветствовал новую жизнь: «Здравствуй, новая жизнь!»… Уже «гордо реял» Буревестник Горького, а на обширной театральной территории матушки России Петры Ивановичи Васильевы еще продолжали распевать: «Все мы жаждем любви».
30 Прощай, Вологда!
Приближалась масленица, то есть конец зимнего провинциального сезона. Актеры с грустью думали о предстоящей поездке в Москву, в театральное бюро, где в течение великого поста нужно будет устроиться и на летний и на зимний сезоны. Летом Вяхирев держал театр в Бердянске и совершенно неожиданно пригласил меня на летний сезон, предложив пятьдесят рублей в месяц. Раздираемый сомнениями, но обольщенный сделанным предложением, я согласился, тем самым утвердив свой будущий жизненный путь.
Прошла масленица. Кончился сезон. Труппа разъехалась. Нужно было готовиться к экзаменам. Но уже запылились задачники Шмулевича, не так ясно представлял я себя путейским инженером, и все больше и больше начинала манить меня жизнь странствующего актера.
Словом, чувствовал я себя на перепутье, и продолжалось это довольно долго, до тех пор, пока случай не помог мне принять определенное решение.
Прежний руководитель нашего подпольного кружка В. Ф. Моргенштиерн попросил меня организовать спектакль с рабочими паровозоремонтных мастерских. Сбор должен был пойти в кассу революционных организаций.
Решили ставить «На дне» Горького. Постановку спектакля и роль Луки поручили мне.
С огромным энтузиазмом и самоотверженностью работал кружок над подготовкой этого спектакля. Впервые тогда я был взволнован и удивлен различием отношения к делу профессиональных актеров труппы Вяхирева и участников этого кружка.
Спектакль «На дне» шел зимой в городском театре, и я хорошо помнил те две репетиции, которые провел Васильев. Помнился спектакль и в Художественном театре. Не забыт был и наш третий акт в ученическом кружке. Но как все по-новому поворачивалось в работе с рабочими паровозоремонтных мастерских! И первое, что удивляло, — это их требовательность, их серьезность, их желание проникнуть в глубь пьесы и заставить революционно и призывно зазвучать текст Горького. Впервые в жизни столкнулся я с людьми, которые не были похожи ни на представителей чопорной инженерской среды, ни на взлохмаченную молодежь подпольных кружков, 31 ни на равнодушно-беззаботных артистов труппы Вяхирева. Это были новые люди, с серьезными требованиями, очень хорошо знающие, чего они хотят, и согласные драться и умереть за свои убеждения.
Среди участников спектакля навсегда запомнился исполнитель роли Сатина — Иван Андреев. Красавец человек, гигантского роста, добродушный, умный, он и тембром голоса и пластичностью движений напоминал Шаляпина. Когда гремел его голос, все кругом затихали, слушая его высказывания, добродушные по форме, но глубоко иронические по содержанию. О лучшем Сатине мы не могли и мечтать. Полагаю, что и для хорошего профессионального театра такая богато одаренная человеческая натура была бы находкой. Глядя на него, невольно вспоминались сказания о русских богатырях и становилась понятной возможность появления таких образов, рожденных народной мудростью. Спектакль должен был идти в огромном паровозном депо, на высоком помосте, построенном из деревянных щитов. Декорации писались на рогожах, и впоследствии, в эпоху самых острых формальных ухищрений театральных художников, я не раз вспоминал это необычайно романтическое оформление. Но особенно запомнился мне зрительный зал в день спектакля. Несколько тысяч человек заполнило огромное паровозное депо. Зрители сидели на грубо сколоченных скамьях, сидели на полу, стояли в проходах и буквально облепили металлические конструкции. И эта многотысячная человеческая масса была идеальнейшим зрителем: она смеялась «единым смехом» и плакала «едиными слезами».
Зритель паровозоремонтных мастерских был суров, сосредоточен и как бы присутствовал на каком-то религиозном таинстве. Временами зал затихал настолько, что, казалось, в нем нет ни одного человека, а бывали моменты, когда стремительный поток человеческих чувств разрывал напряженную, почти осязаемую тишину и будто грозил разрушить стальные своды огромного помещения. Пьеса Горького доходила до глубины сознания многотысячного зрителя, она пробуждала в нем гнев и протест против тех, чья власть бросила «на дно» человека.
Революционное настроение в зрительном зале поднималось все больше и больше. Если в первом антракте зал напоминал гудящий пчелиный рой, то уже во втором антракте, перед 32 третьим актом, в зале организованно пелись революционные песни. Пели и «Варшавянку» и «Смело, товарищи, в ногу». Спели даже «Вы жертвою пали». Как будто бы собравшиеся пели похоронный марш жертвам и героям революции 1905 года.
Необыкновенный подъем был у всех нас, участников спектакля, перед началом третьего акта.
И какая огромная разница была в восприятии третьего акта «На дне» зрителем на спектаклях в Московском Художественном театре, в молодежном кружке, в провинциальной труппе Вяхирева и сегодня здесь, у рабочих паровозоремонтных мастерских. Так невольно, из практики жизни, проникла в мое сознание мысль о роли зрителя в нашем театральном деле, мысль, которая тогда, помню, только взволновала меня, но, конечно, не была осознана и понята до конца, во всем огромном масштабе своего содержания.
Третий акт шел с большим подъемом. Окончив свою роль Луки, я покинул сцену и, быстро перейдя за кулисами на первый план, стал следить, как пройдет финал акта. В зале была тишина, и все зрители были вовлечены в развертывающиеся на сцене события.
Все шло благополучно. Но вдруг вслед за выходом на сцену околоточного Медведева показались еще какие-то фигуры в полицейских формах. Мелькнул даже один в жандармской форме.
«Ну, это участники решили сделать сюрприз, включив для убедительности выхода Медведева дополнительные персонажи», — мелькнуло у меня в голове.
Но вслед за этим выходом сейчас же зазвучали слова, никак уже не принадлежавшие Горькому:
«Прекратите спектакль!»
Человек в форме жандарма вышел на авансцену и, обращаясь в зрительный зал, громко сказал:
— Согласно распоряжению губернатора спектакль прекращается.
Занавес быстро закрылся.
В зале начался шум, крики, раздалось пение, послышались даже два выстрела.
Так окончился спектакль «На дне» в паровозоремонтных мастерских.
Огорченные, но в то же время в каком-то приподнятом 33 настроении расходились домой участники неоконченного спектакля.
В ту же ночь я был арестован и препровожден в городскую тюрьму, расположенную на высоком правам берегу реки Вологды.
В камере под номером 13 я встретил человек пятнадцать молодежи, недавних моих коллег по подпольным кружкам. Некоторые из них сидели уже несколько дней, остальных привезли сегодня.
На второй день к нашей компании присоединились Иван Андреев и рабочий, игравший Костылева. Андреев, обладавший великолепным голосом, организовал хор, и мы демонстративно пели революционные песни, прерываемые появлением тюремных служителей. Восхищаясь голосом и вообще великолепием человеческой натуры Андреева, я агитировал его бросить все и идти учиться, пророча ему блестящую будущность певца. Он слушал наши похвалы, и иногда задумчиво отвечал:
— Я с удовольствием бросил бы, да вот не дают… — и показывал на запертые двери камеры.
Через десять дней, так и не вызвав никого из нас на допрос, всех нас неожиданно освободили.
— Ну, вольная нечисть, отправляйтесь по домам, — сказал тюремный надзиратель, употребив выражение рыжего Юрьева.
Уличная жизнь мирной Вологды текла по-прежнему тихо и спокойно, и нам, взбудораженной и взволнованной молодежи, это казалось странным. Мы десять дней, неизвестно почему, просидели, нас выпустили, а Андреева перевели в одиночку… И фраза, произнесенная тюремным надзирателем, как-то настораживала, невольно связывая наш арест с рыжим директором реального училища. Что-то недоброе почувствовали мы в этой равнодушно повторенной надзирателем формуле «вольная нечисть».
И действительно, когда через несколько дней мы направились подавать прошение о разрешении нам держать экзамены экстерном, рыжий директор с язвительной улыбкой сообщил:
— Политически репрессированным людям вход в учебное заведение, которым я руковожу, воспрещен.
Так окончилась трехлетняя бурная и полная событий жизнь в мирном городе Вологде.
34 Глава 2
Здравствуй, Москва!
Запрещение держать экзамены экстерном как-то само собой определило мой дальнейший путь. До открытия летнего сезона в Бердянске оставалось два с половиной месяца, и я решил воспользоваться предложением младшей сестры — провести это время у нее на хуторе, в пятнадцати верстах от города Сумы, Харьковской губернии. В первый раз садился я в поезд, как мы теперь сказали бы, «в новом качестве»… В поезд садился «свободный художник».
Большой натиск со стороны сестры, ее мужа и всех родных пришлось мне выдержать в связи с моим решением стать актером. В нашей семье никто и никогда профессионально искусством не занимался.
Семье мужа сестры это было еще более чуждо. Все были как-то шокированы, а глава семейства, уважаемый в городе нотариус В. В. Бырченко, просто не верил серьезности моего решения.
Споры и обсуждения возобновлялись почти каждый день. Небольшую поддержку имел я только со стороны брата, который также приехал отдыхать в хутор из Москвы, где он поступил в Училище живописи и ваяния. И он также нарушил 35 желание отца, видевшего в нем будущего горного инженера.
В бесконечных разговорах о профессии актера высказывались суждения, что уж если избирать этот путь, то нужно ехать в Москву, поступать в школу Художественного театра и серьезно заниматься театральным искусством.
Через несколько дней я послал телеграмму Вяхиреву с просьбой освободить меня от данного мной обещания, выражая благодарность за предложение работать в его деле.
Занимаясь пятьдесят лет педагогической работой и постоянно встречаясь с молодежью, я вижу, как редко пришедший в театральную школу юноша или девушка ясно и правильно оценивают свои творческие возможности. Каждый в этом смысле думает о себе совершенно не то, что он собой представляет, и очень редко желание молодого артиста играть роли определенного амплуа достигает цели.
Так и я в те далекие времена мнил себя трагическим актером. Вскоре дубовый лес, расположенный на горе, неподалеку от хутора, по утрам стал оглашаться нечеловеческими криками. Это я готовился к предстоящим экзаменам в Москве и изучал трагические монологи и стихотворения. Были выучены монологи Бранда из драмы Ибсена, стихотворение Огарева «Прометей» и «Записки сумасшедшего» Гоголя. Почему-то в то время мы, молодежь, увлекались психикой сумасшедших, и я постоянно исполнял на концертах и «Сумасшедшего» Апухтина, и «Сумасшедшего» Полонского, а на спектакле в хуторе сыграл даже роль Неизвестного в одноактной пьесе Щеглова «Красный цветок». Давно уже мечтал я сыграть эту гастрольную для трагического актера роль. Неизвестный — это сумасшедший, убежавший из психиатрической больницы и в течение акта беседующий с женой врача — директора этой больницы. А она, увлеченная современной индивидуалистической философией, принимает его за нормального человека.
Сестра вспомнила, что дядя, живший в Москве и работавший директором второго Лефортовского кадетского корпуса, был привлечен в Художественный театр консультантом при постановке «Трех сестер». Он консультировал форму военных и манеры их поведения. Это о нем в одном из своих писем к Чехову писала Ольга Леонардовна Книппер: «… Много добродушного смеху возбуждает Петров, присутствующий на 36 репетициях, “наш военный режиссер”, как мы его прозвали. Он, по-видимому, решил, что без него нельзя обойтись, и толкует уже не о мундирах, а о ролях. Лужский — шутник, отлично его копирует, как он, сильно задумавшись, говорит: “Вот не знаю, что "нам" теперь с Соленым бы сделать — не выходит что-то!”» (Письмо О. Л. Книппер к А. П. Чехову от 18 января 1901 года).
На семейном совете было решено просить дядю написать письмо к Вл. И. Немировичу-Данченко, и с этим-то письмом я и явлюсь к нему перед экзаменом. «Блатом» это тогда не называлось и носило более благозвучное имя — «протекция».
В начале осени после трогательного прощания с хуторянами, снабженный письмом сестры к дяде и даже благословением на новый жизненный путь покидал я с братом город Сумы. Впереди маячила Москва, манящая и таинственная, город, где находился лучший театр в мире. Войти в этот театр и познать все тайны творчества, увидеть спектакли, которые волновали весь театральный мир, — вот та мечта, которая всецело владела мною.
Наконец мы в Москве. Дядя с удовольствием написал письмо и даже, как мне показалось, благосклонно отнесся к моей затее. Письмо было у меня в кармане, и я отправился на Камергерский переулок в Художественный театр.
Владимир Иванович заканчивал репетицию.
Я бродил в правом коридоре второго этажа перед его кабинетом. Люди, работавшие в этом театре, хорошо помнят этот коридор. Повернувшись на звук шагов, я увидел идущего Владимира Ивановича Немировича-Данченко.
Взяв письмо, Владимир Иванович пошел в кабинет, пригласив меня следовать за собой. Подойдя к письменному столу и не садясь, он вскрыл конверт и начал читать письмо.
— Та-а-кс, — произнес Владимир Иванович, положив письмо на стол.
Было понятно, что наступила минута, когда решалась моя судьба.
— Видите ли, в чем дело… — начал Владимир Иванович и остановился, продумывая, как точнее сформулировать свое решение. — Прием в школу уже состоялся, — продолжал Владимир Иванович. — Вы опоздали. Но и в будущем году приема в школу не будет. Мы решили изменить форму привлечения 37 молодежи в театр, и на будущий год, вероятно, будем набирать молодежь и воспитывать ее прямо на практической работе в театре.
Воспитание в школе или прямо на практической работе?
Я не очень хорошо мог понять разницу этих методов, но я очень хорошо осознавал, что из заоблачных высей своих мечтаний лечу стремглав вниз и что земля близко и что сейчас…
Редко в жизни приходилось встречать в разговоре такого великолепного партнера, как Владимир Иванович. Он необыкновенно чутко понимал человека, с которым разговаривал. Так было и на этот раз. Именно он сам дернул спасательный шнур и раскрыл парашют, не дав мне разбиться вдребезги.
— Если вы хотите действительно поучиться у нас, то я вам вот что посоветую. Завтра или послезавтра будет вступительный экзамен в школе Адашева, это актер нашего театра, вот вы и поступайте туда. Там преподают наши актеры, и за год вы ознакомитесь с основными установками нашей педагогики. А на будущий год посмотрим, как сложатся обстоятельства. А кроме того, я вам разрешу изредка бывать на репетициях нашего театра.
На всю жизнь остался я благодарен Владимиру Ивановичу за его человеческую чуткость, проявленную к сидящему перед ним мальчишке в ту критическую для него минуту.
Судьба моя была решена, и назавтра я держал экзамены в школу Адашева.
Среди экзаменующихся обращала на себя внимание худая, очень высокая девушка, стриженная под машинку (она недавно болела тифом) и в белом чепце. Звали ее Серафима Бирман.
В списке принятых в школу ни ее, ни Петрова не оказалось. Их обоих не приняли.
Но школа была частная, за учение мы все платили, и после переговоров с директором Адашевым обоих нас зачислили в число учеников.
Так начался новый этап жизни в Москве, в школе Адашева, но уже с небольшой травмой, что во мне не признали трагического актера.
— Способности у вас, возможно, и есть, но какой же вы трагический актер? — сказал Адашев, зачисляя меня в школу.
38 Школа Адашева
Перелистывая далекие страницы прошлого, невольно приходишь к выводу, что в общем мне очень везло в моей театральной жизни. Москва, серьезный разговор с Немировичем-Данченко, получение права бывать на репетициях в Художественном театре и, наконец, поступление в школу Адашева — обо всем этом мог только мечтать молодой человек, желающий серьезно заниматься театром. И главное, конечно, это состав преподавателей, который вел педагогическую работу в школе Адашева: В. И. Качалов, В. В. Лужский, Н. Г. Александров, Н. О. Массалитинов, Л. А. Сулержицкий, М. М. Мордкин, С. С. Голоушев, писавший под псевдонимом Сергей Глаголь.
Даже оставляя в стороне всю методику преподавания (системы Станиславского тогда еще не было), одни постоянные встречи с такой блестящей плеядой талантливейших художников несомненно воспитывали в нас любовь к традициям Художественного театра.
Особенно мне дороги воспоминания о двух педагогах, которые буквально овладели сознанием молодежи и стали властителями наших дум.
Один из них — это Леопольд Антонович Сулержицкий, преподававший то, что мы сейчас называем «основами актерского мастерства», и Михаил Михайлович Мордкин — один из замечательных танцовщиков Большого театра, открывавший нам великие тайны выразительности человеческого тела. Именно Мордкин научил нас понимать содержание духовной жизни человека, выраженное в пластической форме. Именно его уроки приоткрыли нам тайны искусства скульптуры. Именно он учил нас быть содержательно-выразительными в молчании. И недаром, когда шел балет «Саламбо» в Большом театре, на последний акт каждый раз приезжал Ф. И. Шаляпин. Только большому художнику и актеру, с предельным совершенством владеющему пластическими выразительными средствами, возможно было создать такую незабываемую сцену смерти героя. Исполнение Мордкиным этой сцены буквально потрясало зрителя. Ее приходили смотреть актеры драматических театров, ее изучал Шаляпин, исполнительскому мастерству в этой сцене могли бы позавидовать даже китайские актеры, как известно, в совершенстве владеющие движением человеческого тела.
39 И Мордкин и Сулержицкий впервые начинали заниматься педагогикой, а потому и понятны были та страсть и то вдохновенное увлечение, с которыми они оба отдались этому интереснейшему делу. Понятна была и наша влюбленность в этих двух художников, радостно отдающих нам свои лучшие художнические качества.
Сулержицкий преподавал на втором курсе и не являлся моим прямым педагогом, поскольку я был на первом курсе, но он разрешил мне посещение своих занятий, зная меня по репетициям «Синей птицы» в Художественном театре, где я выполнял его поручения по монтировочной части, в основном в области освещения.
Я убежден, что вся группа, занимавшаяся с Леопольдом Антоновичем, на всю жизнь сохранила не только в памяти, но и в своем сердце его творчески вдохновенный занятия.
Именно он привил нам любовь и интерес к сложнейшим тайникам человеческой психики и научил ценить мысль, являющуюся высшим проявлением жизни человека.
С необыкновенным терпением и огромнейшей педагогической изобретательностью раскрывал он перед нашими изумленными и восторженными взорами тончайшую паутину столкновения человеческих мыслей, далеко не всегда высказанных и оформленных в авторском тексте.
Он первый познакомил нас с тем, что теперь мы называем «подтекстом», или, как называл это Владимир Иванович, «вторым планом». Он, если позволено будет так выразиться, первый поставил нам сознание, так же как ставят голос певцу или кисть руки пианисту, постоянно приучая нас к широчайшему пониманию вопросов актерского мастерства и на всю жизнь дав нам завет идти от содержания к форме.
Бывая на всех его занятиях, я иногда испытывал то, что переживал, будучи зрителем на спектаклях с участием Мамонта Дальского.
Сулержицкий великолепно и доказательно объяснял сложные пути духовной жизни, которые в итоге приводят к правдивой и искренней актерской игре. Через педагогику Сулержицкого становилась понятной власть актера Дальского над сознанием и чувствами зрителя.
С каким стыдом вспоминал я свои претензии быть трагическим 40 актером, бывая на занятиях Леопольда Антоновича. А занятия эти начинались в семь вечера и продолжались обычно до двенадцати, а бывали случаи, когда они оканчивались и в час и в два ночи. Да и после окончания занятий мы спускались к вешалке, провожая Леопольда Антоновича, и еще долгое время беседовали в прихожей. И занимался он с нами так увлекательно, мне кажется потому, что и самому ему было это интересно, как человеку, впервые испытавшему радость педагогической власти и силы.
Вот о ком, без всяких скидок, можно было бы сказать, что он был подлинным инженером наших душ. Сулержицкий был интересен не только как педагог, он был прежде всего интересен как целостная богато одаренная человеческая натура, и очень жаль, что об этом любопытнейшем и талантливейшем человеке так мало написано и рассказано последующим поколениям. А ведь его любили и уважали Толстой и Горький, а Станиславский, даже не будучи с ним знакам, но, прочтя его интереснейшую книгу «В Америку с духоборами», настолько заинтересовался им, как человеком, что пригласил работать в театре, хотя Леопольд Антонович никакого отношения к театру не имел. «Вот человек, который должен работать в нашем театре», — сказал Станиславский, прочтя его увлекательную книгу, и выписал Сулержицкого в Москву из Канады.
Правдивость и искренность поведения актера на сцене — секреты, которыми так блестяще владел Леопольд Антонович, — были присущи ему самому, как человеку, и очень выделяли его из среды окружающих людей. Он был в жизни настолько прост, естествен и скромен, что большинство людей, говоря о нем, не называли его ни по имени и отчеству, ни по фамилии, а просто звали Сулером. Об этом вы прочтете и в письмах Горького и даже у предельно деликатного человека Станиславского. И одевался Леопольд Антонович, исходя из привычного обращения к нему. Он покупал костюм и носил его до тех пор, пока на рукавах не образовывалась бахрома, тогда он снимал его и покупал другой. Вместо жилетки он всегда носил темно-синий шерстяной свитер — это чем-то роднило его с моряками. Внешняя, видимая для всех: простота этого талантливого человека еще больше укрепляла за ним имя Сулера, и как-то за этим Сулером люди не всегда были способны разглядеть Леопольда Антоновича. 41 Но однажды это произошло, и при очень забавных обстоятельствах. На капустнике, о котором написано в книге Станиславского «Моя жизнь в искусстве» и в организации которого Сулержицкий принимал деятельное участие, он появился одетый во фрак, и как ни смешно, но не было ни одного человека, который не назвал бы его по имени и отчеству, и даже за глаза о нем говорили в этот вечер, как о Леопольде Антоновиче Сулержицком. Прав был Ренуар, когда говорил: «Людей, которые смеются, не принимают всерьез. Искусство в сюртуке — будь то живопись, музыка или литература — всегда будет поражать».
Широчайшие горизонты вопросов театрального искусства, раскрытые нам великолепными педагогами, Москва и Московский Художественный театр, в котором мы постоянно бывали, — все это формировало наше творческое сознание. Наивными казались прежние мечты о Бердянске, хотя в глубине души нет-нет да и шевелилось желание стать трагическим актером. Там более что пути, открытые перед нами Леопольдом Антоновичем, казалось, могли бы привести к заветной мечте.
Окончательный удар неумершему во мне желанию был нанесен К. С. Станиславским на годовом экзамене.
Произошло это так: на втором курсе заболел один из исполнителей водевиля «Слабая струна», над которым работал Н. Г. Александров. Я постоянно бывал на занятиях Сулержицкого, и поэтому учащиеся второго курса, хорошо знавшие меня, предложили мне приготовить к экзамену роль их заболевшего товарища и сыграть вместе с ними водевиль. Конечно, я с радостью согласился — ведь это было так почетно участвовать в экзаменах второго курса.
В школе Адашева была прекрасная традиция. На экзамены постоянно приезжали актеры Художественного театра, а если бывали свободными, то и К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко.
На этот экзамен помимо ряда актеров приехал и Константин Сергеевич. С огромным волнением сдавали мы нашу работу, и она, по актерскому ощущению, прошла благополучно. Помню, что многие места нашей игры вызывали в зрительном зале дружный смех.
«Константин Сергеевич все время улыбался и даже несколько раз громко смеялся», — сообщили нам незанятые 42 товарищи, наблюдавшие за ним в щелочки из-за кулис. Обычно Станиславский проводил беседу с участниками. Так было и на этот раз. Все участвующие были выстроены на сцене, открыли занавес, и мы дружно приветствовали любимого художника.
В ответ на наше приветствие Константин Сергеевич поднялся на сцену и начал беседу, подходя к каждому, здороваясь с ним и делая ему те или иные замечания. Это была не сухая теоретическая беседа — это были дружеские советы и замечания великолепного мастера, обращенные к влюбленной в него молодежи.
Адашев шел рядом со Станиславским и представлял каждого из учеников.
«Вот сейчас наступит момент, когда я буду бесконечно счастлив. Константин Сергеевич скажет мне несколько слов о моей игре», — мелькнуло в голове, когда Станиславский делал свои замечания соседу, стоявшему рядом.
— Это Петров, но это с первого курса, — сказал Адашев, отстраняя меня рукой, когда Константин Сергеевич, высказав свое суждение о соседе, подошел ко мне. Реплика Адашева: «Он с первого курса» — как будто означала, что со мной не стоит говорить, и Станиславский, так ее поняв, двинулся дальше.
«Неужели я буду лишен слов Константина Сергеевича, обращенных непосредственно ко мне», — промелькнуло у меня в голове, и на лице моем изобразился, вероятно, такой ужас, что Станиславский неожиданно повернулся ко мне и, улыбнувшись своими лучистыми глазами, сказал:
— Поступайте в фарс, большие деньги будете зарабатывать…
Слова эти прозвучали, как удар грома при ясном голубом небе, но это были слова Константина Сергеевича, к которым мы привыкли относиться как к безусловной истине и оспаривать и критиковать которые мы не были приучены.
Все, что говорилось на этой беседе, в дальнейшем задернулось пеленой тумана, я помню только, что три ночи подряд плакал горькими слезами, прощаясь с неосуществленной мечтой стать трагическим актером. Но ведь художник не может жить без мечты и на месте одной неосуществившейся должна обязательно, во чтобы то ни стало, возникнуть другая. А этой другой мечты у меня не было, она не возникала. 43 И бродил я после окончания первого курса словно в тумане, не представляя себе, какую же цель поставить перед собой впереди, к чему стремиться.
И вдруг совершенно неожиданно мое будущее прояснилось.
Внезапное решение
На летние каникулы мы с братом решили поехать отдохнуть к старшей сестре, которая жила в Уфимской губернии, в селе Чекмогуш, где ее муж был земским врачом.
Мы ровно ничего не делали и целыми днями бродили по цветущей степи.
И вот однажды ночью, гуляя один в степи и остро ощущая свое одиночество среди бескрайних просторов, накрытых куполом звездного неба, я вдруг неожиданно, без всякой логической предпосылки, нарушая таинственную тишину ночи, воскликнул: «А я буду режиссером!»
Как же это произошло? Откуда возникла эта мечта? Почему режиссура, о которой я никогда раньше не думал и даже серьезно не представлял себе, что же это такое за искусство?
Я до сих пор не могу понять, что послужило тогда толчком, причиной моего внезапного прозрения, — просто в моем сознании вместо одной утраченной мечты родилась новая, которая, как показало время, выдержала все испытания и явилась путеводной звездой в моей жизни и творчестве.
Я решил поступить на «режиссерское отделение» в школу Художественного театра, причем существует такое отделение или не существует — это обстоятельство меня мало беспокоило. Задуманное обязательно должно быть реализовано.
Наблюдая, как в вологодском театре режиссер Васильев прежде всего (а пожалуй, и в основном) стремился придумать выгородку декораций и вспоминая чудесное искусство спектаклей Художественного театра, я прежде всего решил склеить несколько макетов для различных пьес и с этими макетами явиться на экзамен. Были склеены три макета для «Маленького Эйольфа» Ибсена, один макет для «Привидений» Ибсена и один макет для комедии Чирикова «На дворе, во флигеле». 44 Но, конечно, склеенные макеты не определяли еще моей способности поставить эти пьесы, и я решил разработать какое-нибудь небольшое произведение, предполагая, что я его ставлю. Но на большую пьесу я не рискнул и выбрал сатирическую поэму А. Толстого «Сон советника Попова», постановочный план которой и разработал. Где-то даже мелькала озорная мысль реализовать эту постановку, организовав в школе программу типа «Летучей мыши», вечера которой проходили всегда с огромным успехом и были явлением несколько необычным на фоне московской театральной жизни.
На втором курсе школы Адашева учился Сергей Воронов, которого я также уговорил держать экзамен на режиссерское отделение. Он был старше меня, оканчивал университет и к моему предложению отнесся очень серьезно. Макетов у моего товарища не было — он не умел их делать, но зато Воронов одобрил проделанную мною работу, уверяя, что это очень важно.
— Мы выйдем с макетами, экзаменационная комиссия, уставшая слушать, обрадуется чему-то новому, на нас обратят внимание, а ведь «а экзаменах самое важное, чтобы на тебя обратили внимание, тем более когда такой большой конкурс, — говорил Сергей, с некоторой завистью рассматривая хорошо склеенные макеты.
Поддержка Воронова и одобрение макетов размягчили мок» душу, и я ему подарил макет «Привидений» Ибсена. Договорившись обо всем, мы с ним отправились для предвари тельной беседы с Вл. И. Немировичем-Данченко.
Выслушав нас очень внимательно, Владимир Иванович ответил нам не сразу и довольно долго с любопытством рассматривал нас.
— Все, что вы говорите, очень интересно, — после паузы начал он. — Но дело в том, что в школу приема в этом году не будет, а если бы и был, то у нас нет режиссерского отделения.
Мы вдвоем со всей страстью, на которую способна только молодость, начали убеждать Владимира Ивановича, что не может такой театр, как Художественный, не обучать режиссуре. «Уж если учиться на режиссеров, то где, как не в Художественном театре», — настаивали мы.
Немирович-Данченко подумал, улыбнулся.
— Школу мы закрыли, но в этом году набираем группу сотрудников, 45 вот вы и держите экзамен для поступления в группу сотрудников, а дальше посмотрим, что с вами делать. Только экзамен будет очень серьезный, записалось более двухсот человек, а вакансий будет семь или восемь.
На этом закончилась наша беседа, и мы с Вороновым вышли из кабинета Владимира Ивановича.
Уверенные в победе, но все же с некоторым волнением, явились мы с Сергеем Вороновым на окончательный экзамен, имея в руках пять склеенных макетов.
Развенчанный как трагический актер, на этот раз я приготовил басню Крылова «Вельможа», которую читал на предварительных просмотрах Н. О. Массалитинову, преподававшему у Адашева и знавшему меня по учебе в школе.
Благодаря макетам и беседам на предварительных просмотрах нас обоих допустили к окончательному экзамену.
Этот экзамен держали двадцать семь человек, из них должны были отобрать четырнадцать, и только после личной беседы с Владимиром Ивановичем утверждался окончательный список семи счастливцев, которые будут зачислены в группу сотрудников Московского Художественного театра.
Как прав был Воронов, уже умудренный жизненным опытом, что благодаря макетам на нас обратят внимание. Члены экзаменационной комиссии с удовольствием рассматривали хорошо склеенные и даже освещенные изнутри лампочками от карманных электрических фонариков макеты, примерно так же как дети рассматривают игрушки, заинтересованно беседовали с нами и потом уже в конце говорили: «Ну, прочтите что-нибудь». Обоих нас после прочитанных басен сразу же отпустили.
— Видишь, Кокоша, как я был прав, — говорил торжествующе Воронов, выходя после экзамена, — наше дело в шляпе. Можешь быть спокоен.
На другой день мы с радостью увидели, что в списке четырнадцати счастливцев красовались обе наши фамилии.
Через день мы все были приглашены на беседу с Вл. И. Немировичем-Данченко. Владимир Иванович в этой беседе как бы прощупывал нас, что это за молодежь, которая пришла в Художественный театр. Он задавал вопрос каждому и очень внимательно следил «как» и «что» отвечал каждый из нас.
На завтра в списке семи принятые я не увидел себя. Фамилия-то была, но инициалы были не мои. Это был страшный 46 удар. Мрачный шел я из театра в школу Адашева, размышляя о бренности жизни и человеческой несправедливости. «Я склеил пять макетов, а приняли Воронова», — печально думал я, подходя к школе.
Через два дня на занятия в школу буквально примчался Воронов и сказал, что Немирович-Данченко спросил его: «А почему не приходит этот юноша… ну, Петров с макетами?»
Как и год тому назад, бродил я в правом коридоре второго этажа перед кабинетом Владимира Ивановича, дожидаясь конца репетиции.
— Что же вы не ходите в театр, юноша? Тут со списками произошло недоразумение. Приняли вас. Это ошибка. Список будет дополнен.
Радость моя была столь велика, что я захлебнулся и не был в состоянии даже произнести слов благодарности.
— А завтра вечером, во время спектакля, приходите ко мне в кабинет с вашим товарищем Вороновым и потолкуем, что же это такое «режиссерское отделение», которым вы меня, откровенно говоря, заинтересовали.
На этом разговор окончился, и, поблагодарив Владимира Ивановича, я помчался в школу. Школу Адашева мы с Вороновым решили не бросать, а совмещать с работой в МХТ.
На другой день вечером в кабинете Владимира Ивановича состоялось первое его занятие с учениками «режиссерского класса».
Владимир Иванович ходил по своему небольшому кабинету, как будто бы даже не замечая нас и, вероятно, обдумывая то, что он собирался нам сказать. А трудность была, конечно, очень большая, ведь в первый раз в истории русского театра зачиналась педагогическая работа в области воспитания режиссуры. Должно быть, степень жадности познания у меня была столь велика, что все высказывания Владимира Ивановича почти стенографически запечатлелись в памяти.
— Вы, будущие, но сейчас еще очень молодые коллеги-режиссеры, поставили меня в затруднительное положение, заставив делать то, чего я никогда не делал. Но вы правы в своем требовании, и потому я считаю себя обязанным ответить на ваше желание изучать искусство, а вернее сказать — профессию режиссуры. Вы правы еще и в том, что если не нам, то кому же заниматься этим трудным делом.
47 А дело это очень трудное, так как искусство режиссуры очень молодое искусство, и это искусство еще не имеет истории изучения опыта мастеров этого дела.
Я, конечно, говорю об искусстве режиссуры, как его понимаем мы, а ведь и мы еще очень молоды. Нам всего-навсего одиннадцать лет, и наряду с нашими творческими успехами мы имеем немало и ошибок. Мы сами все время стремимся творчески идти вперед, не стоять на одном месте, а потому естественно, что путь наш — это путь побед и неминуемых поражений.
Владимир Иванович замолчал и молча продолжал ходить по кабинету. Мы, затаив дыхание и даже боясь записывать его слова, взволнованно наблюдали, как один из руководителей Московского Художественного театра тревожно размышляет о большом творческом вопросе, поставленном перед ним двумя ничего не понимающими юношами. Конечно, не только к нам были обращены слова Немировича-Данченко, они скорее выражали те тревожные мысли, которые высказывали оба руководителя театра в ту пору, подводя итоги десятилетней работы театра.
«Выйдя из принципов реализма, мы сделали полный круг и теперь возвращаемся к этому реализму», — говорил К. С. Станиславский.
Об этом же «возврате» говорил и Вл. И. Немирович-Данченко.
«В постановке “Ревизора” мы постараемся вернуться ко времени Щепкина, связав это время с эволюцией современной сцены. Главная наша цель — проявление русского искусства. Пути, по которым мы надеемся дойти до этого, — искренность и простота».
«Будущее начинает меня страшить, — признается Станиславский, — при таком доверии к нам, что мы покажем, что дадим?
Первые шаги к осуществлению народного театра, надеемся, будут сделаны уже в недалеком будущем. Просим теперь же принять под общественное покровительство это нарождающееся будущее народного театра», — так закончил свою речь К. С. Станиславский на 10-летнем юбилее театра.
Заканчивая свою речь, Вл. И. Немирович-Данченко напомнил о первой своей 18-часовой беседе с К. С. Станиславским и просил слушателей пожелать другой такой же беседы, в которой 48 с таким же горячим чувством говорилось бы об общедоступном театре.
Не эти ли мысли волновали Владимира Ивановича, когда он молча ходил по своему кабинету, как будто даже забыв, что тут на диване сидят два ученика «режиссерского класса».
Когда впоследствии В. В. Лужский представлял нас кому-нибудь, он всегда так и говорил:
— А это наши ученики «режиссерского класса», — и при этом с ироническим удивлением, слегка наклонившись, медленно разводил руками.
Так вот этих-то двух учеников «режиссерского класса» Владимир Иванович наконец заметил.
— Я не думаю, чтобы Константин Сергеевич или я смогли бы взять на себя смелость учить режиссуре. Да и не знаю, можно ли преподавать этот предмет, — сказал Владимир Иванович. Мы сделаем так. Мы вас допустим ко всем работам в театре. Вы будете прикомандированы к отдельным постановкам. Будете допущены на интимные, закрытые репетиции. Будете работать в макетной мастерской с художниками. Ознакомитесь с работой цехов. Наконец, мы разрешим вам провести несколько спектаклей в качестве помощников режиссеров. Наблюдение за этим я поручу Вахтангу Левановичу Мчеделову.
Одним словом, вы ознакомитесь со всей творческой работой театра. Кроме того, вы, конечно, как и все сотрудники, будете участвовать в тех спектаклях, где вас займут.
Если у вас есть настоящая склонность к режиссерской работе, вы сумеете взять все лучшее, что у нас есть, а если вы не сумеете увидеть все лучшее и не сможете понять, что мы делаем, то и обучать вас не стоит.
По-моему, режиссуре нужно не обучать, а режиссером надо быть, а затем уже учиться. А учиться режиссуре, учиться быть руководящим художником театра — это значит учиться у жизни и всю жизнь. Основные разделы технологии режиссуры вы узнаете в один год, а учиться должны всю жизнь.
На этой исторической для нас с Вороновым беседе и закончилась наша теоретическая учеба.
Владимир Иванович говорил как бы с самим собой, предоставив нам право присутствовать при этом, то есть допуская нас в свое собственное мышление. Он творчески решал этот вопрос, а не величественно поучал.
49 Урок, преподанный нам, был большим, и на всю нашу творческую жизнь.
Изучай возможно шире и понимай возможно глубже — вот какой завет получили мы как путевку в жизнь.
Первый режиссерский шаг
Прием в Художественный театр и беседа с Немировичем-Данченко вселили уверенность, пробудили в нас энергию, и мы с Вороновым искали возможности приложить к делу нашу бурлящую инициативу. Возникла идея организовать в школе вечер с программой «кабаре». Предложение было принято с восторгом, дирекция дала свое согласие, и мы с Вороновым приступили к реализации нашей первой самостоятельной творческой затеи, решив на практике проверить наши режиссерские возможности.
Разумеется, наш вечер в школе Адашева не имел особого значения для истории режиссерского искусства в России, но в моей личной творческой биографии он сыграл решающую роль, так как укрепил во мне намерение посвятить свою жизнь режиссуре. Я постепенно начал понимать всю сложность, масштабность и глубину избранной мною профессии. Уже тогда я стремился возможно больше и ответственнее работать, чтобы именно в практической работе, обобщая свой же собственный опыт, выработать профессионализм. И вот почему я, как мне кажется, вполне правомерно считаю своими первыми постановочными работами «школьные спектакли», ибо уже в них определялись и мое понимание и мой подход к вопросам режиссуры.
В центре нашей программы был «Сон советника Попова», сатирическая поэма Алексея Толстого, которая ставилась мною как инсценировка, с введением роли чтеца, которую играл я сам. Представление разыгрывалось в двух планах. Чтец читал от автора все описательные места, а на сцене происходило пантомимное действие, затем вступал текст диалогов и начиналось непосредственное сценическое действие, которое иногда прерывалось словами чтеца, как бы комментирующего авторские ремарки. Сам по себе такой сценический прием был нов, участники хвалили меня за изобретательность. И я был счастлив.
50 Толстой рассказывает:
… Меж тем тесней все становился круг
Особ чиновных, чающих карьеры;
Невнятный в зале раздавался звук,
И все принять свои старались меры,
Чтоб сразу быть замеченными…
Как бы оживляя образы этих слов, на сцене свершалось пантомимное действие.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Вдруг
В себя втянули животы курьеры,
И экзекутор рысью через зал,
Придерживая шпагу, пробежал.
Помню маленькую роль экзекутора играл только что поступивший в школу Евгений Вахтангов, заслуживший горячие аплодисменты. В одном быстром пробеге через сцену для всего зрительного зала вдруг раскрылся необыкновенно одаренный молодой человек, которому впоследствии суждено было сыграть немаловажную роль в истории развития русского театра.
Второй «крупной» постановкой в программе этого вечера была пятиактная трагедия Лоло Мунштейна «Росмунда». Содержание этой пятиактной трагедии раскрывалось автором в двадцать одной реплике, по четыре-пять реплик на каждый акт.
В целом вечер имел большой успех у зрителей, среди которых были все наши преподаватели, а также и Вл. И. Немирович-Данченко и Никита Балиев, прослышавший, что молодежь у Адашева желает конкурировать с «Летучей мышью».
Владимир Иванович похвалил нас с Вороновым за то, что мы серьезно отнеслись к такому вечеру, вложили много изобретательности и фантазии. Мы были на верху блаженства и уже совершенно были ошеломлены, когда Балиев предложил нам поставить что-нибудь для «Летучей мыши».
Так началась моя режиссерская деятельность.
В этом же учебном сезоне мы организовали еще один такой же исполнительский вечер, посвященный снятию со сцены Московского Художественного театра пьесы Леонида Андреева «Анатэма». В этом вечере деятельное участие принимал и Женя Вахтангов. Он очень хорошо имитировал голос Качалова и, загримированный под Анатэму — Качалова, в начале вечера под плач окружавших его (текст песни-плача был 51 написан Вахтанговым) был посажен в клетку, откуда и комментировал номера, которые шли на сцене. Во втором отделении играли поставленную мною мистерию Козьмы Пруткова «Сродство мировых сил», в которой роль разочарованного поэта играла Серафима Бирман, великолепно репетировавшая, но чуть не сорвавшая вечер, наотрез отказавшись надеть брюки. Понадобилось энергичное вмешательство Л. И. Дейкун-Александровой, чтобы ликвидировать этот инцидент.
В школе мы жили очень дружно, даже образовалась своеобразная «семья». Дейкун-Александрова называлась «папаша», Глеб-Кошанская была «мамаша», я и Потемкин были сыновьями, Бирман и Наумова были дочерьми, а Женя Вахтангов был женихом одной из дочерей.
На этом же вечере я имитировал Айседору Дункан и пел басню Козьмы Пруткова «Червяк и попадья», положенную на музыку Алексеем Архангельским, причем пел я, подражая Шаляпину, поскольку музыка была написана для баса.
Вообще начало моей активной самостоятельной практической работы как-то невольно связалось с жанром, который мы сейчас называем «малыми формами». Поставил я и у Балиева в «Летучей мыши» два номера, содержание которых, вероятно, удивит читателя. Это были две задачи, взятые из задачника Евтушевского.
Одна задача о том, как два кадета шли с различной скоростью; один из Петербурга в Павловск, а другой из Павловска в Петербург. Требовалось установить, на какой версте они встретились. Во второй задаче, помнится, речь шла о торговле яблоками и в результате спрашивалось, кто сколько штук купил.
Режиссерский прием чтеца так понравился Балиеву, что он потребовал от меня выдумки номеров с чтецом (причем чтецом, конечно, был он сам), и мое предложение поставить задачи Евтушевского одобрил сразу. Если к тому же я перечислю список участвующих, то читателю в какой-то мере станет понятен успех этих номеров. В ролях кадетов выступали Москвин и Александров, яблоками в лавке торговал Уралов, а покупатели были Грибунин, Германова и Степан Кузнецов. Декорации делал Клавдий Сапунов, а музыку писал Илья Сац. Финальные куплеты, написанные Николаем Николаевичем Званцевым для всех участвовавших, бисировались несколько раз.
52 Капустники
Принимал я участие и в больших капустниках, устраиваемых в самом театре, в частности в том капустнике, о котором пишет К. С. Станиславский в своей книге «Моя жизнь в искусстве». И сейчас, вспоминая организацию этого капустника, процесс его подготовки и самый вечер, невольно думаешь о той серьезности и творческой принципиальности, которые лежали в основе этой невинной затеи. Да и вряд ли иначе К. С. Станиславский нашел бы нужным включить в свою книгу описание одного из них.
К такому капустнику готовились как к очередной премьере. Месяца за два, а иногда и за три, во всех свободных уголках театра и в каждую свободную минуту раздавались звучания репетируемых номеров — и певческих, и танцевальных, и музыкальных.
В мастерских появлялись эскизы убранства сцены, декораций отдельные номеров и костюмов. Режиссура составляла график выпуска, и даже репертуар последней недели строился так, чтобы не очень мешать предстоящим генеральным репетициям, которые обычно проводились ночью, после спектаклей.
А с какой серьезностью проводились генеральные репетиции этих вечеров.
Никогда не забуду генеральной капустника, о котором писал Станиславский. После окончания спектакля в зрительный зал внесли режиссерский стол, за которым на генеральных репетициях сидит режиссерский штаб. На сцене устанавливались декорации для первого акта «Прекрасной Елены», на месте снятых двух первых рядов ставились пюпитры для оркестра, которым должен был дирижировать Вл. И. Немирович-Данченко. Сотрудники, руководимые нами — «учениками режиссерского класса», занялись убранством фойе и зрительного зала (убранство заключалось в развешивании плакатов и увеличенных карикатур, нарисованных скульптором Н. Н. Андреевым и Н. П. Ульяновым — друзьями театра). В вестибюле устанавливали огромный плакат-карикатуру Никиты Балиева с надписью: «Добро пожаловать», а участники программы одевались и гримировались.
Театр, не остывший еще от волнений зрителей и участников вечернего спектакля, сейчас напоминал улей, который гудел своеобразным пчелино-театральным жужжанием. Стучали 53 молотки, слышались слова команды художников и электриков, оркестранты настраивали инструменты.
Внезапно возникшая тишина свидетельствовала о том, что скоро начнется репетиция, но никто не кричал, не останавливал, не хлопал в ладоши, призывая к тишине. В Художественном театре не существовало надрывных криков помощников режиссеров, водворяющих тишину и прекращающих обычный предрепетиционный шум. В Художественном театре достаточно было войти в зрительный зал К. С. Станиславскому или Вл. И. Немировичу-Данченко, как мгновенно водворялась абсолютная тишина и в зале, и на сцене, и в коридорах театра. Такова была сила уважения к этим двум замечательным художникам. Так было и тогда, в ту предпремьерную ночь.
В зал действительно вошли оба — и Станиславский и Немирович-Данченко. Станиславский был в гриме и костюме директора цирка, а Немирович-Данченко во фраке с орхидеей в петлице.
В первом отделении программы центральным номером шел первый акт «Прекрасной Елены», во втором отделении центральным номером был «Цирк», в котором роль директора играл К. С. Станиславский.
Оба руководителя театра подошли к режиссерскому столу. Но они не сели, а стоя, как командующие будущим сражением, осматривали и украшение зала, и размещение оркестра, и о чем-то беседовали между собой. О чем шла беседа, слышно нам не было, но оба, видимо, были взволнованы.
Да и было отчего волноваться — ведь завтра соберутся лучшие представители творческой интеллигенции Москвы, соберутся, заплатив по двадцати пяти рублей за билет (вечер устраивался в пользу нуждающихся работников театра), и их нужно будет увлечь и победить силою интимного искусства. Это был первый капустник, который делали платным.
Владимир Иванович подошел к оркестру, чтобы окончательно договориться о деталях. Возле дирижерского пульта стояли Илья Сац и Я. Изралевский, разговаривавшие с оркестрантами, а Константин Сергеевич остался за режиссерским столом. Совещание нового маэстро и музыкантов было очень коротким, и Владимир Иванович, повернувшись к Станиславскому, сказал:
— Константин Сергеевич, следовательно, вы примете репетиции 54 «Елены», а я приму репетицию «Цирка». Остальные номера программы будем смотреть вместе. Но я вас очень прошу, принимая «Елену», смотреть и за мною, а не только за сценой. Ведь я дебютирую впервые как дирижер и, сами понимаете, волнуюсь.
— Я положил два блокнота, Владимир Иванович. В одном буду писать замечания исполнителям на сцене, а в другом замечания вам. Да вы не волнуйтесь, я ведь тоже никогда не был директором цирка, — с обаятельной улыбкой сказал Константин Сергеевич, подбадривая молодого дебютанта-дирижера.
Он все еще стоял перед режиссерским столом и держал в руках шамбарьер, к которому «пристраивался». Еще раз осмотрев зрительный зал, как главнокомандующий перед сражением осматривает боевые позиции, Станиславский положил шамбарьер на режиссерский стол и медленно опустился в, кресло.
Наступила абсолютная тишина. Ах, как часто я тоскую об этой утраченной, взволнованной и «возвышенной» тишине, которая бывала в Художественном театре перед началом спектаклей в те далекие времена!
В наступившей тишине прозвучал звонок с режиссерского стола. Зал начал медленно погружаться в темноту. Включили рампу. Зажглись лампочки на пультах у музыкантов. Из бокового прохода появился Немирович-Данченко и уверенно направился к дирижерскому пульту.
— Аплодируйте, — шепнул нам Станиславский. — Владимир Иванович должен привыкнуть к приветствию, а то завтра эта неожиданность сразу выведет его из «круга внимания».
Мы бешено зааплодировали, нас поддержали те, кто был в зале, понимая, что не сами же мы решили проявить инициативу на такой ответственной репетиции. Владимир Иванович вздрогнул, действительно не ожидая приветствия, но сейчас же, как великолепный партнер, принял реплику аплодисментов и улыбнулся в ответ на нее.
— А в улыбке-то сквозит волнение, — шепнул нам Станиславский, что-то записывая в блокнот Владимира Ивановича.
— «Прекрасная Елена» прошла отлично, и вы, Владимир Иванович, замечательно справились со своей ролью в целом. В вашем блокноте у меня записаны только небольшие замечания, — 55 сказал Станиславский, пожимая руку взволнованному дирижеру по окончании «Елены». — У вас есть дирижерский темперамент, — но вот, когда вас приветствовали, вы фальшиво улыбнулись и начали покусывать левый ус. Этого не нужно, это выдает волнение. И потом иногда вы преувеличиваете позу дирижера, и тогда я начинаю смотреть на вас, а не на сцену. Ведь вы же дирижируете опереттой, а не ведете симфонический концерт.
Первое отделение прошло благополучно и обещало завтра большой успех. Настроение у всех было радостное. Владимир Иванович, сдавший трудный и ответственный экзамен, приобрел свое обычное спокойствие, и лишь Константин Сергеевич нервничал.
Перед самым началом второго отделения он подошел к Немировичу-Данченко, который сел за режиссерский стол принимать репетицию «Цирка».
— Владимир Иванович, я вас очень прошу проследить внимательно за мною. Образ, мне кажется, я нашел, и веду себя на сцене просто и искренне, но вот когда я щелкаю шамбарьером, мне кажется, я выключаюсь из образа. Пожалуйста, подскажите мне, как прийти к органичности этих моментов. Слишком был короткий срок, и я не успел полностью освоить шамбарьер.
Я привел эти на всю жизнь запомнившиеся реплики двух гениальных художников театра для того, чтобы новое поколение режиссуры задумалось о той кристальной, нравственной чистоте, о той «возвышенной» взволнованности, которой обладали два величайших революционера и философа русского театра, умевшие «трудиться, отдыхать и веселиться», как говорил об этом Станиславский в свой книге «Моя жизнь в искусстве», и которые даже в пустяках были велики.
«Летучая мышь»
Капустники не родились на пустом месте. Они выросли из программ на вечерах «Летучей мыши» и являлись как бы продолжением творческой жизни этого ночного зверька, утверждавшего понятие «интимного искусства». «Летучая мышь» в то время не была самостоятельным театром, руководимым Н. Ф. Балиевым, 56 а являлась своеобразным театральным клубом при Московском Художественном театре, в котором бывали исполнительские вечера, организованные по специальной программе и приуроченные к какому-нибудь интересному творческому явлению жизни московского искусства. Вспоминаются вечера, посвященные приезду в Москву танцовщицы Айседоры Дункан, дирижера Артура Никиша, дню рождения В. В. Лужского, очередным премьерам в Художественном театре и другим театральным событиям, которые привлекали внимание всей московской театральной общественности.
Вечер, посвященный Артуру Никишу, врезался в память почти во всех деталях, вот почему я позволю себе ознакомить с ним читателя.
Вечер начался торжественной встречей. Как только Никиш появился на пороге подвала, его взяли под руки О. Л. Книппер и М. Н. Германова, одетые в костюмы из спектакля «Царь Федор Иоаннович», и под колокольный звон, которым дирижировал композитор Илья Сац, повели на сцену. Занавес открылся. Задняя декорация, нарисованная художником К. Н. Сапуновым, изображала панораму Красной площади Москвы. Посередине стоял трон. Как только Никиша посадили на трон, из кулис вышли четыре рынды и встали по бокам трона (я был одним из рынд). Из первой левой кулисы вышел И. М. Москвин в гриме и костюме Федора и прочел стихотворный адрес, написанный поэтом Лоло Мунштейном в манере толстовского стихотворного текста трагедии.
«Я царь или не царь?» воскликнул Москвин — Федор, обращаясь в зрительный зал, который хором ему ответил: «Царь!» — и, получив подтверждение всего зала, Москвин продолжал:
А если царь, то разреши же мне
Преподнести тебе мою корону, —
и с этими словами он снял с себя шапку Мономаха и надел ее на голову Никиша. Снова звучали колокола, зал стоя приветствовал любимого дирижера, и началось чествование с зачитыванием шуточных адресов, юмористических стихов и телеграмм.
После так называемой официальной части Балиев, Книппер, Германова и Москвин провели Никиша со сцены в зрительный зал, где ему был сервирован специальный столик. За 57 столиком сидели Станиславский и Лилина, Немирович-Данченко и его супруга Екатерина Николаевна. Обслуживали этот столик в костюмах половых В. Ф. Грибунин, Н. Г. Александров и Илья Уралов.
Во втором отделении на сцене шла программа изящных миниатюр и инсценировок, на которые был такой мастер Никита Балиев. Среди аттракционов, которые уже никто и никогда не увидит, был, например, такой: появился К. С. Станиславский, которого Балиев объявил как знаменитого фокусника. Станиславский предложил кому-нибудь из зала выйти на сцену, чтобы он мог продемонстрировать на нем, как можно снять с человека рубашку, не снимая ни жилетки, ни пиджака. Из зрительного зала отозвался В. И. Качалов, который предоставил себя в распоряжение Станиславского. С необыкновенным серьезом они оба проделывали этот номер. И когда в напряженной тишине зала под аккомпанемент тихой барабанной дроби Константин Сергеевич вдруг неожиданно из-за воротника Качалова вытащил рубашку, весь зал разразился бурными аплодисментами. Конечно, все было заранее приготовлено, но эффект получился полный.
Главный гвоздь программы: приберегался к концу вечера. В конце второго отделения, объявляя последний номер «про-грам-м-м-ы», Балиев сообщил, что «в честь приезда мирового дирижера Артура Никиша лучший московский оркестр прибыл приветствовать непревзойденного маэстро».
Занавес открылся.
На сцене сидел духовой оркестр какой-то конвойной команды.
— Попур-р-р-р-и из «Веселой вдовы», специально написанное Легаром и посвященное Артуру Ни-и-и-кишу! — громко объявил Балиев.
Вышел капельмейстер и равнодушно отмахал своей палочкой традиционное попурри из «Веселой вдовы».
Снова появился Балиев, остановил аплодисменты и, обращаясь к зрительному залу, сказал:
— Я уверен, что выражу желание всех присутствующих, а также и всего оркестра, если обращусь к уважаемому маэстро, — тут Балиев повернулся к Никиту, — и попрошу его продирижировать этим же по-п-п-урри.
В зале раздались смех, аплодисменты, крики: «Просим! Просим!» — и Никиш, улыбаясь, встал из-за стола, держа в 58 левой руке бокал шампанского, а в правой красную розу на длинном стебле, которую он вынул из большого букета, стоявшего на его столе. Пока Никиш шел на сцену, зрительный зал продолжал аплодировать.
Шутка как будто бы и продолжалась, но профессионализм и дирижера и оркестра брали верх над шуткой, и она начинала восприниматься всерьез.
Допив бокал шампанского в честь оркестрантов, Никиш опустил левую руку с бокалом и поднял вверх красную розу, Глубочайшая тишина, которая бывает только на серьезных симфонических концертах, водворилась в зрительном зале. Ошеломленные оркестранты буквально впились глазами в великого дирижера, готовые выполнить малейшее его веление.
И действительно, попурри, продирижированное Никишем, прозвучало настолько необычно, с такими нюансами и в столь неожиданных ритмах, что зрительный зал разразился подлинно взволнованными аплодисментами. Здесь кончалась шутка и начиналось настоящее искусство.
Гордон Крэг
В период репетиций капустника в театре шли работы по подготовке спектакля «Гамлет», постановочный план которого был предложен английским режиссером Эдвардом Гордоном Крэгом и осуществлялся им, Станиславским и Сулержицким.
Крэг привез с собой большую библиотеку о «Гамлете» и о Шекспире. Ему отвели в театре комнату рядом с макетной: Это бью кабинет постановщика «Гамлета». Большой письменный стол, а по стенам — стеллажи с книгами. Большое кресло и толстый ковер довершали убранство этого аскетического кабинета. В нем часами проводил время этот интереснейший художник. Что он там делал, мы не знали, но часто слышали, работая рядом в макетной, как Крэг, прерывая тишину, начинал громко смеяться и затем пел народные английские песенки. Все, что касалось того, как вел себя этот прославленный режиссер, вселяло в нас любопытство, так как такого режиссера мы, молодежь, еще не видели, но знали о его крайних 59 творческих установках, резко расходящихся со взглядами обоих руководителей Московского Художественного театра. Уже одной своей внешностью Крэг производил неотразимое впечатление. Высокого роста, стройный, очень пластически выразительный в своих движениях, он носил свитер грубой шерсти, из-под воротника которого были видны белый полотняный отложной воротник и черный шелковый галстук. Небрежно завязанный большим бантом черный галстук, длинные белые концы воротника и грубо завернутый воротник свитера — все это было своеобразным пьедесталом, на котором красовалась его действительно красивая голова. И не случайно скульптор Н. Н. Андреев, встречаясь с ним, постоянно говорил: «Мистер Крэг, ваша голова настоятельно просится, чтобы я ее запечатлел в мраморе». Выполнил ли Николай Николаевич свою мечту, не знаю. Но он был несомненно прав, так как такая скульптура смело могла бы назваться «Вдохновенный художник».
Поверх свитера он носил спортивную широкую куртку с многочисленными карманами. Ботинки были на толстой подошве, подбитые резиной.
Он весь производил впечатление некоторой нарочитости, впечатление грубо высеченной скульптуры.
Его моложавое лицо с орлиным носом, большими серыми искристыми глазами и седеющими длинными волосами, зачесанными назад, напоминало облик Листа, а среди наших современников он чем-то походил на Константина Федина, когда тот носил длинные волосы. Своими быстрыми движениями и стремительной походкой он как-то не гармонировал с ритмом жизни Художественного театра, который, возможно, иногда теснил даже стремительную и страстную натуру Станиславского. Одним словом, этот необыкновенный режиссер, мечтавший о театре сверхмарионеток, жил бок о бок с нами в макетной мастерской, в которой работали мы, ученики «режиссерского класса», на это время целиком отданные подготовительным работам по «Гамлету». Работа эта заключалась в том, что мы должны были выклеивать бесконечное количество макетов по рисункам, предлагаемым нам Крэгом.
Как же проходила эта работа?
Мы обыкновенно приходили раньше Крэга, нас встречал служащий при макетной Василий, который являлся и комендантом, и завхозом, и уборщиком, и работником макетной мастерской. 60 Он недолюбливал Крэга. Сын Альбиона не смог найти путей к добрейшему сердцу Василия. Как мы ни пытались разъяснить Василию художественную платформу Гордона Крэга, он неуклонно стоял на своем. После наших пламенных и, как нам казалось, доказательных монологов Василий обычно рассудительно отвечал: «Так-то оно так, а все-таки он не то».
Наши беседы о Крэге всегда прерывались его неожиданным и стремительным приходом.
Здравствуйте! — говорил Крэг на ходу, проходя в свой кабинет.
— Ишь пришел… — мрачно цедил Василий. — Надо готовить ему завтрак.
Завтрак Крэга состоял из двух яиц, сваренных в мешочек, французской булки от Филиппова и бутылки бландовского молока.
— Молоко, яйца! — произносил, выходя из своего кабинета и стоя на пороге, необыкновенный режиссер, потирая руки и весело поглядывая на нас.
Беседы наши были крайне затруднительны, так как Крэг не говорил по-русски, поэтому, объясняясь между собой, мы все пользовались пантомимическими жестами и нечленораздельными звуками.
Крэг выучил несколько слов на русском языке и невероятно коверкал, произнося их.
Завтрак подходил к концу. Было видно, что какая-то мысль овладевает сознанием Крэга. Он становился серьезным, переставал замечать нас и даже иногда чертил в воздухе рукой какие-то непонятные нам линии.
Затем он быстро поднимался из-за стола, обеими руками похлопывал по плечам Василия и благодарил его, говоря «спáйсибóй» — это слово он произносил с двумя ударениями.
— Да ну тебя, — отвечал Василий.
Крэг подходил к рабочему столу, выбирал нужного формата дощечку, брал несколько стамесок разных форм и начинал вырезать на дощечке какие-то углубления. Крэг был великолепным гравером по дереву и часто вместо рисунка карандашом предлагал нам артистически сделанные гравюры.
Резал он дерево не молча, а мурлыча про себя какую-то веселую мелодию. Когда клише было готово, он прижимал 61 его к суконной подушечке, пропитанной краской, затем накладывал его на слегка смоченную ватманскую бумагу, клал на табуретку, сверху накладывал большое количество книг и как дополнительный груз усаживался сам на книги. Уже во время накладывания книг мурлыкание становилось громче и отчетливее, а когда Крэг водружался сверху книг, пение становилось открытым и звонким и уже явно предназначалось для нас.
Потом Крэг соскакивал со своего сооружения, вынимал оттиснутую гравюру, передавал нам и, весело сказав «пойжалуйстой», исчезал в кабинете. Предлагаемые нам гравюры обычно представляли собой сложнейшую комбинацию освещенных и затемненных плоскостей, размещенных в пространстве сцены. Мы должны были решать, как правильнее выгородить ширмы на сцене и как расставить источники света, чтобы на сцене получилась та же иллюзия светотеневых пятен, которые Крэг предлагал нам в своих гравюрах. Вот именно это-то, очевидно, видение светотеней и возникало в фантазии Крэга, когда он оканчивал свой завтрак.
Мы выклеивали макеты, он утверждал правильные, с его точки зрения, выгородки, затем это все переносилось в больших масштабах на малую «бархатную сцену» (так называлась сцена, на которой Станиславский экспериментировал с черным бархатом во время постановки «Синей птицы») и сдавалось Крэгу, Станиславскому, Сулержицкому. Работа проделывалась огромная, если вспомнить, что один я выклеил для «Гамлета» сто сорок четыре макета. Это я запомнил точно.
Крэг очень любил Сулержицкого. Дружил он с ним еще и потому, что Леопольд Антонович хорошо владел английским языком и являлся одним из немногих его собеседников.
Однажды, когда Крэг уже сидел на книгах и торжествующе распевал песенку, в макетную зашел Леопольд Антонович и, увидя его сидящим на книгах, сел рядом с ним на стол и, болтая ногами, начал вторить. Крэг был очень доволен, и так они дуэтом спели одну из популярных английских песенок, которую Сулержицкий знал и привез из Канады.
«Да неужели же все драматические режиссеры поют легкомысленные песенки?» — мелькнуло у меня в голове, и я вспомнил Васильева.
Как будто бы одно и то же — оба поют, но в то же время какая разница!..
62 Он идет все
за ней
И сказать норовит что-то ей! —
неожиданно запели где-то рядом актеры, готовящие номер для; капустника.
Крэг мгновенно замолчал, прислушался, что-то спросил у Сулержицкого и, послушав еще несколько минуту, быстро покинул макетную.
На капустнике среди шикарно одетой публики обращала на себя внимание фигура Крэга. Он был в великолепном фраке, с большой белой хризантемой в петлице. Рядом с ним, во фраке же, разгуливал Сулержицкий. После первого акта «Прекрасной Елены», когда открылся занавес и актеры вышли на аплодисменты, возле рампы выросла фигура Крэга, который передал большой букет из красных роз Ольге Леонардовне Книппер. Рядом с великолепной фигурой Крэга появился Сулержицкий и скромно передал ей же одну розу. Что-то чаплиновское было в этой несколько несуразной фигуре Сулера, одетого во фрак. Публика засмеялась и захлопала, Крэг взял под руку Сулержицкого, и они торжественно прошли через весь зрительный зал.
Приглашение на постановку в Художественный театр режиссера, мечтавшего о театре сверхмарионеток, конечно, являлось каким-то вопиющим противоречием с точки зрения творческих устремлений коллектива, прочно стоящего на реалистических позициях. Тем более удивительным казалось то, что приглашение это возникло почти сейчас же после достаточно самокритичных выступлений обоих руководителей на десятилетнем юбилее театра. Но если вдуматься глубоко в это кажущееся противоречие, то мы видим, что приглашение Крэга было явлением вполне закономерным, продолжающим творческие искания Константина Сергеевича.
Студия на Поварской в 1905 году, интересно описанная Станиславским в его книге «Моя жизнь в искусстве», постановки «Жизни человека» Л. Андреева, «Драмы жизни» К. Гамсуна, «Синей птицы» М. Метерлинка и, наконец, приглашение режиссера крайне левого толка — все это было звеньями одной и той же цепи. Достаточно холодный прием, который встретил «Гамлет», как бы подводил итоги этого творческого этапа и служил переломным моментом в творческих намерениях Станиславского, постепенно отказывавшегося 63 от так называемого «театра режиссера» и устремлявшего свою бурную энергию в область педагогики.
Именно в период работы над «Гамлетом» в театре зрели ростки новых студий, которые явились прекрасной питательной средой для рождавшейся, вернее, оформлявшейся педагогической системы Станиславского.
Среди молодежи, принятой в театр сотрудниками, то есть в основном для обслуживания массовых сцен, постепенно возникало брожение, в связи с тем что учебной работы с нею не проводилось. В ту пору в театре была закрыта школа, и сотрудники волей-неволей превратились, вульгарно выражаясь, в участников «массовок». Правда, тогда этого чудовищного термина не существовало, он родился позднее, и участие в народных сценах считалось делом чести и доблести для каждого молодого сотрудника театра. И действительно, вспоминая сейчас свое трепетное отношение к этим микроскопическим творческим поручениям, приходится сожалеть, что его нет сейчас в многих театрах. А с каким волнением, разделенные на отдельные группы, сидели мы — молодежь — в трюме сцены в прологе «Анатэмы» Л. Андреева и по взмаху дирижерской палочки произносили отдельные фразы, взятые из огромных развернутых ремарок автора.
«Грузно ступает кто-то тяжелый», — произносила первая группа.
«Шаг один, а идущих много», — подхватывала следующая.
Вступал оркестр, исполнявший музыку Ильи Саца и помещавшийся вместе с нами в трюме.
Получалась своеобразная оратория, построенная и срепетированная В. В. Лужским, на фоне которой на сцене, среди скал, перед Некто, ограждающим таинственные железные ворота, Анатэма — Качалов произносил свой монолог. Я не думаю, чтобы очень многим из нас — из современных режиссеров — удалось сегодня посадить молодых актеров в трюм и добиться от них взволнованного и творческого отношения к заданиям такого рода… А в театре необходима эта трепетная взволнованность, она рождает морально-этическую дисциплину, единственную дисциплину, которая нужна в театре. Административной дисциплиной в искусстве ровно ничего не достигнешь.
Так вот, среди этой творчески активной молодежной группы началось легкое брожение, тоска по более ответственной 64 деятельности, на которую, безусловно, многие из молодых людей имели право, что и было доказано, когда открылась Первая студия. В результате к нам был прикреплен режиссер К. А. Марджанов, получивший задание заниматься с молодежью «системой Станиславского». Но Марджанов, тогда только что принятый в труппу как режиссер, далеко не во всех отношениях удовлетворял требованиям, предъявляемым к этой работе в Художественном театре. Занятия не очень клеились и к концу года прекратились. Зато они послужили толчком, организующим молодежь, в среде которой вскоре нашлись и руководители.
Так сложилась группа Сушкевича, которому помогал Сулержицкий, объединенная работой над «Сверчком на печи» Диккенса, группа Вахтангова, работавшая над «Праздником примирения» Гауптмана, и, наконец, группа Болеславского, взявшая для работы пьесу Гейерманса «Гибель “Надежды”». Так рождалась Первая студия, которая открыла свои спектакли великим постом в 1913 году, когда Художественный театр поехал на гастроли в Петербург.
«Братья Карамазовы»
Это были годы, которые Горький охарактеризовал как самое позорное десятилетие в истории русской интеллигенции. В Художественном театре происходил сложнейший творческий процесс рождения нового. Это выражалось в напряженной борьбе творческих противоречий различных театральных тенденций, несомненно являющихся идейным выражением эпохи. Не очень видная на поверхности жизни, но неизбежно существовавшая в общественной жизни борьба различных идейных установок находила свое отражение в области искусства. Книга «О новом театре», выпущенная издательством «Шиповник», ярко свидетельствовала об этом своими противоречивыми статьями. Книга Вашкевича «Театр — это сон», доклад профессора Ю. И. Айхенвальда «Отрицание театра», полемика вокруг этого доклада и выход сборника, посвященного этой полемике, — все это свидетельствовало о творчески-теоретической растерянности, которая царила на фронте передовой театральной мысли. Русский футуризм, выставки картин «Бубновый 65 валет», журналы «Весы» и «Золотое руно» являлись ярким свидетельством того величайшего клубка противоречий, которые существовали в то время в жизни русского искусства.
Работы по постановке «Гамлета» подходили к концу. В Художественном театре во время моего обучения существовало прекрасное правило — открывать осенний сезон новой постановкой. Так, сезон 1910/11 года должен был открыться «Гамлетом», но, когда труппа съехалась после летних каникул, стало известно о болезни Станиславского. Труппа съехалась за полтора месяца до открытия сезона, и за этот период времени должны были быть закончены все работы по выпуску «Гамлета». Но Станиславского не было, не было также намечено следующей постановки, и таким образом возникал вопрос, чем открывать сезон.
В тревожной обстановке прошло первое собрание коллектива театра, которое проводил Владимир Иванович. Всех интересовало: отступит ли театр от своей традиции открывать сезон премьерой, или Немирович-Данченко предложит начать работу над новым спектаклем, уложив репетиционный период в полуторамесячный срок?
До собрания шли оживленные споры, высказывались различные предположения, но никто не угадал того, что предложил Владимир Иванович.
— Господа, вы знаете, что серьезная болезнь Константина Сергеевича задерживает его на юге, таким образом, «Гамлетом» сезон не может быть открыт. «Гамлет» пойдет после того, как возвратится Константин Сергеевич, вероятно, к концу сезона. Но я не хочу отходить от наших традиций открывать сезон новой постановкой, а потому предлагаю подготовить ее за полтора месяца — репетировать будем и утром и вечером… — Владимир Иванович сознательно сделал паузу, чтобы сосредоточить внимание собравшихся на своем предложении и неожиданно для всех закончил: — Я предлагаю подготовить спектакль «Братья Карамазовы» по роману Федора Михайловича Достоевского, спектакль, который пойдет в два вечера.
— Два спектакля в полтора месяца??!..
— Инсценировки еще нет, — продолжал невозмутимо Владимир Иванович, — я ее буду делать сам. План у меня уже созрел. Работа начнется сегодня же, непосредственно после 66 этого собрания. Я попрошу остаться всю режиссуру, помощников режиссеров, учеников «режиссерского класса», художников, постановочную часть и заведующих цехами. Сегодня же вечером начнутся и репетиции. Попрошу всех ознакомиться с распределением ролей, которое я вывешу к семи часам вечера. Расписание работ будет вывешено, — Владимир Иванович задумался, — вероятно, на всю неделю.
Никогда не изгладятся из памяти эти полтора месяца напряженнейшей работы всего коллектива. Жизнь кипела буквально во всех уголках театра. В макетной мастерской шла лихорадочная клейка макетов для намеченных Немировичем-Данченко сцен из романа и вырабатывались различные принципы общего решения спектакля, в костюмерной шел сбор фотографий, относящихся к данной эпохе, причем к этой работе была привлечена почти вся труппа и режиссура. Марджанов, Лужский, Москвин и сам Владимир Иванович вызывали актеров и репетировали отдельные сцены. Помимо этого, Владимир Иванович бывал сам во всех цехах и руководил работой в целом. Через неделю, на совещании в макетной мастерской, когда ему было предложено для утверждения около тридцати эскизных макетов, он, просмотрев их, после большой паузы неожиданно для всех нас сказал:
— А знаете что? Я думаю, что для спектакля, который мы с вами делаем, для лучшего и более глубокого раскрытия глубин человеческой психики, да еще такой сложной, котирую предлагает драматург Достоевский, а он, конечно, по сути своей драматург, ибо нет писателя, находящего для своих персонажей более точного драматургического, я это подчеркиваю, именно драматургического диалога, — так вот, для такого спектакля, я думаю, самыми лучшими декорациями будет их полное отсутствие. Мы будем с вами делать спектакль без декораций, но с очень точной выгородкой и точной, строго соответствующей эпохе мебелью. Сложность духовной жизни образов Достоевского всего лучше дойдет до зрителя, если его внимание не будет отвлекаться на живописные декорации. А вот общее решение спектакля должно быть творчески интересным. Не забудьте, что спектакль пойдет с чтецом, так что в общем решении нужно найти место и для чтеца. Я очень благодарен вам за предложенные макеты, каждый из них по-своему интересен, но вот именно это обстоятельство убедило меня в их ненужности. Приношу извинения за потраченные 67 вами энергию и труд, но также приношу и благодарность, так как без проделанной вами работы я не смог бы прийти к решению, которое у меня родилось при знакомстве с вашими, я повторяю, интересными макетами.
Вспоминая этот эпизод посещения макетной Немировичем-Данченко, я, вероятно, погрешил в каких-то формулировках, но суть сказанного тогда Владимиром Ивановичем передана мною точно. Его беседа явилась интереснейшим уроком, какой мы получаем не так уж часто и который сохраняется в памяти на всю жизнь.
И как часто впоследствии в своей работе я возвращался мыслью к этому эпизоду, когда мне приходилось отказываться от многого сделанного во имя подлинной правды.
Художнику В. А. Симову было поручено найти общее решение, иными словами — общее оформление всего спектакля; остальные же художники и ученики «режиссерского класса» разрабатывали планировки и искали пространственно-образное решение каждой сцены в спектакле. А таких сцен было одиннадцать в первом вечере и семь — во втором. После нахождения планировок для условных крэговских «светотеней» работа над макетами для «Братьев Карамазовых» была как стакан воды в сухой пустыне. Хотя должен сознаться, что и работа над макетами для «Гамлета» принесла нам известную пользу. Она приучила нас внимательно относиться к пространственному решению сцены. А уметь решать пространство, исходя из конкретного содержания отдельных картин, и, что самое главное, уметь найти гармонию соотношения этих пространственных решений во всем спектакле — для режиссера является очень важным. Этому мы научились, реализуя в макетах замыслы Гордона Крэга. И какова же была моя радость, когда через неделю, рассматривая наши новые предложения, Владимир Иванович утвердил один мой макет для сцены «Не ты». Мостки тротуара на первом плане. Из левой кулисы параллельно рампе — забор до половины сцены. Фонарный столб с керосиновым фонарем — на середине и оттуда поворот тротуара в глубь сцены.
— Чей это макет? — спросил Владимир Иванович. — Интересное решение. Я утверждаю его для спектакля. У вас есть режиссерская фантазия. Я это заметил еще тогда, когда смотрел «Сон советника Попова» в школе. Вы очень смело придумали чтеца, найдя таким образом общее решение спектакля.
68 Я был безмерно рад, получив одновременно две похвалы от Владимира Ивановича.
— Ну, сегодня ты именинник и угощаешь обедом, — сказал Сергей Воронов, когда ушел Немирович-Данченко. — И, кроме того, есть серьезный разговор.
В вегетарианской столовой Прохорова, куда мы отправились, на стенах были развешаны различные лозунги. Один из них гласил: «Ешь не спеша», — и, проводя его в жизнь, подавальщицы действительно подавали еду «не спеша», так что оставалось достаточно времени для самого серьезного разговора. Суть его была в следующем. Роль Смердякова в подготовляемом спектакле была поручена актеру Аполлону Гореву, но он заболел туберкулезом в острой форме и его срочно отправили лечиться в Давос. На эту роль назначили двух актеров — Н. Н. Горича и А. В. Карцева, но по слухам (а слухи в театрах обычно распространяются молниеносно, а иногда даже и до свершения факта) Владимир Иванович будто бы не очень удовлетворен обоими исполнителями.
— Так вот, у меня к тебе предложение, Кокоша, — закончил Воронов свое выступление, — сделаем отрывок и покажем Немировичу. Я — Смердяков, Ивана Карамазова попросим делать Б. М. Афонина, а ты будешь работать с нами как режиссер. Сделаем сцену «Пока еще не ясная».
В предложении Воронова не было ничего невероятного, так как нам, сотрудникам, разрешалось работать над отрывками и иногда показывать их Владимиру Ивановичу. — Но невероятно по дерзости было то, что Воронов решил показаться в роли Смердякова, одной из центральных ролей в подготовляемом спектакле «Братья Карамазовы».
До такой дерзости ни один из сотрудников никогда не доходил.
Я высказал Сергею все, что думал о его нахальстве, но он обладал свойством убеждать людей (это качество несомненно впоследствии помогло ему стать очень интересным и профессиональным режиссером), и он убедил меня в конце концов, что ведь он не претендует на то, чтобы играть, а хочет только показать свою работу.
Отрывок мы сделали очень быстро, и когда Воронов попросил Владимира Ивановича посмотреть работу, он согласился, назначив просмотр в тот же день после репетиции.
69 Никогда в жизни я так не волновался, как в этот день.
Показывать отрывок из «Карамазовых» человеку, который руководит постановкой этого спектакля в Московском Художественном театре, и когда этот человек — Владимир Иванович Немирович-Данченко, нет, все-таки это было, конечно, предельным нахальством. Владимир Иванович сел за столик и посмотрел с любопытством на трех молодых нахалов:
— Нуте-с, начнем.
Как прошел показ и как играл Воронов, я не помню, так как больше смотрел на Владимира Ивановича и пытался понять, какое на него впечатление производит наше творческое озорство. Но на лице Владимира Ивановича не всегда можно было прочесть, о чем он думает, и когда он бывал очень сосредоточен, то эта возможность проникнуть в его мысли исчезала совершенно. Так было и во время этого просмотра. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Оно застыло и было каменное.
Показ кончился. А Владимир Иванович сидел и молча смотрел на нас. Тут даже Сергей Воронов потерял свою уверенность.
— Так вот как сделаем, — неожиданно прервал тяжелую паузу Немирович-Данченко. — Завтра мы репетируем сцену «За коньячком». Вы, Воронов, приходите на репетицию. Выучите текст этой сцены. Будете репетировать вы. Но, пожалуйста, никому ни слова не говорите, чтобы никто не знал. Я сам перед репетицией скажу об этом.
— А ведь, пожалуй, не напрасно мы создали «класс режиссуры», — сказал, улыбаясь, Владимир Иванович, прощаясь с нами и покидая малую сцену, на которой проходил показ.
Даже после его ухода мы не сразу пришли в себя, так неожиданно для нас было его смелое решение.
А оно, конечно, было смелое.
В этом году вступивший в театр молодой сотрудник Воронов получил право репетировать роль Смердякова в ансамбле таких актеров, как В. В. Лужский, В. И. Качалов, И. М. Уралов, Л. М. Леонидов, И. М. Москвин, М. Н. Германова, О. В. Гзовская, А. Р. Артем.
Только Владимир Иванович мог так смело и творчески дерзнуть, поручив никому не известному молодому человеку ответственнейшую роль в сложнейшем спектакле.
70 Спектакль имел огромнейший успех, поражая всех и своей необычной формой, а главное — высочайшим актерским мастерством. Давно уже русская сцена не видела таких актерских откровений, такой вдохновенной творческой работы, как: Митя — Леонидов, Иван — Качалов, штабс-капитан Снигирев — Москвин. Это был не просто хороший спектакль, это был спектакль, обладавший необычайной властью над зрительным залом. Это был спектакль, который потрясал зрителя. Он не только заинтересовывал, не только увлекал, но именно потрясал.
Пятьдесят лет тому назад шел этот спектакль, а сохранился он в моей памяти почти во всех своих деталях, так как, пожалуй, это было самое сильное, именно потрясающее воздействие на меня драматического представления за всю мою театральную жизнь.
Этим спектаклем Владимир Иванович дал нам на всю жизнь урок, показав, что значит «глубоко раскрыть всю сложность и тонкость человеческой психики». Такие сцены, как «Черт», «Надрыв в избе», «И на чистом воздухе», «Пока еще не ясная», «Третье свидание со Смердяковым», «Не ты», и, наконец, сцена в «Мокром», которая шла 1 час 45 минут, я смело называю гениальными достижениями в истории русского театра. Признаюсь откровенно, что нам, молодым художественникам, непонятно было появление тогда статей М. Горького «О Карамазовщине» и «Еще раз о Карамазовщине», в которых он протестовал против постановки Достоевского на сцене Московского Художественного театра. Горький в своем идейном становлении далеко ушел вперед, опередив самый лучший, самый передовой русский театр и его руководителей Немировича-Данченко и Станиславского. И это было вполне закономерно, если мы вспомним те взрывчатые противоречия, которые зрели и боролись внутри русского искусства, если мы вспомним жизнь России и это «позорнейшее десятилетие».
Театр был расколот на две половины, и между ними происходила скрытая, но в то же время ожесточенная творческая борьба. Возглавлялась эта борьба участниками двух постановок — «Гамлета» и «Братьев Карамазовых», за которыми стояли два художника — Станиславский и Немирович-Данченко, идущие к одной цели, но зачастую довольно разными путями.
71 Прощай, Москва!
И вот разрыв Горького с Художественным театром вскрыл те большие противоречия идейного порядка, которые существовали в театре, но которые не были точно оформлены, хотя и осознавались обоими руководителями.
Эти противоречия понимал Горький, чувствовали Немирович-Данченко и Станиславский, но не понимали мы, безмятежная молодежь, рассматривая их только как борьбу эстетических тенденций. Вот почему нам и казалось, что борьба шла между «Гамлетом» и «Братьями Карамазовыми».
Споры из театра перебрасывались и в школу, где мы свободнее и откровеннее беседовали о путях театрального искусства, о тупике, который грозит нашему театру, и о каких-то, правда, далеко еще не ясных нам, но все же мерещившихся туманных перспективах будущего. Впоследствии эти наши споры и мечтания вылились в организацию различных студий вокруг Художественного театра.
Самым страстным пропагандистом самостоятельных поисков будущего был Евгений Вахтангов, который, придя в школу, сразу же вошел в ведущую группу и был одним из любимых учеников Сулержицкого, безошибочно увидевшего в нем яркое и своеобразное дарование. Вахтангов был старше многих из нас и пришел в школу, уже имея свою точку зрения на театральное искусство, которую ему и хотелось проводить в жизнь. Он упорно трудился, был жаден к познанию нового, того нового в театре, что всегда присутствовало на занятиях у Леопольда Антоновича и чем увлекал он молодежь.
По сути своей, шла борьба рождавшегося молодого и нового со старым, устоявшимся в МХТ. Суперарбитром в этих спорах для нас был Леопольд Антонович, который, выслушав все самые резкие нападки, говорил:
— Да, в Художественном театре появилось много ржавчины и мещанского успокоения, он далеко не тот идеал, о котором можно мечтать, и тем не менее это самый лучший театр, какой есть сейчас, и вы должны быть счастливы, что вам дозволено работать в нем. Во всяком театральном организме есть и положительные и отрицательные стороны.
Критиковать всегда легче, чем хвалить, — научитесь во всяком явлении находить ростки нового, лучшего, умейте разбираться 72 в этих процессах и поддерживать это молодое в его росте, в его движении.
Мы слушали, но неудовлетворенность существующим брала верх, и мы уже мечтали о каком-то своем новом театральном деле, построенном на новых морально-этических, творческих и идейных позициях. Эти мысли были зернами, брошенными в нашу школьную жизнь, из которых впоследствии выросла Первая студия. Я был очевидцем и свидетелем этого зарождавшегося нового, но самого рождения я не застал, так как обстоятельства жизни перебросили меня к этому времени в Петербург. И случилось это совершенно неожиданно.
Однажды после репетиции, когда Вахтангов, Воронов и я направились к Сулержицкому побеседовать с ним по разным вопросам школьной работы, мне вдруг вручают письмо.
Письмо было от А. Н. Лаврентьева, в котором он приглашал меня в Петербург, в Александринский театр.
Андрей Николаевич Лаврентьев был актером Художественного театра, в начале этого сезона он уехал в Петербург на должность помощника режиссера Александринского театра.
Воронов сразу же стал убеждать меня, что нужно немедленно согласиться, Вахтангов не высказывал определенной точки зрения, но и он говорил, что «предложение соблазнительное». Так, обсуждая на все лады это письмо, явились мы к Леопольду Антоновичу и, конечно же, немедленно сообщили ему удивительную новость.
— А сколько вам лет, Петров? — неожиданно спросил он.
— Летом исполнится двадцать один, — ответил я.
— Следовательно, осенью вы подлежите воинскому призыву, — как бы самому себе сказал Леопольд Антонович. — А престарелые родители у вас есть? Вы единственный сын?
— Родители умерли. У меня есть брат и две сестры. Я самый младший.
— Следовательно, осенью вам забреют лоб, и будете вы два с половиной года отбывать солдатчину. Ведь Художественный театр отсрочек не дает. Вот и подумайте! — совершенно неожиданно повернул вопрос Леопольд Антонович.
Как последовательный толстовец, Сулержицкий не признавал обязательства военной службы и сам пережил сложнейшую коллизию в годы своего призыва. Когда он был призван и явился в воинское присутствие, то заявил, что военная служба противоречит его убеждениям, а потому он и не может 73 отбывать воинскую повинность. Его сочли за сумасшедшего и отправили в психиатрическую больницу. После выхода из больницы, где его признали абсолютно нормальным, Сулержицкий продолжал отстаивать свою точку зрения. Тогда его судили и послали в крепость Кушку, на границу с Афганистаном. Отбыв срок наказания и будучи обязанным вновь явиться в воинское присутствие, Сулержицкий устроился поваром на пароходе Русского пароходного общества, крейсировавшем на Черном море. Служба на пароходе и на маяках в царской России освобождала от воинской повинности.
— Я на вашем месте поехал бы, — продолжал Сулержицкий. — Вы познакомитесь с новым городом, с новым театром, первым российским театром, увидите много хороших актеров.
Вечером после спектакля я беседовал с Владимиром Ивановичем.
— Сулер, конечно, прав, советуя вам ехать. Ну, а если в Петербурге все будет благополучно с солдатчиной, но вам не понравится работа в императорских театрах, вы всегда можете вернуться к нам обратно. Мы вас примем как заслужившего право на работу. Я помню — и ваши макеты, и «чтеца», и работу с Вороновым, а главное — вашу настойчивость в организации «режиссерского класса».
Владимир Иванович окончил беседу следующими словами:
— Вам, молодому театральному работнику, познакомиться со сложнейшей машиной императорских театров очень полезно. Конечно, она может вас и раздавить, ну, а если не раздавит, то вы очень много получите для себя. Для театрального работника полезно знать не только свой театр, но и другие театры. Только вот не хорошо, что вы наголо обрили свою голову, здесь мы приняли это как озорную шутку, а в императорских театрах это не понравится.
Выйдя из театра, я зашел на телеграф и послал телеграмму Лаврентьеву, что через три дня буду в Петербурге.
Начинался новый этап жизни. Не зная еще, умею ли я плавать, я бросился в совершенно неизвестную мне стихию жизни нового города, нового театра, нового круга незнакомых мне людей.
«Выплыву ли?» — думал я, прощаясь с братом, с Москвой, с Художественным театром, с товарищами по школе Адашева.
74 Глава 3
Санкт-Петербург
Лаврентьева дома не было. Прислуга доложила, что он в больнице, его жена рожает.
— Да вы позавтракайте. Они просили вас накормить и наказали обязательно дождаться, — сказала она мне.
Через полчаса Андрей Николаевич вернулся домой.
Он молча поздоровался со мной, снял котелок и с силой швырнул его в угол комнаты. Котелок ударился о край пианино, отскочил и попал на кресло. Лаврентьев сбил ногой котелок, сел в кресло, вынул носовой платок и вытер слезы. Ребенок только что скончался в больнице. Я пытался его утешить, говоря что он еще так молод и у него будут еще дети. Он посмотрел на меня недобрыми глазами. Слишком глупо было мое утешение.
— Зачем это вы обрились наголо? — неожиданно спросил он меня.
В объяснение своего поступка я рассказал ему, что мы, кампанией в пять человек, держали пари о том, кто первый заставит заговорить о себе весь Художественный театр.
— Я придумал обриться и выиграл пари, — закончил я далеко не тоном победителя.
— Ну и глупо, — сказал Лаврентьев, — там вы выиграли, 75 а здесь проиграете. Императорский театр — это вам не Художественный. А нам с вами через час нужно идти в контору подписывать контракт. Не знаю, подпишут ли. Уж очень вы нелепо выглядите.
Действительно, двадцатилетний юноша, обритый наголо, видимо, не очень-то отвечал требованиям императорского театра, предъявляемым к человеку, приглашенному на должность помощника режиссера, фактического хозяина театра, когда идет спектакль.
В Александринском театре было три помощника режиссера: П. С. Панчин — пятидесяти пяти лет, Ф. Ф. Поляков — шестидесяти двух и третьим был А. Н. Лаврентьев. Он стал главным режиссером и на свое место пригласил меня. Конечно, мой вид по сравнению с обликом Панчина и Полякова явно проигрывал. Это беспокоило Лаврентьева, и, как мне показалось, он даже сожалел о своем необдуманном приглашении. Но делать было нечего. Он предложил мою кандидатуру, ее приняли. Я приехал. Часы показывали без двадцати час, и нам нужно было двигаться.
— Ну, что ж. Пойдемте. Попытаемся, — сказал он мрачно, и мы отправились в дирекцию императорских театров, к управляющему конторой А. Д. Крупенскому.
Аничков мост с великолепными скульптурами Клодта, Аничков дворец, садик перед Александринским театром, несколько нелепый, но все же впечатляющий микешинский памятник Екатерине и, наконец, необычайное по своей архитектурной гармонии здание Росси — Александринский театр. Все эти места я знал по иллюстрациям и фотографиям, но, увидав их впервые в натуре, был потрясен их величием. Мы прошли садик, обогнули здание театра и вошли в угловой подъезд, где помещалась контора дирекции театра.
Управляющий конторой императорских театров камер-юнкер А. Д. Крупенский, высокий красивый мужчина с ассирийской черной бородой, долго рассматривал меня. На столе лежал приготовленный трехгодичный контракт. Но молчал управляющий, молчал Лаврентьев, молчал, конечно, и я.
— А вы не боитесь, молодой человек, поступить к нам на работу? Уж очень вы молоды. Справитесь ли?
Язык прилип у меня к гортани, я молчал, и за меня говорил Лаврентьев. А собственно, что ему еще оставалось делать?
76 — Ну что ж, попробуем, рискнем, — наконец сказал Крупенский, слегка картавя, и, повернувшись к Лаврентьеву, добавил. — Ведь рискнули же мы с назначением вас главным режиссерам.
— Ну-с, подписывайте, молодой человек.
— Александр Дмитриевич, в контракте написано три года, а летом мне исполняется двадцать один год, и я должен буду отбывать воинскую повинность, — наконец вымолвил я, овладев собой.
— Ну, это пустяки, — величественно произнес Крупенский.
— Вы можете что-нибудь преподавать в нашей театральной школе? — небрежно спросил он.
— Конечно. Я занимался педагогикой в Художественном театре.
— Ну вот и прекрасно. Мы вас зачислим одновременно и помощником преподавателя, и вы получите отсрочку по 42-й категории с зачислением в запас.
Дрожащей рукой поставил я свою подпись под документом, зачислявшим меня на три года в Александринский театр на должность помощника режиссера, освобождавшую от воинской повинности и дававшую право начать педагогическую работу в школе при Александринском театре. Как мгновенно решился ряд сложнейших вопросов, о которых мы так много говорили в Москве еще несколько дней тому назад.
— Ну, слава богу, все прошло благополучно. Сегодня Александр Дмитриевич был добрый. А может быть, его рассмешила ваша голая голова, и назло старикам, с которыми он часто воюет, он решил назначить вас помощником. Ведь меня тоже назначили назло всем, — сказал Лаврентьев, когда мы вышли из конторы.
— Вы до обеда пойдите поищите себе комнату. Обедать будете у меня в четыре часа. Вечером пойдем в театр. Идут «Три сестры». Спектакль веду я. Я вас познакомлю со всеми участниками. Вы будете рядом со мной, и я вам передам этот спектакль. Следующий спектакль «Трех сестер» будете вести вы, а я буду около вас. Так постепенно вы и войдете в работу, — и он быстро пошел в театр, оставив меня на улице.
Могла ли мне тогда прийти в голову мысль, что ровно через восемнадцать лет я буду директором и художественным руководителем этого старейшего театра в России…
77 Боевое крещение
Долго стоял я, любуясь архитектурной гармонией Александринского театра. Дважды обошел его, осматривая со всех сторон. Вероятно, в первый раз в жизни я ощутил, именно ощутил, а не понял, красоту, силу и власть архитектурного сооружения. Власть гармонии отдельных частей здания и величие его в целом.
«И в таком великолепном здании мне предстоит работать», — невольно со страхом подумал я.
Я перешел Чернышев мост, любуясь Фонтанкой, и двинулся по Чернышеву переулку, поглядывая на окна домов, рассчитывая увидеть белые билетики, объявлявшие, что здесь сдается комната. Пройдя до «Пяти углов» и повернув направо по Загородному проспекту, я увидел в тупике несколько белых билетиков на окнах.
Комната была найдена за тридцать рублей в месяц с завтраком и обедом. Жалованье мне было положено согласно контракту сто рублей и плюс пятьдесят за педагогическую работу, таким образом у меня оставалось сто двадцать рублей каждый месяц. Огромнейшая сумма! В Москве, в Художественном театре, я получал двадцать пять рублей в месяц.
Вечером в назначенный час я был в театре.
Лаврентьева в кабинете не оказалось. Курьер сказал, что он внизу, в актерской уборной. Я пошел туда и неожиданно увидел Андрея Николаевича в костюме Кулыгина. Он сидел перед зеркалом и спешно гримировался.
— Вот что, голубчик, вам придется вести спектакль, а я буду играть Кулыгина. Внезапно заболел Степан Яковлев, заменять некем, а я пьесу знаю. Знаю и спектакль, поскольку я его вел, как помощник. Возьмите режиссерский экземпляр, — и с этими словами, передав мне экземпляр, он вновь повернулся к зеркалу.
Только этого мне и не хватало для окончательной полноты впечатлений и ощущений от первого дня пребывания в Петербурге.
Вести спектакль, ни разу не посмотрев его, не будучи знакомым ни с одним из исполнителей, не зная ни дисциплины, ни традиций театра, в который ты вошел впервые в жизни!
78 Я стоял буквально ошеломленный сообщением Лаврентьева, соображая, с чего же я должен начинать свои действия помощника режиссера.
— Чего же вы стоите? Идите давать звонки. Да, не забудьте зайти в бутафорскую и скажите, чтобы вам дали фрак, так как вам придется анонсировать перед занавесам о замене, — нервно командовал Лаврентьев.
«Где находятся звонки? Как их дают? Сколько нужно давать звонков? Где находится бутафорская? И почему фрак находится в бутафорской? А если фрак будет не по мне? Как анонсируют?»
И еще бесконечное количество «как», «где» и «сколько» проносилось у меня в голове, пока я мчался наверх, на сцену, поняв, что так или иначе, но я должен выполнить все, что мне приказал Лаврентьев.
Я носился буквально как сумасшедший, от звонков в бутафорскую, из бутафорской, уже во фраке, который сидел на мне, как седло на корове, вниз к Лаврентьеву и опять к звонкам, носился, потеряв всякое критическое отношение ко всему, что и как я делал, но точно выполняя все задания Лаврентьева.
Без одной минуты восемь я уже стоял с палкой в руках, которой по традиции императорских театров, заимствованной от Комеди Франсэз, трижды ударяли о пол, что служило сигналом электрикам тушить зрительный зал и давать свет в рампу.
— После трех ударов, когда погасят зал, вы выйдете перед занавесом и сделаете анонс. Затем возвращайтесь и дважды ударяйте по звонку вот этим деревянным молотком. После второго вашего удара плотники поднимут занавес, — командовал мною Лаврентьев. Как послушный автомат, я выполнял все указания Андрея Николаевича, и машина спектакля медленно начала свое движение.
Первую половину акта, до своего выхода на сцену, Лаврентьев руководил мною, на ходу знакомя меня с исполнителями, которые с удивлением смотрели на гологолового юношу в несуразном фраке, который как пуля носился по сцене, перебегая с правой стороны на левую, в зависимости от выходов актеров. В Александринском театре в то время не было электрической сигнализации, и помощник режиссера сигнализировал актерам их выходы, если он был на другой стороне 79 сцены, махая носовым платком. Не очень доверяя такой сигнализации, я носился как угорелый по сцене взад и вперед.
Во время одной из таких перебежек я увидел в правом проходе сцены А. Д. Крупенского и с ним еще четырех чиновников в вицмундирах, которые, очевидно, пришли посмотреть, как работает их «новый служащий».
— Мне сейчас некогда, я бегу выпускать Чебутыкина, — прервал я Крупенского, обратившегося ко мне с каким-то вопросом, и метнулся к первой кулисе, откуда должен был выходить Кондрат Яковлев.
Первый акт прошел благополучно, и я шел в бутафорскую, чтобы снять фрак, который бесконечно мешал в работе.
— Ну, сейчас-то я могу вас представить директору императорских театров? — с улыбкой сказал Крупенский, когда я поравнялся с их группой. — Владимир Аркадьевич! Вот наш новый помощник режиссера Петров, — сказал он, обращаясь к человеку в вицмундире и с тараканьими усами.
— Что-то вы очень молоды. Справитесь ли? — повторил утреннюю фразу Крупенского шталмейстер двора его величества В. А. Теляковский.
— Постараюсь, — только и мог я ответить, еще весь находясь во власти нервной суматохи первого акта.
— Стараетесь вы усердно. Мы видели, — сказал директор, и вся их компания проследовала в директорскую ложу, находившуюся на одном уровне со сценой.
Начался второй акт.
Лаврентьев задержался внизу в уборной, и я, уже несколько успокоившийся, начал акт без него.
Акт начинается проходом Наташи через сцену со свечкой в руке. Она идет к комнате Андрея и между ними, ею на сцене и Андреем за сценой, происходит обмен несколькими репликами.
Выпустив М. А. Потоцкую, которая, кстати сказать, великолепно играла Наташу, я побежал на другую сторону сцены, чтобы проследить за точностью реплик Андрея — Н. Н. Ходотова. Потоцкая уже подошла к его двери и уже обратилась к нему с репликой, а Ходотова я никак не мог обнаружить за кулисами.
80 — Андрюша. Ты что делаешь, читаешь? — сказала Потоцкая в дверь комнаты Андрея, ожидая его ответную реплику.
— Ходотова нет. Я его сейчас найду, — шепнул я ей в дверь и помчался разыскивать Ходотова, предполагая, что он здесь где-нибудь за кулисами.
«Ходотов! Ходотов!» — шептал я во все стороны.
— Николай Николаевич у себя в уборной, внизу, — равнодушно сказал мне курьер, дежуривший у двери кабинета Лаврентьева.
Нервное напряжение человека всегда сопровождается остротой восприятия внешних явлений. Вот, вероятно, почему фамилия этого курьера — Мейнартович — запомнилась мне на всю жизнь. Те, кто работал в то время в театре, должно быть, хорошо помнят это бесконечно равнодушное ко всем явлениям жизни существо Вот так и сейчас он тихим голосом сообщил мне о местонахождении Ходотова.
Кинувшись вниз, я несся по коридору и уже полным голосом кричал: «Ходотов! Ходотов! Ходотов!»
Пробегая мимо одной из уборных, я увидел в раскрытую дверь группу актеров, занятых и незанятых в спектакле, а перед ними что-то им рассказывающего Ходотова.
— Ходотов, вы уже давно на сцене, — крикнул я ему и, схватив за руку, потащил из уборной.
— Оставьте меня, молодой человек. Куда вы меня тянете? — сопротивлялся он, ошеломленный моей внезапной атакой.
В Александринском театре была традиция, дав звонки, обходить все уборные занятых актеров и сообщать о данном звонке. Традиции этой я не знал, и потому Ходотов был застигнут мною врасплох.
— Вы уже давно на сцене! — пытался я ему втолковать.
— Чего же вы не сказали, что дали звонки! — сказал Ходотов и быстро прошел на сцену.
В третьем акте тоже произошел один инцидент, который врезался мне в память на всю жизнь.
Знаменитое «Тра-та-та!» Станиславского — Вершинина, которым он вызывает на свидание Машу — Книппер, памятно всем, кто видел спектакль «Три сестры» в Художественном театре. Я с нетерпением ждал этого места, мне было интересно, 81 как Р. Б. Аполлонский, игравший Вершинина, проведет его.
Каково же было мое удивление, когда к этому моменту я не обнаружил Аполлонского на сцене. Его уборная была на уровне сцены, и я, быстро пройдя к нему, предупредил его.
— Роман Борисович, сейчас ваше «Тра-та-та» за кулисами.
— А вы скажите сами это «Тра-та-та». Лаврентьев всегда говорит это за меня, — невозмутимо ответил мне исполнитель роли Вершинина.
Сначала мне даже показалось, что он меня разыгрывает или экзаменует, уж очень неожиданным был его ответ, но когда он отвернулся от меня и опустился в кресло, продолжая прерванную с кем-то беседу, я понял, что это не шутка.
Лаврентьев в роли Кулыгина дремал на сцене, я был полностью предоставлен сам себе и должен был найти выход из положения.
Вернувшись на сцену, я застал именно ту реплику, на которую из-за кулис должно раздаться вершининское «Тра-та-та!» Выхода не было никакого. Преодолевая свой конфуз и стараясь припомнить хотя бы фонетически, как звучало знаменитое «Тра-та-та!» Станиславского, я мужественно сыграл этот кусок. Я был красен от стыда, а спектакль мирно продолжал течь в своем развитии.
Впоследствии я узнал, что Аполлонский не признавал драматургии Чехова и говорил, что «его можно читать в поезде, но, подъезжая к станции, следует выбрасывать в окно».
Четвертый акт, самый сложный в спектакле, очень волновал меня, так как декорации художника Ламбина были построены почти во всю глубину сцены и перебегать с одной стороны на другую было очень трудно.
В правом проходе вновь появились директор, управляющий конторой и три чиновника. Все шло благополучно, и я приноровился стремительно проноситься по арьерсцене, меняя свое место, появляясь то оправа, то слева.
В четвертом акте также есть закулисная реплика: «Гоп-гоп!», которую кричит секундант Скворцов. Уже наученный Аполлонским, я спросил Лаврентьева: «А кто же кричит “Гоп-гоп”?»
82 — Уж если вершининские реплики произносил помощник, то секундантские-то и сам бог велит играть помощнику, — грубо ответил мне Лаврентьев, не меньше меня измученный за этот день.
Я заранее выбрал место откуда кричать и за несколько реплик во весь опор помчался на это место, а место мной было выбрано у самой кулисы на последнем плане.
Выглядело это, вероятно, так, что я сейчас выбегу на сцену, так как на ходу вдруг меня перехватывает Крупенский.
— Ведь там же сцена! Куда вы бежите?
— Кричать «Гоп-гоп!» — ответил я, вырываясь от него и уже почти теряя силы и от нервного и от физического переутомления.
После окончания спектакля Теляковский вызвал к себе в ложу Лаврентьева и меня. Он долго рассматривал меня и почему-то по-французски обратился к Крупенскому: «Но ведь он очень молод».
Обращаясь к нам обоим, директор сказал:
— Конечно, вы очень молоды и несколько странно было видеть вас сегодня в работе. Как-то не подходит это к стилю наших театров. Но ведь пригласили же мы Мейерхольда, сделали Лаврентьева главным режиссером? — как бы полувопросом обратился он к Крупенскому. — Конечно, многим не понравится ваше назначение, но работайте. Надо немного встряхнуть Александринский театр.
Так закончился мой первый рабочий день в Александринском театре.
Слишком грандиозной, сложной и непонятной показалась мне тяжелая машина императорского театра. Я знал по отзывам блестящую плеяду русских актеров, работавших в нем, и вот сегодня впервые столкнулся с ними в работе.
«Вот она изнанка блеска и величия!»
Прежде всего потрясали уклад жизни и процесс хода спектакля в этом театральном организме.
Какая разница с Московским Художественным театром! Я знал, что Аполлонский прекрасный актер, но рядом с этим в моем сознании не укладывалось циничное требование, чтобы помощник режиссера произносил за кулисами вершининскую реплику.
Удивляло общее спокойно-ремесленническое отношение к спектаклю, какая-то незаинтересованность актеров друг другом, 83 какое-то безразличие к тому, что мы называли в Москве «творческой закулисной атмосферой». Мое нервное напряжение во время спектакля не дало даже возможности полностью увидеть и оценить, как играют актеры.
Помню только, что ни одно место актерского исполнения не захватило полностью, как это постоянно бывало в Художественном театре.
«Они представляют, показывают, а не живут», — мелькнуло в сознании определение того, что я только что видел.
Традиции императорских театров
Великолепное здание Росси, конечно, не напоминало деревянный вологодский театр. Теляковский не был похож на Вяхирева, и все-таки что-то общее было в этих двух театральных явлениях, столь разительно непохожих и в то же время в чем-то родственных. И несмотря на всю нелепость и парадоксальность сравнения, только что прошедший спектакль «Три сестры» воскрешал в памяти вологодского «Дядю Ваню».
Постепенно я стал втягиваться в размеренный ход театральной машины Александринского театра. Вести спектакли, в которых были заняты старейшие представители актеров, Лаврентьев не торопился мне поручать. «Пусть подрастут у вас волосы», — говорил он, и я пока что как зритель знакомился с лучшими актерами российского театра.
Пожалуй, самое сильное впечатление на меня произвел спектакль «Свадьба Кречинского».
Муромский — Варламов, Муромская — Стрельская, Лидочка — Панчина, Кречинский — Далматов, Расплюев — Давыдов, Нелькин — Киенский, Щебнев — Петровский, Бек — Брагин, Федор — Н. Яковлев.
Одно простое перечисление участников этого спектакля говорит само за себя.
В истории русского театра достаточно образно и хорошо рассказано об этом спектакле, и мне нет надобности повторять уже известное многим, но на одной его особенности мне хотелось бы остановиться и рассказать о ней подробнее. Особенность эта заключалась в гениальном умении молчать и через это молчание, зачастую полнее даже, чем через текст, 84 доносить до зрителя глубину содержания той или иной сцены, куска или же отдельного момента в духовной жизни образа.
Молчать великолепно умели и в Художественном театре, но там молчание рождалось из точного режиссерского построения каждого сценического куска, насыщенного определенной атмосферой и заключавшего в себе тончайшую канву внутренней жизни образов. Это молчание являлось строго закономерным и, как правило, было найдено и закреплялось в процессе репетиций. Содержательное же и образно-выразительное молчание актеров Александринского театра как бы рождалось вдохновенным порывом актерской фантазии, причем зачастую оно бывало далеко не закономерным в смысле общего режиссерского решения спектакля. Короче говоря, это было талантливое молчание актера, и только актера, и тем не менее оно часто рождало целую бурю аплодисментов в зрительном зале.
Никогда не изгладится из памяти пауза Варламова и Давыдова, когда они во втором акте «Свадьбы Кречинского» стоят перед диваном и по очереди предлагают друг другу первому сесть на диван.
Расплюев — Давыдов подводил Муромского — Варламова к дивану, стоящему параллельно рампе, и правой рукой предлагал Муромскому сесть первому. Варламов обходил Давыдова и, повернувшись к нему лицом, предлагал левой рукой первому сесть Расплюеву. Диван был между ними, они стояли по бокам дивана и по очереди, один правой рукой, а другой левой, предлагали друг другу усесться. Так проделывали они четыре или пять раз. Затем Давыдов шел к Варламову и, дойдя до середины дивана и повернувшись спиной к зрительному залу, уже двумя руками предлагал Варламову опуститься на диван. Варламов подходил к Давыдову и, тоже повернувшись задом к зрителю, также обеими руками предлагал Расплюеву проделать это первому.
Эти приглашения сесть также повторялись несколько раз, причем с каждым разом становились все изысканнее и деликатнее. И чем деликатнее они становились, тем громче звучал смех в зрительном зале. Наконец актеры снова поворачивались лицом к лицу и, ласково, обеими руками коснувшись друг друга, разворачивались фасом к зрителю, и Давыдов, взяв под руку Варламова, предлагал ему совместно опуститься на диван. Лицо Варламова расплывалось в улыбку, эту 85 улыбку мгновенно подхватывал и Давыдов, и, добродушно улыбаясь, эти две огромнейшие, невероятной толщины человеческие фигуры под гомерический хохот и бурные аплодисменты всего зрительного зала медленно опускались на диван.
И таких выразительных сцен по всему спектаклю было разбросано бесконечное количество.
Далматов — Кречинский, нашедший стеклянную модель, по которой отделан солитер, и Давыдов, наблюдавший за ним.
Давыдов — Расплюев после трепки, которую ему задал Федор.
Варламов — Муромский, наконец раскусивший, кто такой Кречинский, и игравший почти двух-трехминутную паузу перед фразой: «От позора бегут, матушка».
И даже актер далеко не первого положения — Брагин, исполнитель роли ростовщика Бека, когда ему Лидочка возвращала настоящий солитер, был так выразителен в своей радости, умел так выразительно уходить со сцены, что зрительный зал провожал его долгими аплодисментами.
А финальная пауза, когда после ухода всех, оставшиеся на сцене Давыдов и Далматов медленно шли навстречу друг другу почти по самой рампе, — разве это молчание не заключало в себе огромнейшего содержания?
Об этом спектакле много написано в истории русского театра, но, конечно, далеко не все рассказано о том богатстве, которое приносили с собой на сцену замечательные актеры.
Так вот, к этим-то великим актерам Лаврентьев и боялся меня подпускать. Это были художники совершенно иного склада, чем те, которые создавали Художественный театр. Некоторые из них, как, например, В. Н. Давыдов, как говорят, так до своей смерти и не видели ни одного из спектаклей Московского Художественного театра. Потому и вполне естественно было их не очень доброжелательное отношение к людям, так или иначе связанным своей прежней работой с этим «любительским» театром.
Не спаянные ничем, кроме «традиций императорской сцены» и получением жалованья в один день, недолюбливая друг друга, актеры Александринского театра вкупе представляли собой довольно пестрый по творческим устремлениям и приемам мастерства коллектив. Здесь не могло быть и речи о едином художественном ансамбле. И даже два первых актера 86 театра, знаменитейшие и прославленные К. А. Варламов и В. Н. Давыдов, ни в чем не были похожи друг на друга, стояли на диаметрально противоположных творческих позициях.
Варламов был актером чистого нутра, почти не умевшим работать, но умевшим гениально играть, а Давыдов обладал огромной актерской техникой, и все его роли были очень точно и четко построены и проработаны до мельчайших деталей.
Еще более противоположные школы представляли такие, например, актеры, как И. М. Уралов, великолепный актер реалистической школы, и Гр. Гр. Ге, являвший собою жалкую пародию на романтический театр.
Техника и огромное мастерство В. А. Мичуриной, яркой представительницы французской школы, умевшей блестяще вести диалог, были в вопиющем противоречии с интуитивной, органической русской простотой и великолепной способностью произносить русские слова В. В. Стрельской.
В это время в Александринском театре работали шесть режиссеров: Мейерхольд, Петровский, Озаровский, Дарский, Долинов и Корнев. Но это отнюдь не были режиссеры-художники единого творческого верования. Как раз наоборот — это были люди совершенно различные, всякий по-своему понимавшие вопросы театра, да и далеко не каждого из них можно было назвать художником. Зато, почти как правило, каждый из них ориентировался на свою группу актеров и был как бы вожаком небольшой группы, иногда мирно, а иногда и достаточно враждебно относящейся к другой группе. Театр был разбит на своеобразные удельные княжества, причем не всегда удельными князьками были режиссеры, а скорее наоборот — княжили ведущие актеры. При савинской группе был режиссер А. И. Долинов, Мичурина и Давыдов имели своего режиссера — М. Е. Дарского, А. П. Петровский работал со всеми. Н. Э. Озаровский собирался уходить, потеряв свое положение новатора, которое прочно занял В. Э. Мейерхольд. Корнев был режиссером-администратором, место которого занял А. Н. Лаврентьев. Такова была расстановка сил, когда дирекция решила «немного встряхнуть» театр.
Конечно, самой большой «встряской» для императорских театров было приглашение Мейерхольда после его ухода из театра В. Ф. Комиссаржевской.
87 Продолжением этой «встряски» было назначение помощника режиссера Лаврентьева, пришельца из Московского Художественного театра, на пост главного режиссера.
И, вероятно, мое вхождение в театр было возможно только потому, что в дирекции в то время существовала эта тенденция «встряски».
В мирную жизнь Александринского театра с его прочными, вековыми устоями, с его «высокими традициями» дирекция внедряла новое начало, которое беспокоило «старожилов» и, естественно, заставляло объединяться разрозненные группы во имя борьбы с пришельцами.
Мейерхольда как крупную художественную величину не трогали, но некоторые корифеи сцены стремились просто его не замечать, считая существование в театре режиссера левого толка блажью дирекции. Лаврентьева как главного режиссера побаивались и считались с ним. Зато на мне отыгрывались вовсю.
Приведу только один пример. Неожиданно заболел Лаврентьев. Язва желудка и острые приступы болезни заставили его лечь в больницу. Выполнять за него административно-организационную работу был назначен один из помощников режиссера П. С. Панчин, который сразу же надел длинный черный сюртук (вероятно, для большего престижа) и сел в кабинет Лаврентьева.
Если Лаврентьев до поры до времени оберегал меня от встреч с ведущими актерами театра, то Панчин, как раз наоборот, специально сталкивал меня с ними при самых для меня невыгодных обстоятельствах. Это было тем более неприятно, что даже в обыденной жизни я при всем желании никак еще не мог установить нормальных человеческих отношений с мастерами.
При встречах со мной Давыдов, например, еще издали увидев меня, отворачивался, так что мне никогда не удавалось поклониться ему, попав в поле его зрения. Отсюда и у него было полное право не кланяться мне. У М. Г. Савиной был выработан другой прием: она издали смотрела на меня в упор, так что сомневаться в том, что она видит меня не приходилось, но при моем вежливом поклоне ни один мускул ее лица не двигался, и, глядя на меня как на стенку, она величественно проплывала мимо.
Варламов и Стрельская, как более добродушные и незлобивые 88 люди, смотрели на меня с грустью, как на инородное явление. В ответ на мой вежливый поклон они жалостливо улыбались, но руки все же не протягивали.
Довольно трудно было при таких взаимоотношениях вести спектакль с участием этих актеров, но приходилось.
Однажды Панчин вызвал меня вести спектакль «Дети Ванюшина» с участием Савиной, Давыдова, Стрельской, Потоцкой, Судьбинина, Петровского, Киенского, Домашевой, Прохоровой и других. Спектакля я не знал и, таким образом, оказывался в чрезвычайно трудном положении. Если же принять во внимание участие в нем корифеев сцены, каждый из которых имел свои установившиеся привычки, и то, что помощник режиссера обязан был знать эти привычки, — читатель без труда поймет, что испытывал пишущий эти строки.
Кстати сказать, вызов был экстренный: Панчин позвонил мне за двадцать минут до начала спектакля.
Через пять минут я был уже в театре и, дав звонки, бросился оповещать об этом актеров. Первый визит был, конечно, к всесильной Савиной, уборная которой находилась на уровне сцены. В нее вела каменная лесенка из пяти ступеней, далее следовала железная дверь, всегда наглухо закрытая и открывавшаяся только для того, чтобы впустить или выпустить царицу сцены — Марию Гавриловну Савину. Парикмахерша, одевальщица и горничная попадали в уборную из коридора через другую дверь. Таким образом, уборная имела как бы парадный подъезд и черный ход.
Конечно, по занимаемому мной рангу мне бы следовало идти с черного хода, но времени оставалось мало: известили-то меня только за двадцать минут до начала, а первые звонки давались помощниками режиссера за полчаса.
Приблизившись к железной двери, я постучался. Ответа не последовало никакого. Я постучался вторично. То же молчание. Тогда я приоткрыл дверь и постучал еще раз. За железной дверью, на расстоянии полуметра, висели светлого репса портьеры.
— Кто там? — раздался знакомый, слегка гнусавивший голос Савиной.
— Разрешите представиться, Мария Гавриловна, это я, новый помощник режиссера Петров.
— Кто там? — последовал вторично тот же вопрос, как будто бы я ничего не сказал.
89 С педантичной точностью, вкладывая как можно больше деликатности в свой голос, я повторил свой ответ.
— Кто там? — вновь прозвучал неумолимый голос Савиной.
— Дело в том, Мария Гавриловна, что Поляков захворал и меня вызвали вести спектакль. Сейчас я дал второй звонок, через пятнадцать минут начало спектакля, — доложил я, решив уже не представляться, а прямо перейти к непосредственным своим обязанностям, и собирался уже бежать дальше оповещать актеров. Но то, что я услышал из-за репсовой портьеры, буквально приковало меня на месте:
— Я играть сегодня не буду.
Не оповещая актеров о звонках, я помчался в кабинет Лаврентьева, к Панчину.
— Петр Семенович! Мария Гавриловна сказала, что она играть сегодня не будет. Что делать?
— А это ваше дело, вы помощник режиссера, вы ведете спектакль и отвечаете за все, что случается на нем, — хладнокровно ответил Панчин.
Режиссером этого спектакля был А. П. Петровский, игравший в тот день роль Щеткина, и я решил обратиться к нему. Он гримировался в одной из уборных внизу.
Взволнованный, я сообщил ему о своих разговорах с Савиной и с Панчиным. Он еще ближе приблизил зеркало к лицу и ответил почти то же, что и Панчин.
— Я режиссер, а не административный работник. Вот с Панчиным вы и улаживайте ин-ци-дент, — закончил он, удовлетворенно разглядывая себя в зеркале и совершенно безразличный к трагедии, которую переживал я.
Часы показывали без семи минут восемь, и я направился давать последний звонок.
Звонки даны, и снова я стою перед железной дверью уборной Савиной.
— Кто там? — вновь раздалась знакомая реплика, как только я, приоткрыв дверь, постучал в нее.
— Это я, новый помощник режиссера Петров. Я пришел сообщить, что до начала спектакля осталось пять минут.
— А где Федя? — опросила Савина.
— Федор Федорович захворал, и вот Петр Семенович вызвал меня вести спектакль, — сказал я возможно более сладким голосом.
90 Последовала пауза, которую я легковерно готов был принять за улаженность инцидента и, радостный, собирался уходить, как вдруг вновь прозвучала неумолимая фраза:
— Я сказала, что сегодня я играть не буду.
Актеры не были извещены о звонках. До начала спектакля оставалось три минуты.
«А, будь, что будет», — подумал я, как вихрь обежал всех исполнителей и сообщил, что начинаю спектакль.
Три удара палкой в пол сцены, два удара деревянным молотком по звонку, и занавес медленно поднялся. Спектакль начался.
Выход Клавдии, которую играла Савина, был на четвертой или пятой странице режиссерского экземпляра. Спектакль шел нормально, и только железная дверь, которая была мне видна с места, откуда я выпускал актеров, была наглухо закрыта. С каждой сказанной актерами фразой на сцене, с каждой переворачиваемой страницей я понимал, что приближается катастрофа. Во время одного из диалогов на сцене, когда у меня было время, я даже решил было еще раз попытаться предупредить властную актрису, что спектакль начался, но сейчас же внутренний голос начал нашептывать: «Ты же все сделал, что от тебя зависело. Ты выполнил все свои обязательства. Ты сообщил актрисе, сказал режиссеру-администратору, поставил в известность режиссера-постановщика. Пусть события развиваются так, как им положено». Я перевернул следующую страницу и в конце ее с ужасом увидел реплику, подчеркнутую красным карандашом, и надпись: «Выход Савиной».
Актеры на сцене произносили текст, бывший уже на середине страницы, а проклятая дверь все еще была наглухо закрыта.
«А что я буду делать, если Савина не выйдет на сцену? Опущу занавес», — твердо решил я.
Оставалось две реплики до рокового момента. От волнения и напряжения я почти готов был упасть в обморок…
Но вдруг… Ах, эти счастливые и несчастные «вдруг», которые случаются в нашей жизни! Так вот, вдруг проклятая железная дверь отворилась, по лесенке спустились горничная, одевальщица и парикмахерша, а вслед за ними появилась и хозяйка александринской сцены Савина, которая без остановки, пройдя мимо выстроившегося обслуживающего персонала, 91 мимо актеров, сидящих и ожидающих своих выходов, мимо меня, ведущего спектакль, прямо прошла в дверь, из которой ей положено было выйти, и точно попала на сцену к своей реплике.
— Вот это школа, — подумал я, когда, как гора с плеч, свалилась с меня угроза скандала.
Случай этот сохранился в моей памяти не только потому, что он произошел со мной и мне пришлось на собственной шкуре испытать эгоцентризм, присущий многим артистам императорского театра, эгоцентризм, о неприглядных проявлениях которого так часто еще говорят с умилением. Существовало вопиющее противоречие между действительно великолепным искусством лучших российских актеров и той удушливой, гнетущей атмосферой, тем насквозь прогнившим бытом, которые скрывались за величественным фронтоном Александринского театра. Как не похоже все это было на Художественный театр, который так последовательно и любовно воспитывал актера нового типа, искусство которого опиралось на прочный морально-этический фундамент! К сожалению, мораль и этика в Александринке уступили место всеми и всячески оберегаемой чести принадлежать к корпорации артистов императорских театров.
В 1913 году в Петербурге, в помещении театра В. Ф. Комиссаржевской, на Офицерской улице, состоялся «первый спектакль в мире футуристов».
Шла трагедия «Владимир Маяковский» с участием автора. Скандал на этом спектакле был грандиозный. После первого же акта большинство зрителей кинулись к рампе и возмущенно громко ругали и самого Маяковского и участников, которые гордо выходили раскланиваться, как будто их вызывали сочувствующие аплодисменты.
На другой день, когда я пришел в театр на очередную репетицию и проходил через актерское фойе, меня неожиданно остановил В. Н. Давыдов, который сидел на красном диване, окруженный актерами.
— Молодой человек! Вы, кажется, были вчера на этом позорнейшем представлении футуристов?
— Да, был, — отвечал я возможно скромнее и лаконичнее, уже предчувствуя какую-то неприятность.
— И вы, кажется, даже аплодировали этому безобразию?
— Аплодировал.
92 — Зарубите себе на носу, молодой человек, что подобными аплодисментами вы дискредитируете корпорацию артистов императорских театров. И если вы еще раз совершите подобный поступок, марающий честь корпорации, то мы будем вас судить судом чести. — Произнеся эту тираду, маститый актер повернулся ко мне спиной и продолжал прерванную беседу с окружающими его артистами.
Вот почему, когда говорят о чувстве «товарищества» в корпорации артистов императорских театров, а об этом, к сожалению, говорят и по сей день, я невольно вспоминаю пережитое мною лично.
Вспомним рассказ В. О. Топоркова в его книге «Станиславский на репетициях» о диалоге В. Н. Давыдова с И. М. Ураловым на репетиции «Ревизора».
«Уралов перешел из Художественного театра в Петербург, в Александринский театр. И так как в Москве он играл городничего в “Ревизоре”, то и в Александринском театре ему дали дублировать эту роль с Давыдовым. Однажды в перерыве репетиций Уралов почтительно обратился к Давыдову по творческому вопросу, и между ними произошел следующий диалог:
— Скажите, Владимир Николаевич, “с чем” вы выходите к чиновникам в первой сцене в “Ревизоре”?
— То есть, как это “с чем”? — как бы не понимая, переспросил Давыдов.
— Ну, с каким самочувствием, с каким намерением… Вот у нас трактовалось, что он… (идут длинные объяснения разных задач, предлагаемых обстоятельств и т. д. и т. д.).
Давыдов некоторое время настороженно слушает, сдерживая свой гнев и презрение, а затем прерывает Уралова полной сарказма сентенцией.
— Не знаю, с чем там выходят у вас в Художественном театре, а я выхожу с тем, что я выхожу на императорскую сцену играть Гоголя, и выхожу я, Владимир Николаевич Давыдов, а не Чёрт Иванович Обрывкин!
И, отвернувшись, он дал понять, что разговор окончен».
Этот рассказ показывает, как сильно расходились точки зрения актеров двух этих театров на природу сценического поведения.
Я на всю жизнь благодарен Леопольду Антоновичу Сулержицкому, товарищам и педагогам школы Адашева, Московскому 93 Художественному театру и его создателям — Константину Сергеевичу Станиславскому и особенно Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко, с которым мне больше довелось общаться, за то, что им удалось правильно «поставить мою творческую душу».
Педагогика
Работа помощника режиссера в Александринском театре в основном сводилась к чисто организационно-административным функциям и, конечно, не могла удовлетворить те запросы, которые бурлили во мне, разбуженные возможностями и творческой атмосферой московской жизни. И только в постановках Мейерхольда или Лаврентьева я получал иногда небольшое право на творческое участие.
Нужно было вне театра искать место, куда можно было бы приложить свою творческую энергию.
При подписании трехгодичного контракта на должность помощника режиссера управляющий конторой внес в него дополнение: «А также и помощника преподавателя драматической школы при императорском Александринском театре с окладом пятьдесят рублей в месяц».
Таким образом я был зачислен помощникам преподавателя на первый курс, который вел А. И. Долинов. На мой вопрос, как он меня использует в педагогической работе, Долинов спокойно ответил.
— Раз вас зачислили, то и занимайтесь. А чем вы будете заниматься, мне совершенно безразлично.
Он принадлежал к той категории режиссеров, которые профессию свою понимали предельно узко, и их фантазия не шла дальше планировки декораций и разводки актеров. Никакие творческие проблемы их не волновали, и ко всему новому они относились не то, чтобы враждебно, а скорее безразлично. Таким был, например, М. Е. Дарский, к которому я был назначен как помощник режиссера в его постановке пьесы Гюго «Анджело — тиран Падуанский».
Вспоминаю с каким интересом я ждал первой репетиции Дарского, так как знал, что он пришел в Александринский театр из Художественного, где на его долю выпала честь 94 в день открытия театра произнести первую реплику трагедии «Царь Федор Иоаннович»: «На это дело крепко надеюсь я».
— Я открывал этот театр, и видите, насколько я был прав, — неоднократно и с гордостью говорил Михаил Егорович.
Памятуя эти слова, я и обставил его первую репетицию так, как бывало в Художественном театре. На сцене я поставил большой стол, стулья для участвующих и кресло для режиссера. Стол покрыл скатертью и даже купил цветов, которые в вазе поставил на стол. Я ожидал развернутой беседы режиссера о пьесе и предстоящем спектакле. Одно волновало меня. Роли еще не были розданы, и я не знал, состоялась ли общая читка пьесы.
«Может быть, сегодня Дарский только прочтет пьесу и раздаст роли, а беседа будет завтра», — думал я, не осведомившись предварительно у режиссера, как он намерен провести первую встречу с исполнителями. Каково же было мое удивление, когда пришедший с опозданием на двадцать минут Дарский приказал убрать стол и цветы, велел раздать роли и, определив выгородку первого акта, встал на место около суфлерской будки с экземпляром пьесы в руках.
— Ну-с, начнем, — сказал Дарский, раскрывая пьесу и указывая актерам, кто откуда выходит и на каких словах, кто куда переходит.
В три часа пьеса была «поставлена», то есть актеры знали, откуда они выходят, на каких местах произносят свой текст и куда уходят. Никаких разговоров о том, кого они играют и в чем смысл данной пьесы, на репетиции не было. Знать и понимать все это считалось обязанностью самих исполнителей, раз они артисты императорских театров.
На следующих репетициях актеры с тетрадками в руках запоминали свои места, затем, оставив роли, они привыкали к суфлеру, и, когда эти два довольно несложных процесса были освоены, спектакль считался готовым и поставленным., Невольно вспоминались Вологда и уже знакомый нам Петр Иванович Васильев. Здесь происходило то же самое, правда, в несколько увеличенных масштабах и с большим блеском и мишурой, присущими императорскому театру. Таким же режиссером был и А. И. Долинов, помощником которого мне предстояло стать и которому было «совершенно безразлично», 95 чем и как я буду заниматься с молодежью, которую он обучал драматическому искусству.
Решать предстояло самому, и я избрал раздел движения, которым очень увлекался в то время.
Занятия с М. М. Мордкиным не прошли безрезультатно, а кроме того, последний год моего пребывания в Художественном театре совпал с увлечением К. С. Станиславского ритмической гимнастикой по системе Жака Далькроза. Изучение и освоение проблемы движения не только в его пластическом выражении, но и в ритмической сущности, интересовало и волновало Станиславского как неутомимого исследователя в области законов актерского мастерства.
Весь театр был увлечен этими занятиями, и по утрам мы, молодежь, с любопытством наблюдали, как в фойе театра Станиславский, Качалов, Москвин, Грибунин, Книппер, Германова, Лилина и другие актеры старшего поколения, одетые в трусики и майки, старательно выполняли ритмические упражнения по системе Далькроза. С нами, молодежью, занятия проводились отдельно. Все навыки и знания, полученные от Мордкина, а также приобретенные на занятиях ритмической и античной гимнастикой, плюс теоретические сведения, почерпнутые из уроков по системе Дельсарта, положены были мною в основу создания программы по сценическому движению, которое я и решил преподавать в императорском театральном училище.
Моя творческая затея не встретила никаких препятствий со стороны Долинова, и я стал преподавать «законы сценического движения», как пышно был назван мой предмет. Из учеников этого курса в театре имени Пушкина сейчас работает народная артистка Н. С. Рашевская, которая часто вспоминает эти занятия и тот повышенный интерес, который они возбудили у руководителей балетной школы, постоянно посещавших наши уроки. Им казалось крайне дерзким, что кто-то из драматического театра посягает на преподавание предмета, являвшегося их неотъемлемой собственностью.
Узнав о наших занятиях, А. П. Петровский заинтересовался ими, побывал на нескольких уроках и затем пригласил меня в состав преподавателей школы, которой он руководил как директор.
— Только попробуйте еще приблизить свою программу к вопросам актерского мастерства, акцентируя два положения: 96 сценическое действие актера без текста и пластическую выразительность актера в молчании.
Воспользовавшись советами Петровского, я написал новую программу для его школы, и таким образом появился новый предмет. Он был назван «мимодрама» и в основе его лежали некоторые занятия, которые мы проводили в школе Адашева.
Полугодовые экзамены были удачны в обеих школах, и я получил приглашение еще от двух драматических училищ ввести в общую программу их занятий «мимодраму».
Конечно, изрядной наивностью веет от тех формулировок, в которых излагалось содержание предмета, но если вынести за скобки некоторую псевдонаучность и наивность, то от существа этой программы я не откажусь и сегодня.
Годовые экзамены по этому предмету прошли благополучно, но начало учебного года ознаменовалось скандалами в школах Заславского и Ходотова. Дело в том, что руководство этих школ рассматривало «мимодраму» как одногодичный курс и мне поручили занятия на вновь набранном первом курсе. В школе же Петровского и у Долинова было решено, что я продолжаю давать уроки на втором курсе. Узнав это, ученики школ Заславского и Ходотова выразили протест и потребовали продолжения моих занятий и на втором курсе.
Особую резкость инцидент принял в школе Заславского, так как для занятий с учениками на втором курсе был привлечен один из старейших театральных деятелей — Евтихий Павлович Карпов.
Требования учеников руководство не удовлетворило, и они в знак протеста покинули школы. Произошел довольно крупный скандал, в результате которого две театральные школы оказались без вторых курсов.
В глубине души, конечно, мое самолюбие было удовлетворено, но в то же время я отлично понимал, что не имею права оставить на произвол судьбы большую группу молодежи, желавшую продолжать наши занятия. Так возникла «мастерская драмы Н. Петрова», которая просуществовала два года, то есть пока данная группа не прошла трехгодичной учебы, так же как и в других школах.
Убежденность в правильности своих педагогических принципов заставила меня обратиться к Теляковскому с просьбой разрешить мне провести открытый вечер с докладом и показом 97 работ своих учеников в стенах школы Александринского театра. Согласие на такой вечер я получил, и совместно со своим товарищем, молодым актером, только что окончившим эту школу, Леонидом Вивьеном, мы организовали показ, о котором на другой же день появились заметки в газетах.
«Вчера в помещении Театрального училища состоялся любопытный закрытый спектакль в присутствии г. Теляковского, барона Кусова, всех режиссеров Александринского театра, части актеров и приглашенной публики. Спектакль, в котором участвует совершенно “чужой” элемент — воспитанники частной школы сценического искусства, — был устроен по предложению г. Теляковского, пожелавшего убедиться, как обстоит дело с педагогикой сценического искусства в частных драматических школах.
Перед началом спектакля руководители школы сценического искусства режиссер г. Петров (Коля Петер) и г. Вивьен сделали сообщение о новых формах и способах преподавания.
После лекции были поставлены три отрывка из пьес “Михаил Крамер”, “Гавань” Мопассана и “Макбет”.
Участвующие в этих отрывках ученики Парегонец, Любимов, Музалевский, Казакова и Середина играли без грима и без сценических костюмов. Не было и вообще бутафорских аксессуаров.
Лекция и спектакль имели у интимной аудитории несомненный успех. Исполнители и лекторы были награждены аплодисментами».
Вторая газетная заметка оканчивалась таким абзацем:
«… от лекции-спектакля получилось впечатление, что сама казенная школа себя бичевала.
Вот уж правда — унтер-офицерская вдова сама себя высекла».
Именно в эту пору у меня произошла знаменательная встреча с М. Г. Савиной, которая в корне изменила наши взаимоотношения.
В начале 1914 года А. П. Петровский принял предложение Н. Н. Синельникова работать у него в Харькове и ушел из Александринского театра. Директорство в своей школе он передал М. Г. Савиной, с которой мне и предстояло постоянно встречаться. Нельзя сказать, чтобы это обстоятельство меня особенно радовало. Время, прошедшее со дня злополучного 98 спектакля «Дети Ванюшина», мало что изменило в наших отношениях: при встречах с Савиной я по-прежнему любезно кланялся, а она, не отвечая, проходила мимо, как будто перед ней было пустое место.
Меня очень интересовало, как же она будет вести себя со мной здесь, в стенах школы, где я уже был воспитателем молодежи. Правда, нужно сознаться, что в течение первых трех лет педагогической работы у меня не было ни одного ученика, который был бы моложе меня. Тем более меня очень волновала первая встреча с новым директором, хотя А. П. Петровский, уезжая и прощаясь со мной, уверил, что все будет очень хорошо.
— Вот увидите, Марья Гавриловна оценит вас в работе и вы еще будете очень большим ее другом.
Но на первом же педагогическом совете выяснилось, что новый директор решил сохранить наши прежние взаимоотношения.
Учебный год подходил к концу, приближались экзаменационные выпускные спектакли моего курса, а Савина по-прежнему не отвечала на мои любезнейшие приветствия.
Первым экзаменационным спектаклем выпускного курса шла комедия Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным».
В центре первого ряда, рядом с местом директора, полагалось сидеть мне, как преподавателю выпускного курса. Проверив все за кулисами, я прошел на свое место и сел, ожидая начала. Савина была еще в своем кабинете, и только когда погас свет перед началом спектакля, она торжественно вошла в зрительный зал.
Я встал, поклонился и вежливо сказал, когда она проходила мимо меня: «Здравствуйте, Мария Гавриловна». Но ответа никакого не последовало, и она молча опустилась в свое кресло.
Спектакль шел нормально, но в третьем акте, который у нас получился особенно удачным, произошло событие, никогда не случавшееся ранее на показе ученических работ. На какую-то реплику, очень удачно сказанную учеником Смирновым, игравшим Джека, в зале раздался дружный смех, а затем и аплодисменты.
Савина повернулась и с удивлением посмотрела на меня.
Участвующие, почувствовав поддержку всего зрительного зала, с еще большим творческим подъемом продолжали играть 99 финальную часть спектакля, в котором распутываются сложные сюжетные узлы комедии.
Вновь раздались дружный смех и аплодисменты.
Савина внимательно посмотрела на меня и зааплодировала сама.
Третьи, буквально оглушительные аплодисменты всего зала незадолго до финала спектакля окончательно сломили величие первой российской актрисы, и она, неожиданно повернувшись ко мне, вежливо сказала: «Из вас выйдет толк, молодой человек, вы будете режиссером».
Так я выдержал длительное испытание, лед в наших отношениях был сломан, и я получил благословение от Марии Гавриловны Савиной.
Ни один благотворительный вечер, ни одно крупное начинание в пользу Русского театрального общества, председателем которого была М. Г. Савина, не проходили без того, чтобы Савина не привлекала меня как своего ближайшего помощника. Сколько раз я бывал у нее в особняке на Карповке в связи с устройствами этих вечеров, и всякий раз удивлялся ее мудрости, человечности и величайшей гостеприимности, которую она проявляла и в делах и по отношению к людям, с которыми встречалась на этих беседах.
Летние сезоны
Что из себя представляли в то время летние сезоны? Современной театральной молодежи трудно представить себе, что бывали летние сезоны, за время которых нашему брату режиссеру приходилось в течение двух — двух с половиной месяцев ставить по двадцать, а иногда и по тридцать новых спектаклей. Конечно, эти летние «премьеры» значительно отличались от наших современных «премьер», но по горячности в работе, по количеству вкладываемой энергии, по творческой изобретательности многие из них могли стать в ряд с самыми серьезными и значимыми спектаклями, в которых мне довелось принимать участие. Немало зависело, разумеется, от группы участников такого «стремительного» сезона, от их воли и решимости отправиться в рискованную поездку и, наконец, от тех задач, которые они перед собой ставили.
100 Первым таким театральным сезоном в моей практике был сезон в Чернигове летом 1911 года. Организаторами и руководителями этого летнего товарищества были два актера Художественного театра — Н. Н. Горич и С. И. Днепров. Художественным руководителем и главным режиссером был приглашен артист Художественного театра А. Л. Загаров, перешедший в то время на режиссерскую работу в Александринский театр. Труппа была составлена в основном из молодежи Художественного театра, которой хотелось на свободе испытать свои творческие возможности. Как прежнего товарища по театру молодые актеры пригласили и меня, предложив автору этих строк, помимо актерской работы, постановку шести спектаклей.
Дружной компанией приехали мы в Чернигов с твердым намерением отдать все, что есть в нас лучшего, черниговскому зрителю.
Прежде всего по примеру Художественного театра мы заменили подъемный, трафаретно расписанный театральный занавес спокойным, однотонным раздвижным. Затем мы убрали суфлерскую будку, которая являлась неотъемлемой частью провинциального театра, так как от хорошего или плохого суфлера зачастую зависел успех целого сезона, и начали изготовлять декоративные детали, комбинации из которых создавали бы иллюзию интересного, а главное, добротного сценического оформления. Одним словом, мы подготовили все, чтобы пришедший на открытие зритель не узнал своего театра и сразу бы ощутил нечто новое, привезенное в Чернигов московской театральной молодежью. Как ученику «режиссерского класса», знакомому с клейкой макетов, мне совместно с художником Костиным было предложено изумить черниговскую публику необычной для нее внешней формой спектаклей.
Порядок спектаклей был объявлен следующий: «Вишневый сад» Чехова для открытия сезона, затем чеховские же «Дядя Ваня» и «Три сестры», четвертым спектаклем должна была идти пьеса Зудермана «Гибель Содома» в моей постановке. Еще до приезда в Чернигов я тщательно подготовился к своей режиссерской работе: обдумал декоративное оформление и написал подробные режиссерские планы для шести порученных мне спектаклей.
Единственное, что смущало всех нас, — это отсутствие Загарова, 101 который должен был поставить три первых чеховских спектакля и участвовать в них как актер, играя Фирса в «Вишневом саде» и Войницкого в «Дяде Ване». Он опаздывал к съезду труппы и прислал телеграмму, чтобы мы репетировали эти спектакли без него по мизансценам Художественного театра, обещая приехать за день до открытия и провести последние репетиции.
Репетиции «Вишневого сада» временно были поручены мне, и я же подчитывал роль Фирса, Горич вел репетиции «Дяди Вани», поручив временно читать роль Войницкого актеру П. Бакшееву, впоследствии актеру Художественного театра, куда он был принят после нашего черниговского сезона, а «Три сестры» репетировал Днепров.
Спектакли были подготовлены, сцена преобразована до неузнаваемости, в городе висели красивые афиши, извещавшие зрителей, что завтра «открывается летний сезон товарищества артистов Московского Художественного театра под руководством режиссера императорского Александринского театра Александра Леонидовича Загарова». Словом, все было готово, не было только… Загарова. Не приехал наш руководитель и в день открытия сезона — встречавший его на вокзале Днепров вернулся один. Всегда спокойный и ко всему относившийся с иронией, Горич утешал всех нас:
— Пароход приходит в четыре часа, и вы увидите, что Александр Леонидович с женой приедут пароходом.
Дело в том, что жена Загарова, актриса Катеринич, должна была быть в нашей труппе основной героиней.
— Ну, а если они не приедут и сегодня, то ты, Кокоша, будешь играть Фирса, а что делать дальше, решим завтра после спектакля.
Никаких радостных известий пароход нам не привез, и, сознаюсь, в большой тревоге мы собрались вечером открывать летний сезон без двух ведущих актеров.
Черниговцы были буквально потрясены тем, что мы показали им со сцены. Особенно поразил их раздвижной занавес и отсутствие суфлерской будки, из которой провинциальный зритель обычно привык слышать текст пьесы раньше, чем актер произносил его со сцены. Публика воспринимала спектакль, затаив дыхание, и как будто даже ни на что не реагировала. Так в полнейшей тишине окончился наш первый спектакль. Правда, в афишах и программах мы анонсировали: 102 «Принимая с благодарностью аплодисменты, как знак выражения одобрения, дирекция ставит в известность, что для сохранения цельности художественного впечатления, актеры на вызовы выходить не будут», — но все же такое послушание зрителей было для нас неожиданно, в особенности же их молчание после окончания спектакля.
Но пришедшие за кулисы после спектакля представители городской думы рассеяли наши сомнения, сказав, что спектакль произвел огромное впечатление и что зрители просто не поняли наших анонсов, считая, что мы вообще возражаем против аплодисментов.
Окрыленные, правда, своеобразным, но все же успехом, мы как-то спокойнее играли второй спектакль — «Дядю Ваню», и снова без Загарова.
Спектакль проходил в той же царственной и торжественной тишине, и только в конце его раздались такие бурные аплодисменты, что, казалось, будто весенняя вода прорвала плотину и могучий поток готов снести все, что встретится на его пути.
Мы выходили кланяться бесконечное количество раз. Из зала бросали цветы, и в таком количестве, что, выходя кланяться, мы шествовали по сплошному пестрому ковру.
Два спектакля были сыграны, то есть выиграно целых два сражения, но впереди предстояла официальная беседа с «отцами города», на которой мы должны были сообщить, что ведем сезон без объявленного в афишах руководителя. Этот неприятный разговор мы решили отложить и сыграть еще два спектакля.
В успехе «Трех сестер» мы были более или менее уверены; важно было закрепить его постановкой пьесы Зудермана. Удастся ли нам это? Если да, то мы смело обратимся к представителям городской думы и предоставим им самим решать вопрос о нашем дальнейшем пребывании в Чернигове.
Мы великолепно понимали, что успех первых трех спектаклей (а «Три сестры» прошли также с успехом) — это успех Московского Художественного театра: ведь именно ему мы в хорошем смысле и в силу своих способностей «подражали», осуществляя постановку чеховских пьес. Постановка же незнакомой нам пьесы Зудермана — «Гибель Содома» — была для каждого из нас по сути своей экзаменом на право самостоятельной творческой работы.
103 Перед началом четвертого спектакля нами была получена лаконичная телеграмма: «Обстоятельства переменились точка Простите приехать не можем Загаров Катеринич». Всего больше нас возмутило почему-то слово «простите».
— Простите! — возмущенно кричал Днепров.
— Ну, а если не простим, так что же он приедет, что ли?
— Вот эту бы телеграмму показать Константину Сергеевичу. Он показал бы ему «простите», — бушевал Горич перед самым началом спектакля, и это возмущение, эта общая взволнованность и понимание того, что мы предоставлены полностью самим себе и никто нам не поможет, вероятно, отразились как-то и на самом спектакле.
Актеры играли нервно, на открытых, обнаженных чувствах. Наша взволнованность перебросилась в зрительный зал, и публика бурно реагировала на все события и, совершенно позабыв наши предуведомления, устроила бурную овацию в конце спектакля.
На другой день мы отправились беседовать с «отцами города».
— Если и дальнейшие спектакли будут такие же, как первые четыре, то мы не возражаем, чтобы вы продолжали сезон без участия Загарова и Катеринич, — таково было суждение членов городской думы. Мы с облегчением вышли на улицу.
— А как распределим в дальнейшем режиссерскую работу? — сейчас же спросил самый практичный из нас Н. Н. Горич. — Ведь Загаров должен был ставить основное количество спектаклей. Мы с тобой, Сергей, по четыре. Кокоша — шесть, а остальные пятнадцать должен был поставить он. Как мы распределим эту работу?
В вопросе Горича, в сущности, был заключен и ответ, но он не высказал его вслух. Дело в том, что Горич и Днепров являлись основными актерами, и весь репертуар лежал главным образом на них. Я же был, скорее, изредка играющим режиссером, нежели актером, иногда ставящим спектакли. Таким образом, весь основной режиссерский груз свалился на мои плечи и помимо ранее намеченных мне пришлось поставить еще семнадцать спектаклей за два месяца летнего сезона в Чернигове.
И если принять во внимание, что для нас не существовало так называемых проходных спектаклей, что в каждый из них мы старались вложить максимум творческой выдумки и фантазии; 104 если принять во внимание, что при монтировке каждой постановки мы вместе с художником Костиным должны были постоянно изобретать, пытаясь всякий раз находить интересные, а главное, новые декоративные решения и при этом избегать штампов провинциального театра; если учесть, наконец, что суфлерской будки у нас не существовало, — то станет очевидным, какое огромное количество труда и энергии должны были мы затратить за два месяца, чтобы наши спектакли проходили на должном художественном уровне.
Черниговский сезон явился для меня великолепной школой в области профессионального понимания вопросов режиссуры, причем понимание это рождалось из самой практики. Какая школа может предоставить молодому режиссеру возможность поставить за два месяца двадцать три спектакля? Правда, некоторые спектакли, например чеховские или «Братья Карамазовы», мы знали по постановкам Художественного театра. Но большинство пьес было нам незнакомо, и, осуществляя их постановку, мы самостоятельно осмысливали и по-своему воплощали замыслы драматургов.
Бывали недели, в течение которых шли, например, такие «премьеры», как «Власть тьмы» Толстого, «Братья Карамазовы» по Достоевскому в два вечера и «Бранд» Ибсена. Все эти четыре спектакля были поставлены мною, причем в «Братьях Карамазовых» и «Бранде» я, кроме того, участвовал и как актер, играя Смердякова и Фогта. Как мы умудрялись справляться с таким объемом работы, причем — смею утверждать это — творческой работы, просто непонятно. И не только непонятно, но временами мне кажется, что не о своих товарищах и не о себе рассказываю я на этих страницах, а о каких-то неведомых нам энтузиастах, полных романтической влюбленности в театр и веры в его высокое назначение. Хорошая, замечательная это была школа!
По окончании сезона черниговцы провожали нас с большой теплотой и любовью.
Проводы на пристани вылились в трогательную последнюю овацию. Адреса, речи и бесконечное количество цветов:
Взволнованные и глубоко тронутые такими теплыми проводами, сидели мы на верхней палубе парохода и вспоминали горести и радости прошедшего сезона. Вдали показался железнодорожный мост, и, когда примерно через час мы проплывали под ним, сверху на нас обрушился дождь из цветов. 105 Это зрители не поленились отправиться за город, на мосту дождаться парохода и в знак последнего прощального привета еще раз забросать нас цветами.
Конечно, если откинуть молодой энтузиазм и жажду самостоятельного творчества, если забыть о романтике, дружбе и товариществе, царивших в нашем деле, то этот наш летний сезон в Чернигове по условиям профессиональной работы, вероятно, ничем не отличался от того, что происходило в то время на провинциальных сценах русского театра.
А разве лучшая плеяда российского актерства не воспитана именно в этих, казалось бы, невозможных условиях театральной работы? Щепкин, Рыбаков, Писарев, Ленский, Варламов, Давыдов, Савина и ряд других крупнейших русских актеров…
У нас, к несчастью, очень мало теоретических трудов, обобщающих огромный и интереснейший опыт работы провинциальных театров и тот сложнейший путь, по которому шло развитие и становление русского сценического искусства. Не претендуя на то, чтобы как-то восполнить этот пробел, я просто хочу коснуться того периода в истории нашего театра, свидетелем и участником которого мне довелось быть. Я счастлив, что знаю его не только по рассказам и описаниям. Мне довелось не только принимать участие, но и быть организатором и руководителем десяти провинциальных сезонов (двух зимних и восьми летних), во время которых мной было поставлено огромное количество спектаклей в самых различных условиях, что и дало мне право в заглавии этой книги поставить цифру «500».
Действительная школа художника — жизнь.
Вряд ли можно рассчитывать на положительные результаты только лабораторной подготовки театральных деятелей, оторванных от главнейшего фактора театрального искусства, от зрителя, которому предназначается наше искусство и знать которого мы, профессиональные работники театра, обязаны точно так же, как законы строения спектакля.
Все эти вопросы значительно сложнее, чем они нам кажутся на первый взгляд.
Немало сильных творческих личностей вырастало в условиях провинциальной работы русского театра и впоследствии становилось украшением русской сцены.
Мы знаем, что Художественный театр родился не на пустом 106 месте, что он обобщил в своем искусстве то лучшее, что было достигнуто великими актерами, рожденными в чудовищных условиях работы на провинциальной сцене. Вот почему, создавая историю русского театра, следует еще внимательнее, еще пристальнее всматриваться в разнообразные, и сложные процессы, происходившие на провинциальной сцене, ибо именно в этих противоречиях и, как мне кажется, пока еще плохо изученных процессах можно найти ответы на многие волнующие нас сегодня вопросы.
Вот почему, рассказывая о живых эпизодах прошлого, связанных с моей работой в провинции, об эпизодах, совершенно незнакомых современной театральной молодежи, мне хочется раскрыть и особенно подчеркнуть в них тот положительный опыт, который приобретали на провинциальной сцене мастера старшего поколения и который мы не вправе забывать, серьезно интересуясь сложнейшей природой театрального искусства.
И, вероятно, одна из серьезнейших проблем, крайне мало нами изученная и разработанная — а именно, проблема зрителя и сцены, — может рассчитывать на успешное решение, если мы хорошо будем знать работу провинциальных театров. Во всяком случае, мы поступим правильно; если воскресим далекое прошлое и попытаемся объяснить причины той великой власти, которой обладал театр над зрителем, несмотря на достаточно примитивные формы спектаклей того времени.
Гагры
Вспоминается летний сезон в Гаграх в 1914 году… В «Школе сценических искусств», той самой школе, где на спектакле «Как важно быть серьезным» М. Г. Савина признала меня как будущего режиссера, группа молодых актеров, оканчивающих курс, уговорила меня поехать с ними куда-нибудь на летний сезон. Выбор почему-то пал на Гагры, хотя мы даже не знали точно, бывает ли в Гаграх летний сезон. Гагры принадлежали принцу Ольденбургскому, и мы отправились к управляющему делами принца, чтобы договориться обо всех подробностях.
107 Штабс-капитан Б. В. Шульгин принял нас крайне любезно. В каких-то вопросах он был, очевидно, не менее легкомысленным, чем мы, и предложил нам удивительно льготные условия, вероятно потому, что в Гаграх никогда не бывало летнего театрального сезона и его самолюбию льстило быть пионером в этом деле.
А условия были таковы: помещение курзала нам давалось бесплатно для трех спектаклей в неделю (ежедневно играть было нельзя из-за небольшого съезда отдыхающих), номера в гостинице были также бесплатные, а в ресторане курзала нам была предоставлена пятидесятипроцентная скидка. Сборы же со спектаклей шли целиком в нашу пользу. Договор на таких условиях был нами подписан, и мы с энтузиазмом начали готовиться к поездке, отдавая все свободное время работе и желая приготовить возможно больше спектаклей, чтобы облегчить себе труд в Гаграх. Ведь в составе труппы были юноши и девушки, только что окончившие школу, а следовательно, и совершенно не подготовленные к труднейшим условиям летних сезонов, когда в неделю нам предстояло показывать три новых спектакля. До отъезда нам удалось подготовить три пьесы и возобновить наш экзаменационный спектакль «Как важно быть серьезным». Всей компанией мы поездом доехали до Новороссийска, а оттуда на пароходе до Гагр.
Первое, с чем мы столкнулись на месте работы, это было известие о том, что у принца Ольденбургского уже новый управляющий, который без всяких церемоний объявил нам, что подписанный Шульгиным договор он попросту «порвал» и что если мы хотим играть в курзале, то за него он будет брать процентов 15 – 20 сбора, что и за гостиницу мы должны платить и в ресторане тоже полным рублем…
На этом окончилась наша беседа, и я покинул дачу нового управляющего делами.
Меня уже не радовали красоты гагринского пейзажа. Солнце зашло за горы, и все мне казалось иным, чем полчаса тому назад.
«Вот она мечта и действительность», — думал я, направляясь к гостинице, чтобы снять номера для актеров.
Забронировав самые дешевые номера и договорившись в ресторане, что по всем счетам я буду платить сам, в мрачном настроении возвращался я к своему коллективу.
108 Не буду ничего им говорить, чтобы не разочаровывать и не потушить тот молодой задор и оптимизм, который они привезли сюда.
— Куда, барин, прикажете? — прервал мои размышления стандартный вопрос извозчика.
«В воздушный замок!» — почему-то захотелось ему ответить, но унылый вид возницы вернул меня на землю.
— К пристани, — мрачно сказал я.
Издали доносился стройный хор молодых голосов. Это наши артисты пели какую-то веселую песню. И, несмотря на то, что южная ночь быстро вступала в свои права, мрак ее не мог победить их веселье.
Репетиции шли хорошо, настроение у всех было прекрасное и боевое, и только ночью в своем номере я подводил баланс и высчитывал, хватит ли моих денег просуществовать до открытия.
Управляющий делами принца не интересовался нашей жизнью и был крайне удивлен, когда появились афиши, извещавшие, что такого-то числа «открывается летний сезон труппы петербургских артистов под руководством члена режиссерской коллегии императорского Александринского театра Н. В. Петрова».
Откровенно говоря, мы даже сами были удивлены, когда увидели расклеенные афиши. А открываться было необходимо, так как «в кассе» оставалось пятнадцать рублей.
Ночь перед открытием была тревожная и бессонная. «Ну, а что будет, если зрители не пойдут на спектакли? Да и есть ли эти зрители в Гаграх? Мы так мало встречали людей в парке…»
Утром я был разбужен пушечным выстрелом. На пристани в Гаграх стояла маленькая пушка, из которой стреляли, когда в свои владения приезжал принц Ольденбургский. «Будем считать, что пушечным выстрелом приветствуют день открытия первого летнего сезона в Гаграх», — решил я.
По коридорам гостиницы оживленно сновали уборщицы и лакеи из ресторана, передавая друг другу какую-то радостную весть.
«Совсем как в “Бесприданнице”», — подумал я и, вспомнив реплику Огудаловой, обратился к официанту, постоянно обслуживающему нас: — «Да кто же приехал?»
— Барин приехал, — буквально по Островскому ответил 109 мне официант. — Борис Викторович Шульгин!.. — и стремительно помчался в ресторан.
Актрисы, работавшие над образом Ларисы, и режиссеры, ставившие «Бесприданницу» Островского, хорошо знают, какое большое внутреннее содержание заключает в себе пауза, когда Лариса во втором акте узнает о приезде Паратова. Думаю, что мои переживания в паузе после полученного известия были не менее сильными, чем у героини Островского, а о масштабах радости, пережитой мною, я мог бы даже наверняка поспорить с любой Ларисой.
Жизнерадостный и с озорным огоньком в глазах штабс-капитан Шульгин весело приветствовал меня через полчаса, хозяйски развалившись в бывшем своем кабинете во дворце.
— Я приехал сюда с большими полномочиями, и жизнь вашу мы наладим, — успокоительно сказал Шульгин, когда я ему подробно рассказал печальную повесть нашего приезда.
Открытие сезона прошло отлично. И весь сезон промелькнул как счастливый сон. Договор был восстановлен в своей прежней форме. Курзал был постоянно полон. Мы все с энтузиазмом работали, и наш скромный творческий труд превратился в радостный праздник.
Приближалось закрытие сезона. Для прощального спектакля мы организовали вечер с программой «кабаре», вспомнив номера «Летучей мыши» и капустники в Художественном театре. На мотив популярного в то время «Пупсика» сочинили прощальную песенку, которую пели вместе со всем зрительным залом. После «кабаре» были объявлены танцы. Продирижировав в последний раз прощальной песней и попрощавшись с публикой, я объявил танцы, а сам пошел в уборную переодеться и немного отдохнуть. Такого рода вечера отнимали очень много сил: приходилось вести программу и бесконечное количество раз переодеваться, участвуя во многих номерах. Но в то же время это была хорошая школа, она приучала беречь каждую секунду, дисциплинировала внимание и поведение актеров не только на сцене, но и во время переодеваний и перегримировок. В молодые годы моей педагогической деятельности у меня существовала даже точка зрения, что актера, который в будущем будет драматическим героем, нужно воспитывать на водевилях для приобретения легкости смены душевных переходов, а актера комедийного плана следует воспитывать на произведениях Достоевского 110 для приобретения понимания глубины и емкости человеческой психики. Об этом нельзя было не подумать, глядя, как Немирович-Данченко дирижировал на капустнике «Прекрасной Еленой», а Станиславский изображал директора цирка.
— Объявляйте вальс и начинайте танцы, а я немного отдохну и переоденусь, — сказал я Вите Мельникову, который был моим помощником в проведении прощального вечера, Раздевшись и обтираясь одеколоном, я прислушивался к тому, что делается в зале. Неожиданно вместо вальса оркестр заиграл гимн.
— В чем дело? Почему играют гимн? — спросил я, высовываясь из уборной.
— Война! — крикнул Мельников и помчался в зал.
— Какая война? С кем? — я чуть не вывалился из дверей в чем мать родила.
Так узнал я о начале войны.
Мы беззаботно распевали «Пупсика» на сцене гагринского театра, а на большом театре военных действий уже звучали первые пушечные выстрелы.
Война
С большим трудом выбрались мы из Гагр, так как первое, что случилось буквально на второй же день войны, — это полнейший развал транспорта. Вокзал Новороссийска был забит тысячами испуганных курортников, ожидавших появления немецкого флота в водах Черного моря и в панике покидавших побережье Кавказа и Крыма.
Да, война сразу изменила всю жизнь… Заехав на несколько дней к сестре в Сумы, я оттуда отправился в Петербург, где и должен был явиться к воинскому начальнику, как зачисленный в запас по «сорок второй категории» (эта категория, как мне уже было известно, с первых дней войны не освобождала от военной службы).
Поезд как назло шел очень быстро. И под мерный стук колес, неуклонно приближаясь к Петербургу, я думал:
«Нет, война не пройдет мимо меня. Как же я к ней отношусь?»
111 Вспоминались подпольные кружки, революция 1905 года, трагический спектакль «На дне» в паровозном депо, арест, тюрьма, Сулержицкий с его принципиальным несогласием отбывать воинскую повинность, последний спектакль в Гаграх…
«А может быть, и я, как Сулержицкий, принципиальна против войны?» — неожиданно мелькнуло в голове. Но после здравого размышления выяснилось, что таковых принципов у меня не обнаруживается. Я, скорее, просто не понимал: почему «я» должен воевать? Но это «я» как-то не распространялось на тех, кто уже воевал и отдавал свою жизнь «за веру, царя и отечество». «А что такое отечество?» Ведь и блестящий инженерский Екатеринбург и Вологда, переполненная политическими ссыльными, — отечество? И либеральная предреволюционная администрация Вологды, а впоследствии Хвостов и рыжий Юрьев — также отечество? И искусство в этом отечестве одновременно вмещает в себя и вяхиревский театр в Вологде, и Московский Художественный театр со Станиславским и Немировичем-Данченко, и сложнейшую величественную машину императорских театров с их «неумирающими традициями».
Были какие-то две, видимо, враждебные друг другу жизни, сосуществующие в этом непонятном отечестве.
Так какая же из этих двух жизней твоя? И не пора ли тебе, в твои двадцать четыре года, ясно поняв и разобравшись во всей сложности жизни, занять ту или иную позицию?
С такими мыслями вышел я из поезда на Николаевском вокзале, нанял извозчика и направился домой.
— Сегодня я, пожалуй, не пойду к воинскому начальнику, так как устал с дороги. Пойду туда завтра или послезавтра… А вдруг завтра война кончится?
Через несколько дней на Невском я неожиданно был остановлен В. Э. Мейерхольдом, который возвращался после летнего отпуска и с корзинами и чемоданами ехал с вокзала.
— Садитесь ко мне на извозчика и едем домой. Там все обсудим, — сказал он после моего краткого изложения событий.
Последний год я работал помощником режиссера у Всеволода Эмильевича. Текущей нашей постановкой был «Маскарад» Лермонтова, который мы репетировали весь прошлый сезон и должны были выпустить в середине этого сезона. 112 Мейерхольд обожал создавать события не только из своих премьер, но также из самого процесса репетиционных работ, и он не допускал даже мысли, что может лишиться помощника, в руках которого была сосредоточена вся организационная сторона будущего, очень сложного спектакля.
— Я поговорю с Теляковским, и он возбудит ходатайство об освобождении вас, — сказал Мейерхольд, после того как привел себя в порядок с дороги и Ольга Михайловна, его жена, накормила нас завтраком.
— Как ты думаешь, Таки? Ведь освободит Теляковский Колю? — обратился он к своей таксе, которая ласково вертелась около его ног.
— Всеволод Эмильевич, но Теляковского нет сейчас в Петербурге. Он в Москве, — сказал я, далеко не разделяя радости Таки и ее хозяина.
— Жа-а-а-ль, — протяжно произнес он, мгновенно изменив ритм поглаживания Таки.
Всеволод Эмильевич обладал великолепным актерским качеством — способностью мгновенно, почти молниеносно изменять настроенность и ритмы внутренней жизни.
— Как же нам быть, Таки? — вновь обратился он к таксе, посадив ее к себе на колени и ласково поглаживая.
Таки довольно долго не отвечала, а Мейерхольд продолжал ее гладить, внимательно глядел ей в глаза и как будто действительно ожидал от нее ответа.
Мейерхольд умел из всякого пустяка в жизни устраивать театр. Так и сейчас он прекрасно разыграл сцену разговора человека с собакой.
— Одевайтесь и едемте! — неожиданно сказал Мейерхольд, опуская таксу на пол.
— Куда?
Но расспрашивать и разговаривать с Мейерхольдом в такие минуты было бесполезно. За годы совместной работы я хорошо изучил его привычки. Он любил, чтобы ему точно и четко подыгрывали в той театральной сцене, которую он начинал играть. Мы вышли на улицу.
— На Царскосельский вокзал, — обратился. Мейерхольд к извозчику, как-то гипнотизирующе глядя на него.
— Пожал-те, тридцать копеек, — отвечал извозчик, не очень-то принимая как партнер таинственную игру Мейерхольда.
113 — Даже тридцать пять, — торжественно ответил он и величественно взгромоздился в пролетку.
Мейерхольд продолжал играть сцену «таинственности». В пролетке он сидел молча, приняв одну из поз химер на парижском соборе «Notre Dame».
«Ага, — подумал я, — мэтр предлагает играть сцену “таинственности” в ключе французской мелодрамы. Очень хорошо». Поигрывая тросточкой, я постарался принять образ легкомысленного француза.
— А куда мы едем, Всеволод Эмильевич? — рискнул спросить я его, когда мы сходили с пролетки у Царскосельского вокзала.
— Тс-с-с-с! — таинственно отвечал Мейерхольд, не выходя из образа и заплатив извозчику сорок копеек.
— Покорнейше благодарим, ваше сиятельство! — ошеломленный щедростью, извозчик немедленно возвел Мейерхольда в княжеский титул.
— А как вы думаете, многоуважаемый, поможет нам с Кокошей Головин? — продолжал игру с извозчиком Мейерхольд.
— А как же-с, обязательно поможет, — неожиданно ответил возница. — Пусть Кокоша, ваше сиятельство, не волнуется.
— Вот видишь, Коля, извозчик сулит нам успех, — сказал Мейерхольд, сбрасывая маску химеры и быстро направляясь к билетной кассе.
Все стало понятно. Мы ехали к Головину, который был художником «Маскарада» и которого очень любил Теляковский, постоянно считаясь с его советами. Это он рекомендовал Теляковскому пригласить в императорские театры Мейерхольда.
Вспоминаю, как внимательно выслушал Александр Яковлевич рассказ Мейерхольда и сразу же предложил поехать в город на телефонную станцию, вызвать Москву и поговорить с Теляковским.
События мчались с необычайной быстротой, чему, несомненно способствовал Всеволод Эмильевич, нет-нет да и переключавший скучную прозу в план театральной игры, лицедействовали в которой оба замечательных художника.
Сухощавый, всегда порывистый в движениях, нарочито сутулящийся, небрежно одетый, с откинутой назад головой 114 и с взлохмаченными волосами, падающими на лоб, Мейерхольд был полной противоположностью Головину, всегда изысканно одетому, плотному, высокому и барственно вежливому. Седые великолепные волосы всегда были аккуратно расчесаны на прямой пробор, а пушистые седые усы всегда благоухали фиалкой.
Через час я уже знал, что Теляковский согласен удовлетворить просьбу Головина и Мейерхольда, а через день получил в конторе императорских театров бумагу на имя начальника мобилизационного управления генерала Добровольского, которую Мейерхольд лично отвез генералу и получил на ней резолюцию: «Освободить на неопределенное время». И когда он его спросил — что значит «неопределенное», то генерал ответил «время окончания войны».
Театр во время войны
Откликнулись ли театры на военные события?
Да, откликнулись.
В первый же год войны было написано больше сорока пьес, затрагивавших трагические события. Все эти пьесы были посвящены героизму и благородству русского человека и коварной подлости немцев. Однако плакатность и низкий художественный уровень этих пьес не дали возможности сохранить в памяти даже их названия. Но четыре из них имели успех у зрителя и прошли почти на всех сценах русского театра.
«Реймский собор» и «Позор Германии», написанные Гр. Гр. Ге, широко шли на всех провинциальных сценах. «Девушка-кавалерист» Юр. Беляева, поставленная Н. Н. Евреиновым как феерическое патриотическое обозрение на сцене бывшего театра Комиссаржевской, на Офицерской улице, и пьеса Леонида Андреева «Король, закон и свобода», принятая Александринским театром для постановки, — вот те четыре пьесы, которые сохранила память из того бурного потока драматургической макулатуры, который промчался по всем русским сценам. Быстро промчался и так же быстро исчез.
Спектакль «Король, закон и свобода» ставился в Александринском театре в очень короткие сроки, как первая постановка 115 сезона. Ставил спектакль А. Н. Лаврентьев, а я был назначен помощником режиссера, но ввиду спешности Лаврентьев поручил мне как режиссеру поставить две сцены из этого спектакля.
Сцену в немецком штабе и сцену четырех женщин-беженок я должен был самостоятельно подготовить и сдать ему как постановщику всего спектакля. Вполне понятны и энергия, и инициатива, и энтузиазм, которые я вложил в это, пускай, маленькое, но все же творческое поручение.
Сцену женщин-беженок я решил в ключе символической условности, которая, конечно, не вязалась с общей тональностью спектакля, но все же сохранилась в моей редакции, так как не было времени для переделок. Когда собрался весь спектакль, мы все — и я и участники — хорошо поняли нашу ошибку, но все же любили ее, памятуя свою взволнованность во время работы над этой сценой.
— Пойдемте на сцену вещать нашего «Метерлинка», — приглашал я четырех актрис во время спектакля, и они добросовестно, задерживая стремительное действие событий, вещали свои реплики. Зато сцену в немецком штабе мне удалось не только правильно решить, но и интересно сценически воплотить это решение.
Заседание штаба по пьесе происходило в тот момент, когда бельгийцы открыли плотины и стремительные потоки воды поглощали немецкие войска и технику. Мне казалось, что в данной сцене события, развертывающиеся в актерских диалогах, являются лишь отражением тех героических событий, которые свершаются за сценой. Так впервые в моем понимании вопросов режиссуры родилось понятие о «внесценическом действии», впоследствии разработанное в постановке «Вишневого сада» в Харькове в 1935 году.
Все свое внимание режиссера я сосредоточил на разработке шумовой партитуры, которая должна была создать иллюзию героического подвига бельгийского народа.
Вся эта шумовая симфония создавалась с помощью фисгармонии, большого барабана-ворчуна, который до сегодняшнего дня существует на сцене театра имени Пушкина, деревянных трещоток, звук которых имитировал ломающиеся деревянные устои, грома листового железа, музыки и словесной партитуры текста, специально написанной мною для пятидесяти человек статистов. Пыл использован также обычный 116 сценический гром-обвал и в довершение всего на сцене были установлены два огромных металлических бака, в которые в последнюю минуту, в момент кульминации этой шумовой симфонии, из четырех шлангов пускалась настоящая вода.
Долго работал я над этой шумовой сценой, пока не до бился ее точного звучания. Шумовая сцена шла в финале картины и была рассчитана на три минуты, в течение которых на сцене произносились только три последние реплики. Для этих реплик в шумовой симфонии были точно обозначены три паузы — цезуры, после которых шло еще большее нарастание звучания «прорыва плотины».
Актеры довольно скептически относились к этой моей затее, так как я репетировал шумы без них, до тех пор пока сам не убедился в нужном и точном их звучании. И вот на одной из последних отдельных репетиций этой сцены, не предупредив актеров, я включил все приготовленные шумы. Успех превзошел даже мои ожидания. Финал сцены — бегство немецкого штаба — мы никогда не репетировали, и актеры говорили: «Вот когда услышим вашу шумовую симфонию, тогда и сыграем», — и вот на этой репетиции они действительно сыграли эту сцену так, что мне даже не пришлось ее ставить, а просто попросить зафиксировать все то, что они неожиданно и для самих себя и для меня проделали на сцене. Актеры так правдиво и убедительно бежали в панике со сцены, что правдивости их поведения мог бы позавидовать даже Художественный театр.
Конечно, за все, что я сделал в этой сцене, я должен быть благодарен Художественному театру, где на практике личного участия в подобных сценах я приобрел навыки, используемые мною в этой постановке. И закулисный пожар в «Трех сестрах», и пролог и эпилог «Анатэмы», и массовые сцены в «Бранде», и появление призрака в крэговском «Гамлете» — все это были великолепные уроки, многому меня научившие.
Вся сцена в штабе шла четырнадцать минут. Она была построена, как три части музыкального произведения. Первая часть, чисто текстовая — десять минут, вторая часть, шумовая, с текстом трех реплик — три минуты, и третья часть финальная — одна минута форте-фартиссимо звучания шумовой симфонии, когда реальная вода била в железные баки.
117 Бегство немцев уже само по себе вызывало аплодисменты зрителя, и эти аплодисменты не смолкали, а усиливались, когда шла финальная минута картины, так как теперь зритель уже аплодировал героическому поступку бельгийского народа.
Эта работа впервые родила мысль, что вниманием зрительного зала возможно управлять, а также и подчинять его тем событиям, которые развертывались на сцене.
«А не существуют ли какие-нибудь законы этого внимания?» — думалось мне, когда я уже как помощник режиссера вел этот спектакль и очень хорошо ощущал, что зритель своим поведением так же послушен мне, как и создаваемая шумовая симфония на сцене. Я великолепно и безошибочно знал, что вот сейчас включенный сигнал родит на сцене гром обвала, вплетающийся в общий ход симфонии, и что на сцене актеры в панике метнутся удирать и что здесь зрительный зал зааплодирует, а дальше начиналось любопытнейшее соревнование не желающего замолкать зрительного зала и усиливающегося шума подлинного потока воды.
Эти неразрывность и закономерность взаимовлияний сценических элементов невольно рождали мысль о существующей, но совершенно не изученной закономерности поведения зрительного зала, который не является чем-то изолированным от всех компонентов спектакля, а также являет собой одну из неотъемлемых частей сложного театрального организма.
Война сорвала большинство летних сезонов 1914 года. Антрепризы лопались, многие актеры сразу же были мобилизованы, труппы разваливались, и среди актерского мира царила тревога.
Но прошел год, война прочно вошла в быт, большинство зимних провинциальных сезонов прошло более или менее благополучно, и приближавшееся лето вновь манило возможностью интересной большой работы. Мы сорганизовали молодежное товарищество актеров Александринского театра, привлекли молодежь из театральных школ и решили поехать в Сумы. Мы знали, что в Сумах в летнем театре будет играть профессиональная труппа, но это нас не пугало. Мы были уверены, что своей серьезной творческой работой, своими постановками мы покорим сумчан и выиграем соревнование. 118 Большинство из нас были обеспечены годовым жалованьем в Александринском театре и интересовались главным образом творческой работой.
Было организовано товарищество, и мы решили жить «коммуной». Тринадцатый пункт устава так и гласил: «Принцип жизни коммунистический», а в четырнадцатом пункте, где были объявлены руководители товарищества, написано: «Действия вышеозначенных товарищей критике не подлежат». Так мы тогда понимали этот принцип.
Желая придать нашему делу больший художественный вес, мы решили привезти с собой симфонический оркестр. В свободные от спектаклей дни он должен был давать симфонические концерты в саду, где решено было построить раковину.
И если все члены товарищества, как члены коммуны, на свои марки получали деньги только в том случае, если оставались излишки после всех расходов, то наш симфонический оркестр имел гарантию, то есть оркестранты просто получали жалованье.
Выехав в Сумы раньше других, я снял две большие квартиры, обставил их, нанял кухарок и горничных. Для наших спектаклей я снял зимнее помещение «благородного собрания», а в саду выстроил раковину для оркестра, затратив на нее почти все имевшиеся деньги.
Вечерами же, до приезда товарищей, я ходил в летний театр и смотрел спектакли труппы, с которой мы решили вступить в соревнование. В антрепризе А. А. Сумарокова труппа была для летнего дела сильная, а в саду в антрактах играл духовой оркестр.
Спокойный, уверенный ход машины сумароковского сезона внушал мне некоторую тревогу, и где-то в глубине души нет-нет да и возникали сомнения по поводу нашей затеи.
Наконец труппа съехалась.
Все были довольны приготовленным жильем и с энтузиазмом принялись за работу. Художники писали эскизы и сооружали декорации. Начались репетиции трех пьес сразу, оркестр готовил свою программу, административные работники сочиняли афишу. В ней жители Сум извещались о том, что в составе вновь прибывшей труппы находится семь артистов императорских театров — явление для летнего провинциального сезона по тем временам очень редкое.
119 Гастроли артистов императорских театров могли быть, но чтобы они приехали на целый летний сезон, — в это сумчане верили мало. Не поверил в это и исправник, отказавшийся подписать нашу афишу к печати.
— Не может быть, чтобы артисты императорских театров приехали на сезон, да еще в город, в котором уже играет труппа в летнем театре. Тут дело не чисто, — безапелляционно говорил он.
Ему показывали устав товарищества, показывали паспорта, выданные конторой императорских театров, но и это не помогло.
— А почему они живут какой-то коммуной? И что это еще за коммуна?
Пусть не удивляется читатель такому отношению начальства к приезжим актерам, ибо это было в те времена, когда приезд новой труппы и поиски актерами комнат для жилья всегда сопровождались беспокойством в городе и перекличкой кумушек.
— Марфа Семеновна! Снимай белье с веревок! Артисты приехали!
Неизвестно, чем бы кончилась наша борьба с исправникам, если бы случайно у одной из наших актрис, Н. В. Ростовой, дочери сенатора Варварина, не оказался знакомый харьковский губернатор.
Исправник получил предписание: «Препятствий не чинить и оказывать всяческое содействие».
Он сам принес к нам это предписание, пыхтел, краснел, заикался, будто играл городничего в первой встрече с Хлестаковым. Может быть, и вправду было что-то хлестаковское в этой нашей затее с Сумами, хлестаковское в смысле бесконечного легкомыслия. Во всяком случае, легкость в поступках у нас была необыкновенная, и это не замедлило сказаться на положении наших дел. По совести говоря, играли мы неплохо, у нас даже были спектакли, поставленные и сыгранные действительно творчески, оркестр исполнял разнообразную музыкальную программу, но сумчане все же охотнее ходили в летний театр и боязливо озирались на то, что делалось в зимнем помещении «благородного собрания».
Каков же был наш репертуар? И «Шут Тантрис» Эрнста Хардта, и веселая джеромовская комедия «Мисс Гоббс», и инсценированный мною «Идиот» Достоевского, и «Вишневый сад» Чехова, и «Севильский кабачок» Нозьера, и «Цена жизни» 120 Немировича-Данченко, и «Выстрел» Алексея Толстого — право же, были хорошими и даже творчески значительными работами. Нам просто не хватило времени привить сумчанам интерес к нашему несколько неожиданному для них искусству, хотя к концу сезона они привыкли и даже очень полюбили нас, но было уже поздно: мы окончательно прогорели.
Мы аккуратно выплатили зарплату оркестру, оплатили все расходы по «коммуне», но в последние дни сезона сами едва сводили концы с концами и вынуждены были реквизировать деньги, которые получали некоторые наши актрисы от своих мужей.
Когда мы заканчивали сезон в Сумах, неожиданно появился В. Н. Всеволодский-Гернгросс, наш товарищ по Александринскому театру, с которым мы совместно проводили летние сезоны 1912 и 1913 годов в Евпатории и Симферополе.
Выяснилось, что он снял на полтора месяца летний театр в Севастополе, но ему не удается сформировать труппу. Он знал о наших неважных делах и предполагал, что мы, как это и было в действительности, не дотянем до конца. Вот у него и возникла мысль уговорить нас поехать с ним в Севастополь.
В Севастополе сильно чувствовалась война. Город был затемнен, опасались появления немецкого флота в водах Черного моря. Спектакли в Севастополе начинались в шесть часов вечера и оканчивались к девяти. Хождение по городу позднее строго запрещалось.
Не буду подробно останавливаться на этом сезоне, так как он был в основном повторением сумских спектаклей и новыми среди них были лишь те, в которых принимали участие В. Н. Всеволодский-Гернгросс и Татьяна Павлова, единственная актриса, которую ангажировал Всеволодский до встречи с нами.
Режиссерский дебют на императорской сцене
Патриотический подъем, в начале войны охвативший довольно широкие круги, постепенно спадал.
Леонид Андреев, давший театру в первые месяцы войны пьесу «Король, закон и свобода», в 1915 году предложил театру пьесу «Тот, кто получает пощечины». Арена мировой войны — место сценического действия первой пьесы — заменилась ареной цирка. Вместо короля Альберта 121 героем новой пьесы Андреева был клоун «Тот», который на арене получал пощечины.
Постановку новой пьесы Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины» руководство театра поручило мне, молодому человеку, исполнявшему до того в театре обязанности помощника режиссера.
Это было более чем неожиданно. Почему мне было оказано предпочтение перед шестью профессиональными режиссерами?
Почему пьеса самого «модного» драматурга, участие которого в репертуаре обеспечивало театру не только художественный, но и материальный успех, почему его новая пьеса была отдана в руки помощника режиссера?
Такие вопросы, естественно, возникали в театре и страстно обсуждались за кулисами. А произошло это так.
В один прекрасный день после репетиции меня попросил зайти к себе в кабинет главный режиссер Александринского театра А. Н. Лаврентьев. Разговор был предельно коротким.
— Хотите? — спросил он меня. — Беретесь?
Я пролепетал что-то невразумительное.
— Только вот что, — прибавил, подумав Лаврентьев, — вы никому об этом не говорите, а я официально сообщу о том, что ставите вы, в день первой репетиции.
Радость, что я получил постановку пьесы модного драматурга, затмила мои способности размышлять. Схватив пьесу и поблагодарив за доверие, я помчался домой.
Репетиции должны были начаться через пять дней.
Вновь и вновь перечитывал я пьесу, восхищаясь ею. Вновь перечитывал, вновь размышлял и вновь восторгался стихией иррационального, которая была присуща Л. Андрееву как драматургу и которой в те годы мы, молодые работники театра, очень увлекались. Это казалось нам признаком культуры и хорошего вкуса.
Проник ли я как режиссер в идейную сущность пьесы и понимал ли ее до конца?
Разумеется, нет.
Меня увлекал протест Тота, который, уйдя на манеж, бросал вызов своему обществу. В те далекие времена любой протест сам по себе рассматривался как явление прогрессивное, а отсюда и пьеса казалась мне глубокой и омелой. Вот 122 только ясности и конкретности в вопросе о том, кому же был брошен этот вызов, у меня, конечно, не было.
Поразмыслив над пьесой и найдя, как мне казалось, общее решение будущего спектакля, я сел за изготовление макета.
Через пять дней макет был готов, и я считал, что вполне вооружен образной идейно-художественной концепцией будущей постановки, которую и собирался подробно изложить участникам спектакля.
Лаврентьев одобрил макет, но даже не поинтересовался моим пониманием и толкованием пьесы и попросил меня подождать за кулисами, а сам уверенно направился на сцену, где собрались участники спектакля.
— Господа, постановку пьесы Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины» мы решили поручить нашему молодому коллеге — Николаю Васильевичу Петрову.
Услышав свою фамилию, я вышел из-за кулис, подошел к режиссерскому столу и поставил на него макет.
Очевидно, когда городничий произносит свою первую фразу: «… Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие…» — должна образоваться именно такая пауза, которая возникла на сцене после слов Лаврентьева. Я стоял около стола, ощущая что-то недоброе. Актеры полукругом сидели напротив и молчали.
И вдруг Роман Борисович Аполлонский, который должен был играть роль Тота, медленно поднялся, подошел к столу, вынул из кармана роль и, положив на стол, сказал: «Ну, пусть сам и играет». Повернулся и направился к выходу. Лаврентьев бросился за ним, а мы, все участники и я, так и остались друг перед другом.
Я до сих пор не знаю, длилась ли эта пауза пять минут или полчаса, но мне она тогда показалась вечностью.
Когда казалось это тягостное молчание дольше уже не может длиться и неминуемо должно что-то произойти, — на сцене появились Аполлонский и Лаврентьев. Я вздохнул.
Аполлонский подошел к столу, сел и, зло глядя на меня, спросил:
— Ну-с, молодой человек, как же вы предполагаете ставить?
Я быстро повернул макет к Аполлонскому, включил свет, подготовленный мною внутри макета, и начал объяснять. Это 123 было новшество, ибо в Александринском театре режиссеры никогда не клеили макетов. Постепенно актеры подошли ближе я с детским любопытством смотрели на макет, как на занимательную игрушку. Поймав эти заинтересованные взгляды, я ухватился за них и начал бойко демонстрировать возможности макета. Аполлонский экзаменовал меня, спрашивая: где будет происходить та или иная сцена, откуда он выходит в первом акте, как будет построен его финальный выход? Последовало еще много других вопросов, которые должны были обнаружить мою подготовленность или неподготовленность к работе. Очевидно, ответы удовлетворили Аполлонского, и он, уже более или менее примирительно, заметил:
— Ну что ж, и такое бывает. Посмотрим.
Настал день первой читки. Все сели за стол. Актеры вынули свои роли, суфлер взял экземпляр и началась обычная сверка текста. Когда дошли до сцены выхода Тота, Р. Б. Аполлонский вынул из кармана роль и, не раскрывая, положил ее на стол. Я похолодел, ожидая нового инцидента. Но Аполлонский, продолжая сидеть, произнес первые фразы своей роли. Суфлер встрепенулся и начал подавать текст. Роман Борисович, не глядя на него, поднял руку, и когда Кондрат Яковлев стал довольно невнятно, как актеры обычно читают на первых читках, произносить свою ответную реплику, он повернулся к суфлеру и сказал: «Не подавайте мне». Все удивленно взглянули на него, а он, как будто это было чем-то само собой очевидным, продолжал наизусть говорить текст своей роли.
В перерыве Аполлонский победоносно оглядывал всех удивленно смотрящих на него актеров и говорил: «Ведь мы же профессионалы, а не дилетанты. Ведь дело не в словах, а в мыслях, заключенных в них, в поступках. Сидя за столом, я хочу общаться с интеллектом партнера, а не с людьми, механически читающими текст роли. Я должен знать текст наизусть. Он мне не должен мешать: не он господин надо мной, а я над ним».
С этого спектакля Аполлонский установил для себя новую форму творческого поведения на репетициях. Он приходил на первую читку, зная наизусть не только свою роль, но и всю пьесу, что несомненно повышало ответственность режиссера, работавшего с ним.
124 Участие Аполлонского, великолепный состав других исполнителей (И. Уралов, К. Яковлев, И. Лерский, П. Лешков, Л. Вивьен, А. Усачев, Н. Смолич, Е. Тиме, Н. Коваленская) и моя жизнерадостная энергия помогли создать в репетиционной работе творческую атмосферу. Спектакль, по моим предположениям, обещал быть интересным.
Оставались считанные дни до премьеры. Приближалась генеральная репетиция, но всех нас не удовлетворял последний акт. Я, конечно, не мог в то время точно определить, что именно не удовлетворяло, но в развязке спектакля мне хотелось иного звучания. Теперь бы я это просто определил: последний акт требовал более смелого и острого публицистического решения. Интуитивно ощущали это и актеры Мы все понимали, что финал следовало бы играть иначе, но как? Я не мог тогда точно сформулировать решение финала.
Однажды на одной из репетиций, накануне генеральной, я высказал найденную, как мне тогда казалось, свежую и интересную мысль: «Философию нужно играть действенно, а действие — философски». Я точно помню сейчас эту формулу, хотя с тех пор прошло много лет. Я был убежден, что актеры радостно и благодарно примут мою находку и сразу же сыграют в соответствии с этой формулой.
Но от таких высказываний режиссера актеры начинают грустить, сохраняя к постановщику только видимость уважения, а в душе проклиная его за то, что он только морочит им голову, вместо того чтобы расшевелить, организовать и направить их фантазию, раскрепостить творческую природу и предложить им те конкретные сценические действия, которые одни только и способны привести актера к тому, о чем мечтает режиссер. Тогда я этого не знал и был убежден, что благодарности не будет конца.
Но актеры уныло смотрели на меня, не понимая, чего я от них хочу. Видя свой полный провал и посрамление, я начал критиковать Андреева за неудачно написанный последний акт. Когда мои претензии переключились на драматурга, актеры оживились, так как был найден виновник, а мы — режиссер и актеры — следовательно, не виноваты. Видя их оживление и желая сохранить для хода предстоящей репетиции именно это оживленное настроение, я еще подбавил жару и со всей самоуверенностью, свойственной молодости, начал 125 уже попросту ругать Андреева. Я сказал, что «Андреев сам не понимает, что он написал».
Неожиданно А. Усачев, стоявший прямо против меня, выразительно мигнул мне глазом и посмотрел через меня, я повернулся и… сзади, в нескольких шагах от меля, стоял Леонид Андреев. Он только что приехал из Москвы после премьеры «Тота».
Не удостоив меня даже взглядом и слегка поклонившись участникам, он проследовал через сцену в кабинет главного режиссера. Я пришел в себя только после того, как раздался стук металлической двери, захлопнувшейся за оскорбленным автором.
Не скажу, чтобы я очень уверенно вел последние репетиции, на которые Андреев даже не приходил. Он появился в театре только на генеральной репетиции, которую принимала дирекция императорских театров.
Несколько слов об этой репетиции.
Дело в том, что когда стало известно, что меня назначили постановщиком «Тота», все помощники режиссера отказались вести этот спектакль. Я в радостном возбуждении, окрыленный счастьем предстоящей самостоятельной работы, даже не обиделся на это: «Ну что же, я сам поведу спектакль».
На обыкновенных репетициях все было просто, но когда приблизилась генеральная, пришлось задуматься. Ведь смотреть-то генеральную репетицию я должен из зрительного зала, — как же пойдет репетиция, кто ее поведет?
И вот я решил вести генеральную репетицию сам из зрительного зала. Была изготовлена распределительная доска, на которой размещены двадцать четыре рубильника с контрольными лампами, проведены сигналы в двадцать четыре сценические точки, определяющие места выходов, закулисного оркестра, шумовой аппаратуры, шумящей группы статистов, работу осветительной будки, дежурного у занавеса, суфлера и вообще всех тех мест, с которыми должен быть связан помощник режиссера, ведущий спектакль.
Около каждой сигнальной лампочки были вывешены таблицы последовательности выходов или музыкальных номеров, или шумов, и, таким образом, получился пульт управления, сидя за которым я мог руководить всем происходящим на сцене из зрительного зала.
126 Входящая публика удивленно рассматривала странное сооружение с двадцатью четырьмя рубильниками и двадцатью четырьмя контрольными лампами, установленное на режиссерском столе.
Зал был полон. Часы показывали двенадцать. Репетицию пора было начинать.
Когда я (сознаюсь, с большим волнением) сел за пульт и в последнюю минуту решил проверить сигнализацию, в зал вошли директор императорских театров В. А. Теляковский и Леонид Андреев.
Даже не взглянув на меня и на мое сооружение, Андреев прошел мимо режиссерского стола и сел в первых рядах партера, а Теляковский, крайне заинтересовавшийся новым изобретением, сел за режиссерский стол.
12-й рубильник включен и выключен — начал потухать свет в зрительном зале.
14-й рубильник включен и выключен — занавес медленно пошел вверх.
7-й рубильник включен и выключен — зазвучала песенка на двух флейтах пикколо «Тилли и Полли».
5-й рубильник включен и выключен — Смолич и Усачев, наигрывая свою песенку «Тилли и Полли», появились на сцене.
Все шло благополучно, пульт управления работал безотказно. Генеральная репетиция прошла успешно. Теляковский благодарил, но я до сих пор и не знаю, что же ему больше понравилось: спектакль или вспыхивающие и гаснущие контрольные лампочки на пульте управления и послушное им безотказное действие на сцене.
После окончания репетиции Андреев подошел к Теляковскому, не ответив на мой поклон, поговорил с директором и вышел из зала.
Через день состоялась премьера. Спектакль имел большой успех, который возрастал, по мере того как на сцене развертывались сценические события. После третьего акта Аполлонскому и Андрееву поднесли огромные лавровые венки. С венками в руках они выходили много раз на аплодисменты зрителей.
В императорских театрах было установлено твердое правило, согласно которому на аплодисменты подымать занавес можно было только три раза, а если зритель продолжал аплодировать, 127 то исполнители выходили на вызовы перед занавесом.
Итак, триумфаторы выходили, зал неистовствовал, а на сцене, около занавеса, стоял постановщик спектакля и деловито исполнял обязанности помощника режиссера.
Я прислушивался к овациям и, выждав полагавшуюся паузу, командовал: «Пошли еще раз».
После конца спектакля Теляковский вызвал меня в директорскую ложу и сообщил, что со следующего года со мной будет заключен контракт как с режиссером. Конечно, я был в восторге.
Это было 15 декабря 1915 года, а в апреле 1916 года, когда меня вызвали в контору для подписания контракта, мне был предложен трехгодичный контракт на прежних условиях, как помощнику режиссера.
Два года спустя, встретившись с В. А. Теляковским, после революции работавшим кассиром на одном из ленинградских вокзалов, я спросил его об этом непонятном акте дирекции, а кстати и о том, почему мне, молодому человеку, предложили такую ответственную постановку.
— Ни один из режиссеров не хотел браться за эту пьесу. Цирковой манеж на сцене императорского театра! Есть в этом что-то противоестественное. Вся режиссура считала, что на премьере непременно будет скандал. И никто не хотел связывать свое имя с возможным скандалам, — сказал Владимир Аркадьевич.
128 Глава 4
«Маскарад»
Премьера «Маскарада» Лермонтова, которая готовилась в Александринском театре более пяти лет, состоялась 23 февраля 1917 года. Постановщиком этой большой театральной работы был Всеволод Мейерхольд, а художником А. Я. Головин.
Я коснусь только некоторых эпизодов, связанных с постановкой этого спектакля и освещающих нашу тогдашнюю театральную жизнь.
Прежде всего хочется внести ясность в понятие о сроке. Конечно, работа над «Маскарадом» не была ежедневной в течение пяти лет, а шла с перерывами. Иногда репетировали месяца два-три, потом откладывали на месяц-два. Затем опять репетировали, и опять откладывали. Бывало и так: репетировали полгода и полгода не прикасались к работе. За период постановки «Маскарада» Мейерхольд выпустил несколько других спектаклей.
Откладывания и затяжки обусловливались разными причинами. Менялись исполнители (Нину репетировала Н. Г. Коваленская, затем И. А. Стравинская, а под конец для выпуска спектакля была введена Е. Н. Рощина-Инсарова); менялся композитор (поначалу вся музыка к «Маскараду» была 129 написана М. А. Кузьминым, но через два года вновь заказана А. К. Глазунову); наконец, очень задерживала вся монтировочная часть. Такого объема изготовляемых предметов для спектакля русский театр, я думаю, не видел никогда. Триста тысяч золотом стоила эта постановка. Масштабы и размах творческой затеи были грандиозны, да и репетировали более чем с комфортом.
Вспоминаю, как великий пост 1916 года был специально посвящен записи массовой сцены второй картины — маскарада у Энгельгардта. Запись проводилась по музыкальной партитуре и по текстовым репликам. Была создана своеобразная картотека распланировки людей в каждую последующую секунду. Около восьмисот карточек фиксировали точные планировки полутораста человек, которые были заняты в этой картине.
И вот этот семинедельный кропотливый труд был однажды забыт нами в ресторанчике «Франческа-Тани», в которой мы с Мейерхольдом ели макароны. Никакие розыски не дали положительных результатов, и почти вся полуторамесячная работа пропала даром.
Мейерхольд обладал необыкновенной силой фантазии и мог на репетициях творчески импровизировать на любую предложенную тему, но в то же время он безумно любил педантизм в работе и тщательно готовился к репетициям.
После обеда он приглашал меня в кабинет, закрывал дверь, освобождал письменный стол от посторонних предметов и раскладывал на нем листы белой бумаги. Затем текст картины разрезался по отдельным репликам, и вот тут-то начиналось самое интересное.
Сделав в кабинете приблизительную планировку нужной картины, Мейерхольд начинал играть за всех исполнителей. Эти часы, пожалуй, были самыми интересными из всего того, что я видел в работе Всеволода Эмильевича. Его безудержная фантазия создавала такие интересные сценические решения, какие мне очень редко удавалось видеть впоследствии у актеров.
Невольно возникал вопрос: а чего в Мейерхольде больше — актера или режиссера? Вопрос возникал закономерно, так как все режиссерские решения у него рождались от «актерского проигрывания», причем проигрывание это конкретно и точно мотивировалось и было глубоко реалистично. Впоследствии, 130 когда в Мейерхольде видели только лишь формалиста, я часто вспоминал вот эту самую его «домашнюю» лабораторию и внутренне не мог согласиться с односторонней оценкой творчества этого большого художника.
После того как выгородка была готова, Мейерхольд начинал один проигрывать весь текст за всех исполнителей. Аксессуарами у него были цилиндр, шляпа, кепка, тросточка, перчатки, монокль, веер, шарф, лорнет. Их ему оказывалось вполне достаточно, чтобы раскрывать образную сущность бесконечного количества человеческих характеров.
— Я сейчас буду играть, — объявлял Всеволод Эмильевич, — а вы раскладывайте реплики на листах белой бумаги и оставляйте расстояние между ними в зависимости от моей игры.
Приклеивать их мне не разрешалось. Это проделывал сам Мейерхольд, после того как он оканчивал игру.
Легкая возбудимость, артистизм, безграничная вера в предлагаемые обстоятельства и необыкновенная фантазия — вот неотъемлемые качества Мейерхольда-художника — вот почему все его творчество было так театрально.
Мейерхольд далеко не всегда был удовлетворен моим раскладыванием реплик. И если даже мне удавалось точно уловить время предлагаемой мизансцены, он часто перекладывал вырезанную реплику с правого края бумаги на левый или с левого на правый.
Итак, реплики разложены, между ними различных размеров просветы белой чистой бумаги. Тут начинался следующий этап подготовительной работы.
— Коля, намазывайте реплики клеем! — командовал Мейерхольд, и я послушно брался за кисточку.
Расклеив на отдельных листах реплики с пропусками для вписок, рисунков и чертежей, Мейерхольд раскладывал их в порядке на полу, садился в кресло и вновь молча как бы проигрывал весь текст, но уже сидя на месте, а не действуя в пространстве. Пространственные действия он, видимо, проверял непрерывностью внутренней жизни.
Затем все листы вновь укладывались в порядке на стол, Мейерхольд вооружался красным и синим карандашами и начинал прочерчивать белые куски бумаги, которые оставались между репликами. Туда же вносились и мизансцены, прочерчиваемые чернилами.
131 Листы приобретали красивый и таинственный вид, и когда они были обработаны полностью, Мейерхольд прикалывал их на стену, будто это были картины на выставке, вновь садился в кресло и погружался в созерцание содеянного.
— Ольга Михайловна! — неожиданно кричал он, — зайди на одну минуточку!
Дверь отворялась, но прежде в комнату проскальзывала такса.
— Ну, как? — обращался Всеволод Эмильевич к жене.
Ольга Михайловна обычно молча оглядывала проделанную нами работу и звала ужинать.
Когда на другой день Мейерхольд приходил на репетицию и я раскладывал на режиссерском столе в порядке все подготовленные листы, то он иной раз в них даже не заглядывал и делал все наоборот.
Способность Мейерхольда за лаконичным текстом видеть необычайные и разнообразные возможности его сценического воплощения была огромна. Однажды, когда Н. В. Смолич не очень охотно репетировал роль чиновника из четвертой картины, Всеволод Эмильевич вдруг набросился на него, увлек его своей фантазией и почти доказал, что роль чиновника является чуть ли не главной в «Маскараде». У Мейерхольда хватило терпения и фантазии репетировать эту сцену несколько дней подряд, посвящая ей четырехчасовые репетиции, которые проходили с огромным творческим подъемом. А весь текст упомянутого эпизода ограничивался пятью репликами:
«Баронесса.
Откуда вы?
Чиновник.
Сейчас лишь из
правленья,
О деле вашем я пришел поговорить.
Баронесса.
Его решили?
Чиновник.
Нет,
но скоро!.. Может быть,
Я помешал…
Баронесса.
Ничуть.
(Отходит к окну.)»
Когда Мейерхольд обрушивал свою титаническую фантазию на текстовой материал, то он бывал способен оживить любую служебную реплику, так же как и, впрочем, перетранспонировать центральные монологи, подчинив их своему режиссерскому замыслу. Действительно, это был маг и волшебник 132 искусства театра, и для его фантазии нужны были актеры, способные, так же как и он, беззаветно отдаваться власти театрального искусства.
Было в этом что-то необычайно увлекательное и одновременно что-то глубоко тревожащее.
Никогда не забуду генеральную репетицию «Маскарада» и те именно «тревожные» мысли, которые она невольно во мне породила.
Несколько слов о «предлагаемых обстоятельствах» этой репетиции, а затем уже и о ней самой.
Репетициям «Маскарада», несмотря на то, что это продолжалось уже пять лет, казалось нет конца. Премьерой, что называется, и не пахло.
Был январь 1917 года.
После окончания одной из репетиций, которая проходила в фойе, к Мейерхольду подошел курьер Мейнартович и сказал:
— Всеволод Эмильевич, вас после репетиции просил зайти к себе Евтихий Павлович.
— Какой Евтихий Павлович? — удивленно спросил Мейерхольд.
— Евтихий Павлович Карпов. Они назначены вместо Андрея Николаевича, — уныло ответил Мейнартович.
Так, неожиданно от курьера узнали мы о том, что вместо Лаврентьева главным режиссером назначен Карпов.
— Вы идите за мной и ждите, — бросил мне Мейерхольд уже на ходу.
Едва я дошел до двери и спросил у Мейнартовича, когда же произошло это неожиданное для всех событие, как мрачный Мейерхольд уже спускался по лесенке из кабинета Карпова.
— Поехали ко мне.
По дороге, на извозчике, Мейерхольд молчал, молчал и дома во время обеда.
После обеда он встал и, сказав Ольге Михайловне: «У нас с Колей дела. Не мешайте нам», — направился в кабинет.
Мое любопытство достигло предела. Он затворил дверь и сел за письменный стол.
— Через восемнадцать дней мы должны будем сдать премьеру «Маскарада».
Я был поражен. Репетиции «Маскарада» казались каким-то культурно-эстетическим фактом, неотъемлемым от жизни театра, 133 а о премьере как-то и не говорилось, даже считалось неудобным поднимать этот вопрос. Премьера назначалась на конец каждого сезона и всегда откладывалась на неопределенное время. И вдруг в восемнадцать дней реализовать то, что по-прежнему было далеко от завершения.
Одеть и загримировать актеров по точнейшим эскизам Головина! Наконец, просто то, что называется собрать спектакль в его последовательном действовании и провести монтировочные, прогонные и генеральные репетиции! Ну, как же возможно все это уложить в восемнадцатидневный срок?
— Таков приказ нового главного режиссера! А если этого не случится, то он решил вообще прекратить все работы по «Маскараду». Каков?..
И, выругав Карпова, Мейерхольд встал из-за стола и начал ходить по кабинету, стремясь точно ступать на цветы, вытканные на ковре.
Известие было слишком ошеломляющим и неожиданным, чтобы в моей голове родились какие-либо практические предложения, но Мейерхольд, сосредоточенно ставивший ноги на цветы, уже решал организационно данную проблему:
— Берите бумагу и садитесь за стол.
Установив какую-то новую последовательность хождения по ковру, когда после третьего цветка левая нога шагала куда-то в сторону, и овладев этим «па», Мейерхольд вновь скомандовал:
— Разграфите бумагу на восемнадцать частей, проставьте числа и названия дней и на последнем, восемнадцатом дне напишите: «Премьера».
Я вооружился карандашом и линейкой, а Всеволод Эмильевич продолжал изобретать новые возможные комбинации хождения по ковру.
Когда он уже почти танцевал, то есть делал один шаг вперед правой ногой, затем левой ногой шагал на левый цветок, правой — на правый и, неожиданно повернувшись с приседанием на правой ноге, левой делал шаг опять вперед, я доложил, что график готов.
— Очень хорошо, — сказал Мейерхольд и уселся за стол, положив перед собой график. — Поступим так, как мы поступили бы в Полтаве или Николаеве, когда я там проводил сезоны Товарищества новой драмы. Ведь восемнадцати дней на постановку там у меня никогда не было. И он углубился 134 в составление плана выпуска спектакля, по которому 23 февраля в день, назначенный Карповым, должно было состояться первое представление «Маскарада».
— Сколько летних сезонов вы провели, Коля? — спросил Мейерхольд, не отрываясь от работы.
— Шесть, — ответил я.
— А сколько поставили спектаклей?
— Вероятно, более полутораста.
— Какие возможности у вас были в смысле количества репетиций? — не унимался Мейерхольд, внимательно обдумывая каждый день графика.
— От двух до шести, — отвечал я.
— А скажите откровенно, были среди этих полутораста спектаклей интересные творческие работы? Работы, рожденные творчески, а не просто ремесленно слаженные спектакли?
— Конечно, были, — не задумываясь ответил я.
— Так вот! Восемнадцать дней — это чудовищно много, да и подготовка у нас была огромная. Полагаю, что мы обязаны выпустить спектакль, который должен стать историческим в жизни русского театра. И вот вам план выпуска нашей, я повторяю, исторической премьеры.
На другой же день отпечатанный график был вывешен отдельным распоряжением, причем это распоряжение подписано было Мейерхольдом, а не Карповым. Мейерхольд собрал всех участвующих и провел с ними откровенную беседу, творчески мобилизовав на предстоящую напряженную работу.
Когда на сцену были свезены все великолепные декорации Головина и мебель, сделанная по его рисункам, когда начали обставлять отдельные картины спектакля и в этих изумительных интерьерах появились актеры как бы в музейных костюмах, так прекрасно и достоверно были они сделаны по эскизам Головина, — то кто-то из остряков в театре назвал готовящуюся премьеру «Закатом империи».
Действительно, слишком большие противоречия были между тем, что делалось на сцене Александринского театра, и тем, что происходило в городе.
Бездарно проигранная война, а это было уже для всех очевидно, недоверие правительству, убийство Распутина, чехарда премьер-министров и, наконец, назначение на этот пост Протопопова, страдавшего прогрессивным параличом, — все это вселяло приближение каких-то неведомых нам крупнейших 135 событий. В городе начались перебои с продовольствием и топливом. На окраинах возникали «хлебные бунты», кончавшиеся разгромом булочных, количество бастующих рабочих увеличивалось с каждым днем. Вот в какое время протекали последние репетиции столь долгожданного «Маскарада».
В театре существовала традиция — раз в год отдавать генеральную репетицию в пользу суфлеров и помощников режиссеров. Они продавали билеты на эту репетицию и вырученные деньги делили между собой. Вполне естественно, что долгожданный «Маскарад» должен был собрать полный сбор.
Платная генеральная была разрешена, все билеты были проданы, но накануне выяснилось, что у Е. П. Студенцова, игравшего князя Звездича, совершенно пропал голос и ему врачи категорически запретили говорить. Встревоженные суфлеры и помощники режиссеров пришли к Мейерхольду.
— Неужели же генеральная будет отменена? — взволнованно спросил у него суфлер А. Ф. Минаев.
— А зачем отменять? — отвечал Мейерхольд. Ведь это ваш бенефис. Вот вы, Александр Федорович, и будете активно участвовать в этом спектакле. Студенцову ведь запрещено говорить, а не играть. Он и будет играть, но молча, а весь его текст вы будете громко произносить, стоя на сцене с левой стороны.
Так и было. На генеральной репетиции 21 февраля 1917 года Студенцов молча, пантомимно играл роль князя, а суфлер Минаев, стоя на сцене, как это мы называем сейчас, его «озвучивал».
Я смотрел на эту «двойную» игру, и мне пришло в голову, что вот, например, в спектакле «Братья Карамазовы» в Художественном театре едва ли можно было бы «озвучить» кого-нибудь из исполнителей.
Вероятно, это спектакли различных театральных природ, решил я.
Ко дню премьеры, то есть 23 февраля, тревога в городе усилилась. Изредка слышна была стрельба.
Спектакль начался с опозданием на полчаса, так как зрительный зал заполнялся не очень оживленно.
Я стоял около сигнализационного щитка и ждал команды Всеволода Эмильевича, а через толстые стены здания Росси доносились выстрелы с улицы. Еще до того как занавес поднялся, зрители были потрясены великолепием сценического 136 убранства, являвшегося как бы продолжением зрительного зала с просцениумам, вынесенным на место, предназначенное для оркестра.
Старый театральный занавес был убран, просцениум, архитектурный портал, три огромнейшие люстры с бесконечным количеством восковых свечей, бра на портале и специально написанные Головиным занавесы — все это поражало.
Стоя у режиссерского пульта и прислушиваясь к звукам, доносившимся из зрительного зала, я ждал распоряжений Мейерхольда, который вместе с Головиным пошел в ложу директора, чтобы получить разрешение начать спектакль.
— Ну, Коля, Владимир Аркадьевич просил начинать. Пускаемся в плавание.
Дайте мне на счастье руку смело,
А остальное уж не ваше дело, —
закончил он арбенинскими словами свое благословение начать спектакль.
Последние звонки актерам и зрителям, сигнал электрикам, сигнал оркестру, сигнал верховым рабочим для подъема «межкартинного» занавеса, сигнал актерам, занятьям в первой картине, звон денег и…
«1-й понтер
Иван Ильич, позвольте мне поставить.
Банкомет
Извольте.
1-й понтер
Сто рублей.
Банкомет
Идет.
2-й понтер
Ну,
добрый путь…».
«Маскарад» начался.
137 Это был действительно поразительный спектакль.
В конце его Е. П. Карпов передал исполнителю главной роли Ю. М. Юрьеву золотой портсигар. Это была монаршья милость, за которой через несколько дней последовало отречение монарха от престола, подписанное на станции Дно.
Имел ли «Маскарад» успех?
Скорее — нет, чем да.
Спектакль буквально ошеломлял своими масштабами, изумительным убранством сцены, но успеха как драматическое представление он не имел.
«Маскарад» прошел в те дни только три раза. Помню резко критическую рецензию, написанную Александром Бенуа. В огромной статье величиной в два подвала отдавалось должное художнику, но тут же утверждалось, что он раздавил актеров. Это «Маскарад» Головина и Мейерхольда, но не Лермонтова, писал Бенуа.
В день премьеры мы еще, конечно, не знали, как развернутся политические события, но завтра нужно опять играть «Маскарад» (он был объявлен на четыре дня подряд — 23, 24, 25 и 26 февраля).
Мейерхольд волновался — как пройдут эти спектакли? Соберутся ли актеры? Придет ли зритель?
— Коля, пойдем ночевать ко мне. В эти тревожные дни нам разъединяться не следует, — сказал Мейерхольд после премьеры, и мы поехали к нему на Шестую роту.
И все-таки в один из этих дней я оказался один по ту сторону Невского и никак не мог его перейти из-за стрельбы. Уже седьмой час! Перебежав мостик на канале Грибоедова, я неожиданно очутился около нашего любимого ресторанчика «Франческа-Тани».
«Позвоню по телефону Мейерхольду и спрошу как быть», — мелькнуло в голове, и я быстро спустился в гостеприимный подвальчик.
Пробираясь между столиками к телефону, я вспомнил, как потеряли мы здесь записи наших репетиций и как просто решился вопрос о сложнейшей массовой сцене, когда на весь выпуск спектакля было отпущено только восемнадцать дней. Нет худа без добра!
На другом конце провода раздался резкий голос Мейерхольда:
— Коля? Переходите Невский возле Морской. Сейчас там 138 перешел Юрьев. Скорее, нужно решать ряд катастрофических вопросов.
Ночь после третьего спектакля была особенно тревожной. Я спал в кабинете Мейерхольда, из окон которого была видна фабрика роялей. В ней квартировала какая-то воинская часть.
— Вставайте, Коля. Посмотрите, что происходит на улице, — услышал я часа в два ночи голос Мейерхольда. Он стоял около окна и осторожно, слегка раздвинув портьеру, смотрел на улицу. Поверх длинной ночной рубашки на нем было надето короткое летнее пальто.
— Видите! Видите! — шептал Мейерхольд как будто мы могли быть услышаны на улице.
Из ворот фабрики выходили солдаты, собирались группами, о чем-то говорили.
— Куда они собираются идти? — беспокоился Мейерхольд.
Телефонный звонок… Звонила Н. С. Рашевская, которая жила на Кавалергардской улице, возле Таврического дворца; она сообщила, что Государственная дума взяла власть в свои руки, образовано Временное правительство. Узнала она об этом из «Известий журналистов», которые ночью разбрасывались по улицам.
Утром, когда мы с Мейерхольдом вышли из дому, по улицам проносились грузовики, забитые вооруженными людьми, на крыльях лежали солдаты и матросы с винтовками на изготовку, красные повязки на руках и красные флаги завершали революционное преображение мирных грузовиков. В отдельных районах города слышалась стрельба. Горели полицейские участки, охранное отделение было разгромлено.
В дирекции императорских театров царила тишина. Даже швейцар куда-то исчез. Мы молча разделись и поднялись во второй этаж. Огромная приемная, обставленная мебелью в чехлах, приспущенные шторы, рояль, покрытый белым холщовым чехлом, и полное отсутствие людей — все это рождало какое-то траурное настроение.
Вот так бывает, когда вы раньше других приходите на гражданскую панихиду.
Дверь в кабинет Теляковского была открыта. Мейерхольд осторожно, на цыпочках, как бы боясь нарушить эту торжественную тишину, подошел к двери и заглянул в кабинет.
139 — Коля, он здесь, — шепотом сказал Всеволод Эмильевич и предложил войти без доклада. — Все равно, ведь докладывать-то некому, да и до докладов ли сейчас? А вы просто спросите Теляковского о сегодняшнем спектакле. А если завяжется разговор, то говорить буду я.
Я вошел в кабинет и прямо обратился к Теляковскому.
— Владимир Аркадьевич! Мы с Всеволодом Эмильевичем пришли узнать, состоится ли сегодня спектакль или нет?
Теляковский не обратил никакого внимания на наш приход. Он молча стоял у письменного стола, выстукивая пальцами какой-то сложный ритм марша. Теляковский был прекрасным пианистом и выстукивание его было очень музыкально.
Мейерхольд сделал шаг вперед, встал передо мной и еще раз задал ему тот же вопрос.
Но и на мейерхольдовский вопрос ответам была музыкальная барабанная мелодия.
Неизвестно чем бы кончился наш диалог, если бы за окнами не раздалась пулеметная стрельба. Когда она стихла, Теляковский, не поворачиваясь к нам, тихо сказал:
— Петропавловская крепость в руках восставшего народа.
Вечером в императорских театрах все спектакли были отменены, а на утро в газетах было опубликовано отречение Николая II от престола.
Я читал это отречение и вспоминал не так давно пышно отпразднованное трехсотлетие царствования дома Романовых.
Три дня подряд в Александринском театре утром и вечером шла историческая хроника, посвященная этой дате.
Огромное количество солдат, участников массовых сцен, одевали и гримировали с утра на целый день: между спектаклями их не разгримировывали и не раздевали.
От четырех и до шести часов вечера возле Александринского театра вперемежку с современными жителями Санкт-Петербурга разгуливали стрельцы и опричники, бояре и простой народ. Можно было наблюдать, как от театра в Толмазов переулок, где находилась ближайшая пивная, подобрав полы своих кафтанов, пробегали всевозможные исторические персонажи и возвращались оттуда, заметно повеселев.
Помню один из этих праздничных спектаклей, когда весь театр был забит «верными сынами союза Михаила Архангела», а в первом ряду сидел его лидер Пуришкевич. Когда по 140 ходу действия на сцене произносились слова «царь» или «царь-батюшка», Пуришкевич вынимал белый платок и взмахивал им, давая сигнал публике для проявления патриотических чувств.
«Гимн! Гимн! Гимн!» — неистово орал зрительный зал.
Представление прерывалось, все участники приближались к рампе, из кулис выходили не занятые в спектакле актеры, и все в сопровождении оркестра пели гимн.
В дневнике праздничных спектаклей по окончании шестого вечернего представления было записано, что труппа Александринского театра исполнила гимн сто семьдесят три раза.
Актеров Александринского театра часто приглашали для участия в концертах или небольших спектаклях в Царское село. На одном из таких концертов должен был идти водевиль с участием Варламова, Давыдова и Стрельской.
Варламов и Давыдов были необыкновенно полные и крупные люди. Можно сказать, что их феноменальная толщина была прямо пропорциональна их дарованию. И вот я видел, как эти в буквальном смысле слова гиганты, эти всемирно признанные актеры, художники, украшавшие русскую сцену, тряслись от волнения, как в лихорадке, и не могли начать играть, оттого что в зрительном зале сидел небольшого роста тусклый человек в чине полковника, именуемый «самодержцем всероссийским».
— Молодой человек, подождите начинать, — шептал мне Давыдов.
— Колюша, дайте мне стакан воды, — умолял Варламов.
— Колечка, Колечка! Ну зачем я согласилась ехать! Когда-нибудь вот так и умрешь от волнения, — причитала обаятельная Варвара Васильевна.
Играли они как всегда великолепно, «царь-батюшка» изволил смеяться, но я все время ощущал волнение великих актеров. Глядя через щелку в декорациях в зрительный зал, я искренне удивлялся, сколь мизерна и ничтожна с виду была причина этого волнения. Очень уж человечески невзрачен и ничтожен был Николай II.
Второй раз я видел «самодержца» уж во время войны в несколько иных обстоятельствах.
Командование размещенных в Царском селе полков время от времени устраивало полковые вечера, на которых почетным гостем бывал Николай II.
141 На один из таких вечеров была приглашена группа актеров Александринского театра, чтобы во время ужина развлекать собравшихся веселой концертной программой.
Среди участников этого концерта были И. В. Лерский, Б. А. Горин-Горяинов, М. М. Марадудина — актеры, обладавшие большим комедийным репертуаром, и еще ряд исполнителей.
Зрители сидели в большом зале за столами, установленными буквой «П». Там, где кончались крылья стола, была арка, задернутая театральным занавесом. В центре стола сидел царь и командование полка.
Номера концерта сменялись тостами. Настроение в зрительном зале повышалось с каждым новым тостом. За кулисами адъютанты поднимали бокалы за участников концерта.
Когда кончился концерт, появился адъютант и объявил:
— Его императорское величество благодарит и приглашает всех участвующих к столу.
Мы все отправились в зал. Нас выстроили перед столом, где сидел царь, который и начал «обходить наш строй», милостиво даря каждого своей беседой.
Не очень уверенно стоял на ногах этот небольшого роста полковник, олицетворявший единодержавную власть над несчастной Россией.
Начинавший брезжить тусклый рассвет высветил большие окна, на фоне которых отчетливо вырисовывалась неровная шеренга артистов императорских театров.
Когда царь беседовал с Горин-Горяиновым, стоявшим со мной рядом, я вдруг почувствовал, как кто-то сзади поправил мои руки, вытянул их по швам, а затем ногой соединил мои ноги. Я не успел даже обернуться: передо мной стоял Николай II.
— Спасибо, — сказал мне царь. А за «Разговор по телефону» я особенно благодарю. Очень, очень смешно. — И с этими словами он протянул мне вялую влажную руку.
Номер «Разговор по телефону рассеянного профессора», называвшийся сокращенно «Телефончик», входил когда-то в программы наших вечеров в кабаре в школе Адашева. Его придумал и исполнял Вахтангов, а я, доработав текст на петербургские темы, часто выступал с ним в концертах и всегда с большим успехом. Этот номер имел успех и у последнего самодержца.
142 «Бродячая собака»
Творческое беспокойство объединило в 1912 году небольшую группу людей искусства, в которую вошли А. Н. Толстой, художники М. В. Добужинский, Н. Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин, В. А. Подгорный (в то время работавший актером в театре «Кривое зеркало»), режиссер Н. Н. Евреинов, архитектор И. А. Фомин. Кроме упомянутых мною лиц в инициативную девятку входили еще Б. К. Пронин и автор этих строк. С именами этих людей связано рождение того, что впоследствии стало известно под именем «Бродячей собаки».
Борис Пронин обладал замечательным даром неунывающего организатора всяких творческих начинаний. Его имя мы встречаем среди участников студии МХТ на Поварской в 1905 году, о которой пишет К. С. Станиславский в своей книге «Моя жизнь в искусстве», он работает в Товариществе новой драмы с В. Э. Мейерхольдом в Полтаве, Херсоне и Николаеве, он же является помощником Мейерхольда в организации его студии на улице Жуковского в 1905 году. Не удивительно, что он стал душой и этой новой творческой затеи.
Ясной цели ни у кого не было. Было желание создать нечто такое, чего не было в Петербурге. Иметь место, где могли бы встречаться художники и совместно проводить досуг. Мы мечтали о создании своеобразного артистического клуба, где могла бы завязаться новая жизнь художников Петербурга.
Вся энергия организационной девятки была брошена в первую очередь на подыскание помещения. Вдвоем, втроем, а иногда и всей девяткой бродили мы по городу в поисках приюта. Мы были уварены, что помещаться наш клуб должен обязательно в подвале. И только Борис Пронин был против подвала, утверждая, что не в землю должны мы зарываться, а стремиться ввысь, и поэтому искать нужно мансарду или чердак. Впоследствии он осуществил свою мечту, создав в Москве «Приют энтузиастов».
И вот в один из дней, когда мы в поисках свободного подвала из одной подворотни заглядывали в другую, А. Н. Толстой неожиданно сказал:
— А не напоминаем ли мы сейчас бродячих собак, которые ищут приюта?..
— Вы нашли название нашей затее, — воскликнул 143 Н. Н. Евреинов. — Пусть этот подвал называется «Бродячая собака»!
Название всем очень понравилось, и все поздравляли Толстого.
На другой же день М. В. Добужинский предложил девятке эскиз марки: свод подвала, а под ним сидящая собака положила лапу на античную трагическую маску.
Так во втором дворе углового дома на Михайловской площади, в подвале, 20 декабря 1911 года «Бродячая собака» нашла свой приют.
Вечером все собрались в мансарде у Бориса Пронина и разрабатывали план дальнейших действий.
Было решено организовать Общество интимного театра, выработать устав и внести в него пункт о праве общества иметь свой клуб. Толстой взял на себя срочно утвердить этот устав у градоначальника.
Первый пункт устава гласил: «Все члены общества работают бесплатно на благо общества. Ни один член общества не имеет права получать ни одной копейки за свою работу из средств общества».
Открытие «Бродячей собаки» решено было приурочить к встрече Нового года и за оставшиеся десять дней провести всю организационно-подготовительную работу. Сразу же встал вопрос о деньгах.
— Брать денег у «Собаки» мы не будем, но давать ей мы можем, это же не возбраняется уставом, — заявил Толстой и тут же внес 25 рублей на текущие расходы.
Но этого, конечно, было мало. По заранее составленному списку были разосланы извещения о предстоящей встрече Нового года. Входная плата — три рубля.
Первым откликнулся на наше приглашение Василий Пантелеймонович Далматов. В николаевской шинели, в цилиндре, с тростью в руках вошел наш первый гость.
— Здесь помещается «Бродячая собака?» — спросил Далматов, удивленно оглядываясь по сторонам и подходя к бочке, на которой стоял фонарь, — единственный источник света, бросавший тусклые отблески на таинственные своды подвала.
— Да! Да! Василий Пантелеймонович, садитесь, пожалуйста, — все мы любезно ухаживали за первым посетителем.
— Вот вам билет, — суетился Пронин.
Далматов заплатил три рубля, любезно попрощался с 144 нами и направился к выходу. Но на лестнице он остановился, театрально опираясь на трость, повернулся к нам.
— Если я понадоблюсь вам как актер, я к вашим услугам, — произнес Далматов, приподымая цилиндр.
К открытию «Собаки» Фоминым собственноручно был сложен камин, а Судейкин написал над ним венок. Сколько было затрачено труда, сколько волнений и мук пережили мы за эти десять дней, превращая грязный подвал в уютный приют «Бродячей собаки». Несмотря на трехрублевые взносы посетителей и новый «внутренний заем», проведенный Толстым, не хватало денег, и только заложенные мною в самые последние дни фрак и сюртук помогли нам кое-как свести концы с концами и позволили гостеприимно открыть двери «Бродячей собаки» в новогоднюю ночь.
У наружных дверей висели молоточек и доска, в которую приходивший должен был стучать; такую же доску и молоточек мы повесили в прихожей.
Спускаясь в подвал по лесенке в десять ступеней, вы попадали в небольшую прихожую. Осмотревшись и невольно задав себе вопрос: как же отсюда выбраться и каким образом удастся получить именно свою шубу и свои галоши, вы следовали дальше. При входе в «главный зал», то есть уже непосредственно в подвал, с правой стороны стоял большой аналой для книги, которую мы называли «Свиной книгой» (ее корешок был переплетен в свиную кожу). В этой книге должны были оставлять автографы все гости.
Большой зал вмещал человек восемьдесят. По стенам зала шли диваны, сделанные обойщиком Ахуном, который однажды, уже не помню как, попав в нашу компанию, проникся такой любовью к нашей затее, что десять дней бесплатно отдавал свой труд и соорудил вот эти знаменитые диваны. Их так и называли ахуновские диваны. Самые простые, деревянные, неокрашенные столики и табуретки довершали меблировку главного зала.
Посредине стоял круглый стол с тринадцатью табуретками вокруг, а над столом висела люстра, сконструированная Сапуновым. Большой деревянный круг с тринадцатью свечами висел на четырех цепях, растянутых по углам подвала.
Ольга Высоцкая, актриса «Дома интермедии», придя одной из первых, сняла с руки длинную белую перчатку и набросила ее на деревянный круг. Подошедший Евреинов повесил 145 на одну из свечей черную бархатную полумаску. Так эти реликвии, с санкции Сапунова, и висели на люстре все время, пока существовала «Собака».
В правом углу помещалась небольшая эстрада. Камин Фомина и роспись потолка Судейкиным довершали романтическое убранство подвала.
Концертная программа нами была приготовлена заранее, но осуществить ее полностью не удалось: посетители «Собаки» в этот вечер представляли собой квинтэссенцию артистического Петербурга, и появление некоторых из них на нашей маленькой эстраде было глубоко радостным для всех нас событием. Т. П. Карсавина, М. М. Фокин, Е. В. Лопухова, А. А. Орлов и Бобиш Романов представляли собой искусство балета; П. М. Журавленко, Е. И. Попова, М. Н. Каракаш и Н. С. Ермоленко-Южина представительствовали от оперы; В. П. Далматов, Ю. М. Юрьев, Е. П. Студенцов, Е. Н. Тиме, Н. Г. Коваленская, Настя Суворина, В. А. Миронова и Ф. Н. Курихин выступали от драматических театров; Анна Ахматова, Н. С. Гумилев, К. Д. Бальмонт, Игорь Северянин, М. А. Кузмин, П. П. Потемкин, Саша Черный, О. Э. Мандельштам и Георгий Иванов представляли цех поэтов; Илья Сац, Вячеслав Каратыгин, Альфред Нурок, М. Ф. Гнесин и Анатолий Дроздов от композиторского крыла; редакция журнала «Аполлон» была представлена Сергеем Маковским, И. С. Ауслендером, а театроведение князем В. П. Зубовым.
С первого же дня постоянными и активными «друзьями» «Собаки» были певица Зоя Лодий, профессора Андрианов, Е. П. Аничков, архитектор Бернардаци, художник и доктор Н. А. Кульбин и общий любимец Петербурга клоун Жакомино. Среди молодежи помню двух студентов консерватории Сережу Прокофьева и Юру Шапорина.
Прочитав перечень этих имен сегодняшний читатель обратит внимание на его пестроту, на то, что иные из откликнувшихся на призыв «Бродячей собаки» стояли отнюдь не на верных позициях. Но «Собака» не вырабатывала своей платформы, объединяя самых различных художников, каждый из которых приносил свое, личное. Может быть, в этом и была наша платформа?
Заранее приготовленная программа не была здесь обязательна. Даже одноактную пьесу Алексея Толстого, где на сцене по ходу действия аббат должен был рожать ежа, 146 нам не удалось сыграть. Когда уже был поднят не один тост и температура в зале в связи с этим также поднялась, неожиданно возле аналоя появилась фигура Толстого. В шубе нараспашку, в цилиндре, с трубкой во рту он весело оглядывал зрителей, оживленно его приветствовавших.
— Не надо, Коля, эту ерунду показывать столь блестящему обществу, — объявил в последнюю минуту Толстой, и летучее собрание девятки удовлетворило просьбу Алексея Николаевича. Интересно, сохранилась ли в архиве Алексея Николаевича эта злая, остроумная трагифарсовая одноактная пьеса?
Как то раз, много лет спустя, встретив меня в ВТО Толстой сказал:
— А знаешь, Николай, надо было бы собрать оставшихся в живых ветеранов, пригласить стенографистку и устрожь вечер воспоминаний. Ведь никто теперь даже и не представляет — что это была за такая «Бродячая собака» и какую роль она играла в нашей тогдашней жизни.
Но мы, конечно, так и не удосужились собраться. А было что вспомнить…
Например, вечер Тамары Карсавиной, когда весь подвал был расписан Сергеем Судейкиным, им же были сделаны эскизы костюмов и фрагменты декорации, и Карсавина танцевала поставленные Фокиным танцы на музыку Саца, Каратыгина и Анатолия! Дроздова. Как память об этом вечере у библиофилов хранится книга, выпущенная «Собакой» и названная «Тамара Карсавина». В книге почти нет шрифтового текста: все стихи, посвященные ей, музыкальные куски, даже статья Н. Евреинова, представляют собой клише автографов авторов.
Или вечер, посвященный драматургии Михаила Кузмина.
Случайно присутствовавший на этом вечере Сергей Дягилев, который был инициатором и организатором сезонов русского балета в Париже, тут же предложил правлению «Со баки» подписать с ним договор о поездке «Собаки» в Париж Поездка эта не состоялась, так как летом грянула война.
Можно вспомнить много интересных эпизодов из жизни «Бродячей собаки», и это когда-нибудь следует сделать, но и сказанного, я думаю, достаточно, чтобы у читателя возникло представление об этой творческой затее. Пуще всего мы боялись допустить в наш подвал «фармацевтов» (так называли 147 тогда тершихся около искусства людей). Мы очень любили свое детище, дорожили им и поэтому тщательно выполняли первый пункт устава, утверждавший полное бескорыстие «собачьей» натуры. Вот почему через полтора года все наше правление, вся девятка единогласно сложила свои полномочия, когда тот же энтузиаст Борис Пронин стал пропускать на наши вечера «фармацевтов» и кому-то из близких «Собаке» людей заплатил за выступление.
Целомудрия пуще всего щади,
Процветай на Михайловской площади.
Потеряв свое «целомудрие», «Собака» начала превращаться в нечто иное.
В моей творческой жизни, многообразной и временами немного сумбурной, всегда существовала вот эта линия, которую Дягилев как-то назвал «интимным искусством». Впрочем, вероятно, и Толстой не случайно написал на заголовке нашего устава «Общество интимного театра».
Эта линия возникла у меня, а вернее сказать, возникла во мне еще тогда, когда я замыслил в уфимских степях постановку «Сна советника Попова». Она продолжалась в вечерах «Чтобы смеяться» в школе Адашева, она выразилась в моем участии в работе «Летучей мыши» и в капустниках Художественного театра. Она приобрела новую эстетическую платформу, когда Мейерхольд пригласил меня участвовать в работе театра «Дом интермедий». Это именно там родился мой псевдоним, такой живучий, что иногда и до сих пор кое-кто из старых друзей называет меня «Колей Петером». А родился этот псевдоним так.
Однажды после репетиции «Маскарада» в Александринском театре Мейерхольда и меня срочно вызвали к директору императорских театров.
— Всеволод Эмильевич! — обратился к нему Теляковский. Неудобно как-то. Вы работаете в императорских театрах, а ваша фамилия фигурирует на афишах какого-то «Дома интермедий». Я не против вашей работы там, но возьмите себе какой-нибудь псевдоним, что ли? А то неудобно, право.
— Хорошо, Владимир Аркадьевич. Я придумаю псевдоним, — ответил Мейерхольд на длинную тираду начальника.
— И вы, Петров, тоже не подписывайтесь своей фамилией. Ведь вы же служите в императорском театре.
148 Мы как раз спешили на репетицию в «Дом интермедий». Всеволод Эмильевич любил театрально переживать простые жизненные факты, и сейчас, сидя на извозчике, он мрачно и задумчиво говорил:
— Ну какой может быть псевдоним у Мейерхольда? Не представляю.
В «Доме интермедий» мы застали как раз все организационно-творческое руководство. Н. Н. Сапунов, М. А. Кузмин и Е. А. Зноско-Боровский мрачно размышляли, что делать с театром.
— Вчера зрителей было двенадцать человек, а температура в зале была минус восемь. Платить актерам нечем и топливо покупать не на что, — мрачно сообщил Зноско-Боровский.
— А вот вам и еще одна неприятность, — прибавил Мейерхольд к сообщению Зноско-Боровского: — Ни я, ни Коля не имеем права подписываться своими фамилиями. Нам запретил Теляковский.
— Ну, это не так уж страшно, — вступил в разговор М. А. Кузмин, который ходил по кабинету из угла в угол и нервно курил. — Вы, Всеволод Эмильевич, будете называться, — он задумался буквально на одну минуту, затянулся, выпустил дым колечком и неожиданно сказал: — доктором Дапертуто, а Коля — тут он без паузы закончил, — будет называться Колей Петер.
Так родились два псевдонима, которые вошли в творческую жизнь довольно плотно, как Мейерхольда, так и мою.
Так вот, этот самый «Дом интермедий», который в дальнейшем существовал как Товарищество актеров, писателей и художников и в котором, кстати сказать, никто из нас также не получал никаких денег, — этот «Дом интермедий» являлся продолжением той же моей творческой линии «интимного искусства».
На рубеже двух эпох, в предфевральские дни, я принимал участие в жизни подвала «Привал комедиантов». В 1918 году, в зимнем сезоне в Петрозаводске, мы создали творческое содружество «Таранта», организовав даже несколько творческих вечером под заголовками «Рождение Таранты», «Первый шаг Таранты», «Прорезывание первого зуба у Таранты».
В двадцатых годах при театре «Вольная комедия» в Петрограде мы организовали театр «Балаганчик», который в дальнейшем породил «Десятую музу».
149 Одно любопытное обстоятельство стоит здесь отметить. Любая затея в области «интимного искусства», как правило, существовала только до тех пор, пока строго выполнялся первый пункт устава «Собаки», так мудро и дальновидно придуманный А. Н. Толстым. Жизнь показала, что как только он нарушался, то мгновенно в самом существе бескорыстного творческого начинания нечто изменялось и оно со временем превращалось в то, что называется сейчас «Театром малых форм».
Вспоминаю эпизод, разыгравшийся однажды на исполнительском вечере в «Привале комедиантов».
Было это в марте или апреле 1917 года.
Программа вечера в «Привале» оканчивалась выступлением Н. Н. Евреинова. Аккомпанируя сам себе на рояле, он пел свои сатирические песенки. Финальным номером его выступления были политические частушки, которые он исполнял с хором, причем в хоре этом, как правило, участвовали те творческие работники, которые в данное время находились в «Привале». В этот вечер хор состоял из А. Н. Толстого, В. А. Подгорного, К. Э. Гибшмана, К. К. Тверского и меня.
Мы мрачно стояли у рояля — такова была мизансцена, предложенная нам Евреиновым. Он залихватски выпевал свои частушки, а мы мрачно и уныло повторяли две последние строчки. Для этого номера Евреинов надевал поддевку, красную шелковую рубашку и лакированные сапоги.
Сидевшие за столиками в мрачном зале «Привала», великолепно расписанном художником Судейкиным и называвшемся Гоцциевским залом, принадлежали к самым различным общественным прослойкам. И как этот зал отличался от зала «Собаки»!
Были здесь и люди искусства, были и «фармацевты», были и обыватели, были и военные, прямо приехавшие с фронта, были и политические деятели Временного правительства, часто бывал и А. В. Луначарский.
Не печалься, гнев повыкинь,
Веселей будь, Горемыкин, —
залихватски распевал Евреинов, виртуозно себе аккомпанируя.
Для тебя да для царя,
Жаль поганить фонаря, —
150 заканчивал частушку Евреинов, и мы повторяли эти последние строчки.
Как-то, когда Евреинов, как обычно, лихо пропел свои две последние строчки, я заметил, как из-за ближайшего столика, за которым сидели два мрачных «прапора», поднялся один, тот, у которого левая рука была на черной перевязи, и, направившись к эстраде, правой рукой начал медленно расстегивать кобуру.
Уже держа в правой руке револьвер, он крикнул:
«Я эту сволочь пристрелю!»
Выстрел действительно раздался, но между произнесенной фразой и выстрелом на эстраде произошло стремительнейшее действие.
Рояль стоял так, что одним боком он упирался в стену, а у другого его края стояли мы, унылый хор, так что, для того чтобы стремительно покинуть эстраду, нужно было найти гениальную мизансцену. Евреинов как-то прижался, напружинился и стремительным рывком кинулся животом на крышку рояля, проскользнул по ней и, как говорят акробаты, «пришел на руки». Унылый хор прыгнул прямо в зал, а мрачный «прапор», выстрелив вслед Евреинову, еще мрачнее сказал: «Все равно, сволочь, не уйдешь».
Так закончился один из вечеров в «Привале комедиантов» в марте или апреле 1917 года.
Семнадцатый год
Вспоминая далекое прошлое, перелистывая дневники, перебирая программы и рецензии тех времен, становишься свидетелем жизни человека, столь не похожего на тебя, что невольно пытаешься рассматривать эту его жизнь, да и его самого, как бы со стороны. Вот почему иной раз хочется повторить слова Горького из «Клима Самгина»:
«Да и был ли мальчик? А может быть, мальчика-то и не было».
Но документы — упрямая вещь, они материализуют факты жизни, и, рассматривая их, невольно все же приходишь к выводу, что, несмотря на всю, зачастую бесцельно затраченную 151 энергию, несмотря на нелепость некоторых твоих поступков «мальчик все же был».
А раз был, то давайте продолжим описание его жизни.
В ту пору вся моя деятельность развивалась примерно в четырех направлениях.
Сложная, громоздкая машина Александринского театра, маленьким винтиком которой я тогда являлся, расширила мое понимание многих творческих вопросов. Здесь я встречался с первыми русскими актерами, наблюдая их в работе и в жизни, замечал их достоинства и недостатки и, разумеется, учился главному — видеть в актере основной компонент театрального искусства.
Я говорю здесь о периоде, предшествовавшем моей дебютной режиссерской работе над пьесой Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины». Таким образом, первое направление в моей творческой жизни тогда довольно точно можно было назвать «освоением профессиональной жизни театрального дредноута», каковым, несомненно, являлся Александринский театр.
И хотя жизнь нашего молодого человека была еще не очень продолжительна, она все же дала ему возможность приобрести определенный творческий багаж. Одно беглое, далеко не полное перечисление больших художников и творческих явлений, с которыми так или иначе соприкасался этот молодой человек, заставляет меня сейчас бесконечно ему завидовать и удивляться, как все же сравнительно мало использовал он это богатство.
И тем не менее всем приобретенным и по-своему юношески освоенным он стремился увлечь своих сверстников, работая как педагог в четырех театральных учебных заведениях: школе при Александринском театре, школе сценического искусства А. П. Петровского, школе Ходотова, школе Заславского и Фистулари.
И, наконец, была еще собственная «Мастерская драмы».
Итак, второй линией театрального пути у нашего молодого человека была педагогика.
Третья тропинка на творческом пути нашего молодого человека вела к тайникам того искусства, которое Сергей Дягилев назвал «интимным искусством» и чему посвящена была предшествующая глава.
И, наконец, четвертой линией, четко прочерченной в ту 152 пору в моей деятельности, была напряженная творческая самостоятельная работа в период летних сезонов.
Летний театральный сезон в Петрозаводске в 1916 году, во время которого я поставил двадцать один спектакль, был очень интересным и проходил на очень высоком профессиональном уровне. Я привез туда из Петрограда свой курс учеников школы сценического искусства и продолжал воспитывать и обучать учеников в условиях жестокой требовательности профессионально-производственной работы. Помимо этого я устраивал показательные вечера, выступал на них с докладами о сути и природе театрального искусства и даже написал свою первую большую статью в местной петрозаводской газете — подвал под названием «К открытию студии сценической техники». Но, повторяю, чем глубже закапывались мы в дела такого рода, тем меньше ощущали большой смысл происходящей жизни.
Помню, вернувшись в Петроград после летнего сезона в Петрозаводске, я получил постановку в Александринском театре пьесы Георгия Чулкова «Невеста», автора, стоящего на позициях мистического анархизма. Такого рода пьесы нравились нам тогда, но в то же время они неминуемо уводили нас в сторону от реальной действительности, уносили в мистические и заоблачные сферы.
Когда вспоминаешь эти далекие времена, то понимаешь как трудно было разобраться во всех сложностях жизни, хотя автору этих строк было уже 26 лет. И не только разобраться, а просто хотя бы рассортировать происходящие события, отделив главное от второстепенного.
Помню, например, что Февральскую революцию многие театральные работники восприняли как должное и вполне понятное явление. Артисты с радостью перечеркнули красными чернилами в своих паспортах слово «императорский» театр, заменив его «государственным», и тут же нацепили на лацканы пиджаков красные банты.
Июльские события и расстрел демонстрации на Невском проспекте, против Публичной библиотеки, заставили приза думаться и актерский мир, но только призадуматься, не более. Подавляющее большинство деятелей искусства, так же как и автор этих строк, не могли еще до конца осознать смысл происходившего. И все-таки что-то меня подтолкнуло, заставило заниматься не только театром, но и принимать 153 участие в бурлящей вокруг общественно-политической жизни.
Жизнь в Александринском театре под руководством Карпова была тусклой и неинтересной. После четырех спектаклей «Маскарада» он законсервировал постановку, отстранил от всякой работы Мейерхольда, а мне сказал, чтобы я не рассчитывал впредь ставить спектакли. Скука и бездеятельность в театре вступали в острейшее противоречие с бурной жизнью, происходившей за его стенами.
Желая принять активное участие в этой бурной жизни, проходившей за толстыми стенами Александринского театра, я поступил работать в Театральный отдел политического управления Военного министерства. Это было незадолго до корниловской авантюры.
Помню свой первый визит в это учреждение.
— Здесь есть «культурный отдел»? — обратился я к часовому, не очень ясно сам представляя, что мне нужно. Но точный ответ часового Сразу же внес ясность.
— Второй этаж. По коридору налево. Комната № 7.
Это придало мне бодрости, и я, смело и уверенно поднявшись во второй этаж, постучал в дверь № 7. В большой комнате за письменным столом сидел военный в чине штабс-капитана (это я понял разглядев на погонах количество звездочек). Я считал звездочки, а военный пристально смотрел на меня.
— Вы Петров? — неожиданно спросил капитан, вставая из-за стола. — А я вас давно разыскиваю, — сказал он, подойдя ко мне и протягивая руку. — Моргенштиерн, Виктор Федорович Моргенштиерн. Вспомните Вологду, 1905 год, и вы вспомните и меня.
Мгновенно в памяти воскресла жизнь в Вологде, подпольные кружки и один из руководителей кружка Виктор Моргенштиерн.
— Я руковожу культурно-просветительным отделом министерства и мне нужен начальник театрального отдела. Можете вы взяться за эту работу? — спросил он, усаживая меня в кресло у письменного стола.
Обстоятельства складывались как-то сами собой, и я, не задумываясь и ничего не спрашивая о сути работы, радостно ответил:
— Конечно, могу.
154 Я усиленно разрабатывал проект «Дворца солдата», писал статьи о «долге гражданина» и в основном освобождал актеров от призыва в армию. Мне как начальнику театрального отдела было предоставлено такое право.
Видимость деятельности была у меня полная, и где-то в глубине души я даже думал, что приношу пользу революции. Во всем политическом управлении были только два штатских работника — Н. Н. Карбасников, ведавший книжно-библиотечным отделом, и я.
В комнате, где мы работали, в углу, была винтовая лестница, которая вела в аппаратное отделение, где находился прямой провод со ставкой. В стене, напротив наших столов, была всегда закрытая дверь. И вдруг эта вечно закрытая дверь с треском распахнулась, по бокам вытянулись «во фронт» два молодых прапорщика, и через несколько секунд стремительной походкой влетел «верховный правитель России» — Керенский. Он молниеносно взбежал по лестнице Когда на верхних ступеньках затихли удары каблуков, появился человек в визитке, в котором мы узнали министра иностранных дел Терещенко, и проследовал за премьером. Потом еще кто-то — кажется, это был князь Львов. Не меньше полутора часов вся компания находилась у провода.
Наконец, истерически визгливый крик возвестил появление особы «верховного правителя России», столь же молниеносно слетевшего вниз по винтовой лестнице.
Прямо от лестницы каким-то диким прыжком Керенский метнулся к креслу, повалился в него и начал ругаться. Матерщина не сходила с его уст. На губах у «правителя» появилась пена. Выпученные глаза, матерная ругань, пена у рта — такова была не только видимость, но и сущность этого незадачливого «верховного правителя». А рядом с ним стоял великолепно одетый Терещенко и в паузы ругани вставлял какие-то реплики на французском языке. Черная визитка, полосатые брюки и французская речь, как ни странно, очень гармонировали с истерией Керенского.
Если бы я был художником, я мог бы нарисовать эту картину, настолько она запечатлелась в моей памяти во всех мельчайших деталях. Картину можно было бы назвать «И это власть?» Вероятно, именно эти мысли и возникли у меня тогда. И, возникнув, они логически и последовательно 155 начали расставлять явления жизни в новый для меня порядок.
Где же и с кем ты должен быть?
Вот тот мучительный вопрос, который возник в сознании, когда мы слушали дуэт французской речи и матерной ругани.
И когда в опустевшее здание Военного министерства (все военные начиная с двадцатых чисел октября постепенно исчезали, и остались только повара, шоферы и мы с Карбасниковым) прибыла во главе с Крыленко военная комиссия Смольного, ответ на главный вопрос в жизни был готов.
— Хотите ли вы работать с Советской властью?
— С радостью, — ответили мы с Карбасниковым, и эту радость я сохранил и по сей день, как бы вновь родившись и начав новую жизнь, и она-то, эта радость, и дает силу и молодость в работе.
Театральными делами Народного дома в те времена ведала Мария Федоровна Андреева, жена Горького. Я был у нее на одном из совещаний по делам театра, и когда совещание закончилось и все разошлись, она предложила мне пройти с ней к Алексею Максимовичу.
При этом Мария Федоровна с таинственной значительностью прибавила: «У него там сейчас Ленин».
Мы вошли в столовую.
За огромным обеденным столом, в центре, сидел Горький, ярко освещенный лампой с большим желтым абажуром. Поставив локоть правой руки на стол, не выпуская сигареты изо рта, он нервно курил и внимательно слушал А. В. Луначарского.
Луначарский взволнованно ходил по комнате и произносил большой монолог, начатый им, вероятно, задолго до нашего появления.
Несколько отодвинувшись от стола, в тяжелом кожаном кресле уютно расположился Владимир Ильич. Он сидел, положив правую ногу на левую, и на колене держал чашку чая, медленно помешивая ложечкой и следя за быстро ходившим Луначарским.
Смысл выступления Луначарского заключался в стремлении доказать, что большевики не имеют еще права брать власть в свои руки. Не помню я, конечно, и тех доказательств, 156 которые приводил Луначарский, отстаивая свою точку зрения. Но он говорил страстно и, как мне казалось тогда, убедительно.
Мрачно и сосредоточенно слушал его Алексей Максимович.
Лукаво и озорно наблюдал за ним Ленин.
И вдруг, не дав Луначарскому договорить его пламенного монолога, Владимир Ильич постучал ложечкой о край чашки, как бы останавливая оратора, и, улыбаясь, сказал:
— Анатолий Васильевич, хотите сыграем в игру?
— В какую игру? — удивленно спросил Луначарский и даже опустился на стул.
Удивленно повернулся и Горький к Ленину, перестав курить и ткнув папиросу в пепельницу.
Воцарилась пауза, а Ленин, все еще продолжая улыбаться, начал говорить.
— Я вам задам… — он неожиданно остановился, улыбка исчезла с его лица, и было почти видно, как стремительная и точная мысль овладевала его сознанием.
Пауза продолжалась не более пятнадцати-двадцати секунд, и, вновь улыбнувшись, он продолжал:
— Я вам задам… тринадцать вопросов. Только вы не дискутируйте, а точно отвечайте на каждый вопрос: «да» или «нет». Только «да» и «нет», и не вступайте в полемику.
Улыбнулся Горький, улыбнулся и Луначарский, согласившийся принять участие в столь неожиданной «игре».
Если бы память сохранила не только видимую сторону этого эпизода, а его философское содержание!
Если бы я запомнил и мог сообщить читателю эти вопросы!
Каким бы величием человеческой мысли обогатились эти страницы. Но, увы, память моя не сохранила вопросов Ильича, не запомнила их и Мария Федоровна, которая созналась в этом много лет спустя, на конференции ВТО, посвященной вопросам создания образа Ленина.
А запомнилось лишь то, что не на тринадцатом, а на одиннадцатом вопросе: «Должны ли большевики взять власть в свои руки?» — Анатолий Васильевич, беспомощно разводя руками, ответил: «Да».
И вспоминая этот эпизод «игры» за столом в столовой у Горького, я всегда невольно восстанавливаю в памяти и 157 другой облик Владимира Ильича, когда, выступая с балкона особняка Кшесинской, он бросал в многотысячную толпу огненные мысли программы действий большевиков, и мысли эти не только овладевали сознанием тысяч людей, но и становились их собственными мыслями, организуя каждого к «решительному бою».
Штабом подготовки к этому «решительному бою» был Смольный институт, где мне довелось побывать 23 октября 1917 года.
Как я уже говорил, одним из разделов моей деятельности в Военном министерстве было освобождение актеров от военной службы.
Этих освобожденных актеров тем не менее зачисляли в воинскую часть. Память даже сохранила номер «142-й пехотный запасный полк». Такого полка, кажется, вообще не существовало, и актеры, продолжая работать в театрах, числились за ним фиктивно.
Так вот, в связи с этим «142-м пехотным запасным полком» и поехал я в Смольный 23 октября 1917 года как представитель Военного министерства.
Три ощущения, именно ощущения, а не воспоминания, сохранились в моей памяти от этого посещения Смольного.
Войдя в нижний коридор, я почувствовал, что ноги мои идут не по каменному полу, а по какому-то своеобразному ковру, состоящему из обрывков газет и бесчисленного количества брошенных окурков.
Второе ощущение связано с тем, что мне долго не удавалось найти нужную комнату, так как из-за махорочного дыма невозможно было увидеть номера на дверях.
Несколько раз, преодолевая эту дымовую завесу и только вплотную подойдя к той или иной двери, я с трудом различал цифры.
И третье ощущение — это почти полное отсутствие человеческих голосов и невероятный металлический гул от складываемых в кучи винтовок и пулеметов и проверки действия их механизмов.
Все эти ощущения остро сохранились в моей памяти, и когда в 1937 году я ставил «Правду» Корнейчука в Театре Революции, то стремился воссоздать именно эту образность «предлагаемых обстоятельств» в нижнем коридоре Смольного. Помню, что у консультантов, помогавших мне в работе, 158 сразу же возникали несогласия: Подвойскому хотелось, чтобы все носило более организованный военный характер.
Бонч-Бруевич стремился убедить меня в том, что уже в те дни существовала огромная государственная дисциплина.
А Алилуев уговаривал меня совершенно отказаться от того, «где» и «как» все это происходило, и сосредоточить внимание главным образом на человеческих взаимоотношениях.
И как по-своему прав был каждый из моих дорогих консультантов.
Будучи активным участником революции, отдавая все свои силы, волю, энергию борьбе за ее торжество, выступая в качестве посланца партии на определенном участке, каждый из них по-своему и свое хотел видеть в изображении великих исторических событий.
159 Глава 5
Театр и жизнь
Я не буду уверять читателя, что мощный Октябрьский вихрь сразу же сорвал с моих глаз повязку и я политически прозрел, точно так же как на протяжении всего своего повествования я ни разу не стремился доказать и то, что первыми моими словами после рождения были «социалистический реализм» и «идейная сущность».
Все было как раз наоборот, и я продолжал свою театральную работу, правда, с оглядкой на то, что в жизни произошло что-то очень значительное, но тебе еще не дано понять полностью это значительное. А раз еще не дано, то естественно, что твои прежние суждения и понимание театральных вопросов продолжали руководить и практической твоей деятельностью.
Вспоминаю последние дни своего пребывания в Военном министерстве.
Грозные события надвигались. Военное министерство опустело, появилась возможность больше времени уделять театральной школе, в которой я продолжал работать, и это было очень кстати, так как приближался выпуск учебного спектакля.
160 Какую же пьесу мы ставили в эти решающие дни?
«Снег» Станислава Пшибышевского.
Так вот, шли мы с учениками по направлению к Невскому проспекту и оживленно беседовали о только что прошедшей генеральной репетиции. Дойдя до Невского, мы остановились, чтобы проститься и разойтись по домам.
Вдоль Невского горели костры, и около них дежурили красногвардейские патрули. Где-то вдалеке раздавались выстрелы, но мы уже привыкли к стрельбе и не обращали на нее внимания.
— Вы, Люся Петрова, играете Бронку, — поучал я своих подшефных, — помните, что мы строим символический спектакль, где вы изображаете символ жизни, Ева — символ страсти, Казимир — рассудок, Макрина олицетворяет рок, судьбу. Тадеуш же — вы, Назаров, — единственный являетесь человеком. Бронка ваша жена, ваша жизнь, но в вашей душе бушуют противоречия, происходит борьба разума и страсти…
Мне не удалось довести до конца свое напутствие, так как беседу прервали два орудийных выстрела.
— Уже из пушек стреляют, — констатировал Левушка Кондратьев — символ рассудка.
— Да, вот она настоящая-то жизнь, — тревожно сказала Люся Петрова.
— А в Александринском театре сегодня играют «Флавию Тессини», — вновь сосредоточенно произнес Левушка.
— Черт его знает, ни-че-го не разберешь! — вставил Тадеуш — Назаров.
Мы расстались, а на утро в «Известиях рабочих и солдатских депутатов» прочли, что вновь организованная Советская власть взяла в свои руки руководство страной.
Мечты лучших людей прошлого воплощались в жизнь, свершались грандиознейшие события, открывалась новая страница истории человечества, а театральная молодежь готовила к выпуску «Снег» Станислава Пшибышевского, и в старейшем русском театре тогдашний зритель умильно проливал слезы, присутствуя на сентиментальном представлении «Флавии Тессини».
Величайший разрыв существовал в те дни между искусством, призванным отражать жизнь, и самой жизнью!
Вспоминается еще один спектакль того времени, поставленный мною с той же школьной молодежью.
161 Пьеса Шарля Нозьера «Севильский кабачок» привлекла нас своим испанским темпераментом и лаконичностью языка. Она представляла собой очень добротный драматургический материал.
Мне хотелось внести нечто новое в нашу театральную работу. Материал «Севильского кабачка» показался крайне подходящим для подобного эксперимента, и работа началась.
Мы разбили текст пьесы на огромное количество самостоятельных маленьких эпизодов. Здесь были и сюжетные эпизоды, и эпизоды мысли, и эпизоды чистых, обнаженных страстей.
Все эти отдельные эпизоды мы проработали актерски, так что исполнители владели своеобразными короткими кадрами, посвященными определенной теме. И забавно было то, что не кинематография подтолкнула нас на этот эксперимент, а живопись (я очень увлекался в то время живописью). Затем мы прочертили один генеральный сюжет любовной темы, который проходил через всю пьесу, локализовав его от всех остальных сцен.
Когда такая работа была проделана, мы начали то, что киноработники называют монтировать все заготовленные эпизоды, но, в отличие от кино, мы их монтировали не в последовательности, а в совокупности.
На сцене шел основной генеральный сюжет и неожиданно прерывался другой сценой, иногда одной, а иногда и двумя и тремя. Были куски в спектакле, когда шло одновременно восемь совершенно различных самостоятельных сцен.
Жизнь, возникнув в одном месте, прерывалась, начиналась другая сцена, на нее наслаивалась следующая и так, путем своеобразного «монтажа», был построен весь спектакль.
Спектакль «Севильский кабачок» в своем обычном течении продолжается три с половиной часа, в нашем варианте с перемонтированным текстом он заканчивался за один час десять минут. И если бы передо мной не лежала программа спектакля, названного «Кровь и веер», я не поверил бы этому.
Вот какими творческими делами занимались мы, когда молодая Советская власть создавала государственный аппарат, восстанавливала разрушенное хозяйство и зорко следила за вражеским капиталистическим миром, мечтавшим 162 задушить вновь рожденное молодое государство трудящихся.
Конечно, молодым хозяевам жизни было не до театров в эти грозные дни, столь ответственные перед историей человечества.
И в то же время именно в эти-то дни, в феврале 1918 года, я неожиданно получил предложение из Петрозаводска принять на себя руководство летним театральным сезоном Петрозаводчане знали меня по летнему сезону 1916 года, и ничего удивительного в этом не было.
В невероятнейших условиях, ибо транспорт был разрушен, выезжал я в начале марта из Петрограда в Петрозаводск для переговоров.
В Петрозаводске меня радушно встретили старые друзья и сообщили, что вечером в исполкоме стоит вопрос о летнем театре. И опять-таки сохранившийся документ напоминает об этом эпизоде.
«Протокол № 36 заседания Исполнительного комитета Олонецкого губернского Совета РС и К. Депутатов.
Слушали: 1. Ходатайство гражданина Малявина о сдаче ему летнего театра городской управой. Ходатайство гр. Малявина отклонить. Предоставить театр артисту Петрову и предложить городской управе заключить с ним контракт».
Приказом по Комиссариату просвещения я был назначен инструктором Олонецкого губернского народного театра, а согласно договору с городской управой являлся антрепренером. Я не очень ясно представлял себе свои обязанности, но знал только, что антрепренеры составляют бюджет дела из расчета тридцатипроцентной посещаемости. Тотчас же по возвращении в Петроград я начал подготовлять сезон и формировать труппу.
Лето 1918 года
Состав труппы для летнего сезона был более чем благополучный. Одно имя Е. П. Корчагиной-Александровской служило порукой, и она блистала среди товарищей по Александринскому театру. Помимо нее в труппу были приглашены замечательные артисты: Н. С. Рашевская, А. П. Есипович, П. И. Лешкова, К. Н. Вертышев, 163 А. И. Смирнов, Юр. Юрьин, Елизавета Плансон и другие Коллектив был дружный, работал, что называется, на совесть, и за лето я поставил тридцать восемь спектаклей-премьер, причем некоторые из них шли даже по два и по три раза, что было совершенно неожиданно и непривычно для летних провинциальных сезонов.
Посещаемость спектаклей превзошла все мои ожидания Я строил свои расчеты, исходя из предполагаемых тридцатипроцентных сборов, а на деле случилось так, что посещаемость превысила сто процентов и к концу сезона достигла ста четырнадцати.
Я буквально не знал, что делать с деньгами, и, принося их домой, складывал в небольшой сундучок, который стоял у печки. Я был рад, что сезон проходит хорошо, аккуратно выплачивал жалованье актерам, и в новом для меня качестве антрепренера чувствовал себя превосходно. Но когда я увидел, что сборы изо дня в день повышаются, то меня охватила своеобразная тревога: мне стало стыдно смотреть на мой сундучок, который с каждым днем становился все тяжелее. Я нашел выход из положения и объявил, что жалованье артистам увеличивается вдвое.
И как бы в ответ на такое мое распоряжение сборы снова повысились. Проклятый сундучок продолжал быть набит деньгами. Товарищи, заходя ко мне, всегда спрашивали: «Ну, как поживает кубышка?» О, эта подлая «кубышка» буквально не давала мне покоя! Через некоторое время, подсчитав прибыль, я увеличил жалованье актерам еще вдвое.
Не вышел из меня прижимистый антрепренер!
Бенефисы проходили торжественно, с большим количеством цветов и подношением ценных подарков. Погода стояла великолепная. Казалось бы, оставалось только радоваться и дружно работать. Однако же под внешним благополучием назревал конфликт.
С некоторых пор я стал замечать, что среди моих учеников из Петроградской театральной школы, приехавших со мной, стали появляться какие-то нездоровые настроения. Как будто кто-то влиял на их сознание, на их понимание вопросов театрального искусства, и это понимание вступало у них в конфликт с тем, чему я их обучал в школе. А что может быть обиднее для педагога, когда он замечает утрату своей педагогической воли над воспитуемым?
164 Я узнал, откуда шли эти влияния: нашлись товарищи, которые в эти чудные летние дни где-нибудь на лужайке, под березкой, произносили перед молодежью своеобразные, «нагорные проповеди».
Одним словом, молодой педагог, руководитель студии, главный режиссер и антрепренер летнего сезона — будем о нем говорить в третьем лице, ибо уж очень нелеп был случай, о котором идет повествование, — начал замечать у молодежи известное охлаждение к своей особе. Некоторые студийцы стали относиться к нему так, как будто он их в чем-то обманул.
А погода, как назло, стояла прекрасная, и дела шли успешно, и все это еще больше подчеркивало неблагоприятное отношение к нему молодежи.
«Застрелюсь!» — решил он в одну из бессонных ночей и задумал облечь свой замысел в самую что ни на есть театральную форму.
«Я застрелюсь так, что об этом узнает весь город. Я смерть свою противопоставлю черной неблагодарности учеников и злым козням некоторых “друзей”. Пусть будет им стыдно, и пусть смерть моя будет для них на всю жизнь жесточайшим уроком». О, я зачитывался тогда Ницше и глубоко пессимистической книгой Макса Штирнера «Единственный и его собственность». И поэтому рассуждал примерно так:
«Я обучал три года своих учеников. Более того, я их воспитывал. Я привез их сюда и дал возможность молодежи проверить себя профессионально. Наконец, я им устроил бенефис, и они за один вечер получили каждый столько денег, сколько молодой актер не заработает за весь сезон. И вот благодарность за все это! Нет! Нет! Единственный выход — застрелиться!»
А театральная форма самоубийства была замыслена так. В ближайшие дни должна была идти повторным спектаклем «Жизнь человека» Леонида Андреева. И вот в тот момент, когда Некто в сером в последнем акте произнесет свою реплику: «Тише, человек умер», — за кулисами раздастся выстрел и наш несчастный герой окончит дни своего существования.
На первом спектакле роль Некто играл я сам, а теперь я нашел повод поручить в спектакле эту роль К. Н. Вертышеву.
165 Все шло по намеченной программе. Мрачная пьеса Л. Андреева создавала тяжелое настроение в зрительном зале. Спектакль приближался к концу, и я нащупывал в кармане браунинг и нисколько не сожалел о принятом решении.
«Я спокоен, как страна, опустошенная чумою», — вспомнил я реплику из какой-то пьесы.
А неумолимый ход времени приближал трагическую развязку.
Вот идет сцена умирания «Человека», вот вспыхнул свет, освещающий роковую фигуру «Некто». Еще несколько мгновений и он произнесет свою финальную реплику.
«Проверю предохранитель и положу палец на курок»…
Сейчас Некто скажет свои решающие слова…
«А почему нет музыки? Почему не вступил оркестр? Опять накладка помощника!!! Кто сегодня ведет спектакль? Ах, да! Сергеев. Ну что за безобразие, вечно у него накладки!»
Такие мысли вихрем неслись в сознании нашего героя, и он, мгновенно переключившись из самоубийцы в режиссера спектакля, стремительно метнулся к оркестру, дал вступление, шепнул Некто, что произошла накладка, и профессиональным ухом прислушался к зрительному залу, стремясь понять, замечена ли накладка.
«Нет, кажется, не заметили».
— Костя! Костя, говорите свою реплику, — громким шепотом обратился он к К. Н. Вертышеву.
Все это произошло буквально в одну-две секунды. И какова же была радость режиссера, когда Вертышев своим красивым низким голосом торжественно произнес:
— Тише, человек умер!
— Ну, слава богу, все прошло благополучно, — радостно шепнул режиссер помощнику, когда тот с виноватым видом подошел к нему.
Короткая финальная сцена старух, и занавес медленно начал закрываться.
Я вместе с исполнителями несколько раз выходил кланяться, ибо зритель очень взволнованно принял этот спектакль. Только на четвертом занавесе вспомнил я о своей затее.
— А как же?..
Но было уже поздно. Жизнь внесла свои коррективы в безрассудное поведение молодого педагога.
Спектакль окончился. Зрители покидали театр. Часть из 166 них направилась к актерскому входу, чтобы еще раз приветствовать своих любимцев.
Разгримированные актеры, оживленно разговаривая, проходили по сцене, спеша домой, а наш герой растерянно стоял в кулисах.
«Нет, не получился из меня ни антрепренер, ни самоубийца!»
Комический эпизод произошел на спектакле «Бабушка» — комедии Кайаве.
Центральную роль бабушки великолепно играла Е. П. Корчагина-Александровская.
Спектакль шел благополучно, но нервы всех участников были очень напряжены, так как это была комедия, а играть комедии с двух-трех репетиций значительно труднее, чем драмы. Драматическая пьеса не требует от актера такого напряженного по ритму действия, не гонит стремительно вперед. Иное дело комедия, да еще французская, когда от тебя, как от актера, требуется и великолепное владение диалогом, и легкость, и стремительность, и точность, и выразительность сценического поведения.
Огромную роль в театрах того времени играл суфлер. Сейчас эта профессия совершенно вырождается: теперь даже актер, обладающий скверной памятью, за сто репетиционных дней волей-неволей овладевает текстом, и суфлер на спектаклях скорее следит за текстом, чем подает слова.
Совершенно другую роль играл суфлер в театральных делах далекого прошлого, и успех сезона зачастую определялся его способностью подавать текст.
Играть с хорошим суфлером было просто наслаждением, но, конечно, и у актера должно было быть воспитано умение слушать суфлера. Арсенал техники актерского мастерства не считался полным, если ты не умел играть под суфлера.
А какие были мастера суфлерского искусства! Это были не только профессионалы, но и художники, и актер спокойно выходил на сцену, зная, что опытный «лоцман» благополучно проведет его по сложному «фарватеру» спектакля. Они буквально вели спектакль, как дирижеры, умея послать текст на любую точку сцены и великолепно понимая психику актера, никогда не мешали ему в паузах назойливым повторением последующей реплики.
Именно таким блестящим суфлером обладали мы в летнем 167 сезоне и спокойно выходили на сцену, зная, что в будке сидит Ваня Родионов.
Все шло благополучно и на этот раз, когда мы весело разыгрывали комедию «Бабушка» на петрозаводской сцене. Второй акт приближался к концу. В последней сцене акта были заняты Е. П. Корчагина-Александровская, Саша Смирнов и автор этих строк. Именно этим трем образам автор предоставил право, а вернее, возложил на них ответственность развязать сложные, запутанные комедийные ситуации и, неожиданно повернув ход событий, создать новое комедийное положение, на котором и оканчивался акт.
Повторяю, что все шло благополучно и мы в ходе стремительного диалога с помощью суфлера быстро приближались к новой комедийной коллизии, как вдруг произошел инцидент, редко случающийся на сцене.
Во время какой-то длинной моей реплики, обращенной к Саше Смирнову, я услышал, как Екатерина Павловна, которой по ходу действия не полагалось произносить никакого текста, не то, чтобы что-то сказала, но издала какой-то звук. Как актер, обязанный реагировать на каждое сценическое обстоятельство, я повернулся к ней, желая узнать, какую же новую творческую тему предлагает мне моя замечательнейшая партнерша, чтобы, приняв ее, продолжать дальнейшую игру. Но то, что я увидел, было столь неожиданно, что мгновенно остановило стремительный поток произносимых мною слов. «Бабушка» не предлагала мне никакой новой темы, а просто едва удерживалась от смеха, и неожиданный звук был результатом того, что она правой рукой пыталась зажать себе рот. Не повернись я к ней и продолжай свою сцену с Сашей Смирновым, все прошло бы незамеченным, но, увы! Я услужливо повернулся к ней и ответил репликой на реплику. Короче говоря, я не мог удержаться и фыркнул «бабушке» в лицо.
Все это произошло буквально в секунду.
Сейчас же за моей спиной фыркнул Саша Смирнов… Уже полным голосом и совершенно откровенно хохотала Корчагина-Александровская, буквально захлебывался смехом Саша Смирнов, а у меня начались рези в желудке от хохота, овладевшего мною. Затем хохот перешел в истерику.
Затихший зритель сначала смотрел на трех актеров с недоумением, предполагая, вероятно, что они сошли с ума, но через несколько секунд стихийная сила смеха на сцене перекинулась 168 в зрительный зал, причем с такой силой, что нам троим сначала сделалось даже страшно, но это была только секунда, и мы вновь начали хохотать.
Хохотали мы, хохотал зритель, в стенах театра разразилась буря смеха.
Неизвестно, чем закончилась бы эта буря, если бы вдруг из зрительного зала не раздался пронзительный женский крик.
— Опустите занавес! — истерически взвизгнул кто-то.
Занавес опустился. Все начали успокаиваться.
Первым пришли в себя три профессиональных актера на сцене. Они сконфуженно посматривали друг на друга и прислушивались к затихающему зрительному залу. Наконец в театре водворилась тишина, мы договорились, откуда начнем сцену, шепнули об этом суфлеру и решили достойно окончить акт.
Занавес подняли, и мы, вполне владея собой, начали финальную сцену.
Все шло благополучно, но приближалось место катастрофы, и каждый из нас, внутренне собравшись, готов был мужественно перешагнуть через роковую реплику, породившую скандал.
Никогда в жизни я не был так сценически собран и сосредоточен, как в эти последние секунды, отделявшие меня от злосчастной реплики. А вот наконец и она. Я начинаю ее произносить, уже сказал половину фразы, вот-вот, и мы перескочим опасный барьер, но…
Вновь неудержимый шквал смеха овладел всеми нами, и буквально повторилось все сначала.
Хохотали мы, хохотал зритель, и снова раздались отчаянно умоляющие крики:
— Опустите занавес!
Занавес опустили, и, совершенно растерянные, в полном изнеможении от хохота, мы опять договорились, откуда начать играть.
— Давайте возьмем текст несколько раньше, успокоимся на разгоне сцены и, может быть, благополучно перескочим это проклятое место, — советовал Смирнов.
— Колечка, я удержусь, я ей богу не буду больше смеяться, мне даже сейчас страшно и совершенно не до смеха, — со слезами говорила Корчагина.
Условились начать сцену значительно раньше роковой реплики, и вновь занавес был поднят.
169 Какая торжественная, буквально соревнующаяся тишина царила и на сцене, и в зрительном зале. В гробовой тишине проходила комедийная сцена, но зритель молчал, вероятно, опасаясь повторения пройденного.
Вот и роковая реплика.
Я произношу ее благополучно, в тишине принимается она и зрителем, и мы, счастливые, что преодолели непонятный барьер, начинаем играть финал акта.
Осталась одна страница текста и второй акт комедии «Бабушка» будет окончен. Но…
Ох, уж эти но… Именно в самом не смешном месте акта из зала, где царила, как я говорил, настороженная тишина, неожиданно раздался одинокий душераздирающий взвизг смеха.
Этого было совершенно достаточно, чтобы смех, удерживаемый нами и зрительным залом, вновь вырвался наружу.
В третий раз, как будто идеально срепетованная, повторилась сцена стихийного хохота.
Так мы и не окончили на этом спектакле второго акта «Бабушки».
Через несколько дней местный рецензент так описывал этот спектакль:
«… В последнем действии Н. В. Петров при сотрудничестве Е. П. Корчагиной-Александровской и А. И. Смирнова нашел “ритм пьесы” и воплотил в жизнь искрящийся, серебристый, беспечный французский юмор. Его игра оказалась столь богатой солнечным весельем, что публика пережила, точно молниеносную, острую эпидемию смеха.
Хохот до слез передавался из зала на сцену. Участвовавшие в пьесе актеры поддались могучей психологической волне и… рассмеялись так же искренне, не будучи в силах играть.
Вслед за ними та же участь постигла и самого Н. В. Петрова. Настала минута общего неудержимого припадка смеха, разрядившегося громом аплодисментов.
С этим художественным достижением следует от души поздравить его виновника Н. В. Петрова. Пусть такое слияние станет частым — в смехе, в слезах или других ощущениях — безразлично. Это ведь и есть то самое, чего публика ждет от современного театра».
И если в этом летнем сезоне выяснилось, что я не обладаю качествами, нужными антрепренеру, если предстал я перед 170 читателем как неудачник-самоубийца, то данный эпизод ясно доказывает, что актерским качеством заразительности в молодые годы я обладал вполне. А откровенно говоря, вот эта моя смешливость и была одной из причин, почему я со временем бросил актерскую работу, окончательно расставшись со своей заветной мечтой стать трагическим актером. И если много удачно сыгранные мною комедийных ролей как будто подтверждали слова К. С. Станиславского: «Поступайте в фарс, большие деньги будете зарабатывать», — то в своей режиссерской практике я, поставив бесконечное количество комедий, все же всегда с особым удовольствием работал над спектаклями, которые условно для себя называю «философскими».
Это, несмотря на все их различие, — «Тот, кто получает пощечины» Андреева, «Фауст и город» Луначарского, «Ночь» Мартине, «Земля» Валерия Брюсова, «Здесь славят разум» Василия Каменского, «Страх» Афиногенова, «Ваграмова ночь» Первомайского, «Памятные встречи» Утевского, «Жизнь в цитадели» Якобсона, «Они знали Маяковского» Катаняна и, наконец, наша совместная работа с С. Юткевичем и В. Плучеком — «Баня» Маяковского.
Вот, поди ж ты, какие бывают противоречия!
«Фарсовый актер»… и философские спектакли. Но об этом мы побеседуем позднее, а сейчас остановим «машину времени» на зиме 1918 года.
Зима в провинции
Приближалась первая годовщина Советской власти. Это было грандиознейшее событие. Ведь многие предсказывали, что Советская власть продержится не более трех-четырех дней, более осторожные пролонгировали этот срок до двух недель, но прошел год, а молодое государство трудящихся становилось все более очевидным жизненным фактом.
Осень в Петрограде была противная, и ранний снег, перемежаясь постоянно с дождем, завалил всю землю отвратительной холодной жидкой кашей.
Было мокро и скользко, холодно и голодно. Театры жили в какой-то растерянности. Александринский театр даже временно прекратил играть спектакли в своем помещении. 171 Только благодаря огромному такту и настойчивости А. В. Луначарского, проводившего линию партии, удалось внести известный порядок в жизнь бывшего императорского театра, напоминавшего в ту пору развороченный муравейник.
Но страсти продолжали бушевать внутри театров, нескончаемые совещания, заседания и митинги заполняли большую часть рабочего дня. Часть актеров покидала Петроград и уезжала на юг с тайной мыслью перебраться за границу, часть, затаив злобу, примолкла, и только небольшая группа энтузиастов нового стремилась наладить творческую жизнь. Но повернуть на новые рельсы тяжелую машину императорских театров было не так-то легко. Работа не клеилась. А петрозаводчане очень уговаривали меня взять на себя организацию и руководство зимним сезоном. Зимнего театрального сезона в Петрозаводске раньше никогда ее бывало, но новые времена и летний успех вселяли надежду на возможность такого мероприятия. Особенно увлекала ответственность самой задачи, и в конце концов мы согласились принять почетное предложение. И все же, составляя репертуар, закупая пьесы и занимаясь частичным переформированием летней труппы, я где-то в глубине души испытывал большое волнение.
«А не переоценили ли мы свои силы, и справлюсь ли я с такой большой работой? Ведь новые времена требуют и чего-то нового в искусстве. Пойму ли я это новое и смогу ли ответить на неизвестные мне пока, но, несомненно возникающие новые требования?»
Такие мысли бродили в моей голове, когда я переходил площадь у цирка Чинизелли, шлепая по грязи и подняв воротник пальто, чтобы хоть немного спастись от снега, падавшего огромными мокрыми хлопьями.
— Николай Васильевич!
Посреди площади стоял автомобиль. Дверца автомобиля была открыта, я подошел поближе.
— Входите, входите. Садитесь. Закройте дверцу. У меня есть к вам дело… — сказала Мария Федоровна Андреева, знакомя меня с человеком, сидевшим в машине.
Организуется комиссариат театров и зрелищ Союза коммун Северной области. Я назначена комиссаром, а Петр Петрович (она указала на человека, сидевшего в машине) будет управляющим делами комиссариата. Вас же я приглашаю быть заведующим художественной частью комиссариата.
172 По дороге я рассказал о петрозаводском сезоне и сказал, что через три дня мы всем коллективом отбываем на места работы.
— Петрозаводск? — переспросила Мария Федоровна. — Так ведь это как раз в моем подчинении. Хотите, я кого-нибудь назначу вместо вас, а вы оставайтесь здесь?
Соблазн, конечно, был велик, но, поблагодарив будущего комиссара за лестное предложение, я попрощался и вылез из машины.
— Во всяком случае, если что нужно будет, обращайтесь прямо ко мне…
Через несколько дней всем коллективом мы приехали в Петрозаводск на зимний сезон. И первое, с чем мне пришлось столкнуться, — это неясность моего правового положения в новой по форме организации театра.
Летом я был полноправным хозяином дела, а сейчас являлся работником подотдела искусств Наробраза.
И если во всех творческих и организационных вопросах мне была предоставлена полная свобода, то в области экономики я должен был подчиняться той финансовой дисциплине, которая устанавливалась городскими властями.
Но только что созданный подотдел искусств был молод, во главе его стоял человек, не обладавший организационными способностями, боязливый и скорее напоминавший чиновника старого времени, чем молодого хозяина новой жизни. Он сразу же потребовал, чтобы все деньги, получаемые со сборов за спектакли, вносились в банк, а деньги на текущие расходы и зарплату актерам обещал выплачивать из сметы, которая была мною ему представлена, но которую он никак не мог утвердить в соответствующих инстанциях.
Дело пошло сразу же хорошо, сборы были полные, но актеры целый месяц не получали зарплаты, а на постановочные расходы мы не могли затратить ни одного рубля. Труппа протестовала, а зритель начал упрекать в бедности внешнее оформление спектакля. Назревал конфликт.
Я вспомнил обещание Марии Федоровны и написал ей подробное письмо.
Через несколько дней Петрозаводский отдел народного образования получил приказ от комиссара театров и зрелищ, в котором говорилось, что «Н. В. Петров назначается представителем Комиссариата театров и зрелищ Союза коммун Северной 173 области и руководителем Петрозаводского театра с непосредственным подчинением театра комиссариату».
Сезон прошел благополучно и экономически, но прибыль от сезона (а таковая была, и не маленькая) получил не подотдел искусств в Петрозаводске, а Комиссариат театров и зрелищ.
Летом мы поставили тридцать восемь спектаклей-премьер за два месяца, а за восемь месяцев зимнего сезона (он прервался в связи с наступлением на севере белофиннов и началом эвакуации Петрозаводска) всего пятьдесят пять спектаклей, так как каждая пьеса шла обычно по два-три, а иногда и по четыре раза. Это было нечто новое в провинциальном сезоне.
Жажда деятельности побуждала нас искать новые формы общения со зрителем. Ряд программ извещал публику о том, что такого-то числа Н. В. Петров сделает доклад на тему «Сущность театра и элементы строительства спектакля», или «Движение действия в спектакле», или «Внутренний диалог на сцене», а во втором отделении артистами театра будут сыграны такие-то отрывки, как демонстрация и утверждение основных тезисов доклада. Внутри коллектива мы называли эти вечера «Школа зрителя».
При театре мы организовали студию, в которой обучалась петрозаводская молодежь, и силами этой молодежи были поставлены показательные спектакли, сопровождавшиеся опять-таки моими комментариями.
В бюллетене подотдела искусств чуть не в каждом номере появлялись мои статьи по вопросам театра — «Искусство театра», «Зритель, как участник спектакля», «Быт — романтика — бунт», «Пути художественной пропаганды», «Театр четырех ступеней и единого ритма», «Действие и действие», «О сущности и форме», «Актер и спектакль», «Форма художественного произведения», «Школа и театр», «О кризисе театра», «Театр — сегодня, театр — завтра», «Итоги зимнего сезона народного театра драмы» и т. д. и т. д.
И, наконец, нельзя не вспомнить бесконечное количество вечеров, проведенных нами после спектаклей и объединивших группу актеров театра с некоторыми жителями города под знаком «Таранты».
А что такое «Таранта»? — спросит читатель.
Этот же вопрос возник и у А. В. Луначарского, когда в день 174 первого исполнительского вечера «Таранты» он получил из Петрозаводска телеграмму, извещавшую его о рождении «Таранты».
Впоследствии, когда я работал над постановкой его пьесы «Фауст и город», Анатолий Васильевич вспомнил этот случай.
— Среди бесконечного количества дел, организационных вопросов, выступлений и переписки я был, откровенно говоря, озадачен вашей телеграммой. Но раз родилась «Таранта», я должен был ее поздравить. Я не очень хорошо понимал еще, что это такое, но всякое рождение нового меня всегда радует. Вот почему я и счел своим долгом и обязанностью послать вам телеграмму, — говорил, смеясь, Анатолий Васильевич.
А вот ответной телеграммы от Марии Федоровны мы не получили.
— Получив вашу телеграмму, я, откровенно говоря, ничего не поняла, но забеспокоилась, правильно ли я сделала, назначив вас уполномоченным комиссариата, — говорила она при встрече.
Так что же такое была «Таранта», вызвавшая два столь различных отношения у двух наркомов?
Среди членов «Таранты» был популярнейший гинеколог Петрозаводска М. Ф. Леви, оказавшийся, кроме того, и поэтом и композитором. Мы дружной компанией проводили не только вечера, но и ночи, «сочиняя жизнь» «Таранты» и посвящая исполнительские вечера отдельным этапам этой жизни. Был у «Таранты» и гимн, была и своя «Свиная книга», продолжавшие традиции «Бродячей собаки».
В архивах Ленинградского Малого оперного театра можно разыскать любопытнейшую партитуру оперетты «Наука любви», текст и музыка которой принадлежат М. Ф. Леви, а в книге «Акимов», изданной Теаклубом в 1933 году в Ленинграде, среди списка работ Н. П. Акимова за № 22 числится: «“Наука любви”, оперетта Леви, Малый оперный театр. Режиссер Николай Петров, 1925 год (не осуществлена)».
А родилась эта оперетта еще в 1918 году в недрах «Таранты», и в увертюре к ней торжественно звучит мелодия гимна «Таранты».
И вторая затея «Таранты». Помню, что, осуществляя постановку балета-пантомимы М. Ф. Леви «Таранганиана», я применял один сценический прием. Предельно примитивными средствами, какими мог обладать театр в Петрозаводске в 175 1918 году, я создавал то, что называется «действенной световой средой»; она была подчинена музыкальной форме балета-пантомимы. Три группы источников света — белого, синего и красного, включаемые через реостат, создавали всевозможные сценические эффекты.
Сезон мы не довели до конца, ибо началось весеннее наступление на севере белофиннов и эвакуация Петрозаводска.
В дни эвакуации я вторично воспользовался своими полномочиями представителя Комиссариата театров и зрелищ и, договорившись с М. Ф. Андреевой, вывез театр не в Вытегру, куда был намерен отправить нас мой непосредственный петрозаводский начальник, а в Петроград.
По приезде в Петроград наш коллектив стал основным звеном вновь организуемого театра, который был назван Малым драматическим.
Уже само название таило в себе полемическое начало: молодой коллектив как бы вступал в соревнование с Большим драматическим, ныне театром имени Горького, который был открыт зимой 1918 года и во главе которого стояли А. М. Горький, А. А. Блок, М. Ф. Андреева, Н. Ф. Монахов, Ю. М. Юрьев, А. Н. Лаврентьев.
К чему привело это «соревнование», читатель узнает из следующей главы.
Разбитые мечты
Итак, нам предоставили возможность строить свой театр в Петрограде, где были созданы все условия для большой творческой работы.
Менее чем в месяц мы подготовили два спектакля и сделали это без особого труда: большинство ролей в каждом из них были сыграны актерами в прошлых сезонах.
Театр должен бьют быть в основном комедийного плана, вот почему он открывался пятиактным водевилем Лабиша «Соломенная шляпка». Художником была приглашена Мисс, работавшая в журнале «Сатирикон», а композитором — Ю. Шапорин.
Театр сразу же завоевал любовь зрителя, да, кроме того, и место его расположения на Невском было очень удобным. После Лабиша мы поставили «легкомысленную комедию 176 для серьезных людей» Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным» в декорациях художника Юрия Бонди; третьей нашей постановкой был «Ревизор», оформленный художником Борисом Кустодиевым.
Эти три спектакля были поставлены мною как художественным руководителем театра. Премьеру ко второй годовщине Октября готовил К. А. Марджанов, выбрав для спектакля трагедию Лопе де Вега «Фуенте Овехуна».
При театре, конечно, была организована студия, работу в которой вели К. А. Марджанов и автор этих строк. Дело было поставлено на широкую ногу, мы смело смотрели в будущее, строя почти утопические планы. Однако окружавшая нас действительность была в ту пору далеко не радостной. Осенью началось наступление Юденича на Петроград. Продовольственные трудности, полное отсутствие топлива, а главное, наступление белогвардейцев — все это вместе взятое наложило свой отпечаток решительно на все стороны жизни Петрограда и в корне изменило облик нашего зрителя. Тот, кто еще вчера смеялся над запутанными водевильными событиями в «Соломенной шляпке» и над остроумными парадоксами Уайльда, сегодня мрачно смотрел на праздничное театральное веселье. Контакт со зрителем все чаще и чаще оставлял желать лучшего.
Одно, что утешало всех нас в те тревожные дни, была работа над спектаклем «Фуэнте Овехуна», которым мы решили ознаменовать вторую годовщину Октября.
Топливный кризис ограничил электроэнергию, и, вспоминаю, как часто занятия в студии происходили при керосиновой лампочке, которую каждый раз заботливо приносил студист Чирков.
Правда, такое мрачное освещение отчасти соответствовало теме наших занятий: преподавая актерское мастерство, я в качестве драматургического материала предложил студийцам трагедию Леонида Андреева «Царь голод».
Немало сил у всех нас отнимала скрытая, но очень напряженная борьба с Большим драматическим театром.
Началось же с очень маленького инцидента, на который тогда мы, молодежь, даже не обратили внимания, а окончилось все довольно печально, о чем читатель узнает в конце этой главы.
Так как наш театр был театром комедии, то, естественно, я был озабочен формированием комедийного репертуара и не 177 только подыскивал готовые произведения этого жанра, но и заказывал переводы не шедших в России пьес, принадлежавших перу западных драматургов. Так, мною был заказан перевод комедии Гольдони «Слуга двух господ» Александру Амфитеатрову. Амфитеатров великолепно справился с этой работой, мы были счастливы.
Но в последнюю минуту комедия Гольдони проплыла мимо нас и попала в Большой драматический театр, где до сих пор, уже тридцать девять лет, не сходит с репертуара.
М. Ф. Андреева в решительные моменты, естественно, становилась на защиту своего театра, хотя должен сказать, что и нас она очень любила, отдавая должное нашей энергии и творческим порывам. Но так или иначе, а пьеса уплыла, и комедийный театр готовил трагедию «Фуенте Овехуна», а драматический театр работал над комедией Гольдони «Слуга двух господ».
«Все смешалось в доме Облонских…». Настолько смешалось что, прочитав пьесу А. В. Луначарского «Фауст и город», я стал уговаривать Анатолия Васильевича отдать нам эту «драму для чтения», обещая создать из нее сценический вариант. Заинтересовался я ею не только потому, что она понравилась мне как драматургическое произведение, и не только потому, что жила во мне мечта осуществить постановку гетевского «Фауста», и эта работа была бы первым шагом к осуществлению заветной мечты, — нет, не поэтому. Пьеса эта, как мне казалось, звучала весьма современно, и потому ставить ее нужно было не задерживаясь.
Анатолий Васильевич согласился. Я увлеченно работал над экземпляром и, воскресив свои умения в макетном деле, клеил макеты, решив быть не только режиссером, но и художником спектакля.
А большая, настоящая жизнь шла своим чередом, и мы, многого, разумеется, не понимая, ощущали все же ее напряженный драматический ритм.
М. Ф. Андреева часто бывала на совещаниях руководства нашего театра.
И вот однажды на очередном заседании «Оргупа», то есть Организационного управления театром, Мария Федоровна неожиданно поставила вопрос о пере коде нашего театра в помещение Малого театра на Фонтанке, того самого, где и поныне существует Большой драматический театр имени Горького.
Через несколько дней мы покинули Невский проспект и переехали 178 на Фонтанку. Трудно было сразу освоить большое, настоящее театральное здание после нашего маленького уютного театра.
Марджанов уехал в Москву, и на новой сцене я срочно дорабатывал «Фуенте Овехуна», так как время приближалось к Октябрьской годовщине.
Спектакль мы выпустили в срок, но через два или три дня «Оргуп» получил совершенно неожиданно извещение от Комиссариата театров и зрелищ о том, что «в связи с отсутствием топлива помещение театра на Фонтанке консервируется».
Мы кинулись к Андреевой. Но она уже ничего не могла сделать. В нашем прежнем помещении на Невском уже играла оперетта. Нам подбросили топлива еще на семь дней и сообщили, что через неделю театр закрывается.
Зима наступила ранняя. Город был завален снегом. Среди сугробов валялись околевшие лошади и рыскали голодные собаки.
И вот я иду на последнее заседание «Оргупа»… У входа в театр я вижу высокую фигуру человека в башлыке, который вдруг обернулся ко мне.
— Скажите, — это хороший театр?
— Великолепный! — ответил я, не задумываясь. — А в чем дело?
— Видите ли, я представитель Отдела народного образования из Костромы. Моя фамилия Полтевский… Я приехал с поручением отдела привести в Кострому какой-нибудь театр из Петрограда. Судя по репертуару афиш…
Но я не дал Полтевскому договорить. Прервав его самым бесцеремонным образом, я потащил его в театр.
— Пойдемте. Я познакомлю вас с руководством, с актерами…
Через три дня, в одиннадцать часов вечера, в нетопленных вагонах с Николаевского вокзала отбывала в Кострому труппа Малого драматического театра. Я вошел в вагон за пять минут до отхода поезда…
За две недели до нашего отъезда из Петрограда меня вызвал И. В. Экскузович, директор всех академических театров, и очень просил срочно возобновить «Маскарад», который так и не шел ни разу после памятных дней Февральской революции.
— Я обращаюсь к вам, Николай Васильевич, так как Всеволод 179 Эмильевич где-то на юге и кроме вас никто этого сделать не может. Нам нужно очень срочное возобновление. Хотелось бы это сделать за две недели.
Какая странная судьба была у этого спектакля!
Пять лет подготовительной работы, затем срочный выпуск премьеры в восемнадцать дней — и вот сейчас неожиданное предложение возобновить его в две недели.
— Иван Васильевич, но ведь некоторых исполнителей нет сейчас в составе труппы. Юрьев — Арбенин в Большом драматическом, Коваленская и Рощина-Инсарова, то есть обе Нины, — за границей, да и потом ведь спектакль не игрался уже почти три года. Трудно это сделать в такой срок. А кроме того, у меня на выпуске в своем театре «Фуенте Овехуна».
— Если вы не поможете, то я просто не знаю, как быть, — взмолился Экскузович, — так как, повторяю, кроме вас никто не может этого сделать.
О, человеческое самолюбие, сколь часто ты бываешь причиной безумных поступков людей!
И так как этот разговор происходил еще до нашей «консервации» и радужные перспективы еще улыбались нам, а Иван Васильевич Экскузович был обаятельнейший и умнейший человек, то через полчаса я согласился и приступил, к работе.
Премьера была назначена на тот самый день, когда мы уезжали в Кострому.
Читатель может себе легко представить, какая была напряженная работа эти четырнадцать дней.
Именно в эти четырнадцать дней состоялась премьера «Фуенте Овехуна», мы получили извещение о консервации нашего здания, благополучно заключили соглашение с Костромой и успели организовать отъезд театра.
Итак, театр грузился на Николаевском вокзале, а в Александринском театре должна была состояться премьера возобновленного «Маскарада».
— Вы грузитесь, а я пойду на премьеру, пробуду на ней, сколько возможно, и за пять-десять минут до отхода поезда приду на вокзал, — сказал я товарищам.
Спектакль начался с опозданием. Погас свет. Помощник режиссера вынес фонарь со свечой и поставил его на край просцениума.
Как были непохожи зрители этого спектакля на публику первой премьеры «Маскарада»! Зрительный зал был битком 180 набит суровыми, мужественными людьми, закаленными в борьбе, знающими, за что они борются и готовыми отдать жизнь за правое дело.
Одинокий фонарь на просцениуме еле освещал небольшое пространство, и как-то трагически выглядело роскошное оформление Головина, напоминавшее о чем-то безвозвратно ушедшим в прошлое.
Зал молчал и терпеливо ждал. Свет дали только через час, и спектакль начался.
Но не суждено мне было досмотреть эту премьеру даже до конца первого акта. В середине второй сцены, когда в музыку одной из фигур кадрили врывается тревожная тема Неизвестного (по партитуре Глазунова это место обозначено цифрой 23) и на сцене начинается диалог Арбенина и Неизвестного:
«Арбенин
Вы
мне вещей наговорили
Таких,
сударь, которых честь
Не
позволяет перенесть…
Вы
знаете ль, кто я?..
Маска
Я
знаю, кто вы были.
Арбенин
Снимите
маску — и сейчас!
Вы
поступаете бесчестно.
Маска
К чему! — мое лицо вам так же неизвестно,
Как маска — и я сам вас вижу в первый раз.
Арбенин
Не верю! Что-то слишком вы меня боитесь.
Сердиться стыдно мне. Вы трус; подите прочь.
Маска
Прощайте же, но
берегитесь.
Несчастье с вами
будет в эту ночь.
(Исчезает в толпе.)» —
181 на фразе Неизвестного: «Несчастье с вами будет в эту ночь» — вновь погас свет и расползавшиеся звуки оркестра в темноте как-то еще больше подчеркнули власть мрака.
Снова на просцениуме появился одинокий фонарь. Снова тревожные тени начали лизать головинское убранство, и снова сурово замолк зрительный зал.
Я прождал полчаса. Время приближалось к отходу нашего поезда, а ведь нужно было еще пешком по неосвещенным, заваленным снегом улицам добираться до вокзала. Ни с кем не прощаясь и никому не сказав о своем уходе, я тихо покинул театр…
Кострома
Через пять дней удивленные костромичи наблюдали, как через Волгу, покрытую белым снежным ковром, медленно тянулся обоз из пятидесяти семи розвальней, на которых перевозился театральный багаж и ехали актеры.
Мы привезли с собой полностью четыре готовые постановки. Костромичи же привыкли, что спектакли зимнего сезона проходят в стандартных, существующих в театре декорациях, и им было внове, что театральная труппа привозит с собой свои декорации, костюмы и мебель. Что-то в этом было не так, да и труппа выглядела как-то странно.
Не усмотрели костромичи среди нашей компании ни привычного комика, ни героя, ни героини, ни комической старухи, которые в жизни носили свою театральную маску и так разительно отличались от обычных людей.
Удивление костромичей сменилось огорчением, а огорченна породило и недоверие.
— Кто же у них будет играть героинь?
— Да и героя тоже не видать!
— Ну разве может сезон быть без комика?
— Ох, уж этот Полтевский. И кого это только он нам привез?
Мы не обращали внимания на эти шушуканья и разворачивали подготовительные работы к открытию сезона, действительно, в невиданных для костромичей масштабах. Убежденные, что сумеем завоевать их любовь, мы решили выпускать 182 каждую неделю новую постановку, полностью делая для нее новые декорации и костюмы. Четыре готовых спектакля давали нам месячный резерв времени, и мы смело приняли такой напряженный план. Оборудовали декорационную и костюмерную мастерские и приступили к работе. Помещение же столовой, ее стены и потолок расписали сообразно своим творческим индивидуальностям два приехавших с нами художника А. Божерьянов и Ю. Бонди.
Если в прошлые провинциальные сезоны мы целиком подчинялись театральному режиму провинции, то на этот раз нам — я думаю, в то время единственному театру на необъятной территории России — удалось впервые подчинить провинциальное дело своим творческим законам.
Интересно, что в это же время в Костроме находился еще один театральный коллектив, точнее театр-студия, так как он не претендовал на ежедневные спектакли и только иногда показывал свои работы. Руководил этой студией А. Д. Попов.
Итак, сезон открылся, как и подобает открываться в русском театре — «Ревизором». Декорации были Бориса Кустодиева. Спектакль имел шумный успех у костромичей, и мы были очень довольны.
Второй постановкой была «Жизнь человека» Л. Андреева. Спектакль шел, с нашей точки зрения, вполне благополучно. Но всех нас, помню, поразило одно обстоятельство: зритель никак не реагировал на происходившее на сцене. Полная тишина во время действия, никаких реакций по окончании актов и абсолютное безмолвие в конце спектакля. Как будто публика присутствовала на гражданской панихиде — даже в антрактах все разговаривали шепотом.
Вспоминаю, какой горячий спор возник у нас после спектакля. Наиболее восторженный и вечно увлекавшийся Саша Божерьянов кричал:
— Вот это успех! Дошло! Забрало!..
Другие спорили с ним и утверждали, что это скорее похоже на катастрофу. Подождем второго спектакля…
И на втором спектакле «Жизни человека» произошло то же самое.
Спор наш получил неожиданное разрешение в городском комитете партии, куда я был приглашен после второго спектакля.
— У нас нет никаких оснований запрещать ваш спектакль, 183 он очень хорош, и вы видите, что зрительный зал был битком набит на обоих представлениях, но мы очень просим вас больше его не играть. Уж очень он пессимистичен, а наша жизнь сейчас хотя и трудная, но героическая. Слишком большие противоречия между действительной жизнью и вашим спектаклем. Повторяем, мы не настаиваем, а просим его больше не играть.
Я обещал, что мы не будем больше играть «Жизнь человека», и, идя домой, размышлял о тех новых взаимоотношениях театра и зрителя, которые складываются на наших глазах.
Да, мы столкнулись с новым явлением в жизни театра и начали как-то по-иному подходить к репертуару. Для нас стало яснее, почему «Борьба» Голсуорси принималась зрителем так страстно и активно и почему к «Драме жизни» Гамсуна он оставался равнодушным.
Современную, актуальную тему требовал зритель!
Именно в Костроме впервые задумался я над этим вопросом, хотя, разумеется, не представлял еще себе хорошенько всю его глубину и сложность.
Что же касается «Жизни человека», то мы сняли этот спектакль с репертуара, хотя по плану должны были сыграть его шесть раз.
Однажды после репетиции ко мне подошел помощник режиссера и сказал, что меня срочно вызывает какой-то гражданин. Я вышел.
— Петров?
— Да.
— Пойдем.
Содержание этого лаконичного, всего из трех реплик разговора было мне до конца понятно. Продолжение — шло уже в Чрезвычайной комиссии.
После обычных вопросов об имени, фамилии, происхождении — сразу:
— А Леви знаешь?
— Максима Филипповича? Знаю! А в чем дето?
— Кто он? — продолжался допрос. — Что это за шифрованную переписку ведете с ним?
Следователь вынул из папки какую-то бумагу. Все сразу прояснилось едва я взглянул на неотправленную телеграмму, которую посылал две недели тому назад.
Подбирая репертуар, хотя бы в какой-то мере отвечающий 184 нашему времени, мы решили поставить одноактную пьесу Артура Шницлера «Зеленый попугай». События пьесы развиваются в день взятия Бастилии. Пьеса эта глубоко театральна, ее основная политическая тема решена автором в атмосфере жизни кабачка, где актеры разыгрывают жизненные сцены, полные глубочайшего трагического и политического содержания. Но одного «Зеленого попугая» для целого спектакля было мало, и мы решили поставить одновременно с ним пантомиму «Шарф Коломбины». Музыка к этой пантомиме написана Донаньи, а либретто Артуром Шницлером.
Клавир же этой пантомимы, постановку которой мы собирались, но не успели осуществить в Петрозаводске, в один из исполнительских вечеров «Таранты», находился у М. Ф. Леви, и в телеграмме я просил его переслать клавир мне. Клавир представлял собой уникальную ценность, и я послал Леви телеграмму следующего содержания:
«Очень прошу шарф Коломбины переслать оказией Марии Федоровне она оказией перешлет мне Кострому».
— Что такое за шарф Коломбины? Почему оказией? Кто такая Мария Федоровна? — продолжался допрос.
У меня в кармане как раз была корректура ближайшей афиши, где в анонсе объявлялось, что следующими постановками будут «Зеленый попугай» А. Шницлера и пантомима «Шарф Коломбины».
Это окончательно рассеяло сомнение моего следователя, и, уже вежливо прощаясь, он просил прислать билетик на спектакль.
— А относительно телеграммы вы не беспокойтесь. Я ее сегодня же срочно отправлю, сегодня же будет вручена.
На этом мы расстались. А на премьере спектакля Шницлера мой новый знакомый пришел за кулисы поблагодарить за удовольствие.
После случая с «Жизнью человека» отношения с партийным руководством города у нас с каждым днем укреплялись.
Помню, что секретарь горкома Павел Бляхин занимался помимо своих партийных дел и литературой. Мы поставили его пьесу «Провозглашение коммуны», и тем самым завязали с автором самые дружеские связи. Верным другом нашего театра был и председатель городского исполкома старый большевик Борис Михайлович Волин. В моем архиве сохранилась такая записка.
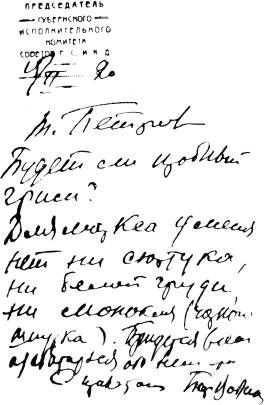
Вспоминаю, в вечер, посвященный Дню победы, 15 февраля 1920 года, мы решили после официальной части показать ожившие портреты Маркса, Энгельса и Ленина. Точно загримированные и одетые по портретам, актеры должны были стоять за тюлем, натянутым на большие золоченые рамы, и по условленному сигналу произносить текст из произведений, подобранных к этому дню.
В горкоме эта мысль очень понравилась, но были высказаны пожелания, чтобы исполнителями этих образов были не актеры, а люди, которых предложит горком.
Исполнение образа Маркса взял на себя Борис Волин. 186 Готовясь к этому выступлению, он и прислал мне вышеприведенную записку.
Я вспомнил этот эпизод еще и потому, что он раскрывает необычайную тягу людей, желающих так или иначе прикоснуться к театральному искусству. И когда Надежда Константиновна Крупская, просмотрев спектакль «Правда» Корнейчука в Театре Революции, где образ Ленина был создан Штраухом, беседовала с нами (это было в 1937 году), я задал ей вопрос:
— Скажите, Надежда Константиновна, а Владимир Ильич участвовал когда-нибудь в любительских спектаклях?
Она задумалась и ответила не сразу. Вероятно, в ее памяти воскресли какие-то образы далекого прошлого, и мы затихли, боясь нарушить ее воспоминания…
— Был один раз такой случай в Женеве. Только ничего хорошего из этого не получилось. — Она улыбнулась и добавила: — Не помещался Владимир Ильич в ту роль, которую ему предложили, и все хотел говорить свои слова, а не авторские.
В конце сезона я решил осуществить задуманную постановку на сцене «драмы для чтения» А. В. Луначарского «Фауст и город».
Я доложил товарищам по Оргупу свой план, он был принят, а ввиду сложности постановки мне был отпущен двухнедельный срок для работы.
Две недели для изготовления декораций, шитья костюмов и музыкального решения спектакля? Две недели для репетиционной работы с актерами? И все это вы успели и сделали? — такие вопросы вправе задать мне читатель, хотя бы чуть-чуть знакомый с процессами работы в театре, ну а профессионал театра, вероятно, просто улыбнется и скажет, что у автора этих строк неплохая фантазия. И я, пожалуй, тоже соглашусь с ним, так как даже фотографии этого спектакля, лежащие передо мной, скорее рождают мысль, что это фотографии твоих мечтаний, а не реальных дел.
И все-таки с документами не поспоришь — они неумолимо доказывают, что так было и что ты умел так работать. А энергию так работать рождала мечта о новом театре, который мы строили, и уверенность, что мечта эта осуществима.
Мы работали в Костроме, делая творческие пробы и заготовки для репертуара нашего театра, когда он вернется в 187 Петроград и откроет свои спектакли в помещении на Фонтанке.
«Борьбу» Голсуорси, трилогию Гамсуна «У врат царства», «Драма жизни» и «Закат», «Фауст и город» Луначарского и шницлеровский вечер — «Зеленый попугай» и «Шарф Коломбины» мы считали творческими заготовками, которые нетрудно будет довести до конца, по-новому, в масштабах эстетических требований Петрограда оформить, и тогда они смогут прочно войти в репертуар Малого драматического театра.
Оставалось сыграть несколько последних спектаклей, попрощаться с радушными костромичами, упаковать большой театральный багаж и двинуться всей компанией на родину.
Мысли всего коллектива были уже в Петрограде, и вдруг за три или четыре дня до отъезда из Костромы мы получили телеграмму от комиссара театров и зрелищ, гласящую: «В связи с большими успехами проделанной вами работы и желая сохранить дружескую связь с костромичами предлагаю вам продолжить работу в Костроме еще на один год». А вслед за этим мы узнаем, что наше помещение на Фонтанке передано Большому драматическому театру.
— Так вот в чем дело…
Так как большинство театрального багажа было уже отправлено, то мы решили не выполнять приказа и, приехав в Петроград, драться за свои права.
Но из драки, конечно, ничего не вышло, и тусклый, равнодушный взгляд Крючкова победил наш пламенный энтузиазм. Театр распался, рассыпался и был ликвидирован.
«Утраченные иллюзии» — так назвал Божерьянов наше последнее совещание, когда было решено закрыть театр.
Массовые представления
По приезде в Петроград мне предложили вернуться на работу в Александринский театр. Приглашал Н. В. Смолич, несколько месяцев тому назад назначенный управляющим театром.
Смолич подготовил сезон и предложил мне для открытия театра поставить «Аглавену и Селизету» Метерлинка.
Совместно с художником М. В. Добужинским я разрабатывал 188 план постановки, правда, не совсем ясно понимая, для чего сейчас нужно ставить Метерлинка.
Мы дружно работали с Мстиславом Валерьяновичем, часто вспоминая далекие дни «Бродячей собаки».
И вот однажды, когда мы обсуждали общее живописное решение будущего спектакля, раздался звонок по телефону:
— Можно попросить Николая Васильевича?
— Яу телефона.
— Вы не согласились бы принять участие в постановке массового представления на Фондовой бирже к дню конгресса Коммунистического Интернационала?
— Я принципиально не возражаю, но не очень ясно представляю себе, что это такое.
— А вы не могли бы подъехать к нам сюда на Биржу, и мы тут подробно обо всем договорились бы.
Через двадцать минут я уже ехал на место будущего массового театрального представления.
Только вот почему вызывают на Биржу? Осмотреть плацдарм будущего представления, конечно, нужно, но беседовать будет лучше где-нибудь в другом месте.
Такие мысли мелькали у меня в голове, когда мы подъезжали к Николаевскому мосту, но они мгновенно исчезли, как только я увидел лестницу Биржи, сплошь усеянную бесконечным количеством людей.
— Да тут уже идет репетиция!
Выйдя из машины, я увидел горячо спорящих о чем-то К. А. Марджанова, С. Э. Радлова, В. Н. Соловьева.
— А, здравствуйте. Хорошо, что приехали, — сказал, здороваясь, Марджанов и, взяв меня под руку, повел к лестнице, на которой стояло не менее тысячи человек.
— Видите ли, в чем дело, — говорил он на ходу. В пантомиме три части. Первую должен ставить я, я же являюсь и общим руководителем. Вторую часть ставит Радлов, а третью — Соловьев. Но я буквально разрываюсь, ставя первую часть и руководя всем. У нас к вам просьба — взять постановку первой части на себя и тем самым разгрузить меня для общего руководства.
Марджанов всегда говорил страстно и убедительно и с ним бывало очень трудно спорить, тем более сейчас, когда мы подошли к лестнице Биржи и нас окружил народ.
189 — Товарищ Марджанов! Когда же начнем репетировать, ведь уже почти час, как мы дожидаемся.
— А вот сейчас и начнем. Познакомьтесь — Николай Васильевич Петров. Он и будет ставить первую часть, — уже совершенно неожиданно для меня закончил Марджанов, с довольным видом и со своей обаятельной улыбкой передавая мне сценарий пантомимы.
Более глупого положения, чем то, в которое я попал, конечно, трудно себе представить, и нужно было или тут же повернуться и уйти, или же, очертя голову, броситься в это море людей, приняв на себя ответственность за все будущее.
После секундной паузы, взяв в руки экземпляр сценария, я громко скомандовал:
— Разбиться на группы по двадцать пять человек. Выбрать от каждой группы по одному человеку, ответственному за группу, и через двадцать минут ответственным собраться у Ростральной колонны. Там будет место режиссерского штаба. Группы должны стоять отдельно, не смешиваясь друг с другом, и хорошо запомнить свой номер.
И, не дав опомниться людям, взяв под руку Марджанова, я повел его к месту будущего штаба.
Двадцать минут выиграны, теперь можно будет ознакомиться со сценарием. С чего он начинается и какие в нем идут первые сцены?
Так неожиданно меня сосватали для участия в массовой постановке на Фондовой бирже.
Я читал первые страницы сценария, попутно мысленно представлял себе их решение в движении масс и мизансценах. Режиссеры мирно беседовали у Ростральной колонны, а напротив нас, на лестнице Фондовой биржи, копошился человеческий муравейник, выполняя команду режиссуры. Марджанов внимательно следил за ним. Когда бесформенная масса людей разбилась на отдельные группы и они построились на лестнице, а от каждой группы отделился ведущий и направился к нам, Константин Александрович обратился к режиссуре:
— Это очень правильно, что мы будем руководить ими со стороны, а не изнутри. Прошлая постановка, приуроченная к Первому мая, прошла очень неорганизованно именно потому, что режиссура и ее помощники находились внутри массы действующих лиц и никто не следил снаружи за всем происходящим. 190 Мы, видя все со стороны, будем совершенно в ином положении и сможем руководить даже ритмом происходящего действия. Вы хорошо это придумали, — обратился он ко мне, — вынести командный пункт к Ростральной колонне и оттуда руководить всей пантомимой.
— Жизнь дважды заставила меня это сделать, Константин Александрович, — ответил ему я. — Первый раз, когда мне пришлось самому вести генеральные репетиции «Тота» из зрительного зала, и второй раз, когда Карпов заставил Мейерхольда выпустить «Маскарад» за восемнадцать дней. В обоих случаях я сидел в зрительном зале и видел все, что происходит на сцене. Трудные обстоятельства жизни заставили меня прийти к такому решению, а сегодня положение тоже нелегкое, — закончил я, идя навстречу подходившим представителям групп.
Получив задания, они вернулись на свои места, и через полчаса тысячная масса людей, послушная воле режиссуры, начала действовать на лестнице Фондовой биржи.
Марджанов был доволен ходом репетиции и очень скоро уехал в Смольный, оставив нас репетировать.
К назначенному дню приезда членов конгресса Коминтерна репетиционные работы были закончены. Вся масса участников была в меру возможностей и необходимости одета, а частично и загримирована для представления, и все мы с огромным волнением ждали начала. Не было только Марджанова и М. Ф. Андреевой, которая была комиссаром постановки и час тому назад вызвала к себе Константина Александровича.
До начала представления оставался час, но огромные только что построенные трибуны были пусты.
Наконец подъехала машина, из нее вышли Марджанов и Андреева, но их сообщение нас не обрадовало.
— Работа конгресса затягивается еще на один день, и члены конгресса, а также и Владимир Ильич приедут только завтра. Представление придется отложить на завтра, — сообщила нам Мария Федоровна.
Но как это сделать?
Как довести до сознания двенадцати тысяч участников (а количество их в процессе работы выросло именно до этой цифры), что сегодня мы собрались зря и представление будет только завтра.
191 — А может быть, ничего им не говорить, сыграть пантомиму, а потом им сообщить, что это была генеральная репетиция, — внес предложение В. Н. Соловьев.
Но наши представители групп тут же запротестовали, говоря, что сегодня-то участники сыграют, а завтра могут не явиться.
— Ведь далеко не все знают и даже понимают, что такое генеральная репетиция. Лучше сегодня все толково объяснить и назначить представление на завтра. Это неприятно, но хотя бы будет понятно всем, — настаивали они.
— Я им все объясню и сообщу наше решение, — героически взяла на себя Мария Федоровна эту не очень приятную миссию.
Мы отправились на лестницу Биржи, а представители групп пошли командовать: «Всем собраться для экстренного сообщения».
Участники уже откуда-то узнали о переносе представления и сейчас хмуро ждали выступления комиссара постановки.
Долго пришлось разъяснять тысячам людей, почему откладывается сегодняшнее представление и просить всех собраться завтра.
— Ведь смотреть вас будут делегаты конгресса Коминтерна и Владимир Ильич.
Имя Ленина подействовало на наших «артистов», и они, дав обещание завтра собраться к двенадцати часам дня, начали расходиться.
Назавтра к семи часам все представление было приведено в боевую готовность, и мы ждали приезда делегатов и Ленина, чтобы начать пантомиму.
— Я буду наблюдать, стоя за колоннами Биржи, а как только подъедет Ленин выйду на лестницу и махну белым платком. Это будет сигнал к началу представления, — сказала нам Мария Федоровна и боковым проходом направилась к Бирже.
Наш командный пункт, пульт управления, как мы его называли, помещался сейчас же за трибунами, которые заполнялись прибывавшими делегатами конгресса.
Наконец в машине подъехал и Владимир Ильич. Из-за белой колонны портала вышла женская фигура в черном платье, она сошла на середину лестницы и, выждав паузу, чтобы 192 все сосредоточили свое внимание на ней, медленно вынула белый платок и махнула им.
Умела Мария Федоровна вносить театральность в обыденную жизнь, ну, а если это была не совсем обыденная, а такая, как сейчас, перед началом огромнейшего массового представления, с такими особенными зрителями, то инстинкт актрисы подсказал ей и жест и ритм движения.
Одинокая женская фигура в черном платье на опустевшей лестнице Биржи запомнилась всем, кто был на этом представлении.
Я вел первую часть пантомимы, и, стоя у пульта управления, еще раз мысленно проверял всю сложнейшую систему телефонных и световых сигналов.
Вслед за взмахом белого платка сейчас же должен был раздаться взрыв фугаса, расположенного на территории Петропавловской крепости.
«Взрыв!» — коротко скомандовал я в крепость и поднял трубку телефонного аппарата, соединявшего нас с двумя миноносцами, которые должны были лучами прожекторов высветить определенные места действия на Бирже.
Но взрыва не последовало.
— Почему нет взрыва? — кричал я в телефонную трубку в крепость.
— Вероятно, порох отсырел. Ведь мы его закопали еще вчера, предполагая, что представление будет вчера, — услышал я довольно спокойный ответ.
— Миноносцы! Очень прошу выручить! У нас отсырел порох. Фугас не взрывается. Можете дать залп из четырех орудий?
— Есть дать залп из четырех орудий! Ждем команду! — успокоительно по-военному прозвучали голоса с миноносцев.
— Огонь! — радостно скомандовал я, и сразу же на очень близком расстоянии от наших зрителей грянул залп из четырех орудий.
Зрители вздрогнули и быстро повернулись по направлению стоящих на Неве миноносцев.
— Прожекторы! Свет номер один! — продолжал командовать я.
Прожекторы ослепили зрителей, повернувшихся к миноносцам, скользнули по ним и высветили те места на лестнице Биржи, где должны были начаться первые сцены пантомимы.
193 Грянула музыка, и стремительный ход развертывавшихся событий приковал внимание к начавшемуся представлению…
А утром в кабинете Смолича мы с М. В. Добужинским сдавали карандашные эскизы будущей постановки «Аглавены и Селизетты».
Вот какова была амплитуда эстетических колебаний в нашей творческой работе в те годы.
Смолич одобрил предложенное, а мы, взволнованные вчерашней пантомимой, ее масштабностью, ее властью над зрителем, были все же не очень удовлетворены своей работой.
Беседа наша о постановке пьесы Метерлинка неоднократно перебрасывалась на вчерашнее массовое представление, и мы невольно говорили не только о своей постановке, но и о дальнейших путях развития театра.
А в зрительном зале Александринки в это время начиналось общее собрание работников театра, на котором директор академических театров И. В. Экскузович должен был делать доклад о ближайших перспективах работы.
— Пойдем, — сказал Смолич, и мы вошли в бывшую царскую боковую ложу, которая примыкала к кабинету управляющего театром.
Экскузович говорил недолго и закончил свою речь так:
— И вот, дорогие друзья, для проведения в жизнь всех наших пожеланий мы решили назначить управляющим театра Е. П. Карпова, освободив Н. В. Смолича от занимаемой им должности.
В зале раздались аплодисменты — конечно, новое начальство нужно приветствовать!.. — а в бывшей царской ложе Смолич, закрыв правой рукой глаза, медленно опустился на стул. Он вместе со всеми впервые узнал об этом…
Так и не состоялась наша с Добужинским постановка пьесы Метерлинка, и только сохранившиеся режиссерские наброски и планировки напоминают об этом эпизоде.
Карпов сразу круто повернул репертуарный план в сторону бытового репертуара, внес в творческую жизнь утверждение режиссерского ремесла, и в театре воцарилась скука. Затем Карпова сменил Юрьев, принесший с собой псевдоромантические веяния, которые после скуки карповского режима в первое время казались даже смелым новаторством. Но об этом речь будет впереди, а сейчас вернемся 194 к массовым театральным постановкам, памятуя, что именно Ленинград был колыбелью этих любопытных театральных затей.
И всегда работа над массовыми постановками совпадала у меня с большой творческой нагрузкой в том или ином театре. Эти постановки являлись своеобразным «досугом», хотя «досуг» этот требовал большой затраты времени и буквально изматывал физически.
Следующая массовая постановка была приурочена к третьей годовщине Октября. Действие ее развертывалось на Дворцовой площади. Налево и направо от арки штаба были сооружены две огромные игровые площадки. Одна называлась «красной», а другая — «белой». На площадках разыгрывались попеременно пантомимные сцены, рисующие различные исторические эпизоды. Общая сюжетная тема — борьба труда и капитала. Сцены «Труда» разыгрывались на «красной площадке», а сцены «Капитала» — на «белой».
«Красной площадкой» руководил я, а режиссура «белой площадки» была поручена А. Р. Кугелю, К. Н. Державину и Ю. П. Анненкову (он же являлся и художником всей постановки). Общим руководителем был Н. Н. Евреинов.
Центральной фигурой «красной площадки» был Ленин, центром «белой площадки» — Керенский. Эпизод «Октябрь» строился следующим образом. Из-под арки штаба мчались грузовики, заполненные вооруженными рабочими. Они проносились мимо Александровской колонны, возле которой находился наш командный пункт и трибуны для зрителей, и, продолжая свой путь, останавливались возле исторической «поленницы» у самого Зимнего дворца, который охраняли юнкера и женский батальон. Короткий бой возле «поленницы» оканчивался бегством юнкеров и женского батальона; восставшие врывались в Зимний дворец.
Дворец становился главным действующим лицом. Он был весь темный. Но как только восставшие врывались во двор, сразу же включались прожектора на «Авроре», которая стояла на своем историческом месте. Прожектора начинали беспокойно метаться по крыше. Дворец превращался в силуэт, и тотчас же во всех его окнах вспыхивал свет. В окнах были спущены белые шторы, а на их фоне — приемом театра китайских теней — разыгрывались маленькие пантомимы боя. Этот эпизод в представлении так и назывался «Силуэтный 195 бой». Поединки в окнах кончались победой восставших. Все прожектора — и «Авроры» и с Дворцовой площади — концентрировались на огромном красном знамени, взвивавшемся над дворцом, а во всех окнах вспыхивал красный свет. На опустевшей дворцовой площади разыгрывался последний сатирический эпизод — бегство Керенского, переодетого в женское платье, и вся пантомима оканчивалась фейерверком и орудийным салютом.
За проделанную работу режиссура получила следующее вознаграждение: А. Р. Кугель, Ю. П. Анненков, К. Н. Державин и автор этих строк получили паек табаку на сто папирос и по два кило мороженых яблок, а Н. Н. Евреинов как общий руководитель (хоть он, по правде сказать, почти ничего не делал) получил еще шубу на лисьем меху.
Забегая вперед, расскажу и о последней массовой постановке, которая была приурочена к десятилетию Советской власти.
Пожалуй, это было самое грандиозное из всех зрелищ этого рода.
Сценическим пространством, на котором разыгрывалось это театральное действие, была Нева, замкнутая и ограниченная двумя мостами — Троицким и Дворцовым. Петропавловская крепость и Монетный двор были также местами действия. Зрительным же залом являлись два моста — Троицкий и Дворцовый — и вся набережная Невы, заключенная между ними.
Командным пунктом был балкон над Иорданским подъездом Зимнего дворца, он же являлся ложей для членов правительства, приехавших специально в Ленинград посмотреть на эту театральную затею.
Каждая постановка обогащала нас опытом, и поэтому с каждой последующей работой возрастала и наша ответственность. А сегодняшний день был особым, так как рядом с нами будут находиться московские гости.
За два часа до начала представления режиссеры С. Э. Радлов, В. Н. Соловьев и я собрались в Зимний дворец, чтобы еще раз проверить телефонную связь со всеми местами действия и действующими объектами, а также провести последнее совещание с командирами отдельных участков. Готовя это представление, мы совершенно по-новому строили репетиции. Мы отказались от так называемого «слаживания» всех 196 отдельных эпизодов пантомимы путем обычных репетиций, а работали лишь с командирами участков, целиком отвечающими за свои эпизоды. И только уже на самом представлении мы сами впервые должны были увидеть, что из всего этого получается. Такое решение, кроме всего, диктовалось и своеобразием «участников».
Два миноносца, являвшиеся портальными кулисами нашей сцены, скоростной катер, на котором был водружен двенадцатиметровый красный стяг, а на нем силуэтная огромная фигура Ленина; пятьдесят шлюпок с двенадцатью краснофлотцами в каждой, у каждого краснофлотца по два зажженных смоляных факела; две тысячи таких же факелов, которые держали в руках тысяча бойцов, находившихся в Петропавловской крепости; три баржи с виселицами, шесть баржей с укрепленными на них двенадцатою фигурами интервентов, сделанными по эскизам художницы В. М. Ходасевич (каждая фигура высотой пятнадцать метров была заряжена «пиротехническими неожиданностями»); пятиметровые буквы, составлявшие слова: «Ленин умер»; эти буквы освещались, как транспаранты, и поднимались на привязном аэростате над шпилем Петропавловской крепости. Много еще было символических и аллегорических элементов пантомимы, выражающих собой тот или иной исторический эпизод. Петропавловская крепость была освещена белым светом, а Монетный двор и его трубы — красным.
Так вот, для последнего совещания с командирами каждого объекта и проверки связи и явилась вся режиссура в Зимний дворец за два часа до начала представления.
Кроме телефонной связи мы на всякий случай установили еще и световую морскую сигнализацию, а также имели в своем распоряжении десять, как мы их называли, «фельдъегерей» на мотоциклах, в любую минуту готовых выполнить наши экстренные приказы.
Каков же был наш ужас, когда во время нашего совещания вошел бледный начальник связи и доложил:
— Сегодня утром во время демонстрации большинство нашей временной проводки порвано демонстрантами.
— Все погибло! — воскликнул В. Н. Соловьев, более других способный впадать в панику. — Ка-та-строфа! — кричал он, нервно шагая из угла в угол.
— Что же будем делать? — внешне спокойнее, но тоже 197 волнуясь, спросил всегда хорошо владевший собой С. Э. Радлов.
— Мы обнаружили нарушенную связь только в три часа После окончания демонстрации. Многие линии успели восстановить. Работа продолжается и сейчас, но боюсь, что все линии не удастся восстановить, — растерянно докладывал начальник связи.
— За пятнадцать минут до начала представления доложите, какие линии не восстановлены, предупредите эти объекты, что связь с ними будет световая, и назначьте на эти объекты моряков, — скомандовал я, внешне делая вид, что я совершенно спокоен, а внутренне дрожа мелкой дрожью.
— Ка-та-стро-фа! — причитал Соловьев, все еще бродя сложнейшими мизансценами по огромной комнате дворца, в которой мы заседали.
— С аэростатом, крепостью, Монетным двором и Троицким мостом телефонную связь восстановить в первую очередь, — как можно спокойнее командовал я.
— Да! Да! С а-э-ростатом! Обязательно с аэростатом, — неожиданно вмешался Соловьев, — иначе мы погибли!
Начальник связи удалился, и мы продолжали наше последнее совещание.
— Ну а если главные линии связи не восстановят? Что будем делать тогда? — спросил Сергей Радлов.
И во внезапно воцарившейся тишине прозвучал голос Соловьева:
— Ватер-ло-о-о-о! — и, схватившись за голову, забегал по комнате.
Часы показывали без двадцати минут девять. Через нашу комнату проходили руководители ленинградских организаций, среди них были и московские гости, а начальник связи не появлялся.
— Ну что? У вас все в порядке? — неожиданно услышали мы знакомый голос Сергея Мироновича Кирова.
Он проводил гостей на балкон и подошел к нашей встревоженной компании.
— Во время демонстрации, Сергей Миронович, местами порвали телефонную связь. Сейчас ее восстанавливают, но мы очень этим обеспокоены, — доложил Радлов.
— Восстановят! — с ободряющей улыбкой сказал Киров.
198 Как бы подтверждая его убежденность, вошедший начальник связи громко доложил:
— С основными объектами связь восстановлена!
— Ну вот видите! — продолжая улыбаться, сказал Киров и, посмотрев на часы, добавил: — Через пятнадцать минут давайте начинать. Я сейчас пришлю вам Стецкого.
А. И. Стецкий был политическим комиссаром постановки и являлся ответственным перед Смольным за проведение всего представления.
Мы вышли на балкон, а так как первая часть пантомимы была моя, я стал проверять связь.
— Аэростат? Крепость? Монетный? Троицкий?
Телефоны работали исправно, и моряк-связист по световой сигнализации доложил, что все на местах и ждут команды к началу.
К нам подошел Стецкий и, глядя на часы, сказал:
— Через десять минут начинаем.
Загудел телефон «Крепость». Я взял трубку.
— Товарищ Петров?
— Да, я.
— Говорит комендант крепости. Дело в том, что из бастиона, над которым зажигается большой фейерверк, не успели вынести порох. Придется начало задержать на пятнадцать-двадцать минут.
— Одну минуту, — сказал я в трубку и доложил Стецкому о сообщении коменданта.
Он взял из моих рук трубку, и у него с комендантом произошел очень короткий, но на всю жизнь запомнившийся разговор. Мы слышали только Стецкого, но по паузам в разговоре были понятны и реплики коменданта.
— Комендант? Говорит Стецкий. Начало должно быть через десять минут. Если задержите начало, будете арестованы. (Пауза.) — Исполнение доложите, — спокойно закончил Стецкий и положил телефонную трубку.
Ровно через пять минут вновь загудел телефон.
— Можете начинать. Все в порядке!
Осталась ровно одна минута до начала представления. Секундная стрелка, медленно прыгая, приближалась к цифре 60.
Часы на Петропавловском соборе пробили девять.
— Огонь! — скомандовал я.
199 Грянул орудийный залп, и сейчас же, как бы в ответ на этот залп, куранты Петропавловского собора заиграли «Коль славен наш господь в Сионе».
Очень трудно было договориться с часовщиком, знающим секреты курантов собора, чтобы после девяти ударов часы проиграли бы «Коль славен».
— Это же невозможно! «Коль славен…» играется только после двенадцати ударов! Это нарушение понятия времени! Это бунт времени! — защищал он свои позиции.
— А нам как раз и нужен «бунт времени», вы очень удачно определили то, что нам нужно.
Еле-еле уговорили мы упрямого часовщика, и в конце концов он согласился.
— Хорошо. Я вам сделаю бунт, хотя это непорядок…
Куранты пели «Коль славен…», а все прожекторы, направив свои лучи на колокольню собора, медленно ползли вверх, пока не высветили ангела, венчающего шпиль колокольни.
В темном небе, в фокусе скрещения лучей прожекторов, сверкал ангел, а куранты торжественно пели ему славу. На определенной ноте световая сигнализация дала команду десяти духовым оркестрам усилить звучание «Коль славен…».
Оркестранты грянули довольно стройно, так как ими светодирижировал дирижер, стоявший с нами на командном мостике.
— Командир крепости! Внутренний свет! — командовал я. И сейчас же весь собор вспыхнул белым силуэтом на фоне темного неба.
— Иллюминация! — командовал я в трубку телефона «Крепость».
Бесконечное количество электрических лампочек вычертило светом линию крепостной стены.
— Корона и герб! — неслись команды из дворца.
На главном бастионе вспыхнула иллюминированная огромная корона и большой двуглавый орел.
— Фейерверк!
Над бастионом в темное небо рванулись «бураки», взлетели ракеты, причудливо распадаясь цветными огнями, стреляли римские свечи, а во многих местах крепостной стены вспыхнули белые и голубоватые бенгальские огни.
200 Представление пантомимы началось, но я не очень был уверен, что порох из главного бастиона убран. Эпизоды пантомимы четко и последовательно следовали один за другим, связь работала безотказно.
— Командир Монетного, приготовьтесь! — передавал телефон с командного пункта.
Прозвучали последние аккорды «Коль славен…», и сейчас же взвыли тревожные заводские гудки.
Командир Монетного, красный свет! — неслись команды. — Командир крепости, колокольный звон! Начался эпизод борьбы двух тем.
— Погасите крепость!
И тотчас же Петропавловка погрузилась в мрак, и только торжественный колокольный звон напоминал зрителю о ее существовании; теперь перед ним возник освещенный красным светом Монетный двор, откуда тревожно неслись звуки фабричных гудков.
И снова освещалась крепость со светящимися эмблемами власти, а заводские гудки тревожно гудели в темноте.
Несколько раз образ «Крепости» сменялся образом «Монетного», но побеждала в итоге «Крепость». На фоне сверкающего царственного величия из затона Монетного двора медленно выплывали баржи с виселицами.
Световая сигнализация командовала оркестрам вступление «Вы жертвою пали в борьбе роковой», и под печальную мелодию похоронного марша баржи совершали свой трагический путь.
Белый свет на крепости постепенно затухал, вспыхивали транспаранты окон казематов и к похоронному маршу прибавлялся звук кандалов. Хор Немцова, состоявший из четырехсот человек и стоявший возле Иорданского подъезда, вступал, когда оркестр начинал повторять мелодию похоронного марша.
В этом трагическом звучании медленно проплывали баржи с виселицами, освещаемые береговыми прожекторами и прожекторами с миноносцев.
В ходе пантомимы наступил перелом.
— Командир крепости, уберите свет!
— Монетный, приготовьтесь!
В наступившей темноте звучала революционная песня и надрывно гудели тревожные гудки заводов.
201 — Монетный, свет!
Вновь вспыхнул заводской силуэт «Монетного». Немцов со своим хором находился прямо под нами.
Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе… —
грянул четырехсотголосый хор.
И мгновенно из-под пролетов Троицкого моста стремительно помчались шлюпки с краснофлотцами. Они включились в общее звучание песни «Смело, товарищи» и размахивали своими факелами. Тысяча двести светящихся точек стремительно неслись к Петропавловской крепости.
— Командир крепости! Залп!
Грянули пушки.
Водворилась мгновенная тишина, и только тысяча двести светящихся точек неслись к стенам крепости.
Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас вечно гнетут… —
призывно грянули оркестры и хор. Моряки, уже достигшие берега, дружно подхватили «Варшавянку».
— Командир крепости! Выпускайте бойцов с факелами!
Две тысячи световых точек появились на стенах крепости. Согласно заранее предложенным мизансценам крепостные бойцы и штурмовавшие крепость моряки пробегали светящимися линиями по всем возможным местам крепостной стены. Тревожное движение трех тысяч двухсот факелов охватило всю крепость.
Зрелище получилось действительно эффектное, и весь «зрительный зал» от Николаевского моста до Троицкого разразился бурными аплодисментами.
— Командир крепости! Переворачивайте корону и орла, — уверенно командовал я после столь оглушительных аплодисментов.
Мгновенно вспыхнувшая корона и двуглавый орел начали покачиваться и неожиданно перевернулись вверх ногами. Зрители засмеялись. Раскачиваясь в таком положении, они вспыхнули несколько раз, как бы умирая, и погасли!
— Красный свет!
202 Подсвеченный красным светом собор и красные бенгальские огни, зажженные на разных местах крепостной стены, а на фоне их беспрерывное движение трех тысяч двухсот факелов вызвали вторичные аплодисменты. Аплодировали и московские гости.
— Очень любопытно, — сказал Сергей Миронович, подходя к нашему командному пункту и с интересом наблюдая, как дающийся приказ мгновенно реализуется в действие.
Ободренные похвалой Кирова и успокоившиеся, так как пока что все шло благополучно, мы сказали, что самое интересное будет сейчас.
— А что же именно? — спросил Киров.
— Это секрет, Сергей Миронович. Если скажем, вам будет неинтересно смотреть дальше.
— Да, вы правы. Ведь именно в этой тайне последующей секунды в спектакле и кроется сила театрального представления. Ну, работайте, работайте, — сказал он и направился к московским гостям.
Как хороший хозяин, Сергей Миронович очень любил, чтобы в его хозяйстве был порядок. Сегодня пока что он, видимо, был доволен.
— Оркестрам приготовить «Интернационал»!
— Командир Монетного! Приготовьтесь!
Мелодия «Варшавянки» подходила к концу. Красный бенгальский огонь догорал в «Крепости», красная подсветка собора затухала. Максимально быстрое движение зажженных факелов неожиданно остановилось, как будто вся эта масса людей одновременно что-то увидела, а увидев, начала всматриваться в то, что увидела. Этот эпизод был четко выражен в определенной мизансцене, подчеркивающей то место, куда смотрит эта человеческая масса. А смотрела она по направлению Монетного двора.
На фоне ночного неба возник образ завода. Из труб валил белый дым, эффектно освещаемый красным светом из крепости.
Оркестры грянули «Интернационал», его подхватил хор, и из затона Монетного двора стремительно вырвался катер с красным стягом, на фоне которого была установлена белая фигура Ленина с поднятой правой рукой, как бы указывающей путь. Все прожекторы — и береговые и с миноносцев — сосредоточились на фигуре Ленина.
203 Катер мчался мимо Дворцового моста, пролетел вдоль Дворцовой набережной, круто развернулся у Троицкого моста и устремился к Петропавловской крепости. Путь Ленина сопровождался бурными аплодисментами. Они возникли на Дворцовом мосту, прокатились вдоль всей набережной и были подхвачены на Троицком мосту, и везде, где они возникали, люди подхватывали и пели «Интернационал».
Все оркестры, хор Немцова и десятки тысяч зрителей мощным хором исполняли «Интернационал», окончив его пение именно тогда, когда фигура Ленина достигла крепости.
— Красный фейерверк! — командовал я, и в этой моей последней команде заканчивавшейся первой части слышалась и радость благополучного хода представления, и огромная физическая утомленность, и, нечего греха таить, удовлетворение.
Пантомима увлекла зрителей. Как же не быть удовлетворенным и не радоваться режиссеру, который сам впервые увидел в действии то, что было замыслено. Да и принцип репетиционно-подготовительных работ был оправдан полностью А сколько было разговоров, споров и сомнений в возможности такого пути подготовки, и как он разнился от подготовки пантомимы на Фондовой бирже Первого мая 1920 года, когда режиссура захлебнулась внутри действующих масс, не будучи в состоянии видеть со стороны всего происходящего. Происходившее действие захлестывало режиссуру, а не она владела им, регулируя его ход.
Подошедший Киров поблагодарил и подбодрил нас, сказав, что москвичи «удивлены».
Надо было начинать вторую часть, ее ставил Радлов, и я позвал его занять командный пункт.
— Николай Васильевич, вы уже освоились со всеми телефонами и сигнализациями, — обратился он ко мне, — проведите и вторую часть, а я буду стоять около и подсказывать вам порядок и последовательность эпизодов.
Благополучие и успех первой части вселили в меня уверенность и я сразу же согласился, так как помимо всего испытал очень приятное чувство от управления каким-то грандиозным театральным организмом, который безотказно исполняет твою волю. Я ощутил себя дирижером гигантского своеобразного оркестра.
Приближалось начало второй части. Я встал на командный 204 мостик, проверил вновь всю сигнализацию и, повернувшись к Сергею Эрнестовичу, спросил:
— Можно начинать?
Я не буду подробно описывать вторую и третью части пантомимы, так как, сознаюсь, не очень-то хорошо помню последовательность эпизодов. Да и первую-то часть я описал, конечно, далеко не полностью, не останавливаясь на маленьких катастрофах. Две же настоящие катастрофы, происшедшие во второй и третьей частях, я позволю себе описать, так как они любопытны и поучительны.
Зрители их даже не заметили, и в целом и вторая и третья части прошли благополучно.
Вторая часть пантомимы подходила к кульминационному моменту.
Шел эпизод, после которого должна была начаться трагическая сцена, посвященная смерти Ленина. Режиссурой это строилось так: заблаговременно, когда было уже совершенно темно, над Петропавловской крепостью поднимался привязной аэростат с пятиметровыми буквами, обрамленными электрическими лампочками. Включался свет и в небе вспыхивали трагические слова: «Ленин умер».
После паузы пять оркестров должны были заиграть «Похоронный марш» Шопена.
Так вот, когда шел последний эпизод, неожиданно загудел телефон «Аэростата». Я поднял трубку, полагая, что командир объекта проверяет связь.
— Докладывает командир объекта «Аэростат». Контакта нет. Свет включить не можем.
Я крикнул об этом Радлову. Схватившись за голову, он повернулся и исчез в дверях дворца.
«Что же делать? Как донести до зрителя факт смерти Ленина? Какой объект включить в действие?» — вихрем проносилось в голове.
— Немцов! Немцов! Внимательно слушайте меня! — говорил я в рупор, что называется, сценическим шепотом. Кричать громко нельзя было. — Буквы «Ленин умер» не зажигаются. Прошу ваш хор одновременно и протяжно произнести эти слова. Ритм устанавливаю я электрической сигнализацией. Понятно?
— Понятно, — последовал ответ.
— Командир крепости! Новое распоряжение… — И я повторил 205 то, что говорил Немцову, предлагая включить в этот хор всех краснофлотцев и бойцов.
— Команда принята! — рапортовал командир крепости.
Из дверей дворца вышел бледный, взволнованный Радлов. — Сергей Эрнестович, скажите мне, когда точно должны быть включены буквы, — обратился я к Радлову, не очень еще уверенный, что задуманное может хорошо получиться.
— А что вы решили? — спросил он, но я не успел ответить, так как сейчас же он схватил судорожно меня за руку и зашептал: — Включайте!
— Немцов! Вместе со мной! Даю вступление!
— Крепость! Будьте готовы! Вам отдельная команда!
«Ле-нин у-мер!»
«Ле-е-нин у-у-мер!» — как стон пронеслись трагические слова, ритмично и музыкально исполненные хором, и, едва они закончили, я дал сигнал крепости электросвязью.
«Ле-е-нин у-мер!!» — как эхо, издали донеслись голоса полутора тысяч человек из крепости.
Воцарилась мертвая тишина. Мы с Радловым выждали паузу и дали исполнять вступление оркестрам «Траурный марш» Шопена.
В третьей части, которую ставил В. Н. Соловьев, был эпизод, аллегорически изображавший провал интервенции. На шести баржах были водружены пятнадцатиметровые фигуры интервентов, прекрасно сделанные по острым сатирическим рисункам В. М. Ходасевич. Они могли двигаться, размахивать руками и дергать ногами. Появление их на фоне музыки «Мальбрук в поход собрался» вызывало смех у зрителей. Затем они должны были в определенные моменты взрываться и жалкие их остатки печально возвращаться в то же место, откуда они так гордо и надменно появились.
Я вел и третью часть, а В. Н. Соловьев нервно ходил около, суфлировал и в то же время заражал меня своей нервозностью.
— Николай Васильевич! Взрыв-в-вай-те! Взры-ы-вай-те! — таинственно прошептал он мне.
Я дал команду, но на первой барже никакого взрыва не последовало.
— Ка-тас-тро-о-офа! — шептал про себя Соловьев.
— Взры-вай-те, вторую баржу!
Но и на второй барже взрыва не последовало.
206 — В чем дело? — запросил я по световой сигнализации командиров барж.
На баржах, видимо, также происходила тревога, так как интервенты перестали двигать руками и ногами и замерли в каком-то изумлении. Зрители засмеялись над этой неожиданной мизансценой.
— Отсырело, — передали по светосвязи.
— Сменить белый свет на синий. Миноносцам приготовить залп, — фантазировал я, стремясь выйти из безвыходного положения.
Яркая окраска фигур сразу же потухла, как только белый свет сменился синим. Фигуры интервентов приняли совершенно иной вид.
— Миноносцы, залп по интервентам!..
Грянули орудийные выстрелы. Для людей на баржах это было полной неожиданностью, и, вероятно, они от неожиданности дернули за веревки. Интервенты нелепо взмахнули руками и ногами. Зрители снова засмеялись, раздались аплодисменты.
— Еще залп и обратный курс баржам! Полный ход!
Под общее улюлюканье и свист развенчанные интервенты возвращались восвояси.
— Сережа! — обратился я к одному из наших «фельдъегерей». — А ну-ка, на мотоцикле быстро поезжайте в затон, куда направляются баржи, и расследуйте, в чем дело.
Представление закончилось благополучно. Нас поздравляли, благодарили, и никто не заметил двух наших катастроф.
— А интересное это дело — пантомимы, — сказал, прощаясь Сергей Миронович. — Это, несомненно, представления нашей эпохи. Нужно будет серьезно продумать этот вопрос. — И еще раз поблагодарив нас и похвалив за смелость (он-то, оказывается, заметил оба инцидента, так как одновременно наблюдал и за ходом пантомимы и за нашими действиями), Киров передал благодарность московских гостей.
— Особенное впечатление на них произвели эпизоды «Смерть Ленина» и «Разгром интервентов», — сказал Сергей Миронович.
Вернувшийся Сережа доложил, что, как уже выяснено, ни один из интервентов не был подготовлен для взрывов и что ни одного грамма пиротехники не было вложено в их фигуры.
207 Продолжение разговора с группой пиротехников, получивших солидную сумму денег за «фейерверочный успех», происходило в другом месте и при других обстоятельствах.
Больше тридцати лет прошло со дня этой последней массовой постановки, и сейчас, вспоминая ее, вспоминая силу воздействия такого рода представлений на десятки тысяч зрителей становится как-то обидно, что мы не продолжали этой интересной работы.
Очень жаль, что никто не подхватил тогда мысли Кирова о том, что «пантомимы — это представления нашей эпохи». Какие постановки можно бы ставить на наших прекрасных стадионах, продолжай мы и впредь наши опыты по созданию массовых представлений.
«Вольная комедия»
Мария Федоровна Андреева была очень сконфужена печальным фактом развала Малого драматического театра и после нашего трагически триумфального возвращения из Костромы при встречах, как бы утешая нас, постоянно говорила:
— Погодите немного и мы организуем новый театр.
Конечно, говоря об открытии нового театра, Мария Федоровна исходила не только из стремления загладить перед нами свою вину. Как умный руководитель, она отлично понимала требования времени и необходимость создания коллектива, остро и быстро откликающегося на современные события. Но репертуара для такого театра не было, его нужно было создавать, и вот тогда-то и возникла у Андреевой мысль организовать своего рода театр миниатюр, подчинив содержание этих миниатюр острейшим темам сегодняшнего дня.
Так возник театр «Вольная комедия», находившийся в ведении Комиссариата театров и зрелищ и Политического управления Балтфлота. Представителем управления в театре и заведующим репертуарной частью был Л. В. Никулин.
Открытие этого театра совпало с постановкой пантомимы на площади Зимнего дворца и состоялось 8 ноября 1920 года Помню, что я буквально разрывался на части, участвуя как режиссер в массовой постановке и являясь главным режиссером 208 «Вольной комедии». В то же время у меня был еще ряд обязательств по отношению к Александринскому театру — месту моей основной работы.
Театр «Вольная комедия» помещался в подвале нынешнего Ленинградского театра оперетты, как раз там, где сейчас находится вешалка. Подвал был переоборудован по планам Юрия Анненкова и им же расписан.
В состав труппы вошли почти все актеры, бывшие зимой в Костроме, а места отсутствующих сразу же заняла молодежь из студии при Малом драматическом театре, которая с нетерпением ждала нашего возвращения из костромской эпопеи. Многие из ныне маститых деятелей творческого фронта Ленинграда начали свою карьеру именно там, в подвале «Вольной комедии».
И Р. М. Рубинштейн, и кинорежиссер С. Тимошенко, и драматург Д. Ф. Слепян, и кинорежиссер Н. Кошеверова, и поэтесса Л. Н. Давидович, и теоретик балетного искусства Ю. Слонимский, и Е. Гершуни, и исполнительница песенок Зина Рикоми, и заведующий музыкальной частью театра имени Пушкина З. А. Майман, и братья Честноковы, и популярнейшая ныне Рина Зеленая, и ряд других товарищей получили свое боевое театральное крещение в подвале «Вольной комедии» и существовавшего в ее недрах «Балаганчика». И даже Н. П. Акимов, сменивший ушедшего Юрия Анненкова, практически начал свою деятельность и проявил свою удиви тельную изобретательность именно в «Вольной комедии» и «Балаганчике». Достаточно вспомнить его работы того времени — «Мистер Могридж младший», «Бунт времени», «Обжигатель горшков», чтобы стало ясно, какие богатые творческие возможности таились в этом юноше. Не случайно впоследствии им очень интересовался А. Я. Головин, который говорил мне:
— Привезите ко мне этого смелого маленького человечка с острым носом, который так дерзновенно расправился с горизонтом (это относилось к решению Акимовым сцены «На насыпи» в «Бронепоезде»).
Театр открылся в соответствии с той программой, которая была ему предложена. Антирелигиозная двухактная пьеса Рейснера «Небесная механика» и его же «Вселенская биржа» лежали в основе первого спектакля. Помимо этого, в программу входили театрализованный пролог, пьеса в двух 209 сценах Л. Никулина «Тут и там» и одноактная пьеса В. Шмитгофа «Парижская утка».
Как то, в эти дни Н. Н. Евреинов обратился ко мне:
— У меня есть интереснейшая пьеса. Она выражает всю суть моего театрального верования. Это, если хотите знать, драматургическая материализация моей эстетико-философской программы. Мне хотелось, чтобы вы с ней ознакомились.
— Как она называется?
— Ну, если она такова, как я вам сказал, то, естественно, что она называется «Самое главное».
Мы приняли ее к постановке, и эта пьеса наметила ту вторую линию в репертуаре, которая вступила в острое противоречие с основными устремлениями «Вольной комедии».
М. Ф. Андреева была против пьесы Евреинова и даже не приехала на генеральную репетицию, предрекая ей неминуемый провал. И каково же было ее изумление, когда вечером мы позвонили ей и сообщили об огромнейшем успехе спектакля. После третьего акта зрители устроили нам овацию, мы выходили кланяться раз двадцать, а может быть, и больше.
Этот спектакль прошел более ста раз за один сезон, что, естественно, наложило определенный отпечаток на репертуар театра.
Мы не понимали тогда, что «Самое главное», вступив в острейшие противоречия с одноактными сатирическими сценами на темы сегодняшнего дня, выражало, конечно, иную по сравнению с установленной программой театра идеологию. Успех же пьесы объяснялся тем, что сделана она была мастерски и хорошо игралась, а одноактные программные спектакли очень быстро сходили с репертуара и часто не достигали цели из-за своей обнаженной тенденциозности и низкого художественного качества.
Отсутствие хорошего современного репертуара — это была главная наша беда, и поэтому кидались мы в театре «Вольная комедия» из стороны в сторону — от заостренных политических агиток до идеалистического спектакля «Самое главное».
И тем не менее молодой театр имел успех у публики, которая охотно заполняла наш небольшой зрительный зал. Забавная вещь — оказывается, размеры и характер театрального помещения предопределяют жанр театра. В нашем уютном подвале превосходно чувствовали себя сборные программы 210 из одноактных пьес, скетчей, инсценировок, словом, эстрадный репертуар, но уже таким спектаклям, как «Самое главное», было тесновато на маленькой сцене, и с середины сезона мы начали подумывать о новом помещении. Таковое было найдено на Садовой, возле Невского, и к началу нового сезона мы благополучно перебрались на новое местожительство.
Радостные собрались мы на первое собрание после отпуска, и я вышел докладывать товарищам смелые планы и перспективы предстоящего сезона. И вдруг в середине доклада мне передают какой-то срочный документ из Комиссариата театров и зрелищ.
«В связи с режимом экономии, проводимым по петроградским театрам, ряд театров снимается с государственной дотации. Среди намеченных театров находится и театр “Вольная комедия”»… А дальше шла личная приписка от Марии Федоровны, что она не возражает, если театр сохранится на правах коллектива, обещая всяческую поддержку, кроме финансовой.
Праздничное настроение собравшихся мгновенно сменилось траурным, но к чести «вольных комедиантов» нужно сказать, что ни один не отказался от работы при новой организационной структуре самостоятельно действующего трудового коллектива, без гарантии твердой заработной платы Все энтузиасты остались на своих местах, и собрание продолжалось, постепенно опускаясь с заоблачных мечтаний и стремясь ощутить под ногами твердую и реальную землю.
Мы великолепно понимали, что без государственной дотации театр не сможет существовать в том масштабе, как прежде, когда он имел двух хозяев, но начинать дело с сокращения людей не хотелось, и на собрании все стремились вносить такие предложения, которые сохранили бы в театре весь творческий коллектив.
И вот кто-то предложил открыть второй театр, ночной, с программой типа «Летучей мыши», и чтобы оба эти театра — и «Вольная комедия» и этот новый — обслуживала одна и та же труппа. Предложение было с восторгом принято всем собранием, и тут же было решено новый театр назвать «Балаганчик».
На этом же собрании наши всезнающие администраторы сообщили, что рядом с одним из фойе за стеной есть пустующее 211 помещение и что если пробить туда дверь и захватить это помещение, то это будет как раз то, что нужно для ночного театра «Балаганчик».
Что было терять «вольным комедиантам», снятым с государственной дотации? Мы немедленно принялись ломать стену.
— Все то, что мы вначале делали в «Вольной комедии», мы теперь будем делать в «Балаганчике», а в «Вольной комедии» будем ставить только большие пьесы, — предлагали одни.
Но сейчас же им возражали другие:
— «Вольная комедия» была театром политической сатиры, а программа «Летучей мыши» будет аполитичной, развлекательной, так что едва ли это будет продолжением линии «Вольной комедии».
— Надо быть решительнее! — утверждали третьи. — Лишь бы ходила публика.
— Едва ли «Летучая мышь» является тем театром, который нужен сейчас, — сомневались четвертые.
— А что если мы будем отдавать часть доходов в фонд помощи голодающим Поволжья: поможем благому делу и сохраним жизнь нашему театру, — предложили наши администраторы.
Через день мы с Н. С. Шатовым получили на руки следующие мандаты за подписью А. М. Горького.
«УДОСТОВЕРЕНИЕ
Дано сие главному режиссеру театра “Вольная комедия” Петрову Н. В. в том, что он уполномочен Петроградским отделением Всероссийского комитета помощи голодающим по организации расширенной работы театра “Вольная комедия”, вся доходность которого передается в распоряжение Петроградского отделения Всероссийского комитета помощи голодающим.
Председатель М. Горький».
Получив благословение Горького, мы стремительно начали репетировать первую программу «Балаганчика».
В новом помещении кипела отделочная работа: художники расписывали стены, печники складывали камин наподобие фоминского в «Собаке», закупались столики и табуретки.
Открыв сезон в большом зале «Вольной комедии», мы вновь и вновь переживали свою репертуарную беспомощность. 212 Мы метались от куликовского водевиле «Шпильки и оплетки» до философской пьесы поэта-футуриста Василия Каменского «Здесь славят разум». Ставили Уайльда «Веер леди Уиндермиер» и «Мировой конкурс остроумия» Евреинова. Так искали мы репертуар, способный проявит творческое лицо «Вольной комедии».
Мы нашли пьесу Палле Розенкранца «Царица ночи» («Дочь народа»). Нас увлекли в ней достаточно сильные, как нам тогда казалось, социальные тенденции. Спешно начали работать и приготовили спектакль за десять дней Очень хорошо играли Н. С. Рашевская — Анна-Катрина и В. Э. Крюгер, только что начинавший свою театральную жизнь ролью короля.
Спектакль прошел с успехом, по городу сейчас же поползли слухи, что в «Вольной комедии» поставили «советский спектакль». А «вольные комедианты» радовались, что как будто нащупали репертуарный курс, которого нужно держаться…
Помню, как через несколько дней, на репетиции «Двенадцатой ночи» в Большом драматическом театре я услыхал за своей спиной явственно произнесенную фразу: «Петров продался большевикам». Репетиция шла вяло… Когда издали доносились раскаты орудийных выстрелов (было это в дни Кронштадтского мятежа), кое-кто из актеров, крестясь, произносил: «Господи, хоть бы скорей!»
Не могут такие эпизоды стереться из твоей памяти, так как они являлись зародышем тех боев, которые впоследствии разыгрались на театральном фронте.
«Балаганчик»
Случайно найденная «Царица ночи» не спасла нас, и мы продолжали метаться в репертуарных противоречиях. Многие актеры любили «Вольную комедию» и, желая ей помочь, принимали участие в спектаклях. Так, Е. П. Корчагина-Александровская и Б. А. Горин-Горяинов участвовали в спектакле «Бастос смелый» — пьесе Леона Режиса; М. Е. Дарский и Б. А. Горин-Горяинов играли в «Бедном Йорике» — пьесе Томайо; Е. П. Студенцов — в «Портрете Дориана Грея» Уайльда, а 213 В. Л. Юренева, очень дружески относившаяся к нам, участвовала в спектаклях «Страсть» Ганса Мюллера, «Ню» Осипа Дымова, «Карусель» Вернейля и «Виктория» по Кнуту Гамсуну. Но и эти героические поступки старшей группы наших товарищей не меняли положения дела. Репертуарная неразбериха мешала устойчивой посещаемости. Спасательным кругом для всех нас мог бы стать «Балаганчик», и мы с нетерпением ждали его открытия.
В начале ноября 1921 года ряд творческих работников Петрограда — писатели, художники, артисты — получили пригласительные билеты:
Распорядительный совет и труппа «Вольной комедии» просят Вас пожаловать 11 ноября, в высокоторжественный день годовщины «Вольной комедии», на гражданское освящение «Балаганчика».
Программа фестиваля:
1) История «Вольной комедии» с древних времен до наших дней,
2) Осмотр печки, которая будет топиться на глазах у всех,
3) Чашка чая под машину,
4) Забавные неожиданности,
5) Текущие дела.
Съезд к 11 часам ночи.
И в этом приглашении воскресали традиции «Собаки», пытавшейся оградить себя от «фармацевтов». Но «балаганщики» не могли быть столь же щепетильны, сколь «собаки», так как нам в первую очередь нужны были деньги.
Успех первый вечер имел большой, и «Балаганчик» занял свое место среди петроградских театров. Нас полюбил и рядовой зритель, и артистический мир Петрограда. Наших новых программ, которые мы выпускали еженедельно, ждали. Зрителям нравилось не только смотреть на сцену, но и самим 214 активно участвовать в некоторых номерах. Они с удовольствием пели хором в номере «Всеобуч пения» и с детским задором перекидывались огромными мягкими мячами, которые им бросали со сцены. Иногда остановить эту игру было почти невозможно. Это и создавало ту своеобразную атмосферу в театре, когда сцена и зрительный зал сливались во едино.
В «Балаганчике» же родился первый шумовой «Оркестр короля Сиамского Чулаланкорна», руководимый талантливой семьей Берман при несменяемом моем дирижерстве. Вероятно, лавры Немировича-Данченко, дирижировавшего «Прекрасной Еленой», не давали мне покоя, пока я не удовлетворил свою страсть, ежедневно выступая во главе этого своеобразного оркестра.
Успех «Балаганчика» побудил нас время от времени устраивать гастроли нашего театра в большом зале «Вольной комедии», и «Балаганчик» начал постепенно вытеснять большие спектакли театра, чему, конечно, кроме всего, способствовало и безрепертуарье.
Отсутствие современных пьес в репертуаре театра побудило нас организовать из труппы пришедшей к нам молодежи нечто среднее между обычной «живой газетой» и спектаклями «Балаганчика». Работа шла исключительно на современном материале. Новое начинание получило название «Станок». Творчески оно было связано с «Вольной комедией», а организационно и экономически находилось в ведении ЛОСПС. Директором «Станка» был работавший тогда в ЛОСПС, а ныне бессменный директор Центрального Дома работников искусств Б. М. Филиппов. Литературной частью «Станка» ведал Б. А. Лавренев, только еще начинавший в это время пробовать свои силы в драматургии.
С первого же представления «Станка» мы увидели и поняли силу и власть над зрителем современной темы. Спектакли «Станка» имели такой успех и спрос, что мы не могли удовлетворить всех заявок, поступавших в ЛОСПС. Пришлось срочно организовать второй коллектив, а немного погодя и третий, который мы сделали чисто музыкальным «Станком».
Вспоминается, как в это же время, к празднику Первого мая, совместными усилиями «Вольной комедии» и «Станка» мы поставили пантомиму, положив в основу «Фуенте Овехуна», и разыграли ее на Дворцовой площади. Музыка 215 М. А. Кузмина, специально написанная для этой пантомимы, была инструментована для духового состава оркестра.
И в это же время, с той же молодежью в стенах «Вольной комедии» я работал над пьесой Луиджи Пиранделло «Шесть действующих лиц в поисках автора».
Что заставляло нас, уже познавших радость крепкой связи со своим зрителем в спектаклях «Станка», браться за условно философское представление Пиранделло? Скажу по совести, что и то и другое, и программу «Станка» и спектакль Пиранделло, мы создавали с искренней и чистой увлеченностью и, вероятно, еще были убеждены, что идем по верному пути.
Творчески-идейно-эстетический сумбур, который царил в помещении на Садовой, привел к тому, что, несмотря на героическую затрату энергии и труда, несмотря на отдельные удачи и творческие взлеты, через четыре с половиной года «Вольная комедия» изжила себя и торжественно закрылась, возобновив спектакль Н. Н. Евреинова «Самое главное».
На заре кинематографии
Искусство кино всегда привлекает нас, театральных работников, возможностью запечатлеть точную форму создаваемого произведения и стабильностью этой формы на все времена, пока живет кинолента, смонтированная тобой.
Я не говорю здесь о широчайших возможностях кино по сравнению с театром, о более мощной экономической базе, о привлечении для съемок любого актера — я имею в виду сейчас только ту точность сценического рисунка, зафиксированную кинообъективом, которая так отличает выпущенную кинокартину от сыгранной в театре премьеры.
Вот, вероятно, почему кинематограф так часто заманивает театральных работников в свои объятья, которых не избежал и я, пережив с этим увлекательным искусством в молодые годы два любопытнейших романа, полных всяческих неожиданностей и приключений.
Было это в 1923 году в Ленинграде.
Энтузиаст искусства кино, Михаил Леонтьевич Кресин, организовал Студию экранного искусства, которая помещалась 216 на шестом этаже кино «Сплендид Палас». Художественным руководителем студии стал драматург А. Вознесенский, носивший небольшую черную бородку и всем обликом своим напоминавший Леонида Андреева. Но только обликом, а не драмами. Меня Кресин пригласил как педагога, и я вел занятия с молодежью по актерскому мастерству.
В Ленинграде тогда существовали две киноорганизаций: «Кино-Север», не создавшая еще ни одной ленты, и «Севзапкино», уже приступавшая к выпуску картин, а пока ютившаяся в маленьком помещении на Сергиевской улице.
Что же касается «Кино-Севера», то эта организация вообще не имела помещения, но зато у энтузиаста Кресина было огромное желание, поставив картину, заложить фундамент будущей киностудии. Он задумал создать первую советскую кинокомедию. Его энтузиазм и оптимизм были столь велики, что ему удалось заразить таких двух опытных кинематографистов, как оператор Н. Ф. Козловский и художник В. Е. Егоров. Что же касается меня, то тут ему не пришлось затрачивать много энергии. Я с радостью принял его предложение поставить фильм и, очертя голову, кинулся в неизведанный мною океан кинодеятельности.
Вскоре Кресин получил на Каменном острове, на Березовой аллее, помещение бывшей оранжереи Елисеева. Здесь было подвешено восемь юпитеров, и «студия» считалась готовой для павильонных съемок. Лаборатории еще не было, ее только еще оборудовали, а вся съемочная аппаратура заключалась в единственной кинокамере «Эрнеман». Вот в таких условиях начались съемки первой советской кинокомедии «Сердца и доллары», написанной Владом Королевичем и Духом Банко. На основные ведущие роли мы пригласили актеров, а все маленькие роли и массовые сцены исполняла молодежь, обучавшаяся в Студии экранного искусства.
В картине участвовали Е. П. Корчагина-Александровская, М. И. Бабанова (впервые снимавшаяся в кино), И. В. Лерский, Д. П. Черкасов и единственный профессиональный актер кино С. Ф. Шишко.
Мы не могли подобрать только актера на центральную роль — молодого инженера-американца.
Егоров уже строил декорации в бывшей оранжерее, Козловский перевешивал с места на место свои юпитеры, стремясь создать наиболее эффектное освещение. Приближался 217 день начала съемок, а дело с исполнителем на центральную роль не двигалось с места. Ни Кресин, ни Козловский, ни Егоров не соглашались ни с одной из предлагаемых мною кандидатур.
И вот однажды, когда декорации первого большого павильона для массовой сцены были построены и Козловским был установлен свет, Егоров подошел ко мне и неожиданно сказал:
— А почему бы вам самому, Николай Васильевич, не сыграть этого Гарри?
Я помню даже растерялся. Но Козловский и Кресин не дали мне опомниться и сразу же поддержали предложение Егорова.
— Конечно, играйте, — уговаривал Кресин, — ведь вы комедийный актер, а кроме того, вы прекрасно знаете сценарий, и вам не надо себе объяснять, что и как играть. Подумайте, от какой нагрузки вы себя избавляете.
Ну у какого актера не дрогнет сердце, когда три опытных кинодеятеля говорят ему, что лучшего исполнителя, чем он, на главную роль не найти?!.
На другой же день состоялась первая съемка. Лиха беда начало. Съемочные дни пошли один за другим, павильоны строились и после съемок ломались, я попадал во все переплеты, в какие должен был по сценарию попадать американский инженер. Козловский и Егоров после каждого съемочного дня говорили: «Хорошо!» — и мы отсняли таким образом почти половину картины. Правда, за все это время я не видел на экране ни одного кадра, так как лаборатория все еще строилась.
По намеченному графику приближалась съемка большой массовой сцены на натуре, местом для нее был выбран перекресток Невского проспекта и Садовой улицы. По ходу действия американка Стенвей — М. И. Бабанова, приехавшая в Советский Союз, разыскивает своих родственников. Осуществить это намерение оказывается не так просто, и героиня вынуждена дать в «Красную газету» следующее объявление: «Тот, кто укажет местонахождение родственников уехавшей 20 лет тому назад в Америку Анны Ивановой, получит денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов».
Эпизод начинался с того, что мальчишки, разносчики газет, несутся по улице Росси. Врассыпную они пролетают 218 через Екатерининский скверик и выбегают на Невский проспект.
«Десять тысяч долларов тому, кто сообщит адрес Ивановых!» — дико орали мальчишки. Их задача была вручить как можно больше газет прохожим, которые в это время окажутся поблизости.
Вся киностудия была приведена в боевую готовность. В мальчуганах — любителях киноискусства недостатка, разумеется, не было, а с киностудистами я и срепетировал массовую сцену. Восьмью группами с обеих сторон и Невского и Садовой двигались они к месту скрещения этих двух улиц. Студийцам, изображавшим прохожих, было предложено привести с собой возможно больше знакомых.
Все их действия были строго обусловлены трубными сигналами.
Для этой съемки мы привлекли из «Севзапкино» еще двух операторов — Кюна и Григора. Они разместились в разных местах и должны были заснять возможно больше отдельных деталей этой сцены, а Н. Ф. Козловский с крыши Гостиного двора снимал общий план.
Проверив исходные позиции всех студийцев и усмирив ораву газетчиков, которые буквально рвались в бой, я поднялся на крышу Гостиного двора, где находились Козловский, Егоров и Кресин, и попросил начать съемку с первым сигналом трубы и окончить по одиннадцатому сигналу.
— Все будет благополучно, и вы не волнуйтесь… — уверенно обратился я к Козловскому, хотя сам очень волновался, рискнув без репетиций снимать ответственную сцену. — Я спущусь на балкон, у меня там сигналисты и связь с землей.
По тротуарам шли жители Ленинграда, по улицам ехали извозчики, по направлению от Николаевского вокзала двигался трамвай.
Я выждал момент, когда на перекрестке образовалось большое скопление людей, и дал первый сигнал — студийцы быстро заполнили весь квадрат пересечения улиц, трамвай остановился.
Второй сигнал — и в эту массу людей врезались газетчики, громко выкрикивая объявление о премии в десять тысяч долларов.
Третий сигнал — и все студийцы начали хватать газеты. 219 Хватали газеты и пешеходы, случайно оказавшиеся в это время на Невском проспекте.
Четвертый сигнал — все начали внимательно читать.
Пятый сигнал — все подняли газеты вверх и, размахивая ими, начали искать своих знакомых, желая поделиться с ними неожиданной новостью.
Шестой сигнал — студийцы, разыскав своих знакомых, устремились к ним. Человеческий муравейник задвигался.
Седьмой сигнал обозначал переход групп с одной стороны улицы на другую.
По восьмому сигналу вся масса людей, еще раз взмахнув газетами, покинула место действия.
На перекрестке Невского и Садовой остались только прохожие, невольно втянутые в киносъемку. Одни, ровно ничего не понимая, с газетами в руках сидели на извозчиках, другие, выйдя из трамвая и тут же получив газеты, поспешно возвращались в вагон, так как трамвай продолжал свой путь, и даже милиционер оказался с газетой в руках. Одни смеялись, поняв, что это была киносъемка, другие ругались, но так или иначе приняли деятельное участие в съемке. Человек двести, а может быть и триста, искренне и правдиво сыграли в нужной нам сцене. Все эти эпизоды мастерски засняли Кюн и Григор, и мы получили великолепные кадры для монтажа массовки.
— Бросайте театр и переходите на работу в кино, — сказал, обнимая меня, Козловский, когда я поднялся к нему на крышу.
— А главное, мы даже не останавливали движения на улицах, — добавил М. Л. Кресин. — Съемка длилась ровно четыре минуты.
А какую детскую радость испытал я, когда впервые увидел на экране заснятый материал. Не случайно острота этого ощущения сохранилась на всю жизнь.
Вот на Дворцовой набережной через Зимнюю канавку проходит Софья Магарилл и идет на аппарат. Она кого-то заметила и остановилась. Мимо проезжает на машине элегантный инженер Гарри. Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. От аппарата вдоль Дворцовой набережной уходящая фигура Магарилл, и следующий кадр — отъезжающий от аппарата в другую сторону набережной инженер Гарри. Он поворачивается и смотрит вслед уходящей женской фигуре.
220 Этот эпизод я увидел первым из всего заснятого материала, и, вероятно, поэтому он так запомнился.
Через три с половиной месяца после начала съемок картина «Сердце и доллары» вышла на экран, и массовая сцена на углу Невского и Садовой постоянно вызывала аплодисменты, особенно удивленный милиционер с газетой в руках.
Вторая моя встреча с кинематографом произошла в 1925 году. «Кино-Севера» тогда уже не было. Его поглотила более мощная организация «Севзапкино». Последняя получила здание бывшего «Аквариума», то самое помещение, где и ныне находится «Ленфильм», и В. Е. Егоров, высоко подвернув брюки (помещение было запущено и на бетонном полу были огромные лужи), командовал его переоборудованием, закладывая фундамент современной студии. Директором «Севзапкино» был назначен Фролов-Бентыш.
Как-то раз поздно ночью раздался звонок и новый директор выразил горячее желание повидаться со мной по самому неотложному делу.
Принимая дела «Севзапкино», он нашел договор с Осоавиахимом на изготовление полнометражного фильма по их сценарию. Договор был обусловлен очень большой неустойкой и точным сроком выпуска.
— А какой срок? — спокойно спросил я.
— Мне даже стыдно назвать этот срок, — сконфуженно сказал Фролов.
— А все же? — настаивал я.
— Через двадцать один день картина должна быть на экране.
В кабинете директора воцарилась тишина.
Как это ни странно, но именно этот срок мог устроить и меня — я собирался ехать за границу, а выездная виза истекала через 25 дней…
— Сделаем так, — прервал я наконец тишину, — дайте мне сценарий. Я прочту его, взвешу все возможности и завтра утром мы снова встретимся для окончательного разговора.
… В девять часов утра я отошел от своего письменного стола, на котором лежали:
1. График съемочных дней — таковых было семнадцать.
2. Перечень съемочных кадров, составленный мною на основе небольшой литературной заявки, предложенной Осоавиахимом, то есть подобие режиссерского сценария.
221 3. Список актеров. Все роли расходились вполне благополучно среди участников «Станка».
4. Требование к дирекции организовать работу лаборатории в три смены.
А также следующие предложения:
5. Обязательное присутствие в съемочной группе работника ГПУ, так как по ходу сценария предстояли съемки на аэродроме, в парке — воздушных шаров, а также лесного пожара. Съемки этих эпизодов обещали много административной неразберихи, и их нужно было улаживать без проволочек, прямо на местах.
6. Все выезды на натуру должны были быть обеспечены световой аппаратурой, на всякий случай, если в эти дни не будет солнца.
7. Ни одна съемка не должна быть сорвана.
8. В съемочной группе должно быть три оператора.
9. Снятый сегодня материал должен быть показан режиссуре завтра в середине дня.
10. Картина получала «зеленую улицу», и ничто не должно было нарушить графика ее выпуска.
Ровно в двенадцать часов я положил на стол директора кинофабрики эти десять предложений.
— Если все это нам удастся провести в жизнь, то ровно через двадцать один день картина будет на экране.
Что же руководило вами в таких случаях? Отчаянная смелость или предельное легкомыслие? — вправе спросить читатель.
Я позволю себе ответить на эти вопросы позже, когда читатель познакомится и с другими моими постановками, созданными в крайне сжатые сроки. Скажу только, что очень часто в моей творческой жизни мне приходилось применять подобные скоростные методы и нередко бывали случаи, когда они обеспечивали настоящий успех в работе.
… Через пятнадцать минут приказ был подписан, и работа по постановке картины «Аэро НТ-54» буквально закипела.
В памяти сохранились два особенно трудных дня на натурных съемках. По ходу сценария был следующий эпизод. Шпион иностранной разведки, проникший на территорию Советского Союза с фальшивыми документами, убивает летчика, а сам с парашютом выбрасывается из самолета. Трудность съемки заключалась в том, что в те времена прыжки 222 парашютистов с самолетов не были таким обычным явлением, как сейчас. Кадр этот был одним из сложнейших в картине. Решение было принято следующее. Куклу, одетую в костюм шпиона, привязывали к парашюту и затем сбрасывали с поднятого аэростата. (Даже с аэростата прыгнуть с парашютом не находилось тогда смельчаков!) Один оператор, сидя в корзине аэростата, снимал этот момент сверху, а второй снимал с земли приближение парашюта и его приземление. Когда же кукла падала на землю, то актер Богданов, изображавший шпиона, разыгрывал целую сцену, борясь с парашютом, который подхватывал порыв ветра. Съемка прошла благополучно, и мы отправились на ближайший аэродром, чтобы отснять убийство летчика и момент прыжка шпиона из кабины. На этот прыжок рискнул сам актер, так как аэроплан стоял на подставках не выше двух метров.
Не так легко оказалось снять и гибель самолета, когда, потеряв управление, машина стремительно падала на землю. Ни один из операторов не испытывал желания вместе с пилотом проделывать фигуры высшего пилотажа. Наконец, мой старый друг Кюн, с которым я подружился еще на съемках фильма «Сердце и доллары», согласился на этот подвиг и бледный влез в кабину самолета.
Но самые большие трудности ожидали нас впереди, когда мы приступили к съемкам эпизода «Лесной пожар».
В этой сцене участвовало более пятисот человек, изображавших и бригады Осоавиахима, и бойцов, и жителей, ближайшей деревни. Участвовали также две настоящие пожарные команды. Нужно было найти лес, в котором возможно было бы устроить пиротехнический пожар. Перевезти сюда остатки разбившегося самолета. Устроить его взрыв. Подготовка к этому ответственному эпизоду заняла три дня, и поэтому единственное, на что нам оставалось надеяться и что могло в какой-то степени компенсировать затраченное время, — это хорошая погода в день съемки. Но, увы, быстро бегущие низкие облака обещали с утра, как принято говорить сейчас, «кратковременные дожди». Правда, сильный ветер вселял надежду, что они будут действительно «кратковременными».
— Едем или нет? — обратился ко мне главный администратор и представитель ГПУ.
223 — Конечно, едем, — ответил я совершенно спокойно, — сильный ветер развеет тучи, и будет очень хороший день. Командуйте отъезд и не забудьте захватить штук десять брезентов. Это так, на всякий случай.
Машина съемочной группы, лихтваген, две пожарные команды, сорок грузовиков с людьми и съемочным оборудованием — такова была процессия, отвалившая от «Аквариума» ровно в шесть часов утра.
Поначалу, когда мы пересекали Невский проспект, выглянуло солнышко, но не успели мы подъехать к заставе, как ветер нагнал гряду туч и полил сильнейший дождь.
— Командовать отбой или едем вперед? — спросил подъехавший на мотоцикле администратор.
— Конечно, едем вперед!..
Когда мы подъехали к месту «Лесного пожара», опять выглянуло солнце и мы начали спешно готовиться к съемке. Тем не менее я отдал приказание растянуть брезенты, чтобы в крайнем случае люди могли спрятаться от дождя. Такая предосторожность не оказалась лишней. Не успели мы расставить людей, как опять скрылось солнце и хлынул дождь.
— Под брезенты! — скомандовал старший помощник.
Ветер рвал брезент, прикрывающий нас от дождя, народ роптал, график казался окончательно сорванным, но именно в тот момент, когда ко мне подошла делегация артистов с требованием отмены съемки, вновь неожиданно выглянуло солнце.
Больше десяти раз в этот день начинался дождь, и каждый раз, когда мы уходили в укрытие, ко мне приходили актеры и предлагали вернуться в город. И снова вылезало солнце, и мы продолжали съемку.
Наступил вечер. Включили лихтваген и последние кадры снимали уже при подсветке. Основная масса статистов после съемки общих планов была отправлена домой, и поздно вечером мы с небольшой группой энтузиастов благополучно закончили съемку.
Два оператора везли в лабораторию около полутора тысяч метров пленки. Когда же на следующий день я просмотрел отснятый накануне материал, то мог вздохнуть с облегчением: было ясно, что картину мы сдадим в срок.
День в день, согласно договоренности, на экране кинотеатра 224 «Паризиана» (ныне «Аврора») состоялась премьера фильма «Аэро НТ-54».
… Срок выездным визам истекал, и на другой день мы с Н. С. Рашевской выехали в Париж.
Опера
Четыре поставленные мной оперы — «Тангейзер», «Риенци», «Дон-Жуан» и «За красный Петроград», разумеется, не могут служить поводом для сколько-нибудь серьезного разговора о сложнейшем искусстве оперного театра.
Постановка «Тангейзера» готовилась как юбилейный спектакль главного дирижера Мариинского театра Эмиля Купера, отмечавшего двадцатипятилетие своей творческой деятельности.
Впервые поднявшись на оперные подмостки, я внимательно прислушивался ко всем советам и замечаниям опытнейшего дирижера, пытаясь как можно скорее отыскать ключ к пониманию своеобразного организма оперы. До этого я никогда, например, не встречался с оперным хором и, разумеется, мне было крайне интересно узнать, что же представляет собой этот огромный коллектив. С неменьшим интересом я ждал встречи с артистами миманса и оркестром. Но, конечно, в первую очередь мне хотелось поскорее познакомиться с творческим процессом актерской работы на оперной сцене. Но, к сожалению, тут мне почти ничего не удалось подглядеть, так как у большинства исполнителей «Тангейзера» роли были сыграны в ранее поставленных спектаклях, и на репетициях мне волей-неволей приходилось вносить лишь некоторые коррективы. Оставалось только восхищаться и удивляться изумительному актерскому мастерству И. В. Ершова. Жаль, что творческая деятельность такого большого и своеобразного художника так мало отражена в нашей театральной литературе.
Э. А. Купер просил меня начать репетиции с массовой сцены третьего акта, уверяя, что с интимными сценами у нас трудностей не будет, так как «все знают, что им делать», «а вот массовую сцену, — говорил он, — придется всю поставить заново».
225 Картина начиналась с того, что в дверях центрального входа появлялись два «мажордома», вооруженных непонятными, только на театре существующими «булавами», ударяли этими «булавами» об пол три раза и на сцену выходили гости, то есть хористы, и вслед за ними мимисты. На первой же репетиции выход мажордомов прошел благополучно. Во всяком случае, они точно по музыке вышли, точно ударили об пол и не помешали дирижеру дать оркестру вступление. Но дальше начался полнейший хаос.
Вывалилась толпа мужчин и женщин в пальто и в галошах (хористы в то время, репетируя, не раздевались). У женщин в руках были какие-то узелки, зонтики и кошолки, мужчины тоже были с пакетами, а некоторые с палочками.
Мимисты же были без верхней одежды. Но, боже! Что это была за пестрая компания! Я, удивленный, повернулся к Куперу, он с грустью развел руками, как бы приглашая меня примириться с печальной действительностью.
Правда, среди хористов были и старые служаки, так же как и Ершов, хорошо знавшие, что такое «Тангейзер». Поэтому, войдя на сцену, они сразу же, не дожидаясь никаких режиссерских указаний, покорно поплелись на свои десятилетиями установленные места. За ними побрели и остальные хористы, живо напоминая стадо коров, вечером возвращающееся с пастбища домой.
С мимистами дело обстояло хуже. Выйдя беспорядочной толпой, они остановились как вкопанные и вопросительно смотрели на дирижера и режиссера, ожидая команды.
Со всей страстью, темпераментом и пылом накинулся я на беззащитных мимистов, стремясь превратить их в вагнеровских героев. Хористов я не трогал, понимая всю безнадежность такой затеи, зато на мимистах отыгрался, развернув перед ними весь арсенал режиссерских ухищрений.
Во время перерыва, когда мы беседовали с Купером, к нам подошли наши «мажордомы». Два высоких худых юноши, подойдя, застенчиво остановились.
— А вот они хорошо работают… — сказал Купер. — Чувствуют музыку…
Такова была моя первая встреча с народными артистами СССР Николаем Черкасовым и Евгением Мравинским.
226 «Тангейзер» приближался к генеральной репетиции. Я как режиссер-постановщик спокойно плыл по течению, выполняя мудрый совет Купера.
— Надо только осторожно обойти все рифы и пороги, а как только минуем их, вагнеровская стихия и Ершов победят.
И как был прав Купер! На спектакле в полную силу раскрылся могучий талант Ершова, и он властно и мощно повел за собой всех участников представления, потрясая публику масштабом своего трагического дарования.
На генеральной репетиции произошел один инцидент, очень ярко характеризующий жизнь театров того времени.
Все шло благополучно. Начали третий акт. Приближалась сцена выхода гостей. Вот вышли Черкасов и Мравинский, ударили своими булавами об пол, мощно грянул оркестр, сцена заполнилась хором и мимистами, но на пятнадцатом или двадцатом такте звучание оркестра как-то ослабло, из общего звучания начали выпадать звуки отдельных инструментов, и, наконец, когда остался только один геликон, через паузы издававший положенные ему по партитуре звуки, Купер опустил дирижерскую палочку, скрестив на груди руки, и печально повернулся к зрительному залу.
— В чем дело, Эмилий Альбертович? — спросил я его, подходя к барьеру оркестра.
— Согласно регламентации, срок репетиционной работы истек, и вот оркестранты покидают репетицию.
Действительно, музыканты совершенно спокойно укладывали свои инструменты и, тихо переговариваясь, уходили из оркестровой ямы.
И это было на генеральной репетиции, накануне юбилейного спектакля главного дирижера!
Вторая моя встреча с оперой произошла через несколько лет, когда мне тоже в очень сжатые сроки — в двадцать пять дней — пришлось совершенно заново поставить «Риенци». И если я как режиссер чисто профессионально свел в этом спектакле концы с концами, то бедный Н. Н. Куклин, исполнитель центральной партии, оказался поставленным в чудовищно трудные условия — ему предстояло выучить наизусть огромнейший музыкальный материал. Помню, что даже на последней, генеральной репетиции, в гриме и костюме, он все еще держал в руках клавир.
227 Гораздо более интересной в творческом отношении была работа над «Дон-Жуаном» Моцарта.
Великолепный состав: Дон-Жуан — С. И. Мигай и В. Р. Сливинский, Лепорелло — П. М. Журавленко, Церлина — Р. Г. Горская, Эльвира — Е. А. Степанова, интересный, творчески ищущий художник-дирижер С. А. Самосуд и художник А. Я. Головин — все это уже само по себе обещало очень много и рождало чувство творческой ответственности. Помню, вначале меня очень смущало, что Головин предлагает использовать в ряде сцен оформление, созданное им для мейерхольдовской постановки «Дон-Жуана». Но потом и сам художник, а вслед за ним и Самосуд убедили меня в возможности такого решения.
С. И. Мигай — основной исполнитель роли Дон-Жуана — был связан какой-то работой в Москве, и бывали дни, когда вместо него репетировал Сливинский, молодой еще тогда артист, обладавший прекрасным голосом.
На первой же репетиции в отсутствии Мигая я начал объяснять Сливинскому природу и характер Дон-Жуана, стал рассказывать о множестве попыток различных авторов по-своему трактовать этот увлекательный образ, но артист, не дослушав мое повествование, остановил меня:
— Вы, Николай Васильевич, мне ничего не рассказывайте. Я ведь все равно играть ничего не буду. Я буду только петь. А вас очень прошу указывать мне, на каких репликах и куда я должен переходить.
И такое приходилось слышать, встречаясь с оперными актерами…
Балетные интермедии, бесчисленное количество арапчат, выполнявших роль слуг просцениума, и главное, великолепное исполнение основных партий — все дало возможность создать праздничный спектакль. Несомненно, этому способствовали и пышное декоративное убранство сцены А. Я. Головиным, и тонкое, выразительное звучание оркестра, с которым очень много работал С. А. Самосуд.
Самосуд в то время руководил Малым оперным театром, а в Мариинском театре дирижировал отдельными операми по специальному приглашению, как это было с постановкой «Дон-Жуана».
Работа над «Дон-Жуаном» обогатила меня, расширила мое представление о том, что такое дирижер в оперном спектакле. 228 Я увидел в Самосуде не только отличного музыканта, но и художника, способного интересно и глубоко трактовать сценическое произведение, предлагать неожиданные и смелые творческие решения. Он как бы сочетал в себе и дирижера и режиссера. Работать с ним было интересно, хотя временами и трудновато: бывали случаи, когда предлагаемые нами решения той или иной сцены оказывались различными. Но тем не менее работали мы дружно, увлекательно, и от репетиции к репетиции я все больше и больше ощущал богатство и глубину знаний, которыми обладал Самосуд. Поэтому вполне естественно, что очень скоро у меня возникло чувство благодарности, любви, а главное — глубочайшего уважения к Самуилу Абрамовичу, замечательному человеку и художнику. В работе над новой оперой «За красный Петроград», к которой мы приступили в 1926 году, он был для меня не только дирижером, не только музыкальным руководителем, но во многом и учителем, за которым смело можно было следовать по неизведанным путям искусства. А первая советская опера была, конечно, путями неизведанными, и я был благодарен Самосуду, что в эту творческую разведку он пригласил меня как равноправного художника.
Оперу «За красный Петроград» написали два композитора, причем разделение работы у них было крайне своеобразное. Композитор Гладковский писал музыку, для «красных» сцен, а композитор Прусак — для «белых». Революционные, боевые наступательные темы сочинял Гладковский, обреченные, агонизирующие, умирающие писал Прусак. И тем не менее опера получилась цельная, музыкальная, эмоционально воздействующая на зрителя.
Правда, некоторые сцены, повествующие о голодном и холодном быте Петрограда времен гражданской войны, были наивны. И когда прекрасный актер Засецкий прибегал с улицы домой и, похлопывая руками, чтобы согреться, пел: «Холодно, холодно, а хлеба дали восьмушку», — то возникал вопрос, как такое бытописание перевести на язык оперного искусства. Но зато боевые и патетические сцены, раскрытые композитором и через прекрасные хоры и через очень музыкальные, а, главное, певческие арии, волновали зрителя.
Хороши были сцены и у «белых». До сих пор помнится ария белого офицера, очень хорошо с точки зрения вокальной и сценической исполненная В. В. Киселевым. На фоне 229 Петергофа, занесенного снегом (декорации Арапова), стоял Киселев и смотрел в бинокль, наблюдая за идущим боем. Шел снег, издали доносились пушечные залпы и разрывы снарядов. Офицер опускал бинокль, отходил в сторону и пел свою арию. В ней звучали и трагическое непонимание происходящего, и обреченность, и бесконечное одиночество. Композитор Прусак глубоко человечески решил данную сцену, отказавшись от примитива и плаката, то есть от тех средств выразительности, которыми привыкли в то время раскрывать образ врага. Ария белого офицера служила своеобразным вступлением к следующей, чисто музыкальной сцене, написанной Гладковским.
Эту эмоциональную часть музыки длительностью в полторы-две минуты мы с Самосудом решили использовать для пантомимы боя. Автор убеждал нас, что он написал чисто музыкальное вступление к финалу, и никак не хотел, чтобы оно сопровождалось сценическим действием.
— Но ведь в операх всегда бывает и балет. Балет в нашей опере неуместен, и мы вместо балета поставим развернутую сцену боя. Пантомима — это будет то новое, что мы с вами внесем в искусство советской оперы, — продолжал настаивать Самосуд, увлеченный нашей идеей.
Автор в конце концов согласился, и сцена боя, следовавшая непосредственно за арией белого офицера, воспринималась и закономерно и сценически убедительно. Она не только имела большой успех у зрителя, который постоянно аплодировал во время этой короткой пантомимы, но и являлась прекрасным вступлением для следующей за ней финальной картины митинга на заводе.
В спектакле участвовали рабочий-большевик Н. Н. Куклин, работница Даша — М. П. Максакова, старый рабочий — М. О. Рейзен, только что приехавший из Харькова и в Ленинграде начинавший свой большой творческий путь. Дружный актерский коллектив, руководимый С. А. Самосудом, создал интересный спектакль, имевший большой успех у зрителя, но, к сожалению, почти не замеченный профессиональной критикой. А жаль, ибо этот в целом интересный спектакль явился, по сути дела, первым шагом на пути создания советской оперы.
Начиная с постановки «Царицы ночи» в театре «Вольная комедия» во мне все больше и больше возникало и укреплялось 230 творческое желание сценического решения темы сегодняшнего дня. Это желание лежало в основе работ над «массовыми постановками», оно частично было удовлетворено в оперном спектакле «За красный Петроград», но полное воплощение этого желания осуществилось только тогда, когда стали появляться первые пьесы современных авторов, посвященные темам сегодняшнего дня, и когда вокруг советской пьесы началась не только творческая, но, конечно, и политическая драка.
231 Глава 6
В поисках современности
Подлинным борцом на идеологическом фронте художник может быть только тогда, когда философия нашей эпохи станет его собственной философией, когда любое положение марксистско-ленинской эстетики закономерно, не на словах, а на деле, практически воплощается в создаваемых им произведениях. И уж, разумеется, не тогда, когда
Коммунизм
по
книжке сдав,
перевызубривши
измы,
он покончил
навсегда
с мыслями
о
коммунизме…
Но для того чтобы ставить современные пьесы, в театре нужно прежде всего иметь их. Таких пьес в то время было очень мало. Вернее, их просто не было. Поэтому мы, естественно, старались в драматургии прошлого отыскивать произведения, наиболее созвучные темам наших дней. Не обходилось, конечно, и без курьезов. Так было, например, когда 232 наиболее рьяные поборники современного репертуара перелицовывали оперу «Флориа Тоска» в оперу под названием «Торжество коммуны».
Именно в это время и произошла моя первая встреча с современным драматургом.
Я уже упоминал о костромской постановке «Фауста и города» Луначарского. Эта постановка имеет свой пролог и эпилог.
В 1918 году А. В. Луначарский опубликовал свою драму «Фауст и город». Крупными буквами на обложке было напечатано, что это «драма для чтения». В обращении к читателю автор писал:
«От читателя, знающего великого “Фауста” Гете, не укроется, что мой “Фауст и город” навеян теми сценами из второй части, “Фауста”, где герой Гете создает свободный город. Взаимоотношения этого детища гения с ним самим, решение в драматической форме проблемы гения с его стремлением к просвещенному абсолютизму, с одной стороны, и демократии — с другой, — вот что волновало меня долго и звало к работе…
… Некоторым лицам, знакомым с моим произведением, кажется, что оно живо отражает опыт нынешней революции. На всякий случай считаю нужным установить, что после декабря 1916 года не произведено в тексте ни малейшего изменения.
Я предполагал издать мою вещь, в которую я вложил лучшее, на что способен, в более спокойное время, но, уступая, требованиям друзей, решаюсь представить ее на суд публики в славные, горькие и великие дни социалистической революции в России»1*.
Ознакомившись с этой «драмой для чтения», я увлекся мыслями, заложенными в ней. Мне также показалось, что в «Фаусте и городе» есть много созвучного нашей действительности. Конечно, не сюжет, а масштабы образов и мыслей, философская направленность всего произведения. Так возникло у меня желание поставить эту «драму» в театре.
Когда я обратился к А. В. Луначарскому с просьбой дать разрешение на постановку, он был крайне удивлен.
— Но ведь это же драма для чтения. Для чтения, — подчеркнул 233 Луначарский, — а не для игры на сцене, — сказал он, удивленно глядя на меня.
— Я сделал сценическую редакцию и очень прошу вас, Анатолий Васильевич, ознакомиться с ней, — упрямо настаивал я и протянул ему сделанный мною сценический вариант драмы.
Луначарский взял экземпляр, перелистал, останавливаясь на некоторых страницах и про себя как бы проигрывая то, что там было написано.
Вероятно, мое упрямство и то, что я принес уже сделанную работу, поколебали уверенность Луначарского.
— Лю-бо-пыт-но!.. Знаете что, отнесите-ка вы эту работу Алексею Максимовичу, а я ему позвоню и попрошу его отредактировать и посоветовать, можно ли это взгромоздить на сцену или нет. А мне сейчас, ей-богу… говорю это по привычке, а не в силу религиозных убеждений, — вставил он с улыбкой, — мне сейчас буквально некогда. Нет ни одной свободной минуты.
Поблагодарив Луначарского, я тут же отправился к Горькому и оставил ему экземпляр пьесы.
Через несколько дней я уже сидел против Алексея Максимовича в его квартире на Кронверкском.
— Вы простите меня, голубчик. Срочно вызывают в Дом ученых. Но я прочел, прочел внимательно и с пристрастием, и вот тут на обложке написал обо всем. Ну и озорники, что придумали… — сказал Горький, прощаясь и передавая мне экземпляр. — Когда поставите, приду непременно. Может быть, и такое нужно показывать на сцене…
На первой странице «Фауста и города» было написано:
«Я нахожу, что сокращения сделаны в достаточной степени умело: устранено почти все, что могло бы затянуть действие. Актуальность выигрывает, логика событий стала более рельефной. Уверен, что в таком виде пьеса будет иметь успех.
А. Пешков».
Читатель помнит, что осуществить эту постановку в Петрограде мне не удалось, так как театр, в котором я собирался ставить «Фауста», на год был командирован в Кострому, где я и сделал первую режиссерскую пробу сценического решения данной пьесы.
Вернувшись в Петроград и снова вступив в труппу бывшего 234 Александринского театра, я был однажды вызван к директору академических театров И. В. Экскузовичу, который в крайне нерешительных тонах предложил мне поставить к годовщине Октябрьской революции пьесу А. В. Луначарского «Оливер Кромвель». Извиняющиеся интонации директора объяснялись тем, что до дня годовщины оставался всего двадцать один день.
Желание осуществить свою мечту было столь велико, что я, не задумываясь, предложил поставить «Фауст и город». Спектакль был у меня уже продуман, его идейно-образное решение ясно; был найден творческий ключ к особой манере актерского исполнения. А главное — успех спектакля был проверен на зрителе. На каждом представлении «Фауста и города» костромской зритель внимательно и заинтересованно следил за всеми событиями на сцене, вслушивался с интересом в диалоги, пытаясь воспринять философскую концепцию драмы.
Услышав мое встречное предложение Экскузович удивляся еще больше, чем сам Луначарский. Я объяснил ему всю предысторию костромской постановки, а когда сказал, что у меня имеется комплект фотографий спектакля, он попросил привезти их немедленно.
Уже через час подписывался приказ о постановке спектакля «Фауст и город». Одновременно Экскузович просил меня окончательно договориться с Луначарским.
Анатолий Васильевич с большим вниманием и каким-то детским любопытством рассматривал костромские фотографии. И его внимание и его любопытство подсказывали мне, что согласие автора будет получено.
— Ну что ж, приступайте. Только успеете ли? Ведь осталось очень мало времени, — сказал Луначарский.
Составленный мною план работы убедил его, что я хорошо подготовлен к постановке этой пьесы.
— А как костромской зритель принимал спектакль?
— Мы его сыграли шесть раз при переполненном зале, в то время как другие спектакли шли три или четыре раза.
Отзывы о спектакле были самые положительные.
— Ну, рискнем, — с улыбкой сказал Анатолий Васильевич и, пожимая мне на прощанье руку, добавил: — А ведь в искусстве, батенька, без риска нельзя.
И вот 7 ноября 1920 года в бывшем Александринском 235 театре шел спектакль «Фауст и город» — драма для чтения А. В. Луначарского. Постановка, декорации и костюмы Н. В. Петрова.
Два вопроса — «власть большой мысли над сознанием зрителя» и «социальная тема как основа художественного произведения» — сливались для меня в этой работе воедино.
«Будет ли слушать зритель?», «Заинтересует ли его философия пьесы?», «Претворим ли мы “драму для чтения” в сценическое произведение?» — и много еще вопросов задавали мы друг другу, готовясь к этому ответственному экзамену. Мы вспоминали, какой успех пьеса имела в Костроме, но здесь были другие масштабы, другие требования, здесь был автор пьесы — Луначарский и ее редактор — Горький. Здесь этот экзамен мы держали перед столичным зрителем.
Экзамен прошел благополучно, и в антракте А. В. Луначарский сказал нам:
— А знаете, я никогда и не предполагал, что моего «Фауста» можно играть. Автору остается удивляться и благодарить театр за глубокое и оригинальное видение и сценическое прочтение пьесы. Лю-бо-пыт-но, — закончил Анатолий Васильевич беседу с нами.
Многому научила меня эта постановка, а из дальнейших бесед с Луначарским (а он смотрел этот спектакль несколько раз) больше всего мне запала в сознание мысль Луначарского об «оригинальном сценическом прочтении». Следовательно, в театре возможны случаи, когда идея спектакля полностью совпадает с идеей пьесы, а бывают и такие спектакли, когда театр проявляет своеобразное понимание пьесы, подчас чем-то отличающееся от авторского. Вероятно, случаются и такие спектакли, когда драматург и театр совершенно расходятся.
Анатолий Васильевич неоднократно возвращался к этой теме, наверное, потому, что «драма для чтения», раскрытая через действие и жизнь сценических образов, конечно, прозвучала по-другому, чем предполагал автор, предназначавший свое произведение только для чтения.
Первая встреча с советским драматургом была для меня исключительно плодотворной, прежде всего потому, что социальная тема, пусть даже в абстрактно-философской пьесе, прочно утверждалась в театре, проверялась на практике, и практика эта была вполне успешной: зритель великолепно 236 слушал и с интересом посещал спектакль. Социальная тема была основой этого спектакля. Именно она определяла взаимоотношения сценических образов, создавала напряженное сценическое действие, которое и увлекало зрителя.
Конечно, «Фауст и город» не может быть назван подлинно современной пьесой. Еще более далеким ответом на темы сегодняшнего дня была трагедия Валерия Брюсова «Земля». И тем не менее она меня заинтересовала и, будучи главным режиссерам, я добился решения о постановке ее в Большом драматическом театре. Вероятно, меня вновь увлекла философская основа этой трагедии. Мое увлечение «философским спектаклем» было столь сильно, что меня не остановило даже глубоко пессимистическое звучание произведения Брюсова.
Тема пьесы — последние дни человечества на земле.
Сохраняя остатки атмосферы под тяжелыми металлическими куполами, на земле живут последние люди. Воздух, которым они дышат, уже давно искусственно создан мудрецами науки. За пределами этого стального склепа все мертво, и только здесь, на небольшом клочке земли, еще теплится жизнь.
Среди оставшихся людей существуют две партии.
Одна из них, называемая «Орденом освободителей», выдвигает требование опуститься к механизмам «вечных двигателей» и раздвинуть купола. Приверженцы этой идеи утверждают, что за пределами куполов существует атмосфера и, раздвинув их, возможно спасти человечество, которое вздохнет живым воздухом. Вторая партия, напротив, доказывает, что за пределами куполов атмосферы нет и что открытие их несет за собой всем неминуемую смерть от удушья.
Между этими партиями идет ожесточенная борьба, и в конце концов побеждает партия «Ордена освободителей».
Последняя картина представляет собой праздник города в ожидании раскрытия куполов и начала новой жизни.
Купола раскрываются, врываются лучи солнечного света, ослепляющие людей, привыкших жить при искусственном освещении, но вместе с этой радостью сейчас же наступает финальный акт жизни человечества. Искусственная атмосфера исчезает, и последние люди на земле, задыхаясь в безвоздушном пространстве, умирают в страшных мучениях.
Так умерла жизнь на этом последнем клочке земли. 237 И ослепительные лучи солнца освещают этот трагический эпилог человеческого бытия.
Я рассказал только основную сюжетную линию пьесы, но и это я сделал лишь потому, что произведение Брюсова знают очень немногие. А не зная пьесы, трудно представить себе недоумение, которое она вызывала на спектакле у многих вполне искушенных зрителей.
И в то же время нельзя не отметить, с каким неотрывным вниманием смотрели красноармейцы это пессимистическое представление и как они любили, да, именно любили его, постоянно устраивая культпоходы на спектакль «Земля» Валерия Брюсова.
И не перекликается ли этот эпизод с рассказом Гончарова «Слуги старого века»? Не напоминают ли эти красноармейцы тех моряков, которые «на корабле слушали такую книгу, не шевелясь, по целым часам, глядя в рот чтецу, лишь бы он читал звонко и с чувством».
На обсуждении в одной из воинских частей, просмотревших этот спектакль, я был поражен выступлением одного из бойцов, крайне своеобразно ответившего мне на вопрос: «Заинтересовал ли вас спектакль и что вы нашли интересного в нем?»
— Заинтересовал. Конечно, это все выдумка, но интересная выдумка. А кроме того, этот спектакль и поучителен. Ведь подлецы из «Ордена освободителей» — это же буржуи, капиталисты. Обманули людей, поманили лучшей жизнью, да и накинули петлю. Так и буржуи поступают с рабочими. Обещают пряник, а потом душат. Спасибо за спектакль, он заставляет думать. А нам сейчас в нашей жизни не думать нельзя.
Вот вам оценка, данная простым бойцом философской трагедии Валерия Брюсова. Убежден, что автор и не думал о возможности такой трактовки. А у меня после этой оценки осталось чувство удовлетворения, что в моем творческом багаже числятся два таких спектакля, как «Фауст и город» А. Луначарского и «Земля» В. Брюсова, два спектакля, которых вы не найдете в биографии ни одного из наших режиссеров.
Когда я ставил этот спектакль, управляющим Большим драматическим театром был Н. Ф. Монахов. Мы вдвоем осуществляли руководство. При мне в театр был приглашен как 238 актер К. П. Хохлов, с которым у меня сохранились дружеские отношения еще со времен совместной работы в МХАТ. Первой его ролью в нашем театре была роль консула в спектакле «Земля». Хохлов прекрасно репетировал эту роль и особенно хорошо играл сцену, когда консул, дав согласие привести в движение «вечные двигатели» и при этом зная о неминуемой гибели людей, принимал яд. Хохлов стоял лицом к публике на возвышении в семь ступеней около своего трона. Он открывал кольцо, хранящее смертельный яд, выпивал его и неожиданно судорожно поворачивался спиной к зрительному залу. Склонившись к трону, он впивался руками в его спинку и так, стоя спиной к зрителю, выдерживал небольшую паузу. Затем быстро выпрямлялся, опускал бессильно руки и еще секунду стоял спиной к зрителю на самом краю возвышения. Неожиданно его руки как бы конвульсивно вскидывались вверх, и он, не сгибаясь, падал вниз спиной на лестницу, крестообразно распластав руки на полу. Падение было настолько эффектно, что всегда вызывало бурную реакцию зрительного зала.
Я был очень доволен этой сценой и благодарил К. П. Хохлова за смелое творческое решение и за его великолепное техническое выполнение.
Мы дружно работали, часто вспоминали московскую жизнь, и ничто, казалось, не могло омрачить нашей дружбы. Но вот однажды, придя на репетицию «Земли» и подходя к дверям своего кабинета, я был остановлен курьершей:
— Николай Васильевич, а вы знаете, — начала она таинственным шепотом, — у вас в кабинете всю мебель переставили!
— Кто переставил?
— Николай Федорович Монахов для Константина Павловича Хохлова-с, — ответила она, прибавив к фамилии Хохлова букву «с», очевидно, в знак уважения к будущему хозяину кабинета.
Не заходя в кабинет, я прошел на общую вешалку, разделся там и направился на репетицию «Земли».
Отношения у меня с Монаховым были холодные после премьеры «Двенадцатой ночи», где он играл Мальволио. В период репетиций он не соглашался с моей трактовкой образа и просил не мешать ему в его творческой работе.
239 — Надеюсь, что я сам могу овладеть ролью, не нуждаясь в указаниях режиссера.
В результате самолюбивый актер провалил роль.
После премьеры у нас был крупный разговор. Работать совместно в таких условиях было, конечно, трудно, и я поставил перед Монаховым вопрос о своем уходе. Он категорически протестовал, утверждая, что творческие разногласия — это одно, а совместная работа — совершенно другое.
— Ведь работают же совместно Станиславский и Немирович-Данченко, далеко не во всех творческих вопросах будучи согласными, — говорил Монахов.
После этих слов неожиданной для меня была внезапная, без предупреждения, «перестановка мебели».
В этот же день после репетиции я подал письменное заявление об уходе из театра, которое предельно любезно было принято управляющим.
Работу в Большом драматическом театре я совмещал с режиссерской работой в Александринском театре и, уйдя из Большого драматического, остался штатным режиссером Александринки.
Читатель, вероятно, помнит, что после Февральской революции управление театра перешло к Временному комитету, который в свое время был заменен единоличным руководством Н. В. Смолича. Последний уступил место Карпову, а теперь во главе коллектива стоял Ю. М. Юрьев, пять лет тому назад с проклятием покинувший театр.
Руководство Юрьева во многом определило «романтическое» направление в репертуаре театра. На сцене шли такие пышные и монументальные спектакли, как «Антоний и Клеопатра» Шекспира, «Цезарь и Клеопатра» Бернарда Шоу.
Хотя пьеса Шоу как произведение глубоко сатирическое не требует монументального решения, но спектакль получился на редкость пышным. И если Большой драматический театр постепенно отходил от своей первоначальной программы театра классической трагедии и стремился приблизиться к современности, то Александринский театр с приходом Юрьева прочно становился на псевдоромантические позиции.
И на моей душе есть грех, когда я, поставив очень плохой спектакль «Сарданапал» Байрона, принял участие в утверждении ложноромантических путей театра.
Нет худа без добра, и лично я из торжественного провала 240 «Сарданапала» мог извлечь положительный урок. Этот провал со всей очевидностью доказал полную ненужность подобного рода спектаклей для нового зрителя. Но повинен в этом был, конечно, не Байрон, а в первую очередь я, так понявший и поставивший «Сарданапала», а также и Ю. М. Юрьев — исполнитель центральной роли.
Приступая к работе, ни он, ни я не сформулировали точно, зачем и во имя чего мы ставим этот спектакль. А не ответив на этот кардинальный вопрос в начале работы, каждый художник оказывается в тяжелом положении, а его творение не находит отклика. И, вероятно, инстинктивно, а не сознательно, я проявил массу режиссерской изобретательности, чтобы скрыть за ней отсутствие глубины содержания и ясной идейной направленности.
Спектакль был действительно монументальным и предельно помпезным, особенно сцена пира, но смысла во всем этом многоярусном нагромождении не было никакого. Мы ставили «Сарданапала» вообще, не пытаясь отыскать в байроновском произведении ни одной струны, способной прозвучать для современного зрителя, за что и получили справедливую рецензию под заголовком «Молчать невозможно».
Разительная неудача этой постановки заставила руководство театра пересмотреть свои творческие позиции и обратиться если не прямо к современности, так как пьес о наших днях еще не было, то, во всяком случае, к дням, не столь отдаленным.
Одной из таких пьес было «Изгнание блудного беса» Алексея Толстого. Постановку этого спектакля Юрьев поручил мне. Так, после длительного перерыва встретились мы на этой работе с Алексеем Николаевичем Толстым.
Когда читаешь даже простые хроникальные заметки об этой постановке, то уже и тогда ощущаешь ту театральную обстановку, в которой рождался этот спектакль.
«Ближайшей новой постановкой в Акдраме явится пьеса Ал. Толстого “Изгнание блудного беса”… Пьеса резко бичует фанатизм и суеверие, и в этом смысле близка современности. Пьесу ставит Н. В. Петров. Принцип постановки — художественный реализм».
И другая заметка. «Пьеса А. Н. Толстого “Изгнание блудного беса”, первое представление которой в постановке Н. В. Петрова предположено в Акдраме в начале января, рисует 241 трагедию российской темноты в последние годы до войны. Как постановка, так и монтировка пьесы, по эскизам В. А. Щуко, строго реалистические».
Уже одно то, что обе заметки подчеркивают принцип реализма, говорит о том, что делалось в это время в театрах. А делалось вот что. Когда решалась какая-нибудь постановка и художнику поручалось «оформление» (понятие «декорации» постепенно исчезало с афиш), то художник прежде всего искал материал, из которого он будет строить свое «оформление».
«Все оформление будет сделано из жести и металлической сетки», — сообщал один.
«Жесть и веревки лучше всего создадут среду для данного спектакля», — говорил другой.
«Я придумал великолепное решение, — радостно восклицал третий, — все оформление будет построено из громаднейших деревянных жалюзи».
В таких «сценических оформлениях» ставились тогда спектакли, и самое странное, что многим из нас казалось, что в этих решениях есть что-то революционное. Несколько позже в оформлении из «громаднейших деревянных жалюзи» и я ставил спектакль.
Так вот, в период этой конструктивной вакханалии встретились мы с Алексеем Николаевичем, чтобы побеседовать о будущей постановке. Пожалуй, это была моя первая серьезная творческая беседа с драматургом перед постановкой современного спектакля. И она сохранилась в моей памяти.
Художник огромного жизнеутверждения, страстного темперамента, необыкновенного юмора, преданный патриот своей Родины, художник, который нес в себе все лучшие традиции великой русской культуры XIX века, Алексей Николаевич Толстой был верным сыном русского народа, впитавшим в себя и его мудрость и его трудолюбие.
Толстой обожал жизнь и умел радостно жить. Беседа наша состоялась после обеда. Ах, как умел встречать своих гостей радушный хозяин! Мы пошли в кабинет, Алексей Николаевич закурил свою трубку и, пуская густые клубы дыма, лукаво поглядывал на меня.
— А ты знаешь, Николай, что я думаю? Вот ты спросил меня, как я, драматург, написавший пьесу, вижу ее на сцене? По-моему, я это сказал, написав ее. Ну, я могу прочесть ее актерам, чтобы было яснее… (Нужно сказать, что Толстой 242 великолепно умел читать свои произведения, и действительно, его читка всегда многое раскрывала в написанной им пьесе.) Но дело, по-моему, не в этом, — продолжал он. — Вы — театр, вы — мастера, вы это сделаете. А вот что меня сейчас интересует и волнует. Куда мы идем? Ведь это какой-то собачий бред — то, что происходит в театрах.
И чем больше Алексей Николаевич громил формалистско-эстетские увлечения ленинградских театров, тем озорнее искрились его глаза, тем энергичнее пыхтела его трубка, буквально обволакивая его дымом, и было видно, что он что-то таит, о чем поведает в конце своего страстного монолога.
— Так вот, я и предлагаю. Давай делать реалистический спектакль, — закончил он свою речь и залился тем смехом, который знают все, кто встречался с Алексеем Николаевичем.
Действительно, среди жести, металлических сеток, веревок и деревянных жалюзи, культивировавшихся в театрах, по-настоящему реалистический спектакль должен был прозвучать и неожиданно и дерзко.
— Ты понимаешь, какой поднимется вой и визг вокруг этого спектакля? Ну и черт с ними, пусть воют, а мы свое правое и нужное дело сделаем и формалистов пугнем.
Премьера прошла с шумным, я даже сказал бы, со скандальным успехом. В бурные аплодисменты зрителей очень часто врезались и свистки. Великолепные реалистические, живописно исполненные декорации В. А. Щуко вызывали аплодисменты, но им же больше всего и свистели.
Действительно, это была большая дерзость — прекрасную реалистическую живопись противопоставить жести, фанере, металлической сетке и веревкам.
Когда после третьего акта мы с Толстым выходили вместе с участвующими на аплодисменты и в зале раздались свистки, Алексей Николаевич успел мне шепнуть: «Ну, Николай, держись. Завтра нам господа формалисты покажут».
И действительно, завтра в газетах мы читали:
«Акдрама снова у разбитого корыта, как будто и не было никакого “кризиса театра”, как будто бы мы не видели ряда блестящих режиссеров от Станиславского до Мейерхольда, как будто в самой Акдраме не было ни “Эугена Несчастного”, “Антония и Клеопатры” и других попыток омолодить приемы постановки Акдрамы.
243 Снова академисты прочно засели в рамки спектаклей последних годов XIX столетия… Декорации сделаны по старинке… Актеры б. Александринки почувствовали себя в родной стихии: бытовые типы, игра — копирование жизни, — на это “александринцы” мастера… После постановки “Изгнание блудного беса” в Акдраме можно думать, что наши театры снова засядут в болото бытового натурализма».
Так, в обстановке формалистско-эстетских ухищрений скромная попытка возвратить реализм на сцену была объявлена натурализмом.
Много смеялся Алексей Николаевич, читая эти строки рецензии.
— Ведь до чего вывихнуты мозги, реализм не могут отличить от натурализма.
В этих небольших боях у меня сложилась не только творческая, но и личная дружба с Алексеем Николаевичем и сохранилась до дня его смерти. Из этой встречи я понял, что основа дружбы рождается в результате единого верования, единого творческого устремления, в единой совместной борьбе с враждебными тенденциями.
Но этот творческий бой на материале пьесы, еще далекой от нашей действительности, не внес оздоровления в жизнь ленинградских театров. И только появление в репертуаре пьес о наших днях, пьес, где образы современников заговорили на сцене со зрителем о волнующих его вопросах, только веяние нашей эпохи нанесло решительный удар формалистско-эстетским тенденциям, утверждая на сцене правду о наших днях, сказанную языком реалистического искусства.
В те годы советская драматургия только еще начинала формироваться. Со многими драматургами встречался я в своей дальнейшей работе, и как-то невольно образы их возникают в моей памяти, как будто все они были связаны между собой какой-то неразрывной нитью.
Современная тема, жизнь сегодняшних людей — вот что связывало их воедино, несмотря на творческие особенности, присущие каждому из них как самостоятельному и самобытному художнику.
И если я выше говорил об особом мастерстве читки своих пьес Алексеем Николаевичем, то, пожалуй, именно в этом они были глубоко различны.
244 Александр Афиногенов всегда читал, будучи глубоко взволнованным чувствами созданных им образов, и очень точно оттенял все мысли, во имя утверждения которых и разворачивались все события его пьесы.
Чтение Бориса Ромашова отличалось от других точной публицистической направленностью и ярким, образным, почти актерским видением сатирических граней характеров своих образов.
Леонид Первомайский всегда несет в своем чтении философию и поэзию.
Александр Корнейчук выразительно подчеркивает жизненность и правдоподобие своих образов, особенно остросатирических и гротесковых.
Вспоминая же чтение Алексеем Николаевичем своих пьес и пытаясь точно определить природу этого чтения, как-то теряешься от многообразия красок, которыми был так богат художник Толстой.
Мне кажется, что манера его чтения воспроизводила все особенности и оттенки авторского текста. И в таком, казалось бы, простом деле, как прочтение своей пьесы, вы всегда ощущали неуемное богатство его натуры.
Постановкой «Изгнания блудного беса» оканчивался определенный период бесцельных поисков и бессмысленного блуждания в поисках репертуара, так как начали появляться пьесы современных авторов на современные темы.
Новый репертуар
Первым таким спектаклем в Александринском театре был «Яд» А. В. Луначарского. Я ставил эту пьесу совместно с К. П. Хохловым, перешедшим из Большого драматического театра в Александринский. Так два бывших главных режиссера Большого драматического театра встретились в совместной работе над пьесой Луначарского в Александринском театре.
Работа проходила у нас дружно, и дружба наша сохранилась до последних дней жизни Константина Павловича, и мы ни разу не затрагивали темы «перестановки мебели», как будто этого эпизода никогда и не было в действительности.
245 Спектаклем «Яд» начинался новый этап в творческой жизни Александринского театра.
Несмотря на авантюрно-детективный сюжет пьесы, основная ее тема — тема отцов и детей, тема воспитания юношества в новой действительности — прорывалась на первый план и полностью доходила до зрителя. Зритель был взволнован и заинтересованно следил за судьбой юноши — сына наркома. Сына прекрасно играл Жура Соловьев, а наркома — Ф. П. Богданов.
И Луначарский, и режиссура, и художник М. З. Левин, и состав участников спектакля — все мы были еще в достаточном плену у романтического театра; вот почему в спектакле в его решении была допущена, вероятно, в излишней мере театральность. Но, возможно, что, реши мы этот спектакль в сугубо реалистических, бытовых тонах, он не имел бы успеха, так как обнаружились бы и недостатки пьесы, и недостаточная опытность режиссуры в утверждении эстетики современного спектакля, да и актерский коллектив еще не владел тем новым мастерством, без которого невозможно воплотить современный характер.
Во всяком случае, излишняя театральность постановки не мешала восприятию актуальной темы спектакля, одновременно давая актерскому коллективу возможность полностью проявить богатство своей творческой палитры.
Не следует забывать и того — а это, в конце концов, самое главное, — что с идейных позиций спектакль был решен совершенно правильно и не случайно имел большой успех у зрителя.
Ю. М. Юрьев прекрасно играл мошенника Батова, Л. С. Вивьен создал интересный образ международного авантюриста Мельхиора Полуду. Запомнилась Римма — Е. М. Вольф-Израэль.
В этом же спектакле начал свою театральную жизнь М. Ф. Романов (ныне народный артист СССР), великолепно сыгравший роль Редендорфа.
Однажды Ю. М. Юрьев вызвал меня к себе в кабинет и рассказал свою беседу с И. И. Ионовым, ведавшим Ленинградским отделением Госиздата.
— Илья Ионыч мне очень рекомендовал ознакомиться с двумя произведениями: «Ли-лю-ли» Ромена Роллана и «Скипетр» — роман Абель Эрмана, — сказал мне Юрьев. — Пьесу 246 Ромена Роллана я прочитал, это нам не подходит, а вас прошу взять у Ионова и ознакомиться с романом Абель Эрмана и доложить мне.
Через несколько дней, прочитав интереснейший роман «Скипетр», написанный в диалогической форме, я докладывал Юрьеву.
— Это прекрасное сатирическое произведение о быте и Правах бельгийского двора. Роман повествует о поездке наследника престола со своим духовником в Париж, об их тамошних похождениях, о внезапной смерти короля бельгийского, о том, как наследник и духовник получают это печальное известие, находясь в одном из парижских публичных домов, об их грустном возвращении на родину и, наконец, о коронации принца.
Так как весь роман написан в диалогической форме, то это, по сути своей, огромнейшая пьеса. Мне кажется, что сценическая редакция этого романа должна заключаться в очень продуманных сокращениях. Актерский материал прекрасный. Роман остросатирический и, по-моему, мы можем его поставить. Вещь, конечно, спорная, но успех этот спектакль будет иметь огромный. Илья Ионыч просил, Юрий Михайлович, передать вам свой привет и настоятельно советовал поставить «Скипетр».
— Ну, если Илья Ионыч настоятельно советует, то давайте попробуем. Я вас очень прошу взять на себя труд подготовить сценический вариант романа.
На этом мы расстались, и я с увлечением принялся за подготовительную работу.
Сделанную мною сценическую редакцию романа Ю. М. Юрьев одобрил, одобрил ее и директор академических театров И. В. Экскузович, хотя все же осторожно заметил:
— А не будет скандала, когда мы на академической сцене покажем публичный дом?
— Но ведь это же глубокосатирическое произведение, — возразил Юрьев, — и, кроме того, Ионов настоятельно рекомендовал его поставить.
На этом окончился наш разговор, и я принялся за работу. Художником спектакля была В. М. Ходасевич. Она нашла прекрасное сценическое решение этого сложнейшего спектакля, так как в нем было шестьдесят три эпизода, причем каждый происходил в новом месте действия.
247 Ходасевич создала буквально симфонию сценического оформления, причем все перемены происходили на глазах зрителя. Некоторые были столь неожиданны и эффектны, что сами по себе всегда вызывали аплодисменты в зрительном зале. Одной из таких перемен было превращение декорации цирка в отдельный кабинет ресторана.
Манеж цирка рампой был разрезан пополам. На сцене полукругом лежал цирковой барьер, сверху висели трапеции, на заднике был написан цирк, битком набитый публикой.
Кончался номер цирковой программы. Наездница, которую интересно играла Н. С. Рашевская, выбегала на рампу раскланиваться с публикой, в это время шталмейстеры уводили лошадь за кулисы. Наездница также убегала в глубь сцены, и тогда неожиданно полукруг циркового барьера начинал подниматься, образуя, таким образом, арку. Из этой арки выпадали куски материи, эффектно образующие красивый подбор портьер, а из центрального большого люка поднимался сервированный стол. Статисты подавали мебель. Занавес форганга как бы разрастался, закрывая собой панораму цирка. Цирковые фонари и трапеции трансформировались в ресторанные люстры. С двух главных шталмейстеров, присутствовавших при этом декоративном преображении, неожиданно спадали цирковые ливреи, они оставались во фраках и начинали готовить кабинет к предстоящему ужину.
Это «декоративное» действие имело «казенные» аплодисменты зрительного зала.
Вызывала аплодисменты также и сцена возвращения кронпринца домой.
Из массивной царственной двери, расположенной на втором плане слева, у самой кулисы, выходил Б. А. Горин-Горяинов (он играл кронпринца) и шел прямо на публику. Дойдя почти до рампы, он поворачивался в профиль к зрителю и продолжал путь, идя параллельно рампе. Когда он достигал суфлерской будки, то есть золотого сечения сцены, он переставал двигаться вперед и только подымал и опускал ноги, делая вид, что он идет, а сам находился на одном месте.
Сейчас же царственные двери уезжали налево, а из кулисы с правой стороны выплывали четыре колонны, проезжавшие мимо Горина-Горяинова. Вслед за колоннами проезжал огромнейший портрет отца кронпринца в толстенной золоченой 248 раме. На раме был креп, и Горин-Горяинов становился еще грустнее. Уплывал портрет, и его сменяла зеркальная стена. Затем из кулис появлялись придворные, получившие на репетициях рабочий термин «придворные черви». Так вот «черви» эти плыли по сцене, примерно так же, как исполнительницы в танцевальном ансамбле «Березка». Технически это было сделать нетрудно, так как они были одеты в один общий костюм. Когда мимо Горина-Горяинова проплывали архитектурные детали, зритель веселился, когда проплывали «черви», он хохотал, а когда Горин приветствовал придворных, подняв руку, а они отвечали взмахом одной правой руки, так как их левые руки были вмонтированы в общий костюм, хохот в зрительном зале переходил в аплодисменты.
Многие ведущие актеры театра Пушкина, ныне заслуженные, народные и лауреаты, вспоминают недобрым словом ту профессиональную пытку, которую они испытывали, влезая в униформы — костюмы «придворных червей» — и с трудом спускались по лестницам из своих уборных, расположенных на втором и третьем этажах.
В спектакле, утверждавшем особый жанр сценического представления, было разбросано немало таких режиссерских выдумок и декоративно-действенных сцен. Кстати сказать, сценически декоративный прием не являлся досужей выдумкой художника и режиссера, а рождался вполне закономерно, в поисках технологического решения, то есть принципа перемены декорации. А ведь их было более шестидесяти.
Блестящий состав исполнителей был залогом актерского успеха спектакля у зрителей.
Б. А. Горин-Горяинов — кронпринц, Светлов — его духовник, Е. П. Корчагина-Александровская — звезда кокоток Парижа, И. В. Лерский — хозяин публичного дома, Н. С. Рашевская — цирковая наездница, М. Ф. Романов — брат наследного принца.
Уже в первом же антракте в зале выкрикивали фамилию режиссера. Исполнители дружно вызывали меня. Редко бывает, чтобы режиссера вызывали после первого же акта. Но еще реже бывает, когда на поклоны постановщика из зрительного зала раздаются и аплодисменты и оглушительный свист, а на спектакле «Скипетр» это бывало не раз.
Ю. М. Юрьев ходил победителем, потирая от удовольствия руки. И. И. Ионов благодарил за острый спектакль. У участников 249 было празднично приподнятое настроение, а в зрительном зале кипели страсти и возникали ожесточенные споры между сочувствовавшими и протестовавшими. И один только И. В. Экскузович тревожно прислушивался к настроениям зрителей, то радостно улыбаясь, то внезапно впадая в полнейшее уныние.
Одна часть зрителей с восторгом принимала спектакль, другая — с возмущением. Равнодушных не было. А раз не было равнодушных, то каждый следующий спектакль собирал аншлаги и касса не могла удовлетворить всех желавших посмотреть «Скипетр».
Каждый спектакль пожарная охрана составляла акты о переполнении зрительного зала и о приставных стульях. А не ставить приставных стульев администрация не могла, так как наплыв желающих был действительно огромен.
После тридцатого или сорокового представления Экскузович решил временно законсервировать спектакль, чтобы остудить страсти. Месяц мы его не играли, что, естественно, создало еще больший ажиотаж, а когда через месяц Экскузович решил перенести «Скипетр» в помещение Малого оперного театра, то число желавших увидеть спектакль возросло вдвое.
Спектакль имел шумный успех, но внутри театра мы мечтали о другом успехе, об успехе современной пьесы, которая уже начала появляться на театральном фронте.
Режиссерский Вавилон
Эклектика в репертуаре была во многом результатом режиссерского хаоса, царившего в театре. Именно в это время Юрьев начал приглашать новую режиссуру, поручая иногда постановку пьес даже отдельным актерам, высказывавшим желание заняться режиссерской работой. Таким образом, искренне желая укрепления режиссуры театра, руководство постепенно своими «мероприятиями» дискредитировало самое понятие режиссуры. Двенадцать режиссеров совершенно различных устремлений и вкусов самостоятельно ставили отдельные спектакли. Сегодня шел романтический спектакль, завтра ставилась советская пьеса, а послезавтра зрителей ошеломляла яркость и пестрота театральной формы. Одно простое перечисление 250 фамилий постановщиков, работавших в то время в театре, раскроет перед читателем закономерность царившей в нем творческой неразберихи.
Е. П. Карпов, Л. С. Вивьен, С. Э. Радлов, В. Р. Раппопорт, Н. В. Смолич, А. Н. Бенуа, К. П. Хохлов, Б. А. Горин-Горяинов, Г. Г. Ге, Н. Я. Берестнев, И. Г. Терентьев и автор этих строк. Каждый из перечисленных режиссеров, конечно, раскрывал в своих работах свое понимание театра, свое отношение к действительности, утверждал своими спектаклями собственные методы и вкусы. Получался поистине режиссерский Вавилон, когда в работе театра сталкивались столь творчески противоречивые фигуры, как Евтихий Карпов и Игорь Терентьев, только что нашумевший в Ленинграде своими постановками «Ревизора» и «Натальи Тарповой».
И вот именно Игоря Терентьева, левейшего из левых режиссеров, Ю. М. Юрьев пригласил на постановку пьесы Тренева «Пугачевщина».
Выпуск этой постановки предполагался в конце сезона 1924/25 года. По городу были расклеены афиши, извещавшие, что последней премьерой сезона театр показывает пьесу Тренева «Пугачевщина» в постановке Игоря Терентьева. Согласно афише, премьера должна была быть сыграна десять раз — этими спектаклями заканчивался сезон. Но зритель не увидел ни одного спектакля, так как премьера не состоялась. И не состоялась она по очень любопытной причине. Такого случая я не помню в своей практике, вот почему хочется на нем остановиться.
Спектакля никто не запрещал, никто не снимал его, и все-таки он не состоялся. Да, он, действительно, просто «не состоялся» и не мог «состояться», так как ни одна генеральная репетиция ни разу не была доведена до конца. В терентьевской «Пугачевщине» ничего не было понятно, не только зрителю, но даже и самим участвующим в спектакле. На генеральных репетициях они часто останавливались и удивленно смотрели друг на друга, не зная, не помня и не понимая, что они должны делать согласно виртуозным указаниям режиссера, которые шли не только вразрез с произносимым текстом, но и вопреки вообще здравому смыслу.
Останавливались не только актеры, непривычные к требованиям формалистической режиссуры, останавливались и «повидавшие виды» опытные театральные рабочие, работающие 251 на сцене и привыкшие в те времена к самым невероятным «взлетам режиссерской фантазии». Один «Скипетр» был для них в этом смысле великолепной школой, но и он померк перед режиссерским трюкачеством в «Пугачевщине». Так вот, даже привычные театральные плотники и те останавливались на генеральных репетициях спектакля, не понимая, что им делать дальше. В результате премьера просто не состоялась, и постановка «Пугачевщины» была передана другому режиссеру.
Этот невиданный скандал вызвал взрыв в режиссерской коллегии. Ряд режиссеров в знак протеста подали заявление директору академических театров И. В. Экскузовичу с просьбой освободить их от работы в театре.
Заявления эти не были приняты, и дирекция устроила режиссерское совещание в кабинете управляющего театром Ю. М. Юрьева.
— Мы собрали вас, — начал свое выступление И. В. Экскузович, — чтобы побеседовать о ненормальностях, существующих в театре, и договориться, как работать дальше. У нас с Юрием Михайловичем есть свое предложение, но мы очень хотели бы послушать и ваши соображения по данному вопросу.
Первым выступил Л. С. Вивьен, внесший предложение об учреждении должности главного режиссера, как-то незаметно исчезнувшей в начале революции.
Одна группа режиссеров его поддержала, другая протестовала, но и протестующие считали, что необходимо что-то изменить в самой организационной структуре дела. Предложение, объединившее обе группы, внес С. Э. Радлов.
— Я предлагаю расширить функции главного режиссера и сделать его одновременно и заместителем управляющего театром.
— Вы угадали нашу точку зрения, и мы с Юрием Михайловичем думали именно так, — сказал Экскузович. — Мы очень ценим и уважаем такой творческий коллектив, как ваш, очень доверяем вам, а потому решили предоставить вам право выдвижения кандидата на должность главного режиссера и заместителя управляющего театром. Мы сейчас покинем собрание, а вы посовещайтесь и сообщите нам, когда придете к согласованному решению, — с этими словами Экскузович и Юрьев вышли из кабинета.
Через полчаса они были приглашены обратно, и Виктор Романович Раппопорт сообщил им решение совещания:
252 — Как видите, мы совещались очень недолго, так как все высказывавшиеся сошлись на одной и той же кандидатуре. Кандидатом на пост главного режиссера и заместителя управляющего мы единогласно выдвигаем Николая Васильевича Петрова.
— Нам очень приятно, что ваше предложение совпадает с нашими пожеланиями, — ответил Экскузович. — Поздравляю вас, Николай Васильевич, и верю, что вы оправдаете наше общее доверие к вам.
Иван Васильевич Экскузович обладал не только огромным шармом, но и великолепными организационными способностями, и часто в трудные, казалось бы, безнадежные минуты жизни театров умел так повернуть ход событий, что сразу же наступало умиротворение.
Так было и в этот знаменательный для меня день, когда он, что называется, «переиграл» Вивьена, Радлова и меня, пришедших на это собрание с твердым решением покинуть театр. Мы вчера втроем подали ему заявления об уходе, а сегодня совершенно неожиданно я был назначен главным режиссером, а они оказались активнейшими членами собрания, предложив новую организационную структуру руководства театром.
Так окончился сезон 1924/25 года, и осенью 1925 года жизнь в театре началась при двух кабинетах.
Два кабинета
Пышный «красный кабинет» являлся в прежнее время местом отдыха царской особы, он примыкал к царской ложе, и здесь-то помещался Ю. М. Юрьев.
Небольшая комнатка без окон, находившаяся возле левой лестницы, ведущей на сцену, была кабинетом главного режиссера.
Три года творческой жизни театра, начиная с осени 1925 года и кончая осенью 1928 года, были насыщены страстной борьбой, происходившей между двумя кабинетами, так как каждый кабинет имел свою довольно-таки ясную творческую программу, значительно отличавшуюся одна от другой. Я ни одной секунды не собираюсь приписывать исключительно 253 себе ту роль и значение, которые в этой творческой борьбе имел «кабинет под лестницей», как его называли остряки в театре. К этому времени уже начали появляться современные советские пьесы, и борьба, по сути своей, завязывалась за право жизни на сцене молодой советской драматургии. Так вот «кабинет под лестницей» стоял целиком за советскую пьесу и был ее ярым пропагандистом, а «красный пышный кабинет» милостиво допускал возможность ее существования, но отдавал преимущество все же пышным романтическим и монументальным спектаклям. Борьба была неизбежна. Не Петров боролся с Юрьевым, а в исторически-конкретной обстановке столкнулись две различные идейно-творческие тенденции.
Они же размежевывали и актерский коллектив. Среди актеров образовывались группы сторонников советской пьесы и противников ее, причем очень любопытно отметить, что противниками в основном оказывались те актеры, которым не удавались образы современности.
Появившаяся молодая советская драматургия и образы людей сегодняшнего дня, созданные драматургами, — вот что, по существу, расслаивало и дифференцировало труппу. Не Юрьев и Петров, а сама реальная жизнь производила размежевку людей.
Одной из первых пьес, послуживших поводом для творческих схваток, была пьеса Б. С. Ромашова «Конец Криворыльска».
После «Воздушного пирога» — спектакля, имевшего в Москве большой общественный и художественный успех, в 1926 году Борис Ромашов предложил театрам свою новую пьесу «Конец Криворыльска».
Действие этой пьесы происходит в первые годы социалистической индустриализации страны. Идея пьесы четко сформулирована в словах обвинителя, которые он произносит в сцене суда:
«Новая общественность опрокинула вверх дном Криворыльск Отченашей и Корзинкиных, куда заползла белогвардейская нечисть. Криворыльск более не существует: молодой Ленинск — так теперь переименован наш город — смело вступает в первую фазу своей жизни».
«Конец Криворыльска» — первая пьеса советского драматурга на современную тему, поставленная в Акдраме. Это была 254 пьеса о людях наших дней и о их делах, о борьбе нового со старым, об упорном сопротивлении старого и радостной победе нового. Молодой «Ленинск» побеждал старый «Криворыльск».
Пьеса была как бы продолжением самой жизни и, взятая из жизни через жизненно правдивые образы, возвращалась в жизнь, полностью овладевая сознанием зрителей. Интерес к спектаклю вызывался не только сатирическим разоблачением отрицательных персонажей, но прежде всего оптимистическим утверждением молодого, только еще рождавшегося в драматургии и в театре положительного героя. И не только его мыслям, чувствам и поступкам аплодировал зритель, он их любил за новую человеческую сущность, увлекавшую зрителя своей «искренней и убеждающей простотой», как писал один из критиков. Молодые актеры Н. Рашевская и Н. Симонов, создавшие образы Розы Бергман и военкома Мехоношева, стали любимцами зрителя, так как зритель именно в них видел то новое, что сметает «криворыльщину» и утверждает рождение молодого Ленинска.
С Борисом Сергеевичем Ромашовым до этого я не был знаком. Поэтому дружеских задушевных бесед у нас еще не могло быть, и в работе я был предоставлен целиком самому себе, своим ощущениям материала и упорному желанию ставить спектакль о наших днях.
«Социальная тема» уже овладела мною полностью и я не представлял себе работу театра без остросовременных Пьес. Пьеса о наших днях, о людях наших дней, об их мыслях, чувствах и делах — вот что казалось мне основой основ жизни и дальнейшего развития театра. Но нужен был драматург, который предложил бы театру такую пьесу.
Формализм еще не был развенчан как идейно-реакционное течение, он все еще рядился в революционную тогу, и «вожди» так называемого «левого театрального фронта» стремились утверждать свою эстетику. Деспотия режиссуры и полное обезличивание актера — вот та формула взаимоотношений актера и режиссера, которая главенствовала в театрах «левого фронта». Не лучше обстояло дело и с положением драматурга, которого зачастую режиссура рассматривала как поставщика сырого материала, дающего лишь повод для создания спектакля. Бывали случаи, когда режиссер подписывал афишу как «автор спектакля». Были, конечно, и у меня грехи в этой области, 255 но до афиш с «авторством спектакля» я все же не доходил. Меня спасла нарождающаяся драматургия о наших днях и страстная целеустремленность современных драматургов, которые являлись своеобразными идейными воспитателями тех театральных коллективов, которые ставили их пьесы.
Одним из первых таких драматургов и оказался для меня Б. Ромашов, вот почему я благодарен ему за творческое доверие, оказанное им в период работы над его пьесой, и за ту большую творческую дружбу, которая, возникнув тогда, сохранилась и до самых последних дней.
Огромная влюбленность в пьесу «Конец Криворыльска», вера в нее и искреннее увлечение молодыми положительными образами пьесы властно повели меня на создание реалистического спектакля, что, конечно, в первую очередь обусловливалось реалистической природой драматургии Ромашова, а которую я поверил и уверенно пошел за ней.
И если до спектакля у нас с Ромашовым не было никаких творческих взаимоотношений (так как он приехал прямо на генеральные репетиции), то они возникли тотчас же после спектакля. Его драматургическое произведение нашло адекватное сценически образное решение в спектакле, которое увлекало и побеждало тысячи зрителей.
«Акдрама на новом пути», «Весенний ветер в Акдраме», «Вперед и выше», «Классовая пьеса стала кассовой» — таковы были заголовки рецензий.
И действительно, для Акдрамы это был «весенний ветер». Радостно и творчески интересно проходила работа над этим спектаклем. Актеры Н. Рашевская и Н. Симонов, впервые столкнувшиеся с подлинно современной пьесой, находили новые сценические краски, необходимые им для новых образов. Материалом для этих новых красок была сама жизнь, творимая новыми людьми, властно взявшими в свои руки руководство молодой республики, и эта жизнь неодолимо входила и на сцену. Репетиции прерывались чтением газеты, когда мы в ней находили что-то такое, что перекликалось с идеей нашего спектакля. Герои советской действительности начали находить свое воплощение на сцене.
Драматург дал современную пьесу театру, режиссер и творческий коллектив с увлечением работали, ощущая, что они не только ставят спектакль, но и утверждают новую веху 256 в жизни театра, и что за эту новизну, вероятно, придется драться.
И пришлось драться.
Драматург и режиссер слились воедино, спектакль побеждал зрителя, и об этом радостно сообщала передовая критика. Но победа молодого начала на театре кое-кого не очень-то радовала. Сразу же началось брюзжащее ворчание эстетствующих снобов, которые пытались режиссуру, работающую над современным спектаклем, вывести за рамки так называемого «большого искусства». Да и в самом театре было далеко не так гладко, как этого хотелось бы.
Борьба различных «эстетических тенденций» каждый раз вспыхивала с новой силой, как только в театре начиналась работа над новой, современной пьесой. И хотя уже девятый год театр существовал в новой действительности, в нем все еще жива была рутина императорских театров, напоминавшая те времена, когда директор не допускал на петербургскую сцену пьесы А. Н. Островского, утверждая, что от них «зипуном и дегтем пахнет». Не очень благожелательным было и отношение к новому репертуару управляющего театром Ю. М. Юрьева — сторонника романтического театра. Юрьев, к сожалению, оказался среди тех деятелей театра, которые скептически оценивали молодую советскую драматургию и противились ее проникновению на сцену академического театра.
В дни генеральных репетиций «Конца Криворыльска» Юрьев, возвратившись из Москвы, во время антракта пришел на сцену побеседовать с участниками спектакля. Он только что видел этот спектакль в Московском театре Революции, поэтому понятен был тот интерес, с которым участники репетиций встретили его, ожидая рассказа о московском спектакле.
Однако беседа не состоялась, так как, увидя меня входящим на сцену, управляющий нервно потер руки (это была его привычка) и величественно бросил только одну фразу с явным расчетом, чтобы я ее услышал:
— Я эту агитку на сцену не пущу.
Выполняя волю управляющего, его заместитель по административно-хозяйственным делам в дни спектакля садился в кассу рядом с кассиром и, когда зрители спрашивали билеты на спектакль «Конец Криворыльска», любезно улыбался, говоря: «Не покупайте билетов на этот спектакль, это плохая и неинтересная пьеса».
257 Да, это была настоящая борьба, и исход этой борьбы целиком зависел от появления на сцене современной доброкачественной пьесы, отражающей жизнь и раскрывающей смысл величайших преобразований. Только с появлением таких пьес крупные театральные коллективы начали изменяться, но эта перестройка, повторяю, проходила весьма мучительно и в обстановке самых ожесточенных боев.
Одной из таких пьес и была пьеса Б. Ромашова «Конец Криворыльска». Она вторгалась во все стороны советского бытия, затрагивала и вопросы борьбы нового, нарождающегося с отживающим, но сопротивляющимся старым. Автор затрагивал и вопросы семьи, любви и быта, и тему бдительности. Автор назвал свою пьесу «сатирической мелодрамой», и это было очень точное определение ее жанра.
Девятая сцена, которой кончается второй акт, сцена шантажа Севостьяновым Натальи Муглановой и убийство Ладыжкина, написана в подлинно мелодраматической тональности, и автор даже подчеркивает в ремарке необходимость включения музыкального сопровождения. «Комната, где жила раньше Наталья. Горит свеча на рояле. Рядом кабинет ресторана, оттуда слышна гитара и цыганское пение». И «свеча на рояле», и «гитара», и «цыганское пенье» в своем сочетании рождают именно ту образность предлагаемых обстоятельств, которые служат прекрасной средой для происходящих событий и которые в итоге подчеркивают «детективный мелодраматизм» пьесы.
Н. П. Акимов, художник этого спектакля, сумел великолепно реализовать авторскую ремарку «свеча на рояле». Гиперболизированная, открытая крышка рояля отбрасывала еще более грандиозную тень на стену от «свечи на рояле». Крышка рояля, колеблющаяся тень на стене, свеча и лунный луч зрительно передавали ощущение тревоги.
Сцену тринадцатую — «Суд» — можно определить как «сатирически публицистическую». Гневно звучит речь обвинителя, патетически говорит Роза Бергман. И здесь же надрывно-опустошенно произносит свое последнее слово Севостьянов.
К. Адашевский, Н. Рашевская, И. Певцов прекрасно произносили монологи, которые придавали правильное звучание сцене суда, а это было не просто, так как сатирически написанные образы Лямберг, Корзинкина, Отченаша и великолепное их исполнение А. Грибуниной, А. Зражевским и И. Лерским 258 создали такое сценическое противодействие, что победить смех в зрительном зале и установить нужную тональность сцены было очень трудно. И тем не менее это всегда удавалось благодаря очень правильной игре актеров и точному драматургическому решению сцены. Откровенное признание Ярыгина, которое, согласно ремарке автора, вызывало «на скамье подсудимых беспокойство», рождало вопрос обвинителя: «Обвиняемый Корзинкин, вы слушали, что сказал Ярыгин?» На что Корзинкин — Зражевский вставал и произносил только два слова: «Я изумлен». Те, кто бывал на этом спектакле, я убежден, хорош помнят эти два слова. Гомерический хохот и оглушительные аплодисменты неизменно сопровождали эту короткую реплику А. Зражевского.
Наряду с сатирическими, очень яркими и сочными сценами были сцены, проникнутые тончайшим лиризмом, как, например, диалог Розы Бергман и Мехоношева в седьмой картине. И опять автор ремаркой помогал режиссуре создать правильные предлагаемые обстоятельства. «Бульвар. Луна. Кино “Вольшебные чары”. Играет музыка». Декорации Н. Акимова и музыка Ю. Шапорина способствовали раскрытию тончайших душевных качеств далеко не лирических образов. Мужественный Мехоношев, резкая в своих поступках Роза Бергман, оставшись вдвоем на бульваре, настолько органично погружались в предлагаемые автором, художником, композитором и режиссером обстоятельства, что у них естественно рождались те тончайшие человеческие душевные качества, которые ранее зритель в них не замечал, но, увидав сейчас, еще больше любил этих героев, созданных прекрасным мастерством Н. Рашевской и Н. Симонова.
Можно было бы продолжать описание этого спектакля, емкого в своей драматургической сути и устанавливающего требования к обязательной многокрасочности и образности режиссерской интерпретации. Такова природа драматургии Б. Ромашова. И, не поняв этого, режиссер не сможет полностью раскрыть художественный строй и особенности его пьес.
Надо сказать, что настоящие дружеские, творческие взаимоотношения между драматургом и режиссером могут возникнуть только на основе единой идейной целеустремленности двух художников. Так, еще лично не зная драматурга Ромашова, но будучи влюбленным в его пьесу и, тем более, видя 259 ее властное воздействие на зрителя, я испытывал большое дружеское чувство к драматургу. Это дружеское чувство, однажды возникнув в процессе создания спектакля «Конец Криворыльска», еще более окрепло в дальнейшей работе над его пьесами, постановка которых занимает большое место в моей творческой биографии. Работа над его пьесами предоставила мне возможность более полно участвовать в строительстве нашей советской театральной культуры.
Его пьесы всегда глубоко современны, всегда несут в себе большое идейное содержание, и режиссеру, желающему говорить со сцены со своим зрителем о главных вопросах наших дней, они всегда дают большие возможности, так как идут от жизни и рождены страстной политической мыслью драматурга.
Поставленные мною пять пьес Б. Ромашова: «Конец Криворыльска», «Огненный мост», «Со всяким может случиться», «Знатная фамилия», «Великая сила» — свидетельство творческих и дружеских связей между нами, которые развивались и крепли от спектакля к спектаклю.
Наши творческие встречи, происходившие на протяжении более двадцати лет, всегда сопровождались интересными беседами на темы, связанные с жизнью советского театра, страстными спорами о природе и сути взаимоотношений драматурга и режиссера, длительными дискуссиями о различных внутритеатральных течениях.
Работа над «Концом Криворыльска» проходила в тот период, когда сознание большинства из нас, художников моего поколения, еще частично находилось в плену эстетско-формалистических концепций. Вот почему работа над «Концом Криворыльска» строилась в то время скорее на страстном желании работать над современной пьесой, чем на основе полного сознательного понимания всего идейного материала, заложенного драматургом в пьесе. И тем не менее это пусть еще не до конца осознанное, но по-настоящему искреннее желание привело и к подлинной влюбленности в драматурга, в его положительные образы, и к правильному ощущению сатирической заостренности произведения Ромашова. Это помогло создать спектакль, творчески интересный, идейно-целеустремленный.
Отношение к нему советского зрителя пробудило и наше сознание, сделало более ясным идейное содержание пьесы, 260 которое мы все в начале работы скорее ощущали, чем полностью понимали.
Так, работая над современным спектаклем, мы проходили большую школу, закладывая фундамент нового, советского театра.
Следующей современной пьесой, занявшей прочное место в репертуаре Александринского театра, был «Штиль» Билль-Белоцерковского. «Штилю», конечно, далеко до «Шторма», но тем не менее и он сыграл важную роль в борьбе за утверждение права жизни современной пьесы на сцене советского театра.
В этом спектакле очень интересен был И. Н. Певцов в небольшой роли Красильникова. Роль была эпизодическая, состояла всего из двадцати или тридцати реплик, а Певцову удалось создать такой живой и запоминающийся образ, что он вошел в историю советского театра как один из первых положительных образов современного репертуара.
Любопытнейшую актерскую эволюцию пережил Певцов, незадолго до той поры вступивший в труппу Александринки. Он пришел в театр вполне сформировавшимся актером, имевшим за своими плечами немало лет профессионального стажа. В Москве он был признанным мастером на роли неврастенического амплуа, и его исполнение роли Павла I в пьесе Мережковского приравнивалось к исполнению этой же роли П. Орленевым.
И тем не менее, сыграв в Ленинграде и Федю Протасова в «Живом трупе» Л. Н. Толстого, и Тота в пьесе Андреева «Тот, кто получает пощечины», и Крутицкого в «Не было ни гроша, да вдруг алтын» Островского и, наконец, Павла I, он не прозвучал как актер, устанавливающий вехи на путях развития русского сценического искусства.
Но как только он сыграл свои первые роли, и далеко не главные, не гастрольные, а обычные ансамблевые роли в современных пьесах, он как художник зазвучал совершенно по-новому, и о Певцове в Ленинграде заговорили как о крупнейшем мастере советского театра.
Глядя на его исполнение роли Красильникова в «Штиле», мы думали о там, что этот актер имеет право пробовать свои силы в создании образа Владимира Ильича Ленина. Эта мысль возникала тогда, когда в одной из сцен, происходивших в рабочем клубе, Певцов выходил на авансцену за занавес 261 и говорил с собравшимися о делах наших дней. И столько мудрости и глубины было в создаваемом им образе, что мгновенно рушилась условность театра, и зритель, затаив дыхание, слушал Красильникова, забывая, что перед ним актер Певцов. Столько правдивости, простоты, а главное, человеческой мудрости было в этом образе, и такими скромными, но в то же время точными приемами актерского мастерства раскрывалось Певцовым это человеческое содержание, что невольно верилось в огромнейшие возможности этого замечательного актера. И действительно, с каждой последующей ролью в современном репертуаре Певцов все более властно овладевал сознанием зрителя, приобретая его любовь и признание.
Он был необыкновенно интересен как в положительных, так и в отрицательных ролях, так как дарование его было бесконечно многогранным. Образы, создаваемые им, всегда покоряли глубиной постижения существа характера, предложенного автором. При этом Певцов никогда не приспособлял, а еще точнее — не «подминал» материал роли под свои психо-физические данные. А ведь это два совершенно различных пути в творческой работе актера.
Вспоминается еще один образ из этого спектакля, созданный В. А. Мичуриной-Самойловой. Мещанка, иронически относящаяся к советской действительности, она появлялась на коммунальной кухне на несколько минут и произносила всего лишь несколько реплик. Но сила выразительности актерских красок, найденных Мичуриной, была столь велика, что выдвигала на первый план по сочности и рельефности обрисовки человеческого характера эту эпизодическую роль.
Так, два великолепных ведущих актера практически продемонстрировали огромнейшую амплитуду возможностей, заключенных в маленьких эпизодических ролях, ибо в работе над ними они исходили от поисков существа человеческих характеров.
Успех каждого последующего советского спектакля усиливал и ускорял процесс творческой дифференциации актеров, и постепенно внутри анемичного актерского массива Александринского театра образовалась как бы новая труппа. И. Н. Певцов, Е. П. Корчагина-Александровская, В. А. Мичурина-Самойлова, Б. А. Горин-Горяинов, Л. С. Вивьен, Н. С. Рашевская, Н. К. Симонов, Ф. П. Богданов, И. В. Лерский, 262 А. И. Зражевский — вот тот основной костяк нового коллектива, к которому примыкал молодняк: А. Борисов, В. Киселев, Б. Жуковский, К. Адашевский, М. Романов, Е. Карякина, Ф. Горохов, Г. Соловьев и ряд других, еще более молодых актеров.
Это была своеобразная молодая группа творческих разведчиков, смело кинувшаяся вперед, на штурм неисследованных высот советского театрального искусства.
В январе 1927 года Академический театр драмы объявил конкурс на пьесу для постановки ее ко дню десятилетия Советской власти. Из восьмидесяти восьми пьес, присланных на конкурс (конкурс был закрытый, и автор на пьесе ставил девиз вместо своей фамилии), ни одной не была присуждена премия и театр находился в довольно-таки трудном положении. Я сейчас уже не очень хорошо помню все эти пьесы, хотя я и был в жюри, но одна из них запомнилась благодаря своему девизу. На первой странице вместо фамилии автора красовалась надпись: «Каждая хорошенькая женщина должна иметь котиковое манто». Помню, что и содержание этой пьесы вполне соответствовало данному девизу. В беседе с ее автором я высказал свое удивление и по поводу содержания пьесы, и по поводу девиза. — Неужели же Вы не понимаете какой должна быть пьеса к Октябрьским дням?
В ответ он без всякого желания сострить, со всей искренностью мне сказал: — Так ведь Октябрь — это праздник, вот я и написал занимательную и веселую вещицу. Да и, кроме того, она наверняка будет делать сборы.
Бывали и такие встречи с «драматургами»!
Как раз к этому времени Вс. Иванов закончил для Художественного театра свою пьесу «Бронепоезд 14-69». Дирекция Акдрамы обратилась к нему с просьбой дать разрешение поставить «Бронепоезд» также и в Ленинграде. Он охотно согласился. Постановка была поручена мне, и я приступил к работе.
Новым в этой работе было для меня прежде всего то, что Вс. Иванов был не драматургом-профессионалом, а писателем, пробующим свои силы в драматургии. Надо сказать, что литературная сторона пьесы действительно была на очень высоком уровне. Помимо этого, в распоряжении театра была и повесть Вс. Иванова под тем же названием. Конечно, я в первую очередь перечитал повесть и, поняв для себя творческий 263 склад писателя, приступил к тщательному изучению пьесы. В этой работе я решил уверенно идти за драматургом. Я был увлечен и повестью и пьесой и, веря художнику-писателю, стремился найти адекватное образное решение будущего спектакля. Было это более тридцати лет тому назад, но ясно помню свое режиссерское видение образа спектакля, в котором, как мне думалось, остро и глубоко должна прозвучать основная идея пьесы. Это образное решение в практической работе тогда определялось для нас как «взлохмаченная партизанщина Сибири».
Нам казалось, что руководящая роль партии в сибирском партизанском движении — а этой теме и посвящена пьеса — прозвучит очевиднее и убедительнее, если эта партизанщина будет «взлохмачена» возможно больше, да и внутренняя динамика спектакля от этой «взлохмаченности», несомненно, выиграет.
Образ будущего спектакля непосредственно подсказывался самим материалом повести. И этому очень помогала та архитектоника пьесы, которая была предложена автором в первоначальном варианте.
Мол, слышен шум прибоя, тревожная ночь… Так начинался спектакль. И в этой обстановке зритель знакомится с основными персонажами спектакля.
Цветочная оранжерея, где поселилась семья Незеласовых, бежавших во Владивосток. В этой картине ясно ощущается тревожная ночь. Перепуганные Незеласовы и их друзья пытаются создать видимость благополучия, пытаются казаться спокойными, но это им плохо удается. Видимое спокойствие мгновенно нарушается, как только произносится имя Пеклеванова. Исчезло видимое спокойствие, и они раскрывают перед зрителем и свою бесконечную душевную опустошенность и полнейшую бесперспективность своей жизни. Но не эти картины волновали нас больше всего. Исходя из основной идеи пьесы, мы считали, что решающими картинами для спектакля должны быть картины «На насыпи», «Внутри бронепоезда» и «Фанза», так как в образах Пеклеванова, непосредственного проводника идеи спектакля, и Вершинина, главного персонажа, суммирующего в себе все черты сибирской партизанщины, и, наконец, Незеласова, неминуемая смерть которого как бы символизирует агонию белогвардейщины, — в их сложном переплетении и взаимовлиянии как раз и раскрывается 264 основа идейного содержания пьесы Всеволода Иванова «Бронепоезд 14-69».
На этих трех картинах по преимуществу и было сосредоточено наше внимание. Великолепную сцену «На колокольне» мы рассматривали как интродукцию к сцене «На насыпи»; сцена «Оранжерея» выражала тему «незеласовщины». Сцена «На перроне» представляла собой толпу обывателей, погруженных в кипящий поток классовой борьбы; первую картину мы считали увертюрой к спектаклю, последнюю — его эпилогом, в котором через смерть Пеклеванова утверждалось бессмертие его дела.
Таковы были основные контуры режиссерской партитуры будущего спектакля.
Вероятно, многое из этого режиссерского замысла сейчас может показаться опорным, но тогда наш постановочный коллектив твердо верил в такое решение и с огромнейшей страстью отдавал свои творческие силы созданию спектакля, посвященного десятилетию Советской власти.
Спектакль прошел с успехом, имел прекрасную прессу, хорошо посещался зрителем. Н. Симонов, исполнитель роли Вершинина, целиком исходил из образной установки всего спектакля и создал правдивый, очень сложный характер сибирского партизанского вожака. Б. Жуковский нашел интересное, образное воплощение роли мыслящего и волевого председателя военно-революционного комитета Пеклеванова Бесконечную опустошенность и бесперспективность, а следовательно, и закономерную обреченность белого офицерства раскрыл И. Певцов в образе Незеласова.
Вспоминая свои взаимоотношения с драматургом Вс. Ивановым, могу сказать, что они определились в небольшом конфликте, который тогда был для меня непонятен, но который многое раскрывал в области взаимоотношений драматурга и режиссера.
Автор приехал в Ленинград на десятый или пятнадцатый спектакль. Конечно, мы с волнением ждали его оценки, так как знали, что в Москве «Бронепоезд» только что прошел в Художественном театре с большим успехом. После просмотра автор не выразил того восторга, который обычно выражал зритель этого спектакля. Наоборот, Вс. Иванов был довольно холоден и даже как будто чем-то обижен.
— Это не совсем то, что я написал, — сказал он вежливо.
265 Под этим «не совсем то» наши профессиональные театральные уши услышали значительно более суровую оценку. Было понятно, что у автора мы провалились. Но почему же? Ведь на каждом спектакле мы ощущали верную и взволнованную реакцию тысячи зрителей, мы читали благожелательные и даже восторженные рецензии, мы слышали живые слова одобрения многих уважаемых нами людей. Что же произошло?
Ни я, ни другие участники спектакля ничего тогда не поняли и только через месяц или два, когда я попал в Художественный театр, мне стал понятен холодок Вс. Иванова на нашем спектакле.
В Художественном театре спектакль начинался со сцены «Оранжерея». Происходила эта сцена не ночью, как у нас, а днем, и в окна лились ласковые, теплые лучи солнца. В нашем же театре за окнами в ночи сверкала ослепительная молния. Сцена же на молу игралась в Художественном театре без той тревоги, которую акцентировали мы, исходя из первого варианта текста.
Перед автором были два спектакля, два прочтения его пьесы. В создании одного спектакля он принимал непосредственное участие, корректируя текст по ходу репетиций, работая вместе с режиссурой и актерами.
Другой же спектакль строился целикам по первому авторскому варианту, принятому театром, автор не принимал постоянного участия в создании спектакля. Непосредственный участник, творчески связанный с театром в первом случае, автор, вероятно, начинал воспринимать свою пьесу через решение театра, где-то, весьма возможно, даже отходя от первичного своего видения происходящих событий, и, возможно, именно поэтому принимал полностью точку зрения Художественного театра, не представляя себе иного творческого воплощения своей пьесы.
Личное участие автора в работе Художественного театра, естественно, сделало невозможным для него принять ту тональность и образность спектакля, которые предложили ленинградцы, хотя мы также исходили из его же повести и первого варианта пьесы.
Да, театры различно могут прочесть пьесу, предлагаемую автором, — вот то, что вновь вошло в мое режиссерское сознание после работы над «Бронепоездом». Значит, даже не 266 редактируя драматургию, а идя целиком за авторам, можно прочесть «не совсем то», что хотел автор.
Я очень сожалею, что в дальнейшей работе мне не пришлось встретиться с драматургией Вс. Иванова, так как первая встреча была для всех нас, участников спектакля, волнующей. Нам хотелось услышать от Вс. Иванова на последующей встрече иную реплику: «Это именно то, что я и хотел сказать!»
Три выигранных сражения — при советских спектакля, с успехом шедших на сцене театра, создали авторитет «кабинету под лестницей». В театре начали поговаривать о борьбе Петрова с Юрьевым, хотя, в сущности, никакой борьбы не было, а была честная и принципиальная работа, но эта работа вступила в конфликт с другой творческой линией театра.
Кстати отмечу одно любопытное обстоятельство. Н. К. Симонов, игравший прекрасно Мехоношева в «Конце Криворыльска», великолепно игравший Братишку в «Штиле» и создавший очень интересный образ Вершинина в «Бронепоезде», провалился в роли Чацкого, а И. Н. Певцов, блестяще сыгравший роль Севостьянова в «Конце Криворыльска», вдохновенно решив образ Красильникова в «Штиле», надолго запомнившийся образ опустошенного Незеласова в «Бронепоезде», более чем бледно сыграл Пушкина в «Пушкине и Дантесе».
Вообще И. Н. Певцов в этот период переживал довольно сложный процесс своего становления. Мучительно, но честно он отказывался от многих своих прежних творческих исканий и смело шел вперед в только еще угадываемое, но властно влекущее будущее.
Произошел с ним в ту пору один любопытный случай, заслуживающий внимания читателя.
При поступлении в театр Певцов поставил условием, что если в театре будет ставиться «Отелло», то ему будет предоставлено право сыграть роль Отелло, так как это является его двадцатипятилетней мечтой. Он даже потребовал, чтобы этот пункт был вставлен в контракт. До 1929 года в академических театрах сохранялась система контрактов. Юрьев, принимавший Певцова, согласился, и его желание было подтверждено соответственным пунктам договора. Как раз в этот период, о котором идет речь, Ю. М. Юрьев справлял свой очередной юбилей и выбрал для юбилея спектакль «Отелло».
267 «Отелло» был объявлен как очередная работа, но сейчас же к Юрьеву пришел Певцов и напомнил о пункте договора.
— Я, конечно, не претендую на участие в премьере, поскольку это ваш, а не мой юбилей, но на третий или четвертый спектакль я претендую категорически, — заявил он. — Репетиций мне надо очень мало, так как я двадцать пять лет готовлюсь к этому спектаклю.
В четвертом спектакле роль Отелло исполнял И. Н. Певцов, а через день в вечерней газете было опубликовано его письмо, в котором он писал, что двадцать пять лет стремился к заветной мечте и, достигнув ее, то есть сыграв Отелло, он понимает, что это не его дело.
Вот что, по-моему, должно называться подлинной самокритикой, но, увы, как мало актеров способны на это.
Этот эпизод характеризует подлинную творческую честность художника-актера Иллариона Николаевича Певцова.
Красный кабинет победил…
В первой половине 1928 года в театре одновременно готовились два спектакля — «Горе от ума» Грибоедова и «Рельсы гудят» Киршона. «Горе от ума» было переходящим спектаклем, то есть работа над ним началась в прошлом году и продолжалась уже шестой месяц. Решение же о постановке пьесы Киршона «Рельсы гудят» возникло совершенно неожиданно, за два месяца до летнего отпуска.
На «Горе от ума» было запланировано сто двадцать пять репетиций и стоимость постановки исчислялась в сумме сто тысяч рублей.
На постановку же «Рельсы гудят» центральная дирекция отпустила только пять тысяч рублей, и вся постановочная работа должна была быть осуществлена за два месяца.
Говоря об ассигновании денег и сроках, я имею в виду те конкретные трудности, которые приходилось довольно часто преодолевать в работе над современным спектаклем на сцене Александринского театра.
А результаты? — спросит читатель.
Результаты были следующие: «Горе от ума» прошло только три раза, так как спектакль не делал никаких сборов, а 268 «Рельсы гудят» до конца сезона шли с постоянными аншлагами. Не привлекли зрителя в спектакле «Горе от ума» ни великолепные декорации Исаака Рабиновича, ни тридцать шесть клеток с попугаями, волей режиссера водруженные в московской квартире Фамусова, ни двенадцать княжон вместо шести грибоедовских. Вместо глубокого и нового прочтения гениальной комедии Грибоедова режиссура пошла по пути внешнего украшательства спектакля, превращая острую сатирическую комедию человеческих характеров в пышное театральное представление. Помпезность и монументальность спектакля была обратно пропорциональна заинтересованности зрителя.
Постановка «Рельсы гудят» скромно, лаконично, но по-настоящему выразительно оформленная Н. П. Акимовым, прозвучала горячо и взволнованно. Основная тема пьесы — «директор — выдвиженец из рабочих» — искренне волновала зрителя, а интересные характеры людей позволяли актерам достаточно полно раскрыть свои творческие индивидуальности. Одну из рецензий на оба эти спектакля предварил довольно красноречивый заголовок: «Кому бархат, а кому лохмотья».
Так, в практике работы конкретизировались творческие разногласия «двух кабинетов».
Основания для разногласий были не только творческого порядка, но и организационного, когда два кабинета различно оценивали какое-нибудь намечавшееся мероприятие. Противоречия «двух кабинетов» обострялись все больше и больше, и к концу сезона 1927/28 года достигли своей кульминации.
Помню, какое отражение получили эти противоречия в остроумнейших рисунках Н. П. Акимова, объединенные общим названием «Литературные мостки». Рисунки изображали ряд будущих памятников современным театральным деятелям. На памятниках были стихотворные эпитафии, сочиненные тем же Акимовым. Я не помню других памятников, но свой запомнил хорошо. На рисунке была большая пустая могила. Рядом обелиск. На обелиске надпись:
Прохожий!
Отойди, глаза зажмурив,
Чтоб в яму ту
Свалиться ты не мог,
269 Что десять лет
Копал Петрову Юрьев.
Тот умер,
Но в нее не лег.
Мы смеялись каждый раз, когда Акимов приносил новый проект памятника, и не предполагали, что в «красном кабинете» серьезно подготовлялась ликвидация «кабинета под лестницей». Узнал я об этом накануне летнего отпуска, за день до отъезда за границу. Я вспомнил, что у меня осенью кончается договор, и поспешил к И. В. Экскузовичу выполнить эту формальность.
Меня удивила медлительность Экскузовича, какая-то необыкновенной длины пауза, когда я сообщил ему о цели своего прихода.
Он медленно отошел к окну и, стоя ко мне спиной, стал что-то рассматривать на улице.
— Иван Васильевич! В чем дело? — спросил я, прерывая это тягостное молчание.
— Эх, Николай Васильевич! Ну как это вы не смогли ужиться с Юрием Михайловичем? — сказал он, поворачиваясь ко мне. — Юрий Михайлович просил не возобновлять с вами договора.
Я даже не сразу понял. Я дважды уходил из Александринского театра, не так давно ушел из Большого драматического, и уход согласно своему желанию я понимал хорошо, но вот, когда тебя «уходят», — с этим я столкнулся впервые.
— Значит, я могу не возвращаться к началу сезона и Принять предложение Фирмена Жемье? Он предлагает мне поставить «Ревизора» у него в театре «Одеон», — спросил я.
— Да, да, конечно… Вы совершенно свободны, — ответил Экскузович и стал меня расспрашивать о предложении Жемье: — Он знает о вашей постановке «Ревизора» в студии? Интересный был спектакль. А вы помните, как был взбешен Юрьев этим спектаклем?
— Еще бы!
Мы помолчали немного, и вдруг директор академических театров дрогнувшим голосом произнес:
— Скажу вам откровенно, Николай Васильевич, я бы вас давно назначил управляющим театра, но… — Экскузович остановился, задумался и совершенно неожиданно произнес: 270 — Но вы, знаете ли, как-то не подходите к фронтону Александринского театра.
На этом великолепном парадоксе окончился наш неприятный разговор, и на другой же день мы вместе с Н. С. Рашевской выехали за границу.
В странном и непонятном душевном состоянии покидал я Ленинград.
«А может быть, не ехать, остаться и выяснить все?.. — неоднократно мелькала мысль. Нет, пускай все выяснится и все разберется без меня. А может быть, без меня даже и лучше разберется», — так порешил я спор с самим собой.
«А все-таки вертится!»
Итак, лето 1928 года…
Прошло только десять лет нашей новой жизни. Но эти десять лет были насыщены такими грандиозными событиями, что их смело могло бы хватить на целую жизнь человека.
События неслись, громоздились одно на другое, и мы, подхваченные стремительным вихрем жизни, не успевали достаточно глубоко осознавать все этапы революции.
Мы ведь не были политическими деятелями, мы были обыкновенными театральными работниками, привыкшими оперировать понятиями сценического искусства, в ту пору мало связанного с большой жизнью, бурлившей за стенами наших театров.
Февраль. Великая Октябрьская социалистическая революция, гражданская война, блокада, поход четырнадцати государств, победа советского народа, восстановление разрушенного хозяйства и, наконец, признание капиталистическим миром молодого Советского государства — все эти грандиознейшие события были спрессованы историей в эти годы. Мы были очевидцами и свидетелями этих событий, но мы шли рядом с ними, а не вместе с ними. Да и не могли мы идти с ними. Очень уж плохо разбирались мы во всем происходившем, принимая все больше на веру, а не через глубокое понимание сути общественно-политических явлений.
И только тогда, когда наши маленькие театральные дела находили живой отклик у современности, мы испытывали 271 чувство радости, так как начинали постепенно осознавать возможность идти не рядам, а вместе с жизнью, вместе с народом. Но как трудно давалось это нам, и какой сложный путь прошли мы за эти десять лет…
Я пишу эти строки сегодня, в 1958 году, в изумительном местечке под Ленинградом. Через большое окно видны два озера: Кавголовское и Девичье. Они соединены узким перешейком, и мне из окна видно, как, выйдя из леса по ту сторону Кавголовского озера, поезд сначала медленно, ведь он далеко, а потом все быстрее и быстрее движется по этому перешейку между двумя озерами. Вот он проносится вдоль берега, мимо моих окон, замедляет ход, останавливается у станции Кавголово и через минуту, тоскливо пискнув (гудки паровозов с этого года отменены), продолжает свой бег к Ленинграду.
Целыми днями идет проливной дождь. Вот и сейчас он свирепо хлещет в окно. Свирепо, так как страшнейший ветер почти ломает молодые березки и рябину за окном, а старые ели и сосны, качаясь, уныло поскрипывают.
Как будто огромные клочки ваты, окрашенные в серо-стальной цвет, несутся низкие тучи, проливая эту несколько уже излишнюю «живительную влагу» на землю.
В такую погоду хорошо работается, и мысли не уносят тебя в лес или на пляж, а заставляют сосредоточиться над днями прожитой жизни, приближающейся к семидесяти годам.
Но в те дни, о которых я рассказываю, стояло жаркое парижское лето, мне было значительно меньше лет, мудрая зрелость еще не усаживалась против тебя в кресло у письменного стола и не вела с тобой дружеской беседы.
Снова пискнул паровоз. Где-то сзади меня.
Это поезд, идущий из Ленинграда в Петрозаводск. Вот он, набирая скорость, проходит мимо окон. Как красиво дым из трубы паровоза монтируется с быстро бегущими низкими тучами! Вот он проходит по перешейку между двумя озерами. Вот он повернул и медленно исчезает в лесу по ту сторону озера, и только еле видный дымок над верхушками деревьев определяет дальнейший путь поезда.
Молодец Маяковский, что так талантливо выдумал «машину времени»! Мы сейчас повернем ее рычаги, и время стремительно помчится назад:
272 Внимание!
Один поворот рычагов,
Остановка… —
И снова солнечный Париж 1928 года.
Размышления режиссера Петрова о природе театрального искусства не могли тогда быть достаточно стройными.
Охвостья идеализма и субъективизма несомненно еще гнездились в его сознании. Вот почему даже правильно поставленные вопросы находили свое решение в узкотехнологических рамках, не раскрывая их до конца и не доводя до больших идейных обобщений.
«Раз не все актеры могут играть в советских пьесах, значит, технология их различна, и не может школа романтического театра раскрывать глубину содержания современного героя».
Мысль, конечно, правильная. И в то же время совершенно неправильная. Правильная, так как школа романтизма не дает возможности полного раскрытия образа современного героя, и неправильная, так как без романтики нет искусства нашей действительности, ибо более страстных мечтателей, чем большевики, строящие коммунистическое общество, представить себе трудно. Романтические мечтания лучших людей всех времен они воплощают в жизнь.
И вот режиссер Петров в Париже сел и написал в полтора месяца работу, названную им «13 уроков драмы». Уже и последний, тринадцатый урок подходил к концу, а начало работы над «Ревизором» в «Одеоне» все еще задерживается. В Париже не нашлось экземпляра «Ревизора» на французском языке.
Я обегал все книжные магазины большие и маленькие, и в конце концов один из букинистов на набережной Сены любезно сообщил мне, что «издание “Ревизора” на французском языке есть… в Берлине. Его выпустило такое-то издательство, и почти весь тираж остался на складах. Напишите им — они охотно вышлют вам любое количество».
Через две недели с экземпляром «Ревизора» на французском языке, изданном в Германии, я спешил на свидание с Фирменом Жемье. И вдруг, проходя мимо газетного киоска, остановился в удивлении, увидев свой портрет на газетной полосе. Над портретом большими буквами было напечатано: «Разгром императорского Александринского театра».
273 Это была милюковская газета «Последние новости» на русском языке. Я купил номер газеты и прочитал: «Вслед за снятием народного комиссара по просвещению А. В. Луначарского, директора академических театров И. В. Экскузовича и управляющего Александринским театром Ю. М. Юрьева директором императорского Александринского театра назначен Н. В. Петров, он же Коля Петер, известный в Петербурге как конферансье “Бродячей собаки”».
Ошеломленный, стоял я у киоска с газетой в руке, не понимая, что произошло.
В нашем посольстве мне сообщили, что меня действительно срочно вызывают в Ленинград. Телеграмма была из секретариата С. М. Кирова.
Времени терять нельзя. Я решил лететь.
В десять часов утра тридцатидвухместный самолет поднялся с аэродрома Бурже, и через четыре часа я прилетел в Берлин. От двенадцати ночи до четырех часов утра ночной перелет до Кенигсберга в девятнадцатиместном самолете.
В Кенигсберге я пересел в новый, девятиместный, и долетел до Риги. В Риге пересадка — на шестиместный «Фоккер», который доставил меня в Таллин, и от Таллина на пятиместном «Дорнье» в отвратительную погоду мы еле-еле доплелись до Ленинграда.
И вот наконец я дома. Дозваниваюсь в Смольный, чтобы доложить о своем приезде. Через час мне сообщили, что Сергей Миронович просит меня приехать в Мариинский театр сегодня же для беседы после официальной части проходившего там вечера.
Дождь прошел, и красавец Ленинград, дочиста вымытый, нежился, освещенный лучами заходящего августовского солнца. И сразу далеко отодвинулся Париж, «Одеон», Фирмен Жемье, постановка «Ревизора» и даже последний перелет в грозу из Таллина в Ленинград.
Да и было ли все это?
Официальная часть приближалась к концу, и я стоял в кулисах, ожидая выхода Кирова из президиума.
— Мы предлагаем вам взяться за руководство Александринкой, — так начал беседу со мной Сергей Миронович, когда мы вошли в ложу дирекции. — Только вот не знаем, кем вас назначить. Дело в том, что сейчас идет децентрализация театров. Каждый театр выделяется в самостоятельную 274 хозяйственную единицу. Все вопросы и художественные, и организационные, и экономические, и хозяйственные будут решаться каждым театром самостоятельно, а центральная дирекция пока что сохранится для общего руководства и связи с Москвой. Так вот, мы еще не решили, кем вас назначить. Милюков уже решил, а мы еще не решили, — закончил с улыбкой Сергей Миронович.
— Мне кажется, Сергей Миронович, что это зависит прежде всего от тех задач, которые вы поставите перед руководством.
— Первое, что нужно сделать, — Сергей Миронович задумался и неожиданно сказал, — сделать из императорского театра советский. Да, Александринку нужно серьезно перестроить и создать подлинно современный театр, нужный рабочему зрителю, понятный ему. Это должен быть один из ведущих театров страны. И он может быть таким, он это доказал — и «Концом Криворыльска» и «Штилем», и «Бронепоездом», и «Рельсами гудят». Ведь это все ваши постановки?
— Да, все эти спектакли ставил я.
— Поэтому-то мы и решили, что вы подходящий человек для этой работы.
— А вот И. В. Экскузович сказал мне, что я не подхожу к фронтону Александринского театра, — я не удержался и рассказал Кирову о нашей последней беседе с директором накануне моего отъезда за границу.
Сергей Миронович посмеялся, а потом сказал:
— Мы как раз и хотим, чтобы «фронтон» подходил нам, а не был бы нам чужим. Вторая задача прямо вытекает из первой, — продолжал Сергей Миронович, — надо больше ставить современных пьес. Не забывать, конечно, и классику, но главный упор делать на постановку советских пьес. По-моему, в перестройке театра современный репертуар играет решающую роль.
— Вы совершенно правы, Сергей Миронович.
— Третьей задачей, мне думается, должно быть более смелое выдвижение молодежи. Смотрите, как полюбил зритель Симонова и Рашевскую после спектакля «Криворыльск». Смелее выдвигайте молодежь, которая впоследствии сможет занять ведущее положение и встать рядом с такими прекрасными актерами, как Корчагина-Александровская и Певцов. 275 Какие это замечательные актеры… — сказал Киров, и в словах его было подлинное восхищение.
— Ну, а четвертая задача… Не знаю уж как ее и сформулировать… Постарайтесь привести хотя бы в относительную гармонию тот актерский хаос, который царит в театре. Ге и Юрьев — с одной стороны, Певцов и Корчагина — с другой. Ведь они же разговаривают, по-моему, на разных театральных языках.
Я поблагодарил за огромное доверие, оказанное мне. Сказал о том волнении, с которым приступлю к этой работе, и, возвращаясь к началу разговора, предложил назначить меня директором и художественным руководителем одновременно.
— Почему? — спросил Киров.
— Вы предлагаете, Сергей Миронович, проделать огромную и ответственную работу. По сути своей — это перевоспитание большого и сложного актерского коллектива. Здесь неминуемо вскроются все противоречия, обнажатся актерские самолюбия, так что райской жизни я ожидать не должен. А в такой труднейшей обстановке правильнее будет для дела, если в театре будет существовать один кабинет, а не два.
Сергей Миронович улыбнулся и сказал:
— Подумаем, подумаем… Может, вы и правы. У вас есть свой кабинет в театре?
— Да. В нижнем коридоре, под лестницей.
— Так не годится. Вот что, садитесь-ка вы в красный кабинет Юрьева. Раз вы будете сидеть там, все будут понимать, что вы главный. А кончится децентрализация, тогда и решим окончательно. Ну, в добрый путь, — сказал Сергей Миронович, пожимая руку на прощанье.
Вероятно, я недостаточно точными словами передаю эту знаменательную для меня беседу, но смысл и содержание врезались в мою память навсегда, так как это был переломный день в моей жизни.
Начался концерт.
Тихо, на цыпочках шел я по арьерсцене, глубоко взволнованный беседой с Сергеем Мироновичем.
«Тореадор, смелее в бой», — запел баритон на сцене.
Выйдя из театра, я решил пройти пешком до дому, чтобы трезво обдумать все происшедшее со мной.
«Тореадор, смелее в бой!» Смелости-то, пожалуй, и хватит, а вот хватит ли умения выиграть этот бой?
276 Сегодня — переломный день. Все, что было до сегодняшнего дня, — это была одна часть жизни, а сегодняшний день — это начало второй Жизни, которая была ясна в своей конечной цели, но пути к этой цели были сокрыты в глубоком тумане.
Я дошел до скверика с памятником Екатерины, за ней величественно высилось великолепное здание зодчего. Карло Росси.
И снова, как восемнадцать лет тому назад, я медленно обошел это здание. Тогда легкомысленный юноша любовался этим зданием, ровно ничего не зная о его жизни, о его людях, о той борьбе, которая и в те времена проходила за его толстыми стенами. А сейчас я очень хорошо знал и жизнь этого театрального организма, и каждого человека, работавшего в нем, и сам принимал активнейшее участие в происходившей в нем творческой борьбе.
Все пережитое за этими толстыми стенами было вчерашним днем, было прошлым. Завтра начинается неизвестное будущее…
— Ну, что же. Начну завтрашний день с того, что смело войду в «красный кабинет» и спокойно сяду за письменный стол.
277 Глава 7
Первые шаги
Для каждого театрального работника совершенно ясно, что для того, чтобы театр занял уважаемое место в жизни общества, необходимо ставить хорошие, прежде всего современные пьесы, поставлены они должны быть правильно и творчески интересно, и актерское мастерство должно быть не просто на высоком уровне, но средствами этого мастерства должна раскрываться идейная сущность данной пьесы.
Когда в августе 1928 года я вошел в «красный кабинет» директором Александринского театра, «репертуарный портфель» театра был почти совершенно пуст. Там значилась только одна пьеса — «Снегурочка» А. Н. Островского. Начинать приходилось именно с репертуара. Но так как в последние годы работы театр был связан со многими современными драматургами, они-то и помогли вывести театр из репертуарного прорыва.
Репертуарная программа на первый год устанавливалась следующая:
Две-три пьесы современной драматургии.
Одна пьеса западной современной драматургии.
Одно место — классика.
278 Не очень уж точно придерживались мы этого плана, но, можно сказать, первый пункт оставался неизменным все пять лет, пока я руководил Академическим театром драмы И это, несомненно, способствовало не только творческому становлению театра, но и становлению современной драматургии, ее активному вхождению в жизнь советского театра.
У театра установилась прочная дружеская связь со следующими драматургами: А. Толстой, Б. Ромашов, А. Билль-Белоцерковский, Е. Яновский, Ю. Либединский, А. Афиногенов, Ольга Форш, братья Тур, А. Штейн.
Не все перечисленные были в то время аккредитовании ми драматургами. Были среди них только-только начинающие, были и писатели, пробующие свои силы в драматургии. Но главное заключалось в том, что все они, установив дружескую связь с театром, стремились помочь ему в самом трудном вопросе его творческой жизни.
В этой работе большую помощь мне оказывал мой заместитель Я. А. Курганов, актер нашего театра, который и до этого постоянно выступал на всех собраниях, пропагандируя советскую пьесу.
Нам удалось получить пьесу «Шахтер» у Билль-Белоцерковского, который дал нам ее с удовольствием, так как знал театр в связи с только что прошедшей премьерой «Штиля», в выполнении же второго пункта «репертуарного плана» нам помог А. Толстой, предложив свой перевод и переработку острой сатирической комедии Хазенклевера «Делец».
В первый день сбора труппы, после короткого собрания, коллективу была прочитана пьеса «Шахтер» и вывешено распределение ролей. Читал пьесу автор. На завтра была назначена читка Толстым пьесы «Делец» и заранее было объявлено распределение ролей.
И название самих пьес и распределение ролей по ним мы с Кургановым держали в тайне до дня первой встречи с коллективом, вот почему эта первая встреча с новым руководством театра прошла благополучно. Мы получили кредит доверия у большинства членов коллектива, так как в двух пьесах было занято довольно много актеров, и они-то главным образом и высказывали свое одобрение новому руководству.
После читки пьесы «Шахтер» ко мне подошел Григорий Григорьевич Ге.
— Ну, Николай Васильевич, позвольте вас поздравить. 279 Вот это была выдача «на-гора», — употребил он шахтерский термин. — Я глубоко уверен в том, что затхлый воздух «красного кабинета» с вашим приходом освежится и, хотя я и играю в «Шахтерах» роль инженера-вредителя, очень прошу вас рассматривать меня как активнейшего вашего помощника.
Таково было выступление одного из старейших представителей труппы в первый день моего руководства театрам. Правда, это не помешало ему в конце сезона выступить с самым настоящим пасквилем против меня, адресованным в самые различные организации. Но тогда я еще этого не знал, и выступление Ге меня искренне обрадовало.
Вывесив распределение ролей по двум пьесам, мы приобрели сочувствие большой группы актеров, но, конечно, не всех — ведь многие остались незанятыми. Уже одним этим они считали себя обиженными руководством. У них невольно возникала зависть и Недоброжелательное отношение к занятым товарищам. Раздуваемое и обиженное самолюбие активизировало их фантазию (увы, далеко не творческую). И каждый из них строил совершенно невероятные, порой просто фантастические предположения о том, почему именно такому-то актеру, а не ему дана та или другая роль.
Так создавалась питательная среда, в которой расцветало явление, именуемое в нашей театральной практике «склокой».
Но главное заключалось в отношении к современной пьесе. Предшествующая трехлетняя борьба за советскую пьесу достаточно дифференцировала труппу как в идейном, так и в технологическом начале.
В труппе была довольно большая группа актеров, возглавляемая такими мастерами, как Певцов и Корчагина-Александровская, которые любили современные пьесы, умели в них играть и были способны создавать интереснейшие сценические образы современности. И за все это зритель платил им сторицей, выдвигая их как любимейших актеров. Правильнее будет сказать, что не просто любимцами зрителей были они, а стали таковыми, так как были подлинными «властителями их дум».
К Певцову и Корчагиной-Александровской примыкало большое количество актеров среднего и молодого поколения, и таким образом образовывался довольно значительный творческий фронт актеров новой формации.
280 Именно эта группа и возглавляла ту сложную перестройку в театре, которая началась в 1928 году.
Но активных «военных действий» между этими двумя группами пока не начиналось, и противники «нового курса» заняли пока выжидательную позицию, приглядываясь и присматриваясь к «новым веяниям» в театре, будучи абсолютно уваренными, что все новшества кончатся крахом и «царству Коли Петера» неминуемо наступит скорый конец.
К тому же в академических театрах проходила в это время децентрализация. До 1928 года центральная дирекция академических театров ведала всеми организационными, хозяйственными и финансовыми делами всех театров, а в самих театрах занимались только творческой работой, как мы говорили, «занимались искусством» и совершенно не интересовались вопросами хозяйства и экономики. Начиная с 1928 года все эти функции были переданы самим театрам. До 1928 года Юрьев был управляющим театра, а с 1928 года мне было предложено быть директором и целиком отвечать не только за художественную часть, но и за все стороны жизни театра. Согласно прежним сметам, театр имел дотацию в размере трехсот тысяч рублей.
Противники нового курса в нашем театре надеялись, что если уж я не провалюсь на художественном фронте, то неминуемо запутаюсь в сложностях театрального хозяйства и экономики.
Но время шло, проходили напряженные репетиционные работы по двум параллельным спектаклям — «Шахтеры» Билль-Белоцерковского и «Делец» Толстого по Хазенклеверу, и дни их премьер приближались. А ведь именно эти две премьеры должны были решить на этом этапе судьбу сезона, а вероятно, и мою личную судьбу. Очень уж неожиданно было мое назначение и достаточно страстно продолжали бурлить споры вокруг этого вопроса.
Не волнуйтесь, дорогой читатель, что я буду так же подробно описывать всю свою дальнейшую жизнь. Но проблема реконструкции такого сложного театрального организма, каким был Александринский театр, мне кажется, очень важным и поучительным вопросом в истории советского театра, и я считаю правильным возможно точнее и принципиальнее затронуть его с различных позиций. Ведь важны не только факты постановок той или иной пьесы, но и те сложнейшие 281 процессы в жизни театрального организма, которые в свою очередь влияли на рождение данных постановок. А памятуя указания С. М. Кирова, мы стремились одновременно развернуть работу по всем фронтам, исходя именно из его же установок.
В театре была развернута широчайшая работа по связи театра с рабочей общественностью. Театр выезжал и в дома культуры и непосредственно на предприятия с докладами о своей работе, а также и с показами отрывков и актов из подготовляемых новых спектаклей. Эти выезды, доклады и беседы установили ту новую связь, ту дружбу с рабочим зрителем, которые превращали театр из академически мертвого, музейного, в живой творческий организм, неразрывно связанный с действительностью. Рабочий зритель полюбил театр и называл его «наша Александринка». Театр действительно превращался в культурный центр театральной жизни Ленинграда.
Мы понимали, что для того, чтобы по-настоящему хорошо поставить современную пьесу или сыграть в ней ту или иную роль, нужно в первую очередь обладать способностью правильно разбираться в окружающей действительности, нужно обладать способностью правильного мышления — сейчас бы мы просто сказали, что нужно знать марксистско-ленинскую эстетику и обладать диалектическим методом мышления. Но тогда в нашем театральном быту эти вопросы не ставились еще с такой ясностью и конкретностью, и мы больше ощупью бродили вокруг них, не очень ясно представляя себе, как приступить к их решению.
Мы организовали несколько кружков, и даже помню, с каким трудом, конфузясь и не будучи в силах охватить вопрос во всей его широте, я делал доклад на занятиях кружка на тему о «философии Канта».
Конечно, все это было организовано в достаточной мере наивно, но бродили мы около правильных и нужных вопросов, и я с благодарностью вспоминаю руководителя нашего кружка — С. Меламеда, который направил наше мышление в правильную сторону, преподав нам азбучные истины в вопросах становления и формирования мировоззрения. Ох, как издевались противники нового курса над этими нашими занятиями!
И тем не менее в кружках занималось много актеров как 282 младшего, так и старшего возраста. Ходил на занятия нашего кружка и Певцов, который и любил и знал философию.
Сейчас, когда уже много лет при Центральном Доме работников искусств существует Университет марксизма-ленинизма, трудно представить себе времена, когда самый вопрос о занятиях актера в марксистском кружке являл собой проблему.
Активизация общественной жизни в театре и его творчески-дружеская связь с рабочим зрителем, работа кружков и попытка через эту работу затронуть вопросы мировоззренческого становления, организационно-хозяйственная и экономическая реконструкция театра — вот те три основных процесса, которые проходили в жизни Александринского театра в первые два месяца после начала сезона. А творчески-производственная жизнь театра выражалась в напряженной репетиционной работе по двум спектаклям.
Оба спектакля ставил я, а в постановке «Дельца» мне помогал привлеченный к режиссерской работе в театр В. Н. Соловьев, которого читатель, вероятно, помнит по ранее рассказанному как участника двух массовых постановок.
В. Н. Соловьев, будучи режиссером, одновременно вел и педагогическую работу в Ленинградском театральном институте, а также и в Институте истории искусств. Он был активнейшим участникам «режиссерского дискуссионного клуба» при Доме актера и как один из лучших знатоков театра Мольера и Сервантеса бывал постоянно привлекаем Мейерхольдом к своим постановкам, когда они затрагивали далекие времена Франции и Испании.
Необычайно застенчивый и деликатный человек, робкий и теряющийся в организационных вопросах, Владимир Николаевич не занял того места в жизни ленинградских театров, которое он мог бы и должен был занять, обладая интересной творческой фантазией, подлинными чертами художника и глубокой культурой.
Успех обоих спектаклей превзошел наши самые оптимистические надежды. Спектакли имели хорошую прессу и великолепно посещались зрителем, что имело немаловажное значение в условиях самостоятельной финансовой жизни театра. Первая победа была одержана, и нам с Кургановым будущее представлялось в самом радужном свете.
Выполняя третий пункт пожеланий Сергея Мироновича — 283 выдвижение молодежи, мы организовали при театре Производственную мастерскую, куда включили пятьдесят чело век юношей и девушек, окончивших и оканчивающих учебную студию при бывшей Центральной дирекции. Я всегда придерживался точки зрения, что молодежь должна непосредственно обучаться в театре, и старался проводить это в жизнь даже в кратковременные летние сезоны. Так было в черниговском летнем сезоне, в летнем и зимнем сезоне в Петрозаводске, в Петрограде в Малом драматическом театре, во время зимнего сезона в Костроме, в Петрограде в театре «Вольная комедия». И сейчас, учитывая широкие возможности такого крупного театра, как Александринский, я со всей энергией, на которую способны только педагоги, влюбленные в свою мечту, приступил к занятиям во вновь открытой Производственной мастерской.
Поскольку молодежь оканчивала или уже окончила бывшую учебную студию и у нее уже была элементарная подготовка к овладению вопросами техники актерского мастерства, то учебную программу мы нацелили на законы сценического искусства и законы актерской технологии.
И в этой работе с молодежью мне дружески помогал Владимир Николаевич Соловьев, поскольку он и раньше был с ней связан в учебной студии.
При театре был создан большой художественный совет, в который вошли помимо работников театра и представителей театральной общественности крупные писатели, поэты, критики и театроведы. А. Н. Толстой, М. Л. Лозинский, К. Н. Державин, С. С. Мокульский, А. А. Гвоздев — вот те славные имена, которые помогали организовывать творческую жизнь театра в реконструктивный период. Главным художником театра мною был приглашен Николай Павлович Акимов, тогда еще только начинавший свою театрально-художническую деятельность, заведовать музыкальной частью мы пригласили А. В. Гаука и дирижером Ю. А. Шапорина.
Вот какой объем достаточно разносторонней работы проводился нами в первый год нового руководства Академическим театром драмы. Конечно, многое мною, вероятно, забыто, но память сохранила именно эти разделы работы, эти формирующиеся процессы творческой жизни театра.
Проблема создания единообразно творчески мыслящего коллектива является самой главной проблемой в строительстве 284 театрального дела. Мы с Кургановым очень хорошо это понимали, учитывая, что предложенные Кировым программные установки ведут именно к решению этой труднейшей задачи. Мы отчетливо видели, что практическая деятельность подтверждает правильность пути, но, успокоенные и обрадованные временными успехами, не учли одной важной детали, которая чуть-чуть не взорвала все наше благополучие.
Мы не учли, что члены творческого коллектива — это живые люди, со всеми присущими им человеческими достоинствами и недостатками, что практика деятельности театра активизирует у одних положительные начала, превращая их в активнейших борцов за выдвинутую идейно-эстетическую программу, а у других пробуждаются отрицательные человеческие свойства, и, покидая свою выжидательную позицию, они попытаются пойти в наступление, если и не открыто против идейно-эстетической программы, то, во всяком случае, пытаясь сорвать или затормозить планово развивающуюся производственную жизнь театра.
Что делают актеры, становящиеся на такой путь? Если они довольно плотно заняты в репертуаре, они неожиданно подают заявления с просьбой отпустить их из театра.
Именно так и поступили Студенцов и Железнова. Правда, эти актеры не учли того, что они плотно заняты в старом репертуаре, постепенно вытесняемом новыми премьерами, и их незаменимость уменьшалась с каждым днем.
Я решил принять заявление, не вдаваясь в мотивы ухода, и расставание наше внешне носило даже очень вежливый характер. Был ли это частный случай желания двух актеров или это было начало наступления определенной группы, не знаю, но, во всяком случае, в труппе их уход произвел большой переполох, так как все-таки, конечно, наносил ущерб делу.
Дальнейшие события не заставили долго себя ждать.
Незадолго до окончания сезона, на общем собрании труппы мы объявили план ближайших работ:
«Ярость» Яновского.
«Сенсация» Бен Хекта.
«Тартюф» Мольера.
Докладывая репертуар, мы подчеркнули творческую принципиальность трех основных разделов — современная советская пьеса, современная западная и классика. Эти три названия 285 отвечали и идейной направленности и эстетической платформе, на которой мы тогда прочно стояли.
Рассказывая о постановочном плане будущего спектакля «Тартюф», мы объявили и двух основных исполнителей на роли Тартюфа и Оргона — это Певцов и Горин-Горяинов, а также поделились замыслом будущей постановки, который очень увлекал нас.
Взволнованные и оживленные расходились актеры после собрания. Одним нравился, другим не нравился предложенный репертуарный план. Одни мечтали о будущем дерзновенном «Тартюфе», другие совсем не верили в эту затею, утверждая, что «Тартюф» никогда не имел успеха на русской сцене и никогда не выдерживал более десяти спектаклей.
— Ну стоит ли огород городить для десяти спектаклей? — говорили эти критики.
Борьба продолжается
Соловьев, Курганов и я вошли в «красный кабинет», продолжая обсуждать затронутые вопросы, но нашу беседу прервал неожиданный стук в дверь. Вошел Ю. М. Юрьев.
— Николай Васильевич, — сказал он, нервно потирая руки, — мне бы нужно было поговорить с вами.
Соловьев с Кургановым переглянулись и молча вышли. Мы остались вдвоем в «красном кабинете».
«Прошел почти целый сезон, и Юрьев ни разу не заходил в свой старый кабинет, — подумал я. — Вероятно, случилось что-то очень важное…».
— Я слушаю вас, Юрий Михайлович, — сказал я предлагая ему стул. Но он не сел, а взволнованно продолжал ходить по кабинету.
— Я вижу, что в объявленном вами репертуаре мне делать совершенно нечего, а потому я и решил уйти из театра, — сказал Юрьев.
Сидя за письменным столом и глядя на Юрьева, я ясно понимал, что сейчас решается, что-то очень важное. Не просто юрьевский уход из театра, а гораздо более важный вопрос. По какому пути пойдет дальше жизнь Александринского театра? Вернется ли он вспять к эстетски-романтическим 286 мечтаниям или будет продолжать намеченный и оправдавший себя путь активного вмешательства в жизнь?
Второй раз мы сталкивались с Юрьевым в этой борьбе. Один раз он за глаза приказал не подписывать со мной договора на дальнейшую работу, а сейчас решение должен был принимать я.
В памяти промелькнули все этапы борьбы за современную пьесу, успешно прошедший сезон, растущий общественный авторитет театра и наша молодежь, стимулирующая более быстрое кровообращение в театральном организме, и, наконец, только что прошедшее оживленное общее собрание, установившее планы будущего года, — все это вместе и побудило меня, несмотря на мое большое уважение к положению, занимаемому Юрьевым в театре, задать ему решительный вопрос.
— А когда, Юрий Михайлович, вы собираетесь покинуть театр?
Не сразу я получил ответ, так как Юрьев, вероятно, совершенно не ожидал такой постановки вопроса.
Но вопрос был задан, время шло и нужно было на него ответить.
— То есть, как это, когда? — вопросом на вопрос ответил мне Юрьев, нервно потирая руки.
Не скажу, чтобы очень спокойным был и я в тот момент., так как вести такие разговоры всегда бывает очень неприятно. Подавив свое волнение, я возможно деликатнее ответил:
— Вы, Юрий Михайлович, подняли вопрос о своем уходе, вот я и опрашиваю, когда вы хотите это сделать?
— Да хоть сейчас!
Я позвонил. Вошел секретарь А. А. Барташевич.
— Дайте, пожалуйста, бумагу и ручку, чтобы Юрий Михайлович мог написать заявление о своем уходе.
Заявление было очень короткое, всего семь слов: «Прошу освободить меня от работы в театре».
Он положил его на стол передо мной и вышел из кабинета. Но, выйдя, так хлопнул дверью, что посыпалась штукатурка. «Вот это, вероятно, и называется: “Уходя, стукнуть дверью”», — подумал я.
Довольно трудный поединок окончился победой, но была ли это пиррова победа или выигрыш Полтавского боя, — 287 оставалось пока неясным, хотя в глубине души я и был убежден в своей правоте.
Через пять минут раздался телефонный звонок. Звонили из обкома Рабис и спрашивали:
— Правда ли, что Юрьев ушел из театра?
Через десять минут позвонили из отдела Народного образования.
— Правда ли, что вы отпустили Юрьева из театра? Через пятнадцать минут Политпросвет запрашивал меня:
— Кто дал вам право отпускать Юрьева из театра? Через двадцать минут Смольный попросил дать точную информацию, как все это произошло.
Потом ЦК Рабис запрашивал, не буду ли я в ближайшие дни в Москве, чтобы подробно рассказать обо всем случившемся.
И, наконец, через час позвонила Москва. Из секретариата Бубнова предложили, чтобы я сегодня же вечером выехал в Москву и лично доложил народному комиссару по просвещению о «неприятном инциденте, происшедшем в Академическом театре драмы».
Я очень хорошо понимал, какой бой предстоит мне выдержать, крайне сожалея, что Сергея Мироновича в это время не было в Ленинграде.
На следующий день в два часа я уже сидел в кабинете А. С. Бубнова. Беседа длилась полтора часа. Бубнов требовал, чтобы я извинился перед Юрьевым и просил его вернуться обратно в театр, а я продолжал стоять на своей позиции.
— Поймите, Андрей Сергеевич, ведь это не столкновение Юрьева и Петрова, а столкновение двух различных точек зрения на дальнейший путь развития театра, — убеждал я Бубнова. — Это — закономерное и логическое завершение той борьбы, которая проходила в театре в течение почти трех лет. А мне кажется, Андрей Сергеевич, я поступил точно так же, как и вы, когда вы освободили Юрьева от руководства театром и назначили меня. Разница только в том, что он вас не просил освободить его, а меня просил, подав даже заявление.
Не помню ответных реплик Бубнова, но общее впечатление, которое сохранила память, говорит, что в итоге он принял мою точку зрения.
288 — Ох и наделаете вы мне делов с вашей «реконструкцией театра», — сказал он мне на прощанье. — Я вас попрошу только об одном, не очень обостряйте все противоречия. Сезон прошел хорошо, театр завоевал любовь рабочего зрителя, только это и спасает вас в данном случае.
Этой сентенцией окончилась наша беседа, и я, окрыленный победой, вернулся в Ленинград.
Я встречался потом не раз с Сергеем Мироновичем, и он ни одним словом не касался этого эпизода.
До окончания сезона оставалось несколько недель, сборы были полные, репертуар будущего года объявлен, волнения в связи с уходом Юрьева и ряда актеров улеглись, молодежь готовилась к поездке в деревню в связи с началом коллективизации, и инициативная группа из Производственной мастерской решила за время своего летнего отпуска поработать в деревне и как художественная и как пропагандистская бригада.
Заведующий планово-экономическим отделом докладывал, что вместо запроектированного дефицита в триста тысяч театру потребуется только сто тысяч. В доходной части театр перевыполнил план на двести тысяч, достигнув этого не путем добавочных бесконечных выездных спектаклей, а за счет повышения посещаемости театра зрителем.
Тяжелый дредноут Академического театра, медленно поворачиваясь, ложился на новый курс.
Два фронта
Если близко подойти к жизни какого-нибудь театрального коллектива, то всегда ощущаешь два начала, мирно, а иногда и враждебно сосуществующих в этой жизни.
Одно начало я бы назвал внешней, видимой стороной жизни театра — сюда относится вся творчески-производственная и общественная его деятельность. Второе начало скрывает в себе суть и природу человеческих отношений людей, составляющих творческий коллектив. Эта не всегда ощутимая жизнь складывается и развивается в зависимости от морально-этических начал членов коллектива, рождая впоследствии также свои внутренние противоречия. Я здесь не говорю 289 о тех очевидных и ясных противоречиях, которые существуют в области идейно-эстетических установок. Я говорю о тех маленьких и часто незаметных явлениях, которые также способны активизировать положительные или отрицательные стороны человеческого характера в коллективе и точно так же, как и противоречия большого плана, влиять на жизнь театра.
А ведь эта самая жизнь театра может плодотворно и творчески интересно развиваться только тогда, когда труппа является подлинно творческим коллективом, объединенным единой идейно-творческой программой, а не собранием отдельных, пусть даже и очень ярких, но творчески разноязычных актеров.
Эта аксиома ясна и не требует, конечно, доказательств, но именно на этом-то участке, как это ни странно, и происходят постоянные конфликты в жизни театров, нарушающие их творческую атмосферу, а иногда и революционно взрывающие их мирное существование.
«А что же это такое значит: руководить театром?»
К концу первого сезона я начал понимать, что выбрать пьесы и даже хорошо их поставить — это еще не все; гораздо труднее привести к гармоническому творческому и морально-этическому единству психологию всего актерского коллектива. Ведь только на основе этих начал и удалось Станиславскому и Немировичу-Данченко создать лучший в мире театр.
Общественная жизнь театра выходила далеко за пределы творчески-производственных процессов, непосредственно смыкалась с большой жизнью, проходившей за пределами театральных стен. Так, наш театр встал во главе движения ленинградских театров, включившихся в практическую реализацию обращения ЦК партии по ликвидации прорыва на транспорте.
Утром председатель ЦК Рабис Я. О. Боярский делал доклад об этом постановлении перед работниками театров Ленинграда, а уже вечером творческая бригада нашего театра во главе с народной артисткой республики Е. И. Тиме выехала в Горький для художественной и пропагандистской работы. Летом молодежная бригада отдала этой работе свой отпуск, организовав поездку по Мурманской железной дороге.
Итоги полуторамесячной работы ленинградских театров 290 по реализации этого постановления вылились в грандиозную демонстрацию — карнавал всех творческих работников города Ленинграда — и в интереснейший митинг, проходивший на площади перед фронтоном Александринского театра. Приехавшие московские гости были поражены масштабами демонстрации и митинга и признавались, что в Москве ничего подобного не было. Переходящее знамя ЦК Рабис по праву было передано Академическому театру драмы.
Не следует забывать, что эти страницы воспоминаний относятся к жизни одного из старейших русских театров, которому значительно труднее было совершить этот крутой поворот, чем многим молодым театральным коллективам, рожденным революционным послеоктябрьским временем.
А таких театров в Ленинграде было много, и они даже объединились в так называемый «Революционный фронт ленинградских театров». В это объединение входили ТРАМ, театр Пролеткульта, «Красный театр», Колхозный театр и ряд других. Наш театр в это объединение принят не был, несмотря на мои старания, и «вожди» революционного фронта ответили мне высокомерно и безапелляционно.
— Вы слишком в большом долгу перед революцией! Ваши грехи и преступления перед ней слишком очевидны! Вам надо превзойти самих себя, чтобы иметь революционное право встать в одни ряды с нами, рожденными Октябрем! Вы неподвижны и не мобильны. Нам нужны театры «легкой кавалерии», театры «смелых боевых разведок».
А Михаил Соколовский, руководитель ТРАМа, на прощание даже сказал:
— Не удастся тебе, Николай, примазаться к нашему революционному фронту. Очень скоро с развернутыми знаменами мы придем на площадь вашего театра и предъявим академическим твердыням наш революционный ультиматум.
Наши теоретические опоры и творческие дискуссии проходили в «дискуссионном режиссерском клубе», организованном мною при Доме работников искусств. В этом клубе собирались режиссура, актеры всех ленинградских театров, а также постоянно бывали критики и театроведы. До подлинно физических драк там, конечно, не доходило, но бывало, что страсти разгорались там необычайные.
Никогда не забуду бурного совещания, на котором Соколовский делал доклад: «Ликвидация МХТ как класса».
291 Поставленные им в ТРАМе спектакли вызывали бурные обсуждения. Эти спектакли он ставил в соответствии с «трамовской теоретической платформой», основным положением которой являлось понятие «взволнованный докладчик, а не актер».
В «дискуссионном клубе» проходили драки теоретические, в практике же театральной жизни эти теории воплощались в спектакли, и между этими спектаклями возникало творческое соревнование.
В то время когда «революционный фронт» ленинградских театров готовился выйти на площадь «штурмовать твердыни академизма», я готовил выпуск молодежного спектакля — «Мятеж» Фурманова.
Демонстрация была назначена на тот час, когда кончается утренний воскресный спектакль. Устроители рассчитывали всю выходящую из театра публику вовлечь в организованный на площади митинг.
У нас в этот день была назначена премьера «Мятежа».
Помню. — Спектакль в целом и отдельные исполнители прекрасно принимались зрителем, но мы не могли целиком сосредоточиться на идущем театральном представлении, так как ждали его эпилога, но уже не на сцене театра, а на «сцене жизни», не очень ясно представляя себе этот эпилог, так как не мы являлись его режиссерами.
В последнем акте после усмирения мятежа Фурманов, стоя у окна, обращался к войскам, приведенным в боевую готовность. В конце его обращения вдали тихо начинала звучать мелодия походного марша, боковые стенки декораций уезжали за кулисы и в открытых пространствах появлялись исполнители — воинские части и духовой оркестр. Они шли из глубины сцены, доходили до рампы, поворачивались и шли вдоль рампы к середине сцены. Соединившись на середине сцены, они обращались лицом к зрительному залу и по специальному помосту спускались в центральный проход партера. Идущие впереди исполнители, за ними оркестр и соединения бойцов Красной Армии, двигающиеся по центральному проходу партера, встречали самые дружеские аплодисменты в зрительном зале, и вся публика, встав и аплодируя, двинулась за этим театральным шествием. Спектакль был выигран полностью. Особенное впечатление произвел финал.
292 А в то время как зрительный зал стоя приветствовал шествие и аплодисменты сливались с мощными звуками военного марша, ко мне в ложу вошел Курганов и сообщил, что демонстрация «революционного фронта» свернула с Невского проспекта и двумя колоннами, опоясав садик, где стоит памятник Екатерины, движется к площади театра.
— Попроси, Яша, оркестр пройти через фойе на центральный балкон театра и быть готовым по моему сигналу сыграть «Интернационал», а бойцов попроси выйти на улицу и построиться возле трибуны, которую организуют демонстранты для своих выступлений.
Ничего не подозревавшие зрители оживленно выходили после спектакля на площадь, а навстречу им действительно с «развернутыми знаменами» двигалась демонстрация.
Площадь заполнялась выходившими из театра зрителями и демонстрантами, которые начали группироваться около одного из грузовиков, предназначенного для выступающих ораторов.
Стоя на балконе театра, я оценивал складывающуюся ситуацию. Я понимал, что наш мощный военный духовой оркестр один может перекрыть своей звучностью все оркестры «революционного фронта». К нам подошел И. Н. Певцов, бывший на спектакле и оставшийся очень довольным игрой молодежи, с которой у Певцова были самые прекрасные отношения.
Один за другим яростно выступали ораторы «революционного фронта». Они говорили о боевом театральном искусстве, об аполитичности академических театров, о том, что подлинными театрами современной жизни являются они, отражающие эту жизнь, и что будущее советского театра принадлежит им, а не мертвым академиям.
— Мы вопьемся в горло старым твердыням академизма и заставим их уступить нам дорогу или пойти к нам на выучку! — выкликал наиболее революционно настроенный руководитель «Красного театра».
Зрители слушали, не очень хорошо понимая причину их яростного гнева, так как вот только что в Александринском театре они видели все то, к чему призывали пламенные ораторы.
— Яша, я чувствую, что нам необходимо выступить, и мы выиграем сражение, — сказал я Курганову и бегом устремился 293 на площадь, боясь потерять «секунду, которая решает битву».
— Товарищи, вы только что просмотрели спектакль «Мятеж» в Александринском театре, — неистово закричал я, вскочив на грузовик и стараясь быть слышимым всеми, заполнявшими площадь. Начавшие было расходиться слушатели остановились, и вот этой-то остановкой я и воспользовался.
Я произнес пламенную патетическую речь о новом курсе Александринского театра, рассказал о готовящемся спектакле «Ярость» и призывал всех собравшихся дружно и совместно строить советский театр.
Я уже хотел дать сигнал, чтобы вступил оркестр, как вдруг увидел И. Н. Певцова, который проходил мимо грузовика, весело улыбаясь всей кутерьме, происходившей на площади. Я спрыгнул с грузовика и стал уговаривать Иллариона Николаевича сказать хоть несколько слов, горячо приветствующим его зрителям.
— Я старый актер, но всегда радуюсь, когда вижу на сцене талантливую молодежь, — начал он свое выступление. — Я радуюсь, так как именно ей, молодежи, принадлежит будущее. И когда видишь талантливую молодежь, то как-то делается спокойнее за будущее русского театра. Сегодня и вы и я видели интересный молодежный спектакль, и я рад поздравить и вас и себя, что у нас есть такая талантливая смена.
Слушатели покрыли аплодисментами последнюю реплику Певцова, а я махнул Курганову платком, и вся площадь наполнилась мощными звуками «Интернационала».
Ни моего выступления, ни, тем более, певцовского устроители демонстрации не ожидали, и, когда грянули первые аккорды «Интернационала», они поняли, что вся их затея с протестом, обращенным к «твердыням академизма», провалилась полностью, и приказали своим оркестрикам включиться также в общее звучание революционного гимна. Этим эпизодом закончилась борьба «революционного фронта» с «твердынями академизма», и между нами возникла самая большая творческая дружба, какая редко бывает между театрами. Эта дружба, возникшая в ожесточенной борьбе, продолжалась во все время руководства мною Александринским театром.
294 Творческая жизнь театра
Когда перечитываешь сегодня пьесы двадцатых и тридцатых годов и вспоминаешь свои собственные постановки этих пьес, то ясно видишь, что при всем несовершенстве эта драматургия отражала и раскрывала подлинную жизнь во всей ее страстности и патетичности, с трудностями, горестями и радостями. Вот почему эти спектакли всегда имели такой успех и живой отклик у зрителя, активного творца той самой жизни, которую он видел на сцене.
Органическое вхождение этих пьес в творческую жизнь театра, естественно, влияло на мировоззренческое становление всего творческого коллектива театра и прокладывало новые пути развития театрального искусства, тем самым утверждая неразрывность искусства и жизни.
Такими спектаклями для Александринского театра были «Конец Криворыльска» Б. Ромашова, «Бронепоезд» Вс. Иванова, «Штиль» В. Билль-Белоцерковского, «Рельсы гудят» В. Киршона. Такими же явились и «Шахтер» Билль-Белоцерковского, и «Мятеж» Фурманова, и «Ярость» Яновского.
Это были годы, когда рушились устои дореволюционного единоличного крестьянского хозяйства. Острейшей классовой борьбе на этом новом хозяйственном фронте посвящалась пьеса Е. Яновского «Ярость». Вокруг этой пьесы развернулась острая борьба.
Пьеса рассказывала о ярости классовой борьбы в деревне в период коллективизации. Написанная с большой искренностью, с занимательно построенным сюжетом, пьеса была все же примитивна, а ее образы страдали схематизмом. Но актуальность и острая идейная направленность превращали «Ярость» в боевое агитационное оружие, и нам казалось правильным, что мы принимаем ее к постановке, так как считали важным посвятить спектакль той жизненной теме, которая была в центре внимания всего советского народа.
В борьбе за включение пьесы Яновского «Ярость» в репертуар театра мне пришлось пережить немало горестных минут и тяжких испытаний. И чем сильнее было сопротивление, тем настойчивее становился и я в своем утверждении на сцене современной актуальной темы, превращающей театр в подлинную школу жизни, наделяющую спектакль возможностями глубоко эмоционального воздействия на зрителя.
295 Пьесу «Ярость» прежде всего не рекомендовали театру ставить многие работники политпросвета, которые, не стесняясь, называли ее макулатурой. Во время обсуждения пьесы на рабкоровском кружке «Ленинградской правды» по ней открыли такой «ураганный огонь», что некоторые участники спектакля даже дрогнули.
Одним словом, чем ближе становился день премьеры, тем яростнее были нападки на спектакль.
И вот перед самой премьерой, посоветовавшись с товарищами, мы приняли решение: бой, объявленный нам, принять, но разработать тактический план выпуска этого спектакля. Мы были убеждены, что рабочий зритель Ленинграда примет спектакль хорошо.
Решение и план выпуска спектакля были приняты правильные, что и подтвердилось ходом последующих событий.
А план наш заключался в следующем. Первые десять спектаклей были объявлены закрытыми. Билеты мы распределили на фабриках и заводах. Таким образом, зал был наполнен только рабочим зрителем. По окончании спектакля я выходил на сцену и обращался к собравшимся с просьбой высказать свое мнение. Все охотно откликались, и тут же возникал своеобразный митинг. Ораторы выступали со своих мест. Зрителя первых рядов партера сменял оратор на верхнем ярусе. Выступали из лож. Снова из партера, балкона. Митинги затягивались на час и больше. Причем все выступления стенографировались. Слух об этих спектаклях-митингах разнесся по всему Ленинграду. Кроме рабочего зрителя на эти закрытые спектакли никого не допускали. Когда в театре накопилось достаточно стенограмм, содержание которых стало известно за стенами театра, началась серия телефонных звонков. «Говорят, у вас очень интересный спектакль?», «Когда же наконец покажете новую работу?»
Враждебно настроенная группа была бита и, придя на официальную премьеру, присоединилась к общему мнению — о большой победе театра. «… Самое главное заключалось в том, что деревенская тема вошла органически в репертуар театра. Когда после просмотра “Ярости” рабочие бригады уезжали на помощь колхозному строительству, когда после той же “Ярости” разоблачались правоуклонистские настроения, тогда со всей ясностью обнаруживалось, какую огромную организационную роль может играть искусство в деле 296 социалистического строительства», — так писала «Смена» 1 октября 1930 года.
В работе над пьесой «Ярость» мне пришлось самому взяться за перо и частично перекроить пьесу. Вопреки воле автора, мы заканчивали спектакль сценой убийства центрального героя пьесы. Автор оставлял его живым, но театр считал, что сила воздействия пьесы окажется сильнее, если ее герой будет убит. Это был тот случай, когда театр боялся идти целиком за автором и все время был начеку, внимательно прислушиваясь к актерам, которые вносили свои поправки, стремясь сделать более жизненно правдивыми создаваемые ими образы. Очевидный успех спектакля принес большую радость драматургу, несмотря на то, что пьеса его была достаточно перекроена. Финал пьесы у автора был написан в такой редакции: на сцене должен был начаться митинг. В разгар подготовки этого митинга на сцену врывался мальчик Андрейка, который кричал: «Сейчас кулаки Глобу (имя председателя колхоза. — Н. П.) порезали!» Затем шла авторская ремарка об ужасе толпы на сцене и дальше продолжался текст вбежавшего мальчика: «А только он сюда живой идет». На сцене колхозники радовались, и пришедший Глоба открывал митинг, посвященный делу колхозного строительства.
Такой облегченный и благополучный конец как-то не вязался с ожесточенной классовой борьбой в деревне, с известиями о зверских убийствах на этом фронте. Мы отважились изменить конец, внеся в него тот накал борьбы, который был в действительной жизни.
В нашем спектакле после реплики вбежавшего на сцену Андрейки: «Сейчас кулаки Глобу порезали!» — из-за кулис выносили тело Глобы, клали на помост, приготовленный для выступления ораторов на митинге, срывали с древка красный флаг и прикрывали им тело убитого председателя колхоза. Одновременно с колосников спускался большой траурный стяг, на котором были написаны имена и фамилии подлинных жертв кулацкого террора в Ленинградской области. Когда траурный стяг был опущен, вступал оркестр, исполнявший великолепно написанный Юрием Шапориным траурный марш. Начинался траурный митинг.
И именно в этот момент свершалось то театральное чудо, которого мы зачастую так тщетно добиваемся в наших 297 постановках. Бывали спектакли «Ярости», когда зритель, захваченный событиями, происходящими на сцене, настолько втягивался в сценическое действие, что незаметно для себя превращался из наблюдающего в действующего. Он переставал быть зрителем и становился соучастником гражданской панихиды, происходящей на сцене.
На этих спектаклях с первыми же аккордами траурного марша все зрители поднимались и стоя выслушивали траурный митинг и только после митинга садились на свои места. Бывали спектакли, когда весь зрительный зал поднимался одновременно; бывали — когда вставали несколько человек и затем вставали остальные. Сцена активно действовала на зрителя, но и действующий зритель производил на актеров огромнейшее впечатление. Я думаю, что буду прав, сказав, что все участники этой сцены на всю жизнь сохранят в своей памяти эти волнующие сценические минуты, так как это и есть те минуты, ради которых существует театр, театр, обретающий власть над зрителем, превращающий его из пассивного наблюдателя в активно действующего соучастника.
Вспоминаю один из спектаклей «Ярости», на котором среди зрителей были С. М. Киров и приехавший из Москвы Серго Орджоникидзе.
В антракте перед последним актом Сергей Миронович неожиданно обратился ко мне с вопросом:
— А что, сегодня зрители встанут или нет?
Уж очень хотелось Кирову показать московскому гостю то, чего он не видел в Москве.
Я помчался на сцену и, обойдя всех исполнителей, рассказал о беспокойстве Кирова.
Актеры обещали максимальную отдачу себя — но ведь это все же зависело не только от них.
Акт шел на хорошем актерском нерве. Приближался финал.
Вот выбежал Андрейка и взволнованно крикнул:
— Сейчас кулаки Глобу порезали!!!
Вот выносят тело Глобы, кладут его на помост, прикрывают сорванным флагом.
Киров и Серго сидели в ложе и внимательно следили за спектаклем, который волновал обоих.
Медленно, медленно сверху начал спускаться траурный 298 занавес, вступил оркестр и… и весь зрительный зал, как один человек, встал.
По щеке у Серго скользнула слеза, а Сергей Миронович обернулся ко мне и тихо сказал:
— Поблагодарите актеров.
Прав ли был театр, не пойдя слепо за автором, а самостоятельно создав финал спектакля? Думаю, что прав, и полагаю, что из опыта работы над этим спектаклем можно и должно сделать ряд выводов, утверждающих силу театрального искусства, которую мы зачастую недооцениваем. Не в этом ли кроется наша режиссерская обязанность, чтобы заставить зрителя стать активно действующим? Не в этих ли взаимоотношениях, устанавливающих власть спектакля над зрителем, кроются законы построения спектакля? Не пора ли нам, режиссерам, задуматься и о том, что помимо существующих законов актерского сценического поведения существуют также и законы строения спектакля, знать которые и владеть которыми режиссер обязан так же, как и быть способным руководить актерским творческим процессом при создании жизни сценического образа.
Положительные итоги работы над спектаклем «Ярость» были достигнуты не только потому, что я удачно поставил спектакль, и не потому, что актеры прекрасно играли. Они явились закономерным результатом правильной репертуарной политики и той новой деятельности, которая проводилась внутри театра по вопросам идейно-политического воспитания. Актеры в период начала коллективизации в составе агитбригад ездили в сельские районы. Там они могли на практике изучать то, о чем рассказывала пьеса Яновского. Причем однажды эта практика чуть было не окончилась трагически для одной из наших бригад. Несчастье было предупреждено, так как актеров ночью разбудили и своевременно сообщили им, что кулаки решили этой же ночью сжечь избу, где ночевали «агитаторы». Знакомясь с жизнью не только по газетам, но и лично наблюдая классовую борьбу в деревне, актеры переносили свои наблюдения в практику театральной работы.
Великолепен в этом спектакле был Н. Симонов, игравший роль немого, в нечленораздельных звуках передававшего о жизни своего героя значительно больше, чем некоторые актеры, произносившие много слов.
Спектакль «Ярость» окончательно утвердил в моем сознании 299 истину, что только по-настоящему современная пьеса может иметь наибольшую власть над зрителем. «… Тяга к современным пьесам всегда, во все века, во всех театрах была сильна, и всегда современная пьеса находила гораздо большее количество слушателей и неизмеримо больший интерес, чем классическая»2*, — так определял Вл. И. Немирович-Данченко роль и значение современной пьесы в репертуаре театра, а мы можем добавить к этому, что только эпоха расцвета драматургии и подлинная творчески дружеская связь театра и драматурга двигают вперед развитие театра.
Мы очень хорошо понимали, что успех современной пьесы был в первую очередь успехом советской действительности и что далеко не всегда наши современные спектакли поднимались до большого звучания подлинного художественного произведения театрального искусства.
Я писал, что зрительный зал в финале спектакля «Ярость» на нашем спектакле всегда поднимался, на этом же спектакле в других театрах зритель не вставал, но заслуга наша была, мне кажется, только в том, что мы нашли театральную форму, через которую до зрителя просто, но достаточно глубоко доходило то волнующее нас всех содержание нашей жизни, которое было близко каждому смотревшему данный спектакль.
Каждый новый спектакль в жизни театра не может быть повторением прошлого, а всегда должен быть следующей ступенью, на которую поднимается театральный коллектив. И если современная пьеса воспитывала коллектив, прежде всего идейно обогащая его, то совершенствование актерского мастерства и актерской технологии шло одновременно и на репертуарном материале пьес современной западной драматургии и классики.
В спектаклях «Делец» Толстого (по Хазенклеверу) и «Сенсация» Бен-Хекта особенно блеснули Я. Малютин, Л. Вивьен, Е. Вольф-Израэль, В. Киселев, М. Романов, Н. Рашевская, Б. Жуковский. Глядя на них легко было понять, насколько фантазия актера при создании образа обусловлена драматургией, если актер хочет в своем исполнении раскрыть драматургическую природу автора и общественное 300 звучание пьесы. В спектакле «Делец» актеры показали совершенно новые краски актерского мастерства, зачастую идя буквально на острие ножа в выборе выразительных средств.
Вот почему этот спектакль стал крупным театральным событием ленинградской театральной жизни, доказав попутно и мобильность и подвижность академического театра.
Творчески-постановочный коллектив спектакля «Делец», состоявший из художника Н. Акимова, композитора Ю. Шапорина, режиссера В. Соловьева и автора этих строк, а также и заведующего художественно-постановочной частью театра В. Шверубовича, увлеченный успехам проделанной работы, мечтал о создании следующего спектакля, который бы своим богатством сценических изобразительных средств утвердил нечто новое в современном театральном искусстве.
Опыт Евгения Вахтангова со спектаклем «Принцесса Турандот» еще был очень жив в памяти у всех нас, он и ориентировал направление поисков драматургического материала, подходящего для задуманного нами эксперимента.
Выбор свой мы остановили на мольеровском «Тартюфе».
Я несколько подробнее задержусь на создании этого дискуссионного спектакля, так как мне кажется, что он совершенно незаслуженно зачислен в разряд формалистических спектаклей.
Я хочу рассказать о тех идеях, которые были положены в основу этого театрального представления, о том, как это реализовалось на практике, и о необыкновенной посещаемости зрителем этого спектакля.
За один только первый сезон «Тартюф» прошел более ста раз, и на каждом спектакле, задолго до его начала, на кассе висел всегда приятный театральным работникам аншлаг: «Билеты все проданы».
Итак, о замысле и рождении спектакля «Тартюф».
Прежде всего наше внимание сосредоточилось на самой пьесе. Выяснилось, что лихачевский перевод «Тартюфа», единственный существовавший в то время, по которому всегда и всеми труппами в России игрался «Тартюф», сделан достаточно вольно и скорее представляет собой очень приблизительный стихотворный, пересказ пьесы, написанный в строгом стихотворном размере мольеровского текста. Мы решили сделать перевод заново и привлекли к этому одного из наших 301 лучших поэтов-переводчиков — Михаила Леонидовича Лозинского.
В творческом предуведомлении к спектаклю «Тартюф», написанному постановочным штабом для зрителя, говорится: «Театр, более чем какое-либо другое искусство, существует во времени. Поэтому нет, не было и не будет “единого и вечного” Шекспира и Мольера, а есть только текст драматических произведений этих писателей, всегда различно звучащий со сценической площадки в различные эпохи; причем идеология театра всегда определяет и целевую установку спектакля».
Чем гениальнее художник, тем длительнее жизнь художественных образов, созданных им, и эта длительность определяется жизненностью тех явлений, в которые проник художник. Ханжество и лицемерие, являющиеся средством для достижения личного благополучия, бытуют и в наши дни, столь далекие от дня рождения «Тартюфа», созданного гением Мольера.
Широко толкуя эту тему, мы решили создать острый, обличительный спектакль и начали с того, что ввели интермедии, столь обычные в пьесах Мольера. Правда, это были только пантомимные интермедии. Мы не считали себя вправе вставлять хотя бы одно слово в поэтическую ткань драматургического словесного материала Мольера, бережно, талантливо и точно переведенного Лозинским.
Спектакль начинался музыкальным вступлением, написанным Шапориным в манере Люли. Открывался занавес и начиналась первая интермедия, названная нами «Оргон оказывает услугу Королю». Пантомима разыгрывалась на фоне живописного занавеса, написанного Акимовым и изображавшего два рога изобилия, которые как бы схватывали большой элипсообразный диск, покрытый золотым паркетом.
Рога изобилия тоже были золотые. Один рог опускался сверху и из него сыпались на золоченный диск розы. Второй рог, острием повернутый вниз, как бы принимал этот поток роз.
На этом галантном фоне разыгрывалась изящная манерная пантомима в стиле Людовика XIV. Костюмы того времени и музыка обещали зрителю подлинный мольеровский спектакль.
Но в определенном месте интермедии-пантомимы, именно 302 в тот момент, когда король собирался прицепить орден к камзолу Оргона, в музыке раздавался мощный диссонирующий аккорд, труба играла призывный сигнал, мольеровские костюмы срывались со всех участвующих и улетали вверх, занавес также стремительно взвивался, а перед удивленными взорами зрителя возникало то постоянное убранство сцены, на котором в дальнейшем разыгрывался весь спектакль.
Посреди сцены, на том самом месте, где на занавесе был написан элипсообразный планшет, покрытый золотым паркетом, появлялся такой же величины и формы элипсообразный станок, немного наклоненный к зрительному залу. Это была та своеобразная «арена жизни», на которой разыгрывались все события пьесы. Золотые рога изобилия превратились в две огромных размеров фановые трубы, служившие местами выходов и уходов артистов. Вместо роз, высыпающихся из рога изобилия, на игральный манеж высыпались персонажи пьесы, уговаривающие мадам Пернель не покидать дом сына. Роль мадам Пернель играл Б. Жуковский, согласно первому спектаклю в Париже, где эту роль также исполнял мужчина.
За элипсообразным станком стоял другой станок, высокий и длинный, в центре которого находилось полушарие, вогнутой стороной обращенное к зрительному залу и обработанное внутри плоскими зеркалами, как бы образующими грани драгоценного камня. Когда внутри его, или, вернее, на фоне этой граненой зеркальной полусферы стоял человек, он был видим зрителю не только таким, как он стоял, но и в бесконечном количестве различных ракурсов, отражений, в отдельных зеркальных гранях.
Такова была общая установка, дополняемая отдельными деталями и кусками декораций, определяющими место действия. Эти куски декораций и отдельные детали подавались сверху на подъемах, и сцена бывала видна зрителю или в своей обнаженной, лаконичной конструктивной установке, или в эту установку вписывались декоративные куски, детали, ориентирующие зрителя, где происходит действие.
Так, сцена во втором акте, когда Дорина насмехалась над своей госпожой Марианной, кончалась бегством Марианны на сеновал, где она решала повеситься.
Марианна — Корякина бежала по «цветочной тропе» (так мы называли узенькую дорожку, построенную по краю оркестровой 303 ямы), а в это время происходило сценическое преображение. С колосников сначала опускалась декорация коровника, который тут же венчался сеновалом со стогом сена То, что это был коровник, — утверждалось появлением из окошечка встревоженной морды коровы, когда Марианна — Корякина, стремительно промчавшись мимо нее, взлетала на сеновал. За ней следом бежала Дорина, и конец диалога проходил на сеновале.
На реплику Дорины: «А вот и господин Валер», — на той же самой «цветочной тропе» появлялся Валер — Романов и так же стремительно мчался на сеновал, и снова встревоженно выглядывала корова. Диалог Марианны и Валера оканчивался примирением, и, как бы подчеркивая это благополучие, из окошечка коровника появлялась успокоенная морда коровы. Она поворачивалась туда, наверх к сеновалу, и любовно мычала. Испуганные молодые любовники, прервав свой диалог, с тревогой сверху смотрели на коровью морду, которая конфузливо скрывалась в окошечке, но сейчас же с другой стороны коровника, тоже в окошечке, появлялся коровий хвост, приветливо помахивающий влюбленной парочке.
Так, к примеру, была построена эта сцена. Ни смысловое, ни образное соотношение, предложенное драматургом, нами не было нарушено, и мы свято блюли не только каждое авторское слово, но и все знаки препинания великолепного перевода Лозинского.
Конечно, мы тут отступили от буквы авторской ремарки Но ведь сам Мольер не очень настаивал в своих ремарках, на точности описания мест действия. Ремарки Мольера — это не чеховские ремарки, которые являются литературными, новеллами, направляющими и организующими режиссерскую фантазию в нужном для драматурга направлении.
Не буду сейчас подробно описывать весь спектакль, оставляя за собой право вернуться к этой теме, для того чтобы защитить природу нашей фантазии и весь этот спектакль, как самый доподлинный реализм. А сейчас еще несколько слов о характере некоторых интермедий и о финале спектакля.
Через эти интермедии мы стремились расширить тему «тартюфства», выведя эту тему из квартиры Оргона и пре доставив ей арену всей жизни — «тартюфство» в религии, в быту, в политике. Одной из любопытных интермедий была интермедия «Тартюф-миссионер» (после третьего акта).
304 Под звуки кандального марша на основной станок сцены выходила группа заключенных. Они медленно двигались по краям элипсиса-станка, составляя, таким образом, неразрывный круг людей. Их усталые шаги ритмически определялись звуком цепей-кандалов, издававших звон при каждом их движении. Медленно вращался этот круг под трагическую музыку Шапорина. Невольно возникала ассоциация с известной картиной Ван-Гога.
Внезапно в это безысходное движение порабощенных врывался звук органа, и из центра этого людского круга, из люка, начинал подниматься Тартюф.
Но это был не Певцов, а гиперболизированная кукла, похожая на Певцова, которая, поднимаясь кверху, достигала двенадцатиметровой высоты. Правая рука куклы — Тартюфа была поднята для благословения и в ней находился крест. По мере подъема куклы заключенных охватывало чувство протеста и негодования, хотя они не ломали линии своего движения. Ноги продолжали круговой ход, но звон цепей становился иной, порывистый, синкопирующий, и вместе с этим измененным звучанием изменялась и выразительность самих фигур узников.
Музыкальный контрапункт церковного органного хорала и звона цепей достигал своей кульминации, и тогда все узники, внезапно разорвав и бросив на пол свои цепи, бросались на грандиозную двенадцатиметровую куклу — Тартюфа.
Рука с крестом быстро опускалась, но еще быстрее взлетала вверх левая рука, в которой был револьвер.
Из правой и левой кулисы сверху начинали медленно спускаться два пушечных жерла, и когда они оказывались направленными на зрительный зал, кукла — Тартюф стреляла из револьвера, а из жерл пушек вырывался сноп огня.
Сцена погружалась во мрак. И в этой темноте и во внезапно возникшей тишине снова слышалось медленное, трагическое звучание цепей.
Вновь возникавший свет на сцене освещал ту же группу арестованных, так же безнадежно шагающих, но ни Тартюфа, ни пушек уже не было.
Вспоминаю другую интермедию, которая имела рабочее название «Блуд Тартюфа».
Призывно манили к себе открытые двери публичного дома, откуда зазывно звучали джазовые мелодии. Девушки около 305 дверей заманивали проходивших мужчин. Одной из красавиц прельщался Тартюф, и она увлекала его в радушно открытые двери.
Мгновенно менялось место действия, и зритель как бы попадал в положение публики, наблюдающей программу на эстраде публичного дома. Шел номер, называемый нами «Герлс желтой прессы».
В определенном месте танца из-под станка появлялись четыре солиста, политические маски Бриана, Поля Бонкура, Леона Блюма и Даладье.
Огромные головы, сделанные из папье-маше по злым карикатурным рисункам Акимова, при естественном, настоящем размере человеческих фигур вызывали хохот и аплодисменты в зрительном зале. Зрители узнавали маски современных политических деятелей и с интересом следили за их сложным танцем, в котором участвовали и девушки «желтой прессы».
Танец прерывался в своей кульминации появлением Тартюфа в зеркальном круге на заднем станке.
Он спускался вниз, его окружала «желтая пресса», но государственные деятели отбивали от них Тартюфа. В этом месте танца в зеркальном полушарии появлялся новый персонаж. Все поворачивались и с любопытством рассматривали этого нового государственного деятеля, непохожего на всех собравшихся.
Мог ли думать тогда В. П. Лебедев, изображавший маску Чан Кай-ши, что образ, который он так язвительно представлял, так долго будет торчать на «арене жизни»? Все находившиеся на сцене внимательно следили за сольным танцем душителя китайского народа, и затем начинался финал интермедии, оканчивающийся мирным расхождением по отдельным комнатам Тартюфа и всех политических деятелей, окруженных услужливыми девушками из «желтой прессы».
Режиссерская партитура финала спектакля была следующая. Благополучное окончание всех неприятностей для Оргона собирало в группу около него всех участников, кроме Тартюфа. Все торжествовали, глядя, как Тартюфа уводила полиция в правую фановую трубу. Но как только эта нечисть скрывалась от зрителя в трубе, начинали бить фонтаны, крайне неожиданные для всех оставшихся и торжествующих свою победу.
306 Фонтаны начинали бить в той части сцены, где находилась вся группа с Оргоном, она бежала на другой край игрального станка, но сейчас же и здесь начинали бить фонтаны. И куда бы ни кидалась группа Оргона, ее неизменно всюду встречали фонтаны. В итоге им ничего другого не оставалось, как кинуться в ту же фановую трубу, куда увели Тартюфа. Так и благополучного Оргона смывала вода с «арены жизни», и на причудливом узоре бьющих струй фонтанов, на водяной завесе дождя, капающего по первому плану сцены, начиналась кинопроекция. Кадры были подобраны из кинохроники наших дней. Дни нашей жизни врывались в это далекое прошлое и, смыв его с «арены жизни», новое утверждало себя, свой пафос и патетику.
После первого прогона спектакля на генеральной репетиции к режиссерскому столику подошла Е. П. Корчагина-Александровская и горячо поблагодарила режиссуру за «интереснейший спектакль».
— Дорогая тетя Катя, мы очень вам благодарны за приветствие и вашу дружескую оценку, но почему же у вас на глазах слезы? — спросил я, заметив, как она взволнованно вытирала их носовым платком.
— Я не могла… я не могла… — ответила Екатерина Павловна, продолжая утирать слезы. — И когда непрерывным потоком двинулись на зрительный зал тракторы, у меня сжалось горло и я заплакала…
— Это следует запомнить. Эти слезы дорогого стоят, — сказал Владимир Николаевич Соловьев после ухода Корчагиной-Александровской.
С. М. Киров несколько раз был на этом спектакле и однажды, прощаясь, обратил наше внимание:
— Посмотрите, как точно реагирует зритель на все сатирические места спектакля.
Он согласился на включение «Тартюфа» в число трех спектаклей, которые мы собирались показать Москве в дни гастролей, накануне столетия театра. «Страх» Афиногенова, «Делец» Хазенклевера — Толстого и «Тартюф» Мольера — вот то спектакли, которые были утверждены Кировым для показа в Москве.
И, наконец, совсем недавно мне напомнил о нашем «Тартюфе» известный французский актер Жан Ионель, исполнитель роли Тартюфа в театре Комеди Франсэз.
307 На приеме во французском посольстве в связи с гастролями Комеди Франсэз он подошел ко мне и поблагодарил за постановку «Тартюфа» в Александринском театре.
— Мне очень помог ваш спектакль в работе над образом Тартюфа. Он дал мне толчок шире взглянуть на этот страшный образ. Я наделил его гангстерскими чертами, так как гангстеризм и фашизм — это самое страшное, что сейчас есть в нашей действительности, а тем более, когда они прикрываются политическим ханжеством, то есть «тартюфством».
— А вы разве видели наш спектакль? — невольно спросил я его.
— О, нет! К сожалению, мне это не удалось, но я прочел все, что о нем было написано, видел фото спектакля и составил себе довольно ясное представление о вашей работе.
Александр Афиногенов
За длинный путь моей театральной жизни мне приходилось встречаться со многими драматургами Встречи с одними происходили, когда они были в зените славы, а я был еще молод, бывали встречи, как говорят, «на равных началах», бывали встречи и такие, когда перед тобой, уже умудренным опытом, неожиданно появлялся малоизвестный, а иногда и совсем даже неизвестный молодой человек, пробующий свои силы на трудном пути драматурга.
И странное дело, что ни сами встречи, ни различное соотношение возраста и практического опыта устанавливали те или иные взаимоотношения, а тот эмоциональный напор идейной направленности, та горячая мысль, та взволнованная жизнь сценических образов, через которую автор утверждал на сцене свою основную тему.
Так властно и страстно вошел в мою театральную жизнь Александр Афиногенов, вошел даже несколько бесцеремонно и отодвинул некоторых драматургов, с которыми я был связан в то время.
Первая встреча произошла в те бурные дни ломки и становления сознания у нас, театральных работников, когда мы, преодолев тяжелый груз прошлого, выходили на путь утверждения 308 советской пьесы как ведущего начала в жизни нашего театра.
Я знал о молодом драматурге, работавшем в Пролеткульте, знал его пьесы, был им заинтересован, но лично еще с ним не был знаком. Первая встреча с Афиногеновым произошла в связи с предполагавшейся постановкой его пьесы «Чудак» на сцене Александринского театра.
И если мы, выходя из плена прошлого, становились активными борцами за современную молодую драматургию, за утверждение на наших сценах права жизни образа современности, за раскрытие через жизнь этих образов идей нашего времени, то и Афиногенов как драматург в это время резко порывает с пролеткультовщиной и выходит на новую большую театральную дорогу, связывая свою творческую судьбу с профессиональным театром.
Его пьеса «Чудак» репетируется в Москве во Втором МХАТ, его пьесой заинтересовался Ленинградский академический театр драмы.
Никогда не забуду первой встречи.
Без стука в дверь однажды на пороге неожиданно появился худой, высокий молодой человек в высоких сапогах, кожаных штанах с кожаной фуражкой в руках. Такой костюм в то время становился уже театральным костюмом, в который мы одевали положительного героя, большевика, комиссара.
Уже через пять минут мы разговаривали, как старые приятели, давно знавшие друг друга. Редко бывает, что при первой встрече завязывается такая интересная, глубокая, а главное, доверительная беседа, какая произошла у нас с Александром Николаевичем.
Очевидно, что и он, выходивший из Пролеткульта на новую широкую дорогу, и я, прощупывающий и намечающий пути будущей жизни театра, которым я руководил в то время болели одними и теми же вопросами, решали одни и те же темы. И странно, что в этой первой беседе мы меньше всего говорили о пьесе, которую он привез и вечером должен был читать на Художественном совете, а весь разговор сосредоточился на больших вопросах жизни театра, на тех творческих противоречиях, которые существовали в больших профессиональных театрах и каждый раз обострялись, как только в работу вступала современная пьеса.
Уже через полчаса Александр Николаевич рассказал мне 309 о том новом пути, на который он вступил, и о мелькнувшем у него замысле теоретически осмыслить все то новое, что он встретил, участвуя в работе над постановкой «Чудака» в Москве. Он увлеченно и образно рассказал мне о работе И. Берсенева и А. Азарина, С. Бирман и С. Гиацинтовой. В его красочном и умном рассказе я услышал нотки влюбленности молодого драматурга, впервые столкнувшегося в практической работе с крупными художниками.
Не скрою от читателя, что некоторое чувство ревности этот рассказ пробудил во мне, несмотря на то, что все упомянутые им актеры были моими друзьями и товарищами и я их очень высоко ценил как художников.
Говорил Афиногенов и о перспективах советского театра, и я с удивлением слушал эту «исповедь горячего сердца» молодого человека, так по-хозяйски мыслящего и так дерзновенно мечтающего о будущем театрального искусства.
Время приближалось к четырем часам, и я предложил Афиногенову пойти ко мне домой и вместе пообедать.
Беседа не прерывалась и на улице, когда мы шли домой и я едва поспевал за крупно шагающим молодым автором.
— Заприте Джокера. Я пришел с товарищем, — сказал я домработнице, когда за дверью раздался оглушительный лай.
— А почему вы назвали собаку Джокером? — с любопытством спросил Афиногенов. И как часто впоследствии, играя в покер, он вспоминал эту нашу первую встречу и знакомство с Джокером.
Вечером состоялась читка «Чудака» на Художественном совете. Читал Афиногенов свои пьесы очень интересно и своеобразно, читал несколько торжественно, как что-то значительное, но в этой торжественности в то же время была и большая простота и смысловая ясность. Он читал взволнованно и в то же время понятно. Его волнение — волнение автора — нисколько не заслоняло для слушателей ни драматургической сути, ни малейших деталей в жизни сценических образов.
Читка «Чудака» прошла прекрасно. Слушали пьесу с интересом и огромным вниманием, хорошо реагировали и на драматургические и на комедийные места.
Началось обсуждение. Большинство высказывались за включение пьесы в репертуар театра, но неожиданно встал один из членов Художественного совета и мрачно заявил, что «в пьесе нет ничего об интернациональном воспитании молодежи». 310 В пьесе действительно ничего не было об «интернациональном воспитании молодежи», так как она была посвящена теме энтузиазма в деле строительства социализма. Но тем не менее демагогическое выступление сумрачного товарища возымело свое действие. Некоторые члены Худсовета глубоко задумались и из осторожности решили быть против, другие стушевались, и когда приступили к голосованию, то большинством голосов провалили пьесу.
«Неужели вы не знали своих “троглодитов”»? — успел написать мне на записке Афиногенов.
А в Москве в это время работа подходила к концу. Премьера имела оглушительный успех. Мало известный широкой публике драматург Афиногенов сразу же приобрел широчайшую популярность. Наш Худсовет был сконфужен своей ошибкой, порожденной модной болезнью перестраховки, и срочно пересмотрел свое решение.
Состав участников «Чудака» был подобран с таким расчетом, чтобы в нем были заняты актеры различных поколений — от старейшей актрисы Е. П. Корчагиной-Александровской до совершенно молодого, недавно окончившего студию Шуры Борисова, ныне народного артиста СССР, исполнившего центральную роль Волгина. С тревогой отнесся Афиногенов к назначению Борисова на роль Волгина, так как в Москве, эту роль великолепно играл прекрасный актер А. Азарин.
Во время работы над спектаклем в письме от 11 февраля 1930 года Афиногенов писал мне:
«… Теперь о “Чудаке”. Основные линии Вам, очевидно, ясны вполне, мне хочется остановиться лишь на следующем:
1. Актерский состав: Дробного Вы нашли, меня беспокоит Трощина и Борис. Особенно последний, так как если Трощину и может вывести умелая политическая трактовка, то для Бориса нужен актер громадного диапазона чувств и сил. Вот почему в провинции так много проваливается Борисов. К Вам, в Ленинград, я приехал из Костромы, где Борис махал руками, трагически рвал куртку и рычал: “О-о-о, я трррезззв”. Вы поручаете эту роль молодому актеру, не имею основания не доверять Вашей опытности, но все-таки екает сердце — “а ну как?..” Разумеется, никто поручиться в театральном деле за хороший конец не может, но Вы понимаете лучше меня, какое значение имеет ленинградская постановка “Чудака” 311 и как притаившиеся враги будут хихикать и совать кулаки под нос: “Что, голубчики, самоварники, аршинники, не слушались? Теперь расхлебывайте…”.
Главное в Борисе — не делать его агнцем с сиянием на голове и дать почувствовать прочную его “землистость” (связь с рабочими, действенность его энтузиазма и пр.).
2. Очень прошу — не сочетать в себе постановщика с администратором, заботящемся о возможно меньшем людском составе и оформлении.
Как Вы будете увязывать Бориса с массой, я не знаю, но, если будете эту увязку показывать сценически (скажем, массовые сцены), делайте ее на совесть, ей-ей, все с лихвой окупится. Тоже и с оформлением. МХТ II дал скупое, почти графическое оформление. От Вас я жду гораздо большей красочности и размаха, особенно в третьем акте. Ах, как мне хочется увидеть там те ленивые паруса, которых я еще нигде в “Чудаке” не видел. Не одинокое дерево, а бесконечная ширь, на фоне которой происходящие события будут еще выразительнее».
Через два месяца Афиногенов приехал на премьеру.
Как ранневесенняя природа через два месяца бывает неузнаваема, так был неузнаваем и Александр Николаевич. В новом костюме и модном пальто, остановившийся в «Европейской», он по-хозяйски вечером вошел в мой кабинет в театре и сразу же спросил: «А паруса в третьем акте будут?»
— Паруса вы увидите, Александр Николаевич, и не только как декоративную деталь, но и как элемент сценического действия.
— А что это такое? — заинтересованно спросил Афиногенов.
— Пожалуйте в зал, уже третий звонок…
Ох, как ревниво смотрел Афиногенов наш спектакль. Да это и понятно, так как его «первая любовь», его первое сценическое видение своей пьесы осталось в Москве. Он, естественно, сжился и сроднился с московским спектаклем и, раз увидев сценическое рождение своего детища, ему трудно было оторваться от этого первого ощущения. Спервоначала ему казалось, что все не так, как должно быть. В антрактах он даже нервничал. Что-то ему нравилось, что-то беспокоило. Его, конечно, беспокоило главным образом иное сценическое прочтение и решение спектакля в целом.
312 Но жизнь сценических образов развивалась неумолимо закономерно, она заинтересовала и увлекла за собой зрителей. Зритель, полюбив героев пьесы, внимательно и взволнованно следил за их судьбой, за борьбой, рожденной различными точками зрения. Все это происходило на фоне сгущавшихся сумерек от грозовой тучи, и когда в финале третьего акта напряжение драматического конфликта взорвалось и поднявшийся предгрозовой ветер оживил «ленивые» паруса, видневшиеся под обрывом берега, и когда все эти паруса тревожно заполоскались, — в зале раздались оглушительные аплодисменты.
Так кончился третий акт.
Благодарный и взволнованный, зритель бурно вызывал автора и исполнителей. Мы ходили кланяться бесконечное количество раз, и когда автор, овладев своим волнением, уже улыбаясь, выходил на поклоны, он, пожимая мне руку, сказал: «Спасибо за паруса!»
Так завязалась наша дружба с Александром Николаевичем, дружба, которая трагически нелепо оборвалась 29 октября 1941 года во время налета фашистских стервятников на Москву.
Беседуя после спектакля за ужином, Афиногенов благодарил за спектакль и вновь поразил всех нас своим страстным порывом мечтателя, смело и дерзновенно рисующего будущие пути театральной жизни.
Впоследствии, когда в театре создавались молодежные бригады для поездок на новостройки, в колхозы и на Турксиб, спектакль «Чудак» всегда входил в репертуар этих поездок с неизменным исполнителем роли Бориса Волгина — А. Борисовым.
Свою новую пьесу — «Страх», написанную в 1931 году, Афиногенов сам предложил нам. Драматург по-настоящему поверил театру.
Спектакль «Страх» имел огромное значение не только для меня как режиссера, не только для Афиногенова как драматурга, не только для участников этого спектакля, он имел огромное значение для нашего театра в целом, так как подводил итоги проделанной работы в борьбе за современную пьесу, за создание современного реалистического спектакля Пьеса была посвящена теме «сложности природы классовой борьбы на идеологическом фронте», как тогда мы определили 313 для себя идейное содержание нового произведения Афиногенова. Ставя этот спектакль, театр вновь держал политический экзамен.
Достаточно было нарушить подлинную гармонию взаимоотношений и взаимовлияний сценических образов, неточно установить их социальную природу, и пьеса могла мгновенно быть идейно искажена и превратиться в глубоко порочное произведение.
Если бы в поединке профессора Бородина и старой большевички Клары победил бы Бородин, то спектакль неизбежно оказался бы идейно порочным, утверждавшим тему «страха» в нашей действительности. Только победа Клары давала правильное звучание спектаклю, рассказывающему о бесстрашии в классовой борьбе. Политическое понимание и актерское исполнение образов определяли возможность или невозможность существования этого спектакля на сценах советского театра в 1931 году.
И не случайно во многих городах эта пьеса не увидела света рампы, так как политические акценты в спектаклях были расставлены неправильно. Очевидцами такого случая и отчасти, пожалуй, своеобразными участниками явились артисты молодежной бригады Акдрамы, выехавшие накануне столетнего юбилея театра для обслуживания работников Великого Сибирского пути.
В репертуаре бригады были и «Чудак» и «Страх». Какова же была тревога артистов бригады, когда по приезде в Новосибирск они узнали, что накануне их приезда руководящие органы сняли с репертуара местного театра «Страх» как «идейно порочную пьесу».
Но молодежь не растерялась и попросила устроить просмотр своего спектакля. Просмотр состоялся в местном драматическом театре. На просмотре помимо людей, решавших судьбу спектакля, присутствовала также вся труппа местного драматического театра, у которой еще вчера спектакль «Страх» был запрещен.
Свежесть воспоминаний о чувстве огромной ответственности и взволнованном боевом настроении, которые владели актерами в день просмотра, сохранились до сегодняшнего дня и у Татьяны Суковой, игравшей Клару, и у Алексея Алексеева, игравшего профессора Бородина, и у Людмилы Скопиной, игравшей Валю, и у Александра Борисова, второго 314 исполнителя роли Бородина. Они мгновенно оживляются, рассказывая об этом значительном событии их артистической юности. Молодежь выиграла право на открытый показ спектакля и реабилитировала пьесу Афиногенова благодаря тому, что в спектакле была абсолютная точность и четкость взаимоотношений и взаимовлияний сценических образов, устанавливаемых ведущей идеей пьесы и спектакля. Клара побеждала профессора Бородина, а отсюда и спектакль получался идейно полноценным.
Эта необходимость в точной расстановке акцентов и сценических образов заставила меня прийти к очень важной, на мой взгляд, рабочей формуле «системы художественных образов». Правомерность того или иного сценического образа в пьесе как определенного выразителя социальной среды — вот что ложилось в основу формулы «системы сценических образов», в отличие от формулы «галереи сценических образов», где право на существование сценического образа определялось только его художественными качествами и жизненным правдоподобием.
Драматургия Афиногенова являлась той драматургией, которую требовал зритель — активный строитель первой пятилетки. Страстная политическая целеустремленность пьес Афиногенова, его дерзновенная смелость в прозрении будущего, а следовательно, и заостренность идейной сущности его пьес выдвинули Афиногенова в первые ряды современных драматургов.
Поверив театру после спектакля «Чудак», Александр Николаевич не очень вмешивался в работу над «Страхом», и только по одному случаю у нас возник спор.
Одновременно с Александринским театром «Страх» ставился в Московском Художественном театре. При первому распределении ролей в Москве роль старой большевички Клары Владимир Иванович Немирович-Данченко поручил Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой. В нашем театре роль Клары была поручена Екатерине Павловне Корчагиной-Александровской. Сразу же после того, как распределение ролей было объявлено, Афиногенов вместе с Верой Аркадьевной Мичуриной-Самойловой пришел ко мне в кабинет и долго убеждал меня в том, что я неправ, поручив роль Клары Корчагиной-Александровской, что данную роль должна играть Мичурина. Я упорно защищал Корчагину, считая, что для 315 Клары в первую очередь нужно большое и страстное человеческое сердце, которым обладала на сцене Корчагина-Александровская. Она была то, что мы называем «сердечной актрисой», в отличие от Мичуриной, которая принадлежала к плеяде актеров, блестяще владевших диалогом, была великолепна в комедии, особенно иностранного репертуара. Две прекрасные, но глубоко различные по своему творческому диапазону и профилю актрисы оспаривали право на роль большевички Клары. Это был большой творческий спор по принципиальному вопросу. Я был твердо убежден в том, что социальная сущность монолога Клары станет убедительной для зрителя только в том случае, если зритель поверит Кларе, поверит, что она действительно мать революционера, повешенного в 1907 году.
Я был твердо убежден, что именно в эти секунды должно произойти нечто необыкновенное: зритель, поверив трагедии матери, глубоко поймет идейную сущность монолога, и этот монолог станет не политической сентенцией, а его, зрителя, собственными мыслями и чувствами. Основным выразительным средством этой сцены, считал я, должно быть страстное, честное материнское сердце. Не случайно Горький говорил, что «русское искусство — прежде всего сердечное искусство». Вот почему я продолжал упорствовать в своем решении оставить эту роль за Корчагиной-Александровской, которая, правда, до этой роли никогда ни одного драматического образа такого плана не создавала, являясь в основном характерно-комедийной актрисой. Воспоминание же о том, как полноценно и глубоко раскрыла Корчагина образ матери в маленькой эпизодической роли пьесы К. Тренева «Пугачевщина», еще более утверждало мое намерение оставить роль Клары за ней.
Во время всей работы Афиногенов оставался настороженным, тем более что мы должны были первые сыграть этот спектакль, и, таким образом, судьбу пьесы решали мы. Огромнейший успех спектакля и образа Клары в исполнении Екатерины Павловны восстановил прежние отношения с Верой Аркадьевной Мичуриной-Самойловой, которые были несколько поколеблены размолвкой по поводу распределения ролей в «Страхе», а с Александром Николаевичем у меня установилась еще большая творческая дружба.
Но этот успех рождался в муках и тревогах. Жаль вообще, 316 что театральные критики и театроведы до сих пор не написали серьезных работ на темы «Пьеса и спектакль» или «Премьера как судьба пьесы». Сколько раз в жизни мы видели успех спектаклей, а следовательно, и длительную жизнь пьес, но ведь неоднократно мы были и очевидцами таких случаев, когда интересная, но сложная пьеса, будучи неправильно решенной театром, проваливалась.
Так вот об одном эпизоде, чуть-чуть не послужившем поводом для запрещения пьесы «Страх», мне и хочется рассказать.
«Страх», пьеса необыкновенной политической заостренности, вызывала различные отклики и тревоги за пределами театра. Все с нетерпением ожидали эту новую пьесу Александра Афиногенова, завоевавшего своим «Чудаком» общее признание. Но обе эти пьесы, естественно, вызывали острые и страстные споры. Были и у «Страха» преданные друзья, но гораздо больше было яростных противников.
Когда работа с актерами была почти закончена и оставался период монтировочных и генеральных репетиций, мы решили проверить себя на квалифицированной аудитории Комакадемии.
Актеры проиграли всю пьесу, сидя за столом, и только два центральных монолога — монолог Бородина и Клары — играли, как в спектакле, непосредственно обращаясь к зрителю.
Когда Илларион Николаевич Певцов — исполнитель роли Бородина — встал и начал свой монолог, то аудитория, до сих пор внимательно и сосредоточенно слушавшая все предшествующие сцены, вдруг дрогнула и заволновалась. Слова Бородина поразили всех. «Мы живем в эпоху великого страха, — говорил Бородин. — Страх ходит за человеком, — продолжал агитировать Бородин зрителя. — Человек становится недоверчивым, замкнутым, недобросовестным, неряшливым и беспринципным». И чем убежденнее говорил Бородин, пытаясь утвердить тему страха в нашей действительности, тем более неловко ощущал себя слушатель, как бы присутствуя при вражеской агитации.
Казалось, еще несколько секунд, и возмущенные зрители прервут его выступление — таков был политический накал аудитории.
Спектакль вступал в ту фазу, когда содержание играемого 317 полностью овладевало сознанием зрителя, и зритель благодаря огромному актерскому искусству Певцова превращался из слушающего в действующего. Ответственность Екатерины Павловны Корчагиной-Александровской, игравшей роль Клары, повышалась, таким образом, с каждой секундой.
Подлинное драматическое мастерство правильно подсказало Афиногенову и характер, и словесную форму, и размер монолога Бородина.
Он ставил неожиданную для зрителя тему, раскрывал ее и по мере утверждения своего исходного положения вызывал негодование в зрительном зале, которое готово было прорваться именно в тот момент, когда Бородин кончал свое выступление и на трибуну выходила Клара. Она как бы принимала на себя весь протест зрителя, и в ее мудрых, сердечных словах звучало разоблачение порочной философии Бородина.
На этой пробной проверке нашей работы я внимательно следил и за исполнителями и за зрителями.
Зрители вели себя именно так, как мы и предполагали. Что же касается исполнителей, то тут произошли неожиданные смещения. Певцов, почувствовавший протест зрителя, актерски инстинктивно вступил с ним в борьбу, желая убедить его в правоте точки зрения профессора Бородина. Чем активнее была борьба Певцова со зрителем, тем больше повышалась ответственность Корчагиной.
С интересом наблюдая за идейным поединком Певцова и аудитории, я взглянул на Корчагину-Александровскую и испугался. Вместо гневной, мудрой и спокойной Клары я увидел испуганные и взволнованные глаза актрисы Корчагиной, и чем ближе приближалась секунда ее выступления, тем взволнованнее и тревожнее она становилась. Печальный исход был предопределен. Блестяще закончив свой монолог. Певцов вернулся на свое место и торжествующе уселся. Испуганная Корчагина взошла на кафедру, но не смогла овладеть своим актерским волнением. Ее монолог не разгромил Бородина, она не овладела сознанием зрителя и, несмотря на его сочувствие к ее словам, не оказалась победительницей в большом и ответственном идейном споре.
Пьеса и спектакль оказались искаженными. Ничто дальше не смогло уже восстановить нарушенную идейную гармонию. 318 Система сценических образов была взорвана, и неминуемо должна была произойти катастрофа. Фактически она уже произошла.
Когда я вернулся в театр, мне сразу передали срочную телефонограмму, чтобы я немедленно приехал в Смольный к Сергею Мироновичу Кирову. С немалым волнением ехал я на это свидание, и, пожалуй, именно тогда-то рождалась и складывалась мысль о том, что играть на сцене означает умение владеть сознанием зрительного зала, быть его руководителем.
Ведь на репетициях Корчагина-Александровская буквально потрясала нас, особенно в те минуты, когда она произносила слова Клары: «В 1907 году у меня повесили сына. Через двадцать лет в Музее Революции я нашла счет палача. С тех пор, когда временами заноют старые кости, перечитываю я этот счет. И новые силы приливают ко мне. Вот он (с этими словами Корчагина вынимала из кармана счет палача); кольцо — три гривенника, веревка — полтинник, мешок на голову — рубль». Когда на репетициях она играла это место, то у многих присутствующих невольно навертывались слезы.
Очевидно, непривычная обстановка, читка за столки перед зрителем без грима, костюма и сценического освещения демобилизовали актерское состояние Корчагиной, а ее наблюдение за поединком Певцова и аудитории, наблюдение актрисы Корчагиной, а не Клары, и сознание величайшей ответственности своего выступления окончательно парализовали ее очень тонкую и сложную актерскую природу.
С. М. Киров уже знал о происшедшем.
— Как же так? Получилось, что пьесу-то играть нельзя? А вы говорили, что пьеса интересная и нужная? — сурово спросил Сергей Миронович.
Я рассказал Сергею Мироновичу, что показ-читка — это не спектакль, что Корчагина-Александровская просто не привыкла без грима и костюма выступать перед зрителем и что в настоящих сценических условиях она победит Певцова, и действие окончится полным разоблачением «философии» профессора Бородина.
По мере того как я страстно убеждал Сергея Мироновича, доказывая ему, что на спектакле этого не произойдет и все будет так, как задумано, строгость и суровость исчезли 319 с лица Кирова — он с любопытством следил за моей горячей речью. И когда на лице Сергея Мироновича появилась улыбка, я приободрился, мне показалось, что не все потеряно, что катастрофы можно избежать, и уже более смело стал просить его разрешения еще на одну пробу, но уже в условиях театра, пробу открытой генеральной репетиции с обычным зрителем. Очевидно, когда сам во что-то очень крепко веришь, то эта твоя вера убедительно действует на собеседника.
Сергей Миронович очень любил театр, верил нашему коллективу. Поверил он театру и на сей раз.
— Ну что же, раз вы так убеждены, попробуем еще раз, но я сам приеду на эту генеральную репетицию.
Напряжение и острота этой генеральной репетиции никогда не забудутся участниками спектакля «Страх». Чувство ответственности у всего коллектива, которое ощущал и Афиногенов, еще больше сдружило нас с драматургом. И сейчас приятно сознавать, что эта дружба зарождалась, формировалась и росла не в узких производственных процессах работы той или иной сцены или пьесы — она росла и крепла в решениях больших принципиальных вопросов, в борьбе за идейные и творческие убеждения, которая сопровождала постановки почти каждой пьесы Афиногенова.
Репетиция шла благополучно. Зрители с нетерпением ждали кульминации спектакля, идейного поединка профессора Бородина — Певцова и старой большевички Клары — Корчагиной-Александровской, так как предшествовавшая катастрофа мгновенно стала достоянием всего Ленинграда.
Когда началась сцена диспута, напряжение зрительного зала достигло предела. Буквально слышно было, как взволнованно бились сердца у актеров. Сергей Миронович внимательно наблюдал и за зрительным залом и за актерами.
Монолог Певцова создал еще большую напряженность и нервную тишину в зрительном зале.
— А не подведет нас тетя Катя? — с взволнованной заинтересованностью спросил Сергей Миронович, имея в виду Е. П. Корчагину-Александровскую.
Екатерина Павловна спокойно взошла на кафедру, внимательно осмотрела зрительный зал и тихо начала свой монолог. С первым же еловой зал облегченно вздохнул. Не может такой человек, как Клара, не оправдать доверия зрителя. Корчагиной 320 поверили, как человеку, как подлинной большевичке, даже до того, как она закончила свой монолог.
Когда же она дошла до рассказа о счете палача, вынув из кармана этот счет, разгладила бумажку и произнесла слова: «Вот он…», — в зрительном зале свершилось то, во имя чего существует театр. Зритель до конца поверил Корчагиной, и ее трагедия матери стала трагедией всего зрительного зала. В партере замелькали носовые платки.
— Молодчинище! — тихо, с оттенком восхищения сказал Сергей Миронович.
Когда же в конце монолога зазвучали гневные и обличительные слова Клары, зрительный зал разразился неистовым громом аплодисментов.
Корчагина победила. Клара победила Бородина. Пьеса получила право на жизнь. Будущий спектакль был выигран.
Успех нашего спектакля был настолько велик, что удовлетворить спрос зрителя одним составом исполнителей было невозможно. Пришлось создать второй состав, а также поставить этот же спектакль силами молодежи. Молодежный коллектив совершил поездку по стране, чтобы хоть в какой-то мере удовлетворить требование зрителей.
В дни столетнего юбилея бывш. Александринского театра шло трехсотое представление «Страха». И это всего за полтора года со дня его постановки!
Не было случая, чтобы Александр Николаевич не откликнулся на какое-нибудь творческое предложение. Он был необыкновенно «жаден» до работы, всегда работал одновременно над несколькими вещами.
Помню, как для театра Ленинского комсомола он работал над пьесой «Машенька», но сейчас же откликнулся и на мое предложение написать пьесу на международную тему. Так возник «Отель Люкс», пьеса, которая когда-нибудь еще увидит свет рампы, так как она очень хорошо раскрывает тот исторический отрезок времени, который начинается сообщением по радио о вступлении фашистских войск в Париж и кончается фактом вхождения в Союз Социалистических Республик Эстонии, Латвии и Литвы.
Из числа сценических нереализованных работ Афиногенова у меня сохранились еще два сценария: народно-героическое представление в трех актах «Ленин» и «Либретто первого представления на открытии Дворца Советов».
321 Это было в то время, когда я руководил Московским театром народного творчества. Именно для этого театра Александр Николаевич и написал сценарий большого народного представления «Ленин». Мы его, к сожалению, не сумели осуществить, так как Театр народного творчества перестал существовать. Управлению московских театров, в ведении которого оказался этот театр, он показался слишком сложным, требующим к себе слишком большого внимания…
Не осуществилась постановка и «Песни о великом времени», так как военные события прервали строительство Дворца Советов. Но сейчас, перечитывая эти сценарии, видишь, как творчески напряженно работала фантазия Афиногенова и как он легко и точно находил ту природу драматургии, которую ему предъявлял новый жанр.
Афиногенов всегда шел вперед, прокладывая пути в будущее, не останавливаясь на достигнутом, не успокаиваясь на сделанном, и всегда предлагал театру поиски нового, того нового, что двигает вперед жизнь театрального искусства.
Последний наш разговор происходил по телефону, в десятых числах октября 1941 года. Афиногенов был в Москве, я с театром — в Чите.
— Посылаю вам с проводником международного вагона свою новую пьесу «Накануне».
— Накануне чего? — невольно спросил я.
— Накануне победы! — это были последние оптимистические, пророческие слова, которые я услышал от Александра Николаевича.
Илларион Николаевич Певцов
Много образов сыграно Певцовым в Александринском театре, но ни один не звучит так полнокровно, ни один не вскрывает такую глубину человеческой личности в ее мировоззренческом становлении, как образ профессора Бородина в пьесе «Страх» А. Н. Афиногенова. Мне пришлось быть очевидцем всей работы Иллариона Николаевича Певцова в бывшем Александринском театре. Я видел его в ролях, принесенных в этот театр готовыми, — Федя Протасов из «Живого трупа» и «Павел I», я видел Иллариона Николаевича Певцова, работавшего с 322 другими режиссерами, и, наконец, много образов Певцовым создано в моих постановках.
Я знал Иллариона Николаевича и как педагога.
Много интересного и увлекательного было в этом художнике, много парадоксального.
Илларион Николаевич, овладевший актерской техникой благодаря огромному труду, проделав бесконечную работу над преодолением своего физического недостатка — заикания, в то же время не любил труда в творчестве, не любил добиваться поставленных задач. Он был настолько ярко одарен, что очень легко создавал образы — те образы, которые он любил и которые как-то свободно укладывались в его творческой фантазии. И тогда образ получался яркий, полноценный, многогранный. Но стоило только образу почувствовать себя неуютно в его творческой фантазии — и сейчас же начинались «муки творчества», которые Илларион Николаевич не любил и которые не способствовали его творческой работе. Так было с капитаном Незеласовым в «Бронепоезде» Вс. Иванова, так было в «Тартюфе».
Илларион Николаевич, будучи учеником Вл. И. Немировича-Данченко, бесконечно любил сценическую правду, и вне этой правды творчество его мгновенно увядало. Он нервничал, даже сердился и, не найдя правдивого обоснования поставленных заданий, начинал даже протестовать против самих заданий и установок. Я помню наши споры и трудные репетиционные дни в период постановки «Тартюфа». Роль эту, Илларион Николаевич не любил и не верил в спектакль с теми установками, которые были выдвинуты В. Н. Соловьевым и мною. Тартюф — Фреголи, Тартюф — мгновенно сменяющий маски, Тартюф — комплекс всего отрицательного, что существует в системе порабощения человека человеком — такой собирательный образ был чужд творческим устремлениям Певцова, он не мог его увлечь, не мог творчески зажечь, и, желая все же найти какую-нибудь единую линию поведения, Илларион Николаевич не мог творчески спокойно работать.
А творческое спокойствие было постоянным залогом огромных творческих взлетов его богатейшей фантазии.
Творческое спокойствие открывало сокровищницу фантазии художника, а творческое беспокойство, наоборот, замыкало.
И это совершенно не зависело от образа, написанного, автором, 323 дело было совершенно не в авторском материале, а именно в способности Певцова найти ту правду образа, которая его как художника увлекала, Я помню очень примитивную роль, можно сказать, просто схему, с небольшим количеством как текста, так и материала для сценического поведения, и тем не менее оживленную Певцовым в огромный художественный образ; я говорю о роли Красильникова в пьесе «Штиль» Билль-Белоцерковского. Как-то сразу Илларион Николаевич почувствовал «хребет» этого образа, нашел специфику его мышления, его поведения, и плоскостно написанная схема автора заблистала потрясающей жизненной правдивостью. Так что для Певцова дело было не столько в самом материале автора, сколько в том, как он его увидит своей творческой фантазией. И если образ только забрезжит, хотя бы чуть-чуть, и ему уютно в творческой фантазии — мгновенно Певцов как художник раскрывался навстречу новому знакомцу, любил его и бережно вынашивал.
Тайна рождения образа в душе художника непостижима Она глубоко индивидуальна, и тут не может быть стандартного приема для всех. Один создает образ оттого, что услышит какую-то фразу, которая вложена в уста этому персонажу. Другой увидел какое-то особое, ему только, этому образу, присущее движение, и это движение осветило сразу и все существо и все поведение. Третий вдруг ухватит интересную смену мыслей… Момент зарождения образа глубоко индивидуален, но он, конечно, не может возникнуть без предварительной работы по собиранию материалов для образа Путь собирания материалов, конечно, может быть один, творческое же оплодотворение и этап, на котором это происходит, конечно, глубоко индивидуальны. Да, я думаю, и сам художник не всегда может установить и зафиксировать, как и когда это началось. Я мог не знать, когда у Певцова появлялся первый проблеск образа, но я великолепно знал и видел, когда он начинал питать и лелеять зародыш будущего образа.
И в процессах работы это было сразу заметно. Мягкость, доброта, юмор, гибкость организма, веселость в творчестве, когда элемент образа был им найден, и совершенно обратное, когда образ для Певцова оставался неуловим: тут и раздражение, и придирки, и скука. Два совершенно различных человека.
Я очень хорошо помню, как склоненная набок голова у 324 Красильникова («Штиль», о котором я говорил выше) вдруг дала толчок к созданию образа. Мертвая, бесцветная схема текста превратилась в плоть и кровь конкретного живого человека. И это все произошло в какую-то секунду, у всех на глазах.
Приступая к занятиям с молодежью, Илларион Николаевич всегда первую лекцию посвящал вопросам астрономии. Стройность солнечной системы, взаимное притяжение планет, движение вокруг солнца — все эти вопросы у него увязывались с законами сценического искусства.
Илларион Николаевич любил музыку, он никогда не пропускал симфонических концертов, если бывал свободен по репертуару. И это чувствовалось в его работе над любым образом. Не только жизненная правда — это было для него основой основ, — но и вопросы движения светил вселенной, и вопросы музыки всегда играли немаловажную роль. Он замечательно умел углублять образ и строить его музыкально.
Я никогда не забуду музыкальное строение одной фразы в последней картине пьесы «Страх», когда Валя (дочь-профессора Бородина) в объяснении с мужем, Бобровым, говорит: «Сколько бы неприятных истин я сказала отцу». Певцов, слышащий эту фразу, откликался: «Ну, говори», — и вот эти слова помимо сюжетной нагрузки (неожиданность для разговаривающих, что профессор здесь и слышит), помимо образной формы, эти слова несли такую изумительную музыкальную форму, что невольно всегда клубок волнения подкатывал к горлу.
Кто видел спектакль «Робеспьер» для тех навсегда сохранится в слуховой памяти мелодия речи Певцова в сцене Конвента.
Я начал свои воспоминания о роли профессора Бородина и сейчас, вспомнив вместе с читателем отдельные моменты работы Певцова, позволю себе перейти к разбору именно этого образа и, восстановив в памяти некоторые подробности работы, еще раз пережить радость встречи с большим художником.
Как большой художник, Певцов всегда интересовался большим полотном человеческой психики. Это не была обязательно большая роль, нет, это прежде всего должна быть роль жизненно правдивого человека, в котором можно 325 вскрыть и показать глубину его содержания. Вот почему Илларион Николаевич с большой неохотой играл в примитивных пьесах советской драматургии первого периода, когда вместо полнокровных образов на сцене разгуливали схемы, изъясняющиеся лозунгами. Первая советская пьеса, которая заинтересовала Певцова, — это «Высоты» Ю. Либединского, но по болезни ему не удалось сыграть роль Миндлина.
Вторая пьеса, которую он творчески радостно встретил, — это был «Страх» Афиногенова.
С первой читки, с первой репетиции образ мягко наметился и без всякого труда радостно взращивался в творческой фантазии художника. Вообще должен сказать, что вся работа над спектаклем шла легко и радостно. Все работали с увлечением, и Илларион Николаевич был одним из энтузиастов этого спектакля, знаменательного для всего нашего театра. Профессор Бородин и Клара были переломными образами для артистов Певцова и Корчагиной-Александровской. Певцов работал радостно, без труда; на обсуждении спектакля он сам высказывался о своей работе так: «Я работал бесстрашно, совершенно легкомысленно, очень мало, но так, как всегда со мной бывает: материал сразу ложится и приятно взволновывает — и я тогда очень счастлив, ничего не боюсь и делаю все, не ковыряясь. Когда я старался очень много в моих ролях, много работал, — как раз бывали неудачи. За всю жизнь неудачи бывали в тех случаях, когда я хотел что-то внедрить в себя. Я всегда это признавал и легко отказывался от этих ролей, несмотря на то, что иногда даже ставил условием вступления в театр, что я буду их играть. Такой случай был с “Отелло”. Это был самый большой труд моей жизни. И с этим самым большим трудом я провалился, а самые легкомысленные вещи я выигрывал. Это часто происходит с художниками. Это не закон, но очень распространенное явление».
Вот подлинные слова Певцова, очень характерные для него в зрелый период его работы.
Он был так талантлив, так мгновенно восприимчив, так не любил пота работы (ибо он прошел трудную и суровую школу становления художника и был таковым), что мог уже себе позволить роскошь творчества приятного.
Таким приятным был для него профессор Бородин.
326 Певцов заинтересовался мировоззренческим конфликтом Бородина и действительно с величайшим мастерством проводил сцену у следователя.
Его Бородин, поставленный следователем в конкретные обстоятельства окружающей жизни, действительно начинал иначе видеть, действительно прозревал и с ужасом оглядывался на свой прошлый путь, на своих соратников, на своих учеников.
Страшная, потрясающая пауза Певцова захватывала весь зрительный зал своим огромным содержанием.
Певцов блестяще умел думать на сцене, он умел в паузе раскрыть зрителю движение мысли своего героя. Не всякий умеет это делать, но это умел делать Илларион Николаевич, и за это его бесконечно любил зритель.
Найдя сложнейшую психологическую коллизию в профессоре Бородине, Певцов сумел найти замечательный образ — образ наивного, жизнерадостного, близорукого в жизни и дальнозоркого в науке ученого. Он временами был даже комедиен. И это было совершенно правильно. Даже на кафедре, во время своего доклада, он был радостно наивен. Он был убежден, что иначе и нельзя мыслить, и это давало ему радость и уверенность. И тем значительнее была сцена у следователя.
Имея два узловых момента — речь на кафедре и сцену у следователя, — Певцов как большой художник правильно распределил свой образный материал.
Образ в действии — на кафедре, и раскрытие существа образа — у следователя.
Ведь если бы не было этого существа, то за профессора Бородина не стоило и бороться. Всю эту идеологическую магистраль образа Певцов проводил блестяще.
Эта роль недостаточно еще освещена критикой, а ее можно считать показателем того, как нужно строить жизненно правдивый образ, несущий в себе большую идеологическую нагрузку.
Почти чудак вначале, радостно торжествующий во время доклада, открывший глаза по-новому на жизнь и с трудом, мучительно перестраивающийся — таков путь сценического образа профессора Бородина у Певцова.
И Илларион Николаевич нашел блестящие и правдивые краски для всех этих моментов. Он умел создать глубоко 327 реалистический образ, избежав возможных болезней натурализма — а ведь они так соблазнительно манят своими мелочами.
Реализм Певцова в этой роли очень близок к тому, что мы называем сейчас социалистическим реализмом, — вот почему Певцов в этой роли сделал огромный шаг вперед как художник, вот почему этот образ навсегда запомнился нам, современникам.
Певцов сумел реалистически обосновать всю внутреннюю линию образа. Он нашел сценическую правду движения психики профессора Бородина и, имея этот фундамент, он блестяще построил на нем и зрительную, то есть видимую сторону образа, а также очень полнозвучно нашел речь.
Вспомните, как в финальном монологе Певцов говорит:
«… Я видел безумие Кимбаева, и я пропустил рост его разума». Слова «рост его разума» произносятся Певцовым так, что вы сразу видите и понимаете того человека, который их говорит. Только человек мысли, только человек науки может так относиться к вопросу роста разума.
Я пишу сейчас эти строки и буквально физически слышу эти фразы, слышу и понимаю, как ужасно, что больше никто никогда их не услышит. И все-таки звучание их длится, и оно должно дать нам силу и энергию для трудового и ответственного дела строительства советского театра. Мы еще слышим и видим образы Певцова. Так давайте изучать их, давайте вскрывать и находить те пути, которыми шел этот большой художник, оставивший нам как воспоминание свои блестящие образы, но унесший с собой тайну своего творческого могущества.
Столетие театра
12 сентября 1832 года в городе Санкт-Петербурге состоялось открытие нового театрального здания, построенного архитектором Карло Росси.
Спектаклем пьесы Крюковского «Пожарской» было отпраздновано открытие этого поистине великолепного здания.
Белинский писал, что тот, кто хочет видеть Петербург «как великолепный и прекрасный город, столицу России и один из важнейших в мире портовых городов, тому, разумеется, 328 достаточно только взглянуть на Александрынский театр, который, с его прелестным сквером впереди, садом и арсеналом Аничкина дворца — с одной стороны, и публичной библиотекой — с другой, составляет одно из замечательных украшений Невского проспекта… Если хотите узнать Петербург, как можно чаще ходите в Александрынский театр».
Александринский театр действительно является шедевром мировой архитектуры, и человек, впервые взглянувший на него, не может не взволноваться до глубины души.
Вспоминаю свое личное потрясение, когда я двадцатилетним юношей, впервые увидев его, несколько раз обошел его кругом.
Вспоминаю волнение Афиногенова, когда он, глядя на творение Росси, говорил о том, какие пьесы и какие спектакли должны играться в этом здании.
Вспоминаю и восторженные отзывы группы французских режиссеров, посетивших недавно Ленинград и склонивших головы перед величием Александринского театра.
И вот 12 сентября 1932 года этому прекрасному зданию исполнялось сто лет.
В «Вишневом саде» Чехова Гаев говорит:
«А ты знаешь, Люба, сколько этому шкапу лет? Неделю назад я выдвинул нижний ящик, гляжу, а там выжжены цифры. Шкап сделан ровно сто лет тому назад. Каково? А? Можно было бы юбилей отпраздновать. Предмет неодушевленный, а все-таки, как-никак, книжный шкап».
И хотя здание Александринского театра также было «предметом неодушевленным», но имело все основания и все права отметить свой юбилей.
Приблизительно за полтора года до этой знаменательной даты я обратился к Сергею Мироновичу с вопросом, как нам справлять этот юбилей.
— То есть, как — как? — переспросил Киров.
— Праздник может быть ленинградский. Может быть праздник русского театра, а может быть и… — я не окончил своей мысли. Сергей Миронович прервал меня:
— Столетний юбилей Александринского театра должен иметь резонанс и в Европе.
Установка была ясная, и мы начали готовиться к этому большому театральному празднику.
329 Предварительный план работ имел четыре основных раздела.
Прежде всего — капитальный ремонт здания, которое по-настоящему не ремонтировалось все эти сто лет. Нужно было переоборудовать сцену, восстановить всю внутри отделочную лепку, на позолоту которой требовалось два с половиной килограмма червонного золота, а также восстановить четыре статуи, которые должны стоять в четырех нишах на фронтоне и на задней стороне театра.
Во-вторых, мы планировали выпустить книгу «Сто лет Александринского театра».
Третий раздел предусматривал организацию трехмесячной гастрольной поездки (во время ремонта здания). Любопытно отметить, что за сто лет своего существования театр выезжал в гастрольные поездки только отдельными группами На этот раз повторилось тоже самое.
И, наконец, четвертый раздел — это проведение самого юбилея. План предусматривал четырехдневную программу юбилейного праздника.
В первый день после доклада народного комиссара по просвещению А. С. Бубнова «Сто лет Александринского театра» и приветствий — показ трех сцен из работ театра: первый акт пьесы Крюковского «Пожарской», сцена «Заседание Конвента» из пьесы «Робеспьер» и сцена «На насыпи» из спектакля «Бронепоезд» Вс. Иванова.
Второй день. «Маскарад» Лермонтова, поставленный Всеволодом Мейерхольдом. Возобновление спектакля как одной из самых значительных работ театра над русской классикой, с приглашением Ю. М. Юрьева как основного исполнителя роли Арбенина.
В третий день должна идти новая премьера. Название еще не было установлено, так как не определилось еще — будет это современная пьеса или спектакль русской классики.
В четвертый день показывается современный спектакль, идущий сейчас с наибольшим успехом.
Нам казалось, что это будет, вероятно, «Страх» Афиногенова, так как план составлялся как раз в дни его выпуска. И мы не ошиблись — на юбилейной афише впоследствии было напечатано: «Трехсотое представление пьесы Афиногенова “Страх”».
330 Этот предварительный план был утвержден С. М. Кировым и председателем юбилейного комитета И. Ф. Кадацким, и подготовка к торжественному празднику столетия театра началась по всем четырем разделам.
Для гастрольной поездки мы разбили основной состав труппы на две группы, имевшие свой самостоятельный репертуар и маршрут, и составили три молодежные бригады, также со своим самостоятельным маршрутом и репертуаром, и даже составу нашего оркестра устроили гастроли в Пятигорске.
Первой пропагандистской бригадой в связи со столетним юбилеем Александринского театра выехала молодежная группа по маршруту: Великий Сибирский путь, Турксиб, Казахстан, Туркмения. Именно они были счастливцами — пионерами, показавшими спектакли на Турксибе, в местах, где никогда не было профессионального театра.
Большая трехмесячная поездка основного состава началась с того, что весь театр выехал на трехнедельные гастроли в Москву. Мы обменялись помещениями со Вторым МХАТ и играли в их помещении на площади Свердлова, где сейчас находится Центральный детский театр.
В эту-то поездку мы и привезли три наших спектакля, о которых я говорил выше: «Страх» Афиногенова, «Делец» Толстого по Хазенклеверу и «Тартюф» Мольера.
«Делец» и особенно «Тартюф» действительно взбудоражили театральную Москву. По этим спектаклям сразу же выявились две крайне противоположные, а следовательно, возбуждавшие острейшие споры точки зрения. Равнодушными эти спектакли не оставляли никого, и в течение всего нашего пребывания в Москве — и на творческих собраниях и в производственной жизни отдельных театров — постоянно возникали творческие дискуссии о «Дельце» и особенно о «Тартюфе».
И только «Страх» как-то примирил две воюющие стороны, различно оценивающие «Дельца» и «Тартюфа». На трех публичных обсуждениях этого спектакля — среди писателей, в ВТО и в клубе мастеров искусств — три достаточно различные аудитории восторженно его оценили.
Большие афиши, выпущенные организаторами этих обсуждений, извещали москвичей, что обсуждению подлежат два спектакля: «Страх» Афиногенова в Московском Художественном 331 театре и в Ленинградском академическом театре драмы.
Все выступавшие на этих обсуждениях единогласно признавали победу за «ленинградской творческой командой».
Помню, как после третьего обсуждения, приятно взволнованные, мы возвращались в гостиницу. Была лунная ночь. Оживленно беседуя, мы шли по узенькой Тверской улице (тогда она не была еще широкой улицей Горького), вспоминая и отдельных ораторов и наиболее интересные и удачные выступления. Проходя мимо одного из афишных стендов, Певцов остановился и, показывая на афишу, сказал:
— Эта афиша наш творческий ответ москвичам за две «Чайки».
Мы все зааплодировали Певцову за его остроумную реплику. Не так-то часто Ленинград побеждал Москву, а эти три обсуждения вселили в нас уверенность, что в этом соревновании мы действительно оказались победителями.
Как я говорил выше, программа третьего дня юбилейных празднеств была еще не ясна и нам предстояло решить, что же ставить в этот день. Конечно, хотелось поставить новую, современную пьесу, и премьерой современного спектакля утвердить творческую линию театра. Но современной пьесы — новой и интересной, такой пьесы, которую хотелось бы поставить к дням юбилея, — не было.
Афиногенов был за границей, в Америке, и новую пьесу обещал только к началу нового сезона. К тому же сроку обещал закончить своих «Бойцов» Ромашов. Все же остальное, что нам предлагалось, не представляло творческого явления и казалось мелким для столетнего юбилея Академического театра.
Мы уже готовы были принять решение о постановке классического спектакля и начать подготовительные работы над грибоедовским «Горе от ума», как вдруг, совершенно неожиданно, как раз во время наших московских гастролей я получил телеграмму из Ленинграда от своего заместителя, что сегодня же со специальным человеком он мне посылает новую пьесу, написанную А. Штейном и Я. Горевым.
«Пьеса настоятельно рекомендована…» — заканчивалась телеграмма.
На другой день, получив пьесу, я отложил все дела и прочел ее. Пьеса мне сразу же не понравилась. Она не захватывала 332 непосредственно при первом чтении, не волновала и при втором чтении, не заинтересовала и при дальнейшем размышлении над ней. Называлась она «Карта Кудеяри».
«Настоятельно рекомендована…».
За пять лет руководства театром это был первый случай административного вмешательства в мои права, вернее сказать, — обязанности. Как я ни доказывал художественную неполноценность пьесы, мне это не удалось. Через несколько дней театр должен был выехать на большие гастроли — я смалодушничал и согласился начать работу над «Картой Кудеяри», договорившись, однако, что окончательное решение о включении этого спектакля в число юбилейных состоится после премьеры, которую мы запланировали к дням пребывания театра в Алчевске.
Не думайте, однако, дорогой читатель, что я, не веря в успех, поручил эту работу молодому неопытному режиссеру. Нет, я отнесся со всей серьезностью к этой постановке, поручив декорации Н. П. Акимову, заказав музыку Ю. А. Шапорину и сам приняв на себя режиссуру этого трудного спектакля.
Раз режиссер принял решение поставить пьесу, то прежде всего он должен влюбиться в нее, должен найти и выявить все, что в ней есть хорошего, все положительные черты. И чем меньше этого хорошего, тем более внимателен и точен должен быть он, чтобы не упустить этого малого. Звучит парадоксально, и все-таки это так.
Но все это не спасло «Карту Кудеяри».
Более трескучего и чудовищного провала, чем день премьеры этой «Карты», я в своей жизни не видывал и более позорного чувства не испытывал. Не спас и прекрасный состав актеров, занятых в этом спектакле, — Певцов, Жуковский, Кабатченко, Рашевская, Карякина… Никакие усилия актеров, добросовестнейшим образом делавших свое дело, не были в состоянии изменить ход спектакля. Обиженный, злой зрительный зал молча и пассивно наблюдал за всем происходящим на сцене, ни на что не реагируя. Измученные и буквально выбивающиеся из последних сил актеры стремились, не замечая враждебности зрителя, добросовестно выполнить все, что им полагается, потеряв всякую веру в благополучный исход представления.
Я стремился не попадать в поле зрения актеров, но когда 333 мы случайно встречались глазами, то и они и я делали вид, что не видим друг друга.
«Зритель совершенно не принял пьесы запятая спектакль провалился», — такова была лаконичная телеграмма, которую я послал на следующий день в отдел искусств.
В своей книге «Моя жизнь в искусстве» Станиславский пишет, что свой провал в роли Сальери, он не променяет ни на один день своего торжества, и он глубоко прав, так как каждый провал углубляет твое знание вопросов театрального искусства, конечно, если ты не самовлюбленный идиот и не стремишься свой неуспех объяснить низким уровнем культуры зрителя.
«Жильцы» Петра Козлова, «Мираж» Жоржа Роденбаха, «Сарданапал» Байрона и «Карта Кудеяри» Штейна и Горева так же мне дороги, как и «Конец Криворыльска» Ромашова, «Ярость» Яновского, «Страх» Афиногенова и «Баня» Маяковского. Каждый из этих спектаклей-провалов имеет свою закономерность, свою организационно-творческую суть, свою ошибочную эстетическую платформу, свою технологическую природу. Понять, почему не удался опыт, значит в следующий раз избежать этих ошибок и тем самым в будущем создать более правильные сценические «предлагаемые обстоятельства».
Но не только одной этой горькой неудачей можно вспомнить наши гастроли в городах Донбасса. Никогда не забуду одного эпизода с Е. П. Корчагиной-Александровской, в котором замечательно проявился ее благороднейший характер, чувство товарищества и любовь к своему театру.
Наша основная группа, окончив спектакли непосредственно на Донбассе, играла в Харькове, а одна из групп молодежи продолжала обслуживать небольшие площадки шахтерских поселков. В их репертуаре также был «Страх» Афиногенова. И вот однажды мне позвонили по телефону в Харьков, что Татьяна Сукова, игравшая в их составе Клару, заболела и вечером играть не может. Они спрашивали меня, что им делать.
В кабинете у меня сидела Екатерина Павловна, и мы с ней о чем-то беседовали.
— А сколько это езды от Харькова? — спросила она, узнав о случившемся. — Есть ли поезд, чтобы я успела попасть туда к началу спектакля? — продолжала она свои вопросы, как 334 будто бы иначе и не могло быть, хотя никому и в голову не приходило обратиться к ней с этой просьбой.
— Езды туда два с половиной часа, а поезд идет туда в пять часов вечера, — ответил кто-то из присутствующих, и Корчагина-Александровская быстро стала прощаться с нами, так как было уже четыре часа.
Вечером она, к большой радости молодежи и шахтеров, пришедших на спектакль, играла Клару.
Далеко не всякая актриса, занимающая такое положение в труппе, как она, поступит так, даже если ее будут очень уговаривать руководители театра.
После Харькова театр гастролировал в Киеве. Поездка нашей группы заканчивалась спектаклями в Одессе. Затем труппа уходила в двухмесячный отпуск. Собираться она должна была к первому сентября, имея в запасе двенадцать дней на монтировку и репетиции новых пьес, подготовленных для показа в праздничные дни.
Скандальный провал «Карты Кудеяри» само собой определил программу третьего дня праздника, и по согласованию с Ленинградом мы решили приготовить новую постановку «Горе от ума», к которой и приступили в Луганске, стараясь поскорее забыть позор в Алчевске. Времени, естественно, было маловато, так как «Карта Кудеяри» отняла двухмесячный репетиционный срок, и надо было приложить все усилия, чтобы максимально напряженной работой наверстать упущенное.
Распределение основных ролей мы сделали, исходя из состава участников нашей группы, и только Скалозуб — Малютин (правда, игравший и раньше эту роль) находился в другой группе, игравшей в Нижнем Новгороде и Москве.
Вывешенное распределение ролей в новом спектакле обычно вызывает в театре некоторое нарушение установившихся внутритеатральные человеческих отношений. У некоторых дружеские отношения начинают охладевать, у других, наоборот, неожиданно ослабевает натянутость отношений Особенные страсти разгорелись в связи с вопросом, кто будет играть Чацкого.
Роль Чацкого я решил поручить молодому актеру Борису Бабочкину, который незадолго до того поступил к нам в театр. Меня увлекала мысль раскрыть образ Чацкого не в традиционной трактовке, а несколько двинув вперед жизнь этого 335 образа, вскрыв в нем тенденции революционных демократов.
Лучшего исполнителя для такого решения образа Чацкого, чем Бабочкин, я не видел и стал убеждать Бориса Андреевича взять эту роль. Не сразу он дал свое согласие, так как очень уж неожиданно было это предложение, но, согласившись, вложил много энергии и творческого труда в свою работу и смело утвердил новое решение образа Чацкого.
Назначение на эту роль Бабочкина вызвало в труппе немалое волнение, судили и рядили, кричали и шушукались Но мне трудно было разобраться в этих подводных течениях, вернее, не хватало времени, так как я буквально разрывался между гастролирующими группами, репетициями, строительством в театре, подготовкой и проведением списка награждаемых актеров… А вы знаете, дорогой читатель, что это такое в театре составить список награждаемых?
Я отлично помню, как один из видных актеров нашего театра подошел ко мне и прямо заявил:
— Если мне, Николай Васильевич, не дадут звание народного артиста, то я в тот же день покину театр. Так и передайте им, занимающимся этими делами…
И, наконец, была еще одна нагрузка, отнимающая большое количество времени, — к юбилейным дням мы выпускали книгу об Александринском театре — «Сто лет», для которой, как выяснилось в последнюю минуту, я должен был еще написать статью о последнем пятилетии. По плану книги она должна была называться «Театр в период реконструкции».
Пришло время, и все гастролирующие группы закончили свои спектакли и собрались в Ленинграде. Гастроли прошли более чем успешно, и все группы привезли и адреса, и подношения, и красные знамена, и блестящие отзывы. Одна только «Карта Кудеяри» была темным пятном в ходе докладов о проделанной работе.
Слушая на собрании эти отчетные доклады, я отметил для себя одно явление, которое мне сразу бросилось в глаза, — каждая группа, и первая и вторая основного состава актеров, а также и молодежные бригады и даже коллектив оркестра привезли с собой свои собственные, присущие только данной группе трения — организационно-административные или попросту человеческие, которые хотя и вполне понятны 336 при таком большом развороте гастрольной поездки, но порой могут очень сильно поднять температуру и дать кое-какие трещины. Трещины намечались то тут, то там, но сосредоточиться на них уже не было времени. Коллектив театра уходил в двухмесячный отпуск, а я с головой погрузился в строительные работы по реконструкции сцены и приведению в праздничный вид всего нашего великолепного помещения.
Юбилейные дни
До юбилейной даты оставалось меньше двух месяцев, а объем строительных работ был все еще грандиозен.
На сцене освобождались пространства для большого правого и левого кармана, и для этого рушилась знаменитая каменная аркада на сцене, не мешавшая системе декораций, существовавших сто лет тому назад, и очень ограничивающая декоративные решения в театрах наших дней. Перестраивался и механизировался планшет сцены.
В зрительном зале заново делались все лепные украшения барьеров всех ярусов и заново золотились порталы и центральная ложа. Живописно реставрировался плафон зрительного зала. В наружных нишах здания устанавливались четыре статуи. Я уже не говорю об общем ремонте, как внешнем, так и внутреннем.
И все это должно было быть закончено к 12 сентября. Когда после собрания коллектива, проходившего в Эрмитажном театре, я пришел в Александринку и увидел театр, развороченный снизу доверху, мне захотелось, сознаюсь откровенно, пойти домой заказать теплую ванну, влезть в нее и, подобно римским сенаторам, вскрыть себе вены.
Ну как можно было успеть окончить все эти работы в такой короткий срок?!
Мой главный инженер — строитель Б. В. Бухаров — обедал олимпийским спокойствием и не переставал успокаивать меня, что все идет по графику — день в день.
Любопытная вещь обнаружилась, когда мы приступили к ремонту и позолоте барьеров. Оказалось, что все барьеры были сделаны из папье-маше и позолота была положена прямо на эти бутафорские лепки, которые продержались ни 337 много ни мало — сто лет! Но если бы мы попробовали тем же способом их ремонтировать, они не продержались бы и двух лет. Нужно было что-то придумать! У бронзовых коней колесницы Аполлона на аттике главного фасада вместо хвостов оказались воткнутые метлы.
Саженной толщины стены здания были крепче, чем сталь, и каждое реконструктивное изменение требовало прежде всего изобретательства технологических процессов. Как это делать? С материалами, а ведь мы строили хозяйственным способом, бывали постоянные срывы и перебои. Ведь это был 1932 год, год окончания первой пятилетки, когда все силы и все средства страны были брошены на индустриальное строительство. Города же ждали своей очереди.
Работы в Александринском театре мы проводили хозяйственным способом, и собственным снабженческим аппаратом добывали все остродефицитные строительные материалы.
И тут бывало всякое. Вспоминаю один случай, который характеризует условия, в которых мы тогда работали. Очень большие затруднения мы испытывали с цементом, без которого никак нельзя было обойтись. И вот в один из таких острых моментов является ко мне наш лучший снабженец и на вопрос «привезли?» отвечает с убитым видом:
— Не будет цемента…
— Как? Почему?
— Не спрашивайте…
После долгих расспросов я наконец уяснил себе, что произошло. Накануне ночью цемент был погружен на одной из ближайших станций и к утру уже должен был быть на стройке. Мой верный Арон Ильич уже взгромоздился на площадку, чтобы лично сопровождать вагон до места назначения, как вдруг перед самым отправлением к вагону подошли два человека.
— Чей вагон? Какой груз? Кому?
Один из них вынул из кармана мел и что-то написал на вагоне. Поезд тронулся…
— Что же там было написано? — спросил я.
— Лучше не спрашивайте, Николай Васильевич, понизив голос, отвечал Арон Ильич. — На ближайшей станции я вылез и посмотрел. Там было два слова: «Ленинград ОГПУ»! Представляете себе, какую я провел ночь, едучи с такой надписью?..
338 Пришлось мне беспокоить по этому делу С. М. Кирова. Сергей Миронович очень смеялся над моим рассказом, а к вечеру цемент уже был у нас.
Приближались дни съезда творческого коллектива, а работы, казалось, стоят на том же месте и разрухе нет конца.
Наконец труппа съехалась, и мы приступили к заключительным репетициям праздничных спектаклей.
Первый акт «Пожарского» не требовал большого числа сценических репетиций, так как режиссура сто лет тому назад предоставляла больше свободы актеру, чем мы, современные режиссеры, обусловливающие поведение актера большим ассортиментом режиссерски-декоративных изобретений. Декорации «Пожарского» состояли из писаного задника и двух пар писаных кулис.
С «Маскарадом» и «Страхом» также было несложно, так как «Маскарад» прошел около двухсот раз, а «Страх» двести девяносто девять. А вот «Горе от ума» требовало сцены Нужно было поставить массовые сцены третьего акта и начала четвертого, а для этого нужна была сцена, так как макет, предложенный Акимовым, был не так-то прост, и для освоения этих декораций обязательно нужны были сценические, монтировочные и генеральные репетиции.
В зрительном зале стояли леса до потолка, живописцы заканчивали плафон. Эти же леса служили рабочим местом для лепщиков и позолотчиков на всех пяти ярусах барьеров. Заканчивающиеся позолотные работы портала, требовали также своих лесов, а потому весь пролет сцены также был застроен лесами.
И если бы не случайно сохранившаяся фотография одной из генеральных репетиций «Горе от ума», я бы не поверил, что в таких условиях можно было репетировать. Стоя в зрительном зале — о сидении режиссуры на репетиции не могло быть и речи, — я переходил с места на место, находя просветы через леса, в которые мне были видны исполнители той или иной сцены.
Впрочем, и в тех спектаклях, в которых, казалось бы, все было слажено, вдруг возникали совершенно непредвиденные трудности. Так, за четыре дня до начала празднеств Наркомпрос неожиданно предложил заменить в «Маскараде» двух актеров — Вольф-Израэль (Нину) и Романова (Звездича) — 339 не работающими в театре актерами — Железновой и Студенцовым. Я не нашел возможным это сделать и ответил категорическим отказом, чем окончательно испортил отношения с наркомом. Утром 12 сентября я мог в этом убедиться, когда к перрону Октябрьского вокзала подошел московский поезд и из вагона вышел Бубнов во главе огромнейшей делегации москвичей. Он молча и очень сухо поздоровался со мной и сразу же уехал в гостиницу, не вызвав меня к себе и не назначив час для встречи.
«Как же так? — думал я. — Ведь ему же нужна информация о последнем полном всяческих противоречий периоде работы театра».
Продолжая приветливо улыбаться, я встречал дорогих московских гостей: Садовского и Ленина от Малого театра, Книппер-Чехову и Москвина от Художественного театра, Мейерхольда и Райх от театра имени Мейерхольда, Коонен и Таирова от Камерного театра, Гиацинтову, Бирман и Берсенева от МХАТ Второго, Любимова-Ланского от театра имени Моссовета, Михоэлса и Зускина от Еврейского театра, Кузу, Басова и Горюнова от театра имени Вахтангова — представителей ведущей группы актеров и режиссеров, делегированных театральной Москвой на ленинградское театральное торжество.
Нет возможности перечислить всех дорогих друзей, приехавших приветствовать столетнего юбиляра, а их было бесконечное количество, и не только от Москвы, но и от Украины, Грузии, Белоруссии, Армении. С этим же поездом приехал и ряд иностранных журналистов, которые тут же, на перроне, начали фотографировать и брать интервью у нас, а также и у москвичей.
«Начинается “резонанс в Европе”», — мелькнуло в голове, когда мы усаживали всех дорогих гостей в машины, а журналисты щелкали затворами аппаратов, стремясь запечатлеть, как Мейерхольд, или Таиров, или Книппер-Чехова с Москвиным садятся в машины.
Торжественным проездом по Невскому проспекту целой вереницы машин с артистами и было открыто наше четырех дневное празднество.
Когда отъехала последняя машина и площадь Октябрьского вокзала опустела, я быстро направился в театр, где все еще продолжались работы.
340 Конечно, далеко не все было закончено, но с первого сентября мы установили новый план, по которому можно было окончить работы в тех местах, которые видны зрителю, а на сцене и за сценой работы продолжались еще месяца полтора, когда театр уже играл спектакли нового, сто первого сезона.
Как только я вошел в подъезд, меня огорошили сообщением: — В актерском фойе появилась вода!..
«Вот этого только и не хватало нам», — подумал я и бросился на место катастрофы.
В актерском фойе, которое помещалось в первом этаже, весь пол был покрыт водой, и она растекалась по коридору, где были актерские уборные.
Воду выкачивали, но уровень ее не понижался. Единственный выход из создавшегося положения мы нашли в том, чтобы прикрыть это водное пространство глубиной в два вершка старым планшетом сцены, который был заменен новым, но еще не вывезен из театра. Щиты этого планшета мы положили на поперечные бруски, а поверх всего — ковровые дорожки, которых, к счастью, хватило на все фойе и коридор.
Все сошло благополучно, и только одна Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, проходя в юбилейные дни в зрительный зал, обратилась ко мне с вопросом:
— А что это, Колюша, мне кажется или действительно под полом как будто все, время булькает вода?
Ровно в семь часов вечера 12 сентября 1932 года зрительный зал Александринского театра, битком набитый людьми, имеющими отношение к искусству, а также и теми, кто не имеет никакого отношения, погрузился во тьму, и в воцарившейся тишине призывно и торжественно прозвучали «Торжественные фанфары», специально написанные для этого дня Юрием Шапориным.
В темноте раскрылся занавес, и, когда с последним звуком фанфар зажегся свет, зрительный зал увидел сцену, а на ней бесконечное количество людей.
За огромным столом, во всю сцену, сидел юбилейный комитет, а дальше за ним поднимающимся амфитеатром расположилась вся труппа, а также и часть делегаций, приехавших приветствовать театр. И весь этот огромнейший массив 341 людей расположился на фоне декораций Акимова, изображавших отдельные архитектурные фрагменты Ленинграда.
Председатель юбилейного комитета И. Ф. Кадацкий поздравил всех собравшихся с большим праздником столетия Александринского театра и предоставил слово для доклада о деятельности театра народному комиссару по просвещению А. С. Бубнову.
Доклад был длинный и обычный, какие бывают в таких случаях официальные доклады. Для меня самым существенным и удивительным в нем был раздел, где нарком коснулся последнего периода жизни театра и назвал в качестве ведущих ряд артистов, ушедших из театра за эти пять лет. Это нельзя было понять иначе, как неодобрение линии руководства. Я сопоставил это с последней резолюцией Наркомпроса, более чем положительно оценивающей работу театра за последнее пятилетие: концы с концами как-то не сходились…
Все второе отделение было посвящено приветствиям. Приветствие от правительства огласил Бубнов в начале своего выступления, с приветствием от местных организаций выступил Кадацкий, и затем начался бесконечный поток приветствий московских товарищей, приехавших на юбилей, ленинградских театров, различных ленинградских организаций. Вновь приобретенные друзья во время гастрольной поездки прислали две мощные делегации — от шахтеров Донбасса и рабочих Сормова и Канавина. Были прочитаны приветствия от К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, а также и зарубежных режиссеров — Фирмена Жемье, Эдварда Гордона Крэга, Макса Рейнгардта, Жака Коппо и других.
Второе отделение вполне соответствовало торжественности события и ослепительному блеску позолоты зрительного зала, на которую было затрачено два с половиной килограмма червонного золота. Зрители с интересом разглядывали золотую лиру, которая на портале центральной ложи заменила двуглавого орла.
Долг хозяина заставлял меня быть гостеприимным и веселым, но на душе нет-нет и начинали поскребывать кошки, когда в памяти моей, как гриффитовские маленькие шестикадровые монтажные куски, проносились не только радостные, но и горькие минуты из прошедшего пятилетия, и временами мне казалось, что не только великолепное здание Росси 342 и славный творческий актерский коллектив, работавший в нем, справляют свой пышный столетний юбилей, но и я, член этого коллектива, подвожу какие-то итоги своей творческой жизни.
Второй антракт был несколько затянут, так как на сцене устанавливались сразу все декорации для третьего отделения, состоявшего из первого акта «Пожарского», сцены «Конвента» из «Робеспьера» и сцены «На насыпи» из «Бронепоезда».
Официальных гостей, их было меньше, мы принимали в «красном кабинете», а в актерском фойе была организована встреча актеров нашего театра с московскими друзьями.
В «красном кабинете» я застал гостей уже вставших из-за стола, но задержавшихся, так как между Кировым и Бубновым завязался разговор относительно первого акта «Пожарского», который сейчас должен был быть показан на сцене.
Наркому по просвещению не нравилась эта затея, и сейчас, продолжая начатый разговор, он назвал ее «пропагандой монархических идей со сцены».
Сергей Миронович, смеясь, возражал ему.
— Во-первых, это не репертуарная вещь и мы показываем ее сегодня только один раз, и показываем перед достаточно политически квалифицированной аудиторией. А потом, есть что-то романтичное в том, что со сцены Александринского театра прозвучат те же слова, которыми сто лет тому назад открылся этот театр. Я лично за романтику и за доверие к людям, — закончил он, и все, оживленно разговаривая, направились в ложу.
В перерыве между «Пожарским» и «Робеспьером» все находившиеся в ложе признали, что в споре победил Киров.
Первый день празднеств заканчивался показом сцены «На насыпи» из спектакля «Бронепоезд» Всеволода Иванова.
Мы несколько волновались за эту сцену, так как Вершинина в этом спектакле играл не прекрасный основной исполнитель этой роли Симонов, ушедший из театра, а Яков Осипович Малютин, не принимавший участия в создании спектакля и вошедший в него как новый исполнитель. Но все наши опасения были напрасны, так как сцена имела шумный успех и прекрасно закончила первый день праздника.
343 После спектакля весь состав театра и многие из московских гостей были приглашены народным комиссаром по просвещению на банкет в «Асторию». Было очень много людей, очень много речей, очень много вкусной еды, и банкет затянулся часов до пяти утра.
Второй день празднеств — «Маскарад» с участием Ю. М. Юрьева — проходил торжественно и в спокойной обстановке, чего нельзя сказать о третьем дне, когда шло «Горе от ума». Страсти разгорелись в основном вокруг Бориса Бабочкина, исполнителя роли Чацкого. У него были горячие защитники, но были и ожесточенные критики.
Я не скажу, что бы это был лучший из пятисот поставленных мною спектаклей. Это была скромная, но искренняя работа, сделанная очень быстро и в очень тяжелых условиях гастрольной поездки. Но отдельные сцены были интересно творчески найдены, и общее звучание спектакля было не тяжелое академическое, а скорее остросатирическое, чему очень способствовало любопытно придуманное сценическое оформление, сделанное Акимовым, и исполнение Бабочкиным роли Чацкого.
Остросатирически звучали сцены Лизы и Фамусова в исполнении Карякиной и Горин-Горяинова, сложно и любопытно были построены сцены Чацкого и Софьи — Бабочкин и Рашевская. Умный актер Азанчевский нашел новое звучание образа Молчалина, которое местами заставляло зрителя задуматься о том, в какую страшную фигуру вырастет этот сейчас такой скромный молодой, человек, когда ему удастся подняться по служебной лестнице до высоких чинов. Традиционно, но великолепно исполнял Малютин роль Скалозуба, и крайне неожиданным было решение Певцовым роли Репетилова. Он играл Репетилова умным, но опустившимся человеком, и в его сцене с Чацким иногда звучали трагические нотки. Украшали спектакль своим блестящим актерским мастерством Корчагина-Александровская и Усачев в ролях графини-бабушки и князя Тугоуховского. Не добродушную, рыхлую и сырую женщину, какую мы привыкли видеть у актрис, обычно играющих Хлестову, а умную, властную и суровую фигуру в этом страшном паноптикуме людей создала Вера Аркадьевна Мичурина-Самойлова. В чем-то этот спектакль полемизировал с той постановкой «Горе от ума», которая была выпущена весной 1928 года и о которой я писал выше.
344 Сейчас, когда многие годы отделяют меня от этой постановки, я вижу, что она была скорее правильно замыслена и частично интересно выполнена, чем до конца доработана, что объясняется коротким сроком работы и той предъюбилейной суматохой, в которой выпускался спектакль.
Одна сцена в этом спектакле мне действительно удалась Встретивший меня после третьего акта Мейерхольд при всех обнял, крепко поцеловал и сказал, что подобного решения «разрастающейся сплетни» о сумасшествии Чацкого он не видел ни разу. А ведь он был скуп на похвалы, а особенно режиссерам.
— Лихо! Лихо! — воскликнул он, повернулся и быстро пошел из фойе, где москвичи беседовали с исполнителями. — Лихо! — еще раз крикнул он, повернувшись к нам, стоя У двери, и молниеносно исчез.
— Какой великолепный актер, — сказал И. Н. Берсенев присутствовавший при этом разговоре.
— А ведь он ушел так быстро, потому что пожалел о своей неожиданной похвале, — сказал какой-то скептик москвич, только что громивший Бабочкина и возмущавшийся нашей постановкой.
Четвертый день праздника, когда в трехсотый раз шел «Страх» Афиногенова, закончился благополучно. Гости удивлялись, что советская пьеса за полтора сезона прошла большее количество раз, чем «Маскарад» за пятнадцать лет.
Так, под знаком современного спектакля, окончились четырехдневные празднества столетия Александринского театра.
Праздник кончился, и началось новое столетие жизни Александринского театра…
Руководство театра очень хорошо понимало все предстоящие трудности, которые начнут раскрываться буквально с завтрашнего дня, когда с утра обнаружится, что вода под временным настилом в актерском фойе продолжает находиться на том же уровне, когда утром главный инженер придет в «красный кабинет» для утверждения графика всех неоконченных работ, когда нужно будет окончательно решать дальнейший репертуарный план, когда начнут обнаруживаться неминуемые обиды, всегда возникающие в театре, когда одних отмечают, а других нет. И еще бесконечное количество различных 345 «когда» возникало в сознании в первый же день нового столетия театра.
Все очень хорошо понимали, что нужно было делать, какие работы начинать в первую очередь, какие принимать решения, но только что взятый довольно-таки трудный барьер отнял слишком много сил, и сейчас у всех наступила реакция. Жизнь театра продолжалась, но скорее по инерции, и были все мы достаточно измотанные, опустошенные и безвольные. Эти первые дни, а возможно и недели, после юбилея представляются мне сегодня какой-то остановкой жизни, вернее, не жизни — она то шла своим чередом, — а вот своего активного участия в ней, своего воздействия на нее.
Сейчас-то я очень хорошо понимаю, что «четыре установки» Кирова, данные в августе 1928 года, легли в основу деятельности театра и создали ту деловую производственную и творческую работу, итоги которой мы подводили 12 сентября 1932 года.
Ну а дальше?
Была ли намечена ближайшая цель, к достижению которой должна была быть направлена жизнь театра?
Был ли определен путь к достижению этой цели?
Были ли поняты или предвидены те трудности, которые неминуемо должны будут возникнуть на этом пути?
Знали ли мы, как должно преодолеть эти трудности?
Ни на один из этих вопросов ясно ответить я не мог, а вернее, они даже, вероятно, и не возникали у нас, и безвольно плыл я по течению, давая возможность быстро развиваться тем противоречиям, которые, будучи заторможенными уверенным ходом жизни театра в предъюбилейный год, сейчас, когда наступило временное затишье, начали обнаруживаться в своем стремительном развитии.
И вот в таком моральном состоянии я выехал в Москву в Наркомпрос по вызову М. П. Аркадьева, руководившего всеми театральными делами. Он, поблагодарив за проведение столетнего юбилея, предложил мне после такой большой работы поехать отдохнуть, тем более что отпуском в связи с юбилеем я еще не пользовался.
В театре приступили к репетициям новой пьесы братьев Тур и Штейна «Нефть», ставил спектакль Л. С. Вивьен, была договоренность с Мейерхольдом о возобновлении им постановки 346 «Дон-Жуана», причем Юрьев согласился принять участие в этом возобновлении, одним словом, репетиционная работа в театре начинала входить в свое обычное русло и я считал возможным воспользоваться предложением Аркадьева и действительно отдохнуть. Н. П. Акимов также не пользовался еще отпуском, и мы решили вместе поехать отдыхать в Гагры.
Когда мы после двухмесячного отсутствия вернулись в Ленинград, спектакль «Нефть» был готов для выпуска, и подготовительные работы по «Дон-Жуану», проводимые В. Н. Соловьевым, были в таком состоянии, что их можно было сдавать Мейерхольду, который взял на себя обязательство провести последние десять репетиций и наблюдать за выпуском премьеры.
«Дон-Жуан»
История этого приглашения вкратце такова. Вскоре после юбилея С. М. Киров при одном из наших свиданий рассказал мне о своей беседе с В. Э. Мейерхольдом на юбилее, в которой Всеволод Эмильевич высказал некоторое неудовольствие тем, что я его не пригласил на возобновление «Маскарада» и всю работу провел сам.
Я рассказал Сергею Мироновичу, как это получилось. Еще в 1923 году, во время юрьевского управления театром, когда исполнялось двадцатипятилетие работы Мейерхольда в театре, решено было отметить эту дату возобновлением «Маскарада», который не шел уже несколько лет на сцене Александринского театра, и пригласить Всеволода Эмильевича, чтобы он лично провел это возобновление. С этой целью я был командирован Юрьевым в Москву.
Мейерхольд, поблагодарив, согласился принять как знак внимания возобновление «Маскарада» ко дню его юбилея и обещал к этим дням приехать в Ленинград. По поводу же работ по возобновлению он сказал:
— Я, Коля, ничего не помню, что мы там делали. Ведь это было так давно. Поскольку ты уже возобновлял один раз «Маскарад» в 1919 году и все помнишь лучше меня, то ты и возобнови сейчас, а я приеду к последней репетиции и, 347 может быть, кое-что доделаю. Но я думаю, что это не понадобится, так как что-что, а уж «Маскарад»-то ты знаешь досконально.
Вот почти стенографический ответ Мейерхольда на предложение принять на себя возобновление «Маскарада».
Мы так и поступили. Я возобновил спектакль. Мейерхольд приехал накануне премьеры, остался всем очень доволен и не внес ни одной поправки.
Я рассказал обо всем этом Кирову и добавил:
— Уж если он не помнил постановки в 1923 году, то мне казалось, что в 1932 году он ее еще хуже помнит, да и условия возобновления в связи с гастрольной поездкой театра и ремонтом здания были крайне неудобны и мне не хотелось ставить Вс. Э. Мейерхольда в трудные условия работы.
— Так-то оно так, а позвать все-таки нужно было. Если бы вы пригласили и он отказался, не было бы и разговора, — ответил Киров.
Так вот, памятуя этот разговор и желая реваншироваться в своем неделикатном поступке по отношению к Мейерхольду, я и решил пригласить его для возобновления «Дон-Жуана» Мольера и просить лично провести все репетиционные работы.
Он принял меня радушно и категорически потребовал, чтобы я остановился у него и немедленно перенес свой чемоданчик из гостиницы к нему.
Мы были знакомы более чем двадцать лет, но никогда, даже в мыслях, я себе не позволял считать его своим другом. Слишком велика была разница между нами, и я великолепно это понимал, всегда считал его крупнейшим художником, подлинным мастером режиссуры и был счастлив, что такой художник довольно часто допускал меня в тайники своей художнической лаборатории.
И точно так же как Мейерхольд был неожиданен как художник и, идя на его новый спектакль, вы никогда не знали заранее, как он его решит, точно так же и в жизни, встречаясь с ним, вы никогда не знали, как он к вам отнесется в данную секунду. Он может просто приветливо с вами поздороваться, а может и неожиданно кинуться в объятия. Может, разговаривая с вами, обращаться к вам на «ты» и совершенно неожиданно в этом же разговоре перейти на «вы».
348 «Мэтр сегодня в прекрасном настроении и мне, вероятно, удастся уговорить его принять на себя возобновление “Дон-Жуана”», — думалось мне, когда я с небольшим чемоданчиком возвращался из «Националя» в Брюсовский переулок и поднимался по лестнице в квартиру Мейерхольда.
— А сколько, Всеволод Эмильевич, я вам должен буду уплатить за работу и сколько вам понадобится репетиций? — спросил я, располагаясь в кабинете, который он предоставил мне для жилья до завтрашнего вечера.
— А мы, Коля, сделаем так. Ты мне будешь платить за каждую проведенную мною репетицию, а репетиций потребуется десять-двенадцать.
— А почем прикажете платить за каждую репетицию? — позволил я себе спросить шутливо.
— По нынешним временам репетиция Мейерхольда расценивается в одну тысячу рублей, — ответил он в том же ключе. — Ведь ты же, Коля, директор и сам можешь решать эти вопросы? Не правда ли?
— Две ваши подписи, Всеволод Эмильевич, — сказался, вынимая из чемоданчика договор и платежный ордер, — и я получаю ваше согласие на возобновление «Дон-Жуана», а вы получаете аванс в размере пяти тысяч рублей, — закончил я.
— Я всегда говорил, Коля, что ты не только подлинный режиссер, но и… — он перешел на таинственный шепот, — но и великолепный директор! — Зина! Зина! Коля заплатил мне пять тысяч авансу за «Дон-Жуана», — кричал он в соседнюю комнату и, бросив деньги в средний ящик письменного стола, церемонно взял меня под руку. Он начал напевать одну из мелодий из спектакля «Дон-Жуана», и мы менуэтным шагом направились в столовую завтракать.
Рассказанное здесь происходило в конце 1932 года, и, когда в начале 1933 года Мейерхольд приехал в Ленинград, я решил приезд его и самые репетиции обставить возможно торжественнее, чтобы его художническое самолюбие было полностью удовлетворено.
В Москве мы договорились с Всеволодом Эмильевичем, что его репетиции будут открытыми для творческих работников Ленинграда, и вот на первую же назначенную им репетицию я пригласил ленинградских актеров, заполнивших почти весь партер.
349 Мейерхольд приехал в Ленинград вместе с Зинаидой Райх, и в ожидании начала репетиции мы сидели в «красном кабинете» и оживленно беседовали о текущих театральных делах Москвы и Ленинграда.
В. Н. Соловьев все время пытался ему доложить, что им сделано в подготовительный период, а по сути своей им был сделан весь спектакль, и нам оставалось только сдать работу автору постановки и получить его санкцию на право выпуска спектакля.
Всеволод Эмильевич, как мне показалось, понимал это, и на все попытки Соловьева сделать обстоятельный доклад уходил от делового разговора и, потрепывая Соловьева по плечу, весело говорил:
— Дорогой, Вольмар Люсциниус (это, был литературный псевдоним Владимира Николаевича), к чему слова? Мы с вами и Колей сядем за режиссерский пульт и я сразу увижу блеск созданного вами спектакля, в чем я нисколько не сомневаюсь, давно зная вас и уважая как бесстрашного рыцаря и вернейшего кавалера, влюбленного в театр Мольера. — И он вновь переходил на общие темы.
Бывая в работе иногда достаточно резким, Мейерхольд умел в жизни разводить «такой Версаль», как мы тогда говорили, что ему смело мог бы позавидовать даже Людовик XIV.
Вот и сейчас он играл роль мэтра, приехавшего к своим близким друзьям и в этой интимной обстановке желающего убить их наповал блеском своего мастерства.
Я видел, что ему не терпелось начать репетицию и что он то вставал и нервно ходил по кабинету, то садился в кресло, вытягивая ноги, откидывал голову на спинку и произносил какую-нибудь философскую сентенцию.
Вошел помощник режиссера и доложил, что все готово и репетицию можно начинать.
— Ну, дайте мне на счастье руку смело, а остальное уж не ваше дело, — произнес Мейерхольд одну из первых реплик «Маскарада», быстро пожал нам руки и стремительно вышел из кабинета.
Одна лестница отделяла кабинет от сцены, и через одну секунду он очутился на ней.
Раздались бурные аплодисменты, и даже Мейерхольд, привыкший мгновенно и точно сценически реагировать на любое положение, немного растерялся. Это аплодировали 350 любимому режиссеру все участники спектакля, собравшиеся на сцене.
Мгновенно овладев собой, Мейерхольд шагнул на сцену и, прижимая руки к сердцу, начал с улыбкой театрально раскланиваться. Женщины поднесли ему большой букет белых роз, который Мейерхольд, быстро повернувшись, передал Зинаиде Райх.
Его окружили актеры, он жал всем руки, улыбался и перекидывался отдельными репликами, вспоминая далекие времена, когда он работал здесь. А ведь с тех пор прошло уже пятнадцать лет.
— Ну, Всеволод Эмильевич, пора начинать репетицию. Пойдем в зрительный зал, — сказал я, беря его под руку и крикнув помощнику режиссера: «Давайте занавес!»
Занавес поднялся, и Мейерхольд вновь на секунду замер от неожиданности. В центре сцены, через оркестр, был переброшен трап. В оркестре сидели музыканты, а весь партер был заполнен приглашенными актерами. Зал приветствовал его аплодисментами, прожекторы из лож высветили его худощавую фигуру. Он остановился, перейдя оркестровую яму, но не спустился в зрительный зал, и стоя отвечал приветствиями, на приветствия зала.
Я дал знак оркестру, и он громко заиграл воинственный марш из спектакля «Стойкий принц», также поставленного Всеволодом Эмильевичем.
Третья неожиданность заставила Мейерхольда повернуться спиной к зрительному залу и продолжать свои поклоны, адресуя их музыкантам, а затем и нам, так как мы тоже присоединились к общим аплодисментам. Аплодировал зрительный зал, аплодировали музыканты, аплодировали мы, а он, стоя в центре этой бури аплодисментов, раскланивался во все стороны.
Чтобы остановить нескончаемые овации, мы все тронулись через трап и, сопровождая Мейерхольда, довели его до режиссерского столика, всегда устанавливаемого для репетиций перед местами за креслами.
— Ты, Николай Васильевич, — обратился ко мне Мейерхольд, неожиданно переходя на имя и отчество, — ты инсценировал такую блестящую увертюру к репетиции, что я не знаю, оправдаю ли я тысячу рублей, которую получу за эту репетицию.
351 Он неожиданно схватил колокольчик, стоящий на режиссерском столе, и резко позвонил. Мгновенно водворилась абсолютная тишина, и репетиция началась.
Бесполезно и пытаться полностью описать творческое великолепие театрального представления, которое последовало за этим. Подогреваемый аудиторией зрителей, состоящей из профессиональных актеров, Мейерхольд действительно превзошел самого себя в сценах режиссерского показа отдельных кусков жизни и сценического поведения образов бессмертной комедии Мольера.
Он вел репетицию без остановок, так как видел, что весь спектакль правильно и точно возобновлен Соловьевым и в логику развертывающегося сценического действия ему не нужно было вносить никаких корректив. Но что касается деталей и тонкостей в раскрытии образов Мольера, тех отдельных граней их характеров, которые требовали величайшего актерского мастерства благодаря острому режиссерскому решению отдельных сценических кусков, то вот тут-то Мейерхольд и развернул весь блеск своего актерского дарования и безудержной, небывалой фантазии, щедро одаряющей актера режиссерским показом — предложением или наглядным раскрытием неисчерпаемости актерских выразительных средств.
— Стоп! — раздавался голос Мейерхольда с режиссерского пульта. Затем он звонил в звоночек, пока не водворялась абсолютнейшая тишина, и в этой воцарявшейся ожидательной тишине свершался переход мэтра с режиссерского пульта на сцену.
Вероятно, раз тридцать или сорок, а может быть, и значительно больше совершал Мейерхольд этот путь по среднему проходу партера, и каждый раз даже этот простой переход был отличен от предыдущего и уже нес в себе тенденцию будущего показа.
То он шел мрачно, медленно, опустив голову, как бы размышляя о той глубине человеческих мыслей, в которую он, режиссер Мейерхольд, сейчас нырнет, показывая виртуозное владение актерской техникой. Иногда этот медленный переход с опущенной головой усложнялся медленным подъемом головы вверх, и, выйдя на сцену, он останавливался, закрывал глаза и как бы весь отдавался во власть своей буйной фантазии. Зал выжидательно замирал, и, когда это напряженное 352 ожидание доходило до предела, Мейерхольд неожиданно, ослепительно молниеносно, острым пластическим рисунком раскрывал суть и ценность жизни сценического образа в данную секунду.
Буря аплодисментов всего зрительного зала, а зачастую и всех участников на сцене награждала режиссера-актера Мейерхольда за подаренные нам секунды подлинного большого театрального искусства.
Бывали переходы на сцену и такие, когда никто даже не успевал проследить за последовательностью всего происшедшего.
— Стоп! — и звонки были одновременны и стремительны. Не выпуская из рук звонка, Мейерхольд вихрем несся на сцену, продолжая звонить. Молниеносный показ, и после него громкий крик:
— Понятно?
Снова звонок и такое же стремительное возвращение обратно.
Иногда резкий выкрик:
— Повторяем с такой-то реплики!
А иногда и совершенно неожиданная реплика:
— Дальше, дальше! Не останавливайте репетиции!
Бывали пробеги на сцену, когда Мейерхольд вступал в общение со всем зрительным залом, как бы ища у него сочувствия:
— Вы видите, что он делает! — кричал он, обращаясь к одним. — Нет, вы только посмотрите! Ну разве же так можно? — обращался он к другим, и, уже будучи на сцене, Мейерхольд обращался ко всем — и к участникам спектакля и к зрителям.
— Мольер требует точности, смысловой и выразительной! Легкости и изящества, но не облегченности и манерности! Природа Мольера в его глубочайшей народности, облеченной в изысканнейшую форму! Блеск словесного поединка в глубочайшей мудрости молчания! И главное, темперамент! Все время должна чувствоваться пульсация галльской крови!
И Мейерхольд проделывал на сцене такое количество сценических показов, подтверждающих эти отдельные реплики, что можно было буквально ослепнуть от богатства и стремительности выбрасываемого ассортимента актерских красок.
И однажды, после такого монолога-показа и стремительного 353 возвращения под аплодисменты всего зрительного зала он неожиданно наклонился ко мне и, лукаво подмигивая, сказал:
— По-моему, Коля, ты мне можешь прибавить, я перевыполняю свою тысячу. — И, не дав мне даже ответить, громко скомандовал: — Реплика такая-то! Продолжаем репетицию! Не забывайте о галльской крови! Она бурлит, а не медленно течет! Начали!
И репетиция продолжалась до следующего пробега, показа или программного выступления.
Я глубоко убежден, что все участники этих десяти репетиций возобновления «Дон-Жуана» на всю жизнь сохранили в своей памяти то богатство театральных истин, которые так щедро и искрометно разбрасывал этот неуемный художник театра, носивший когда-то псевдоним Доктора Дапертутто.
К. С. Станиславский говорил, что режиссер должен уметь увлечь актера, и Мейерхольд идеально умел это делать.
Кстати, об этих пресловутых режиссерских показах.
В нашей театральной среде все время идет ожесточенный спор о том, должен или не должен режиссер показывать актеру. Одни утверждают, что режиссер обязан прокрасться в тайники актерской фантазии и так направить ее деятельность, чтобы то, чего добивается режиссер от актера, было рождено им самостоятельно.
Другое крыло режиссуры утверждает, что можно не только убеждать и руководить, но можно и показывать конечную форму жизни образа в решении какого-нибудь куска.
Я не буду сейчас вдаваться в подробности этого спора (прежде всего потому, что глубоко убежден, что это схоластический спор), а затрону этот вопрос с несколько иной стороны.
За полстолетия своей театральной жизни я неоднократно видел страстно-образные показы Станиславского и сдержанно-мудрые Немировича-Данченко, блестящие по остроте решения-показы Мейерхольда и неумелые, но философские показы Евреинова, темпераментные показы Марджанова и эпически спокойные Ф. Комиссаржевского, математически точные показы Макса Рейнгардта и романтические показы Фирмена Жемье, публицистические показы Жака Коппо и мистико-символические Гордона Крэга, — и странное дело, что практика их работы не только не помешала им занять почетное место на 354 страницах истории мирового театра, но даже наоборот — наиболее значительные течения в мировом театре неразрывно связаны с именами этих ярких художников, являвшихся выразителями определенных идейно-эстетических направлений.
А вот имена «мудрецов», отвергающих показ и стремящихся «проникать в тайники актерской фантазии», что-то никак не могут занять достойных мест в истории мирового театра, и с их именами никак не может связаться ни одна из эпох жизни театра.
Несколько обособленную позицию в этом споре занимает Михаил Николаевич Кедров. Мне не привелось повидать его в практической работе, и я не знаю точно, к какому лагерю он причисляет себя, но я очень хорошо знаю, что его работы всегда отмечены точной и острой формой выразительности жизни сценического образа и, следовательно, он безусловно владеет секретом режиссерского мастерства.
Я не упомянул имени еще одного режиссера, умевшего блестяще показывать актеру и не гнушавшегося этим режиссерским приемом. Он в практике своей, пожалуй, даже стремился соединить эти два пути и тем самым прекратить этот схоластический спор. Я говорю о Евгении Вахтангове, чья жизнь оборвалась слишком рано, и тем не менее имя его заняло почетное место в истории русского театра.
На этом несколько теоретическом отступлении я закончу длинную главу, повествующую о последних пяти годах моего пребывания в Александринском театре.
Мои натянутые отношения с Наркомпросом закончились тем, что во время одного из посещений Главискусства, после крупного разговора с М. Аркадьевым, я написал заявление с просьбой об освобождении меня от всякой работы в Александринском театре.
Проходили недели и, наконец, как раз к дням премьеры «Дон-Жуана», Наркомпрос принял решение и издал одновременно два приказа: об освобождении меня согласно собственному заявлению и о назначении Б. М. Сушкевича директором театра, с освобождением его от работы во Втором МХАТ.
И когда после премьеры «Дон-Жуана» я устраивал банкет для Мейерхольда и всех участников спектакля, то в числе гостей присутствовал и новый директор, приехавший принимать у меня дела.
355 Итак, с прошлым было покончено, будущее было достаточно туманно и неопределенно. И если попытаться заглянуть в мои мысли того времени, в неизбежные размышления о всем случившемся, то можно обнаружить некоторое удивление тому, что меня так легко отпустили из театра. А возможно, что это было и не удивление, а даже скорее непонимание того, как все это могло произойти. Я мнил себя неотделимым от театра, а на поверку вышло, что несколько строк приказа по Наркомпросу совершенно спокойно отделили «неотделимое», и театр остался театром, а я получил полную свободу для своих дальнейших действий. Должен подчеркнуть гуманность Наркомпроса, предоставившего мне двухмесячный отпуск, после которого уже наступало полное мое освобождение.
356 Глава 8
Рождение нового театра
Два месяца отпуска, предоставленные мне Наркомпросом, были достаточным сроком, чтобы продумать и переобдумать и последнее пятилетие, и особенно события последних месяцев.
Отдыхая от театра, я продолжал педагогическую деятельность в театральном институте, руководя режиссерским курсом. Материалы этих занятий легли в основу книги по режиссуре — «Режиссер читает пьесу», написанной мною летом 1933 года.
Кончался двухмесячный отпуск, но театральные горизонты были все еще туманными, и я не очень ясно представлял себе свою работу в театре. И вот именно в эти-то дни как-то поздним вечером раздался звонок из Москвы. Звонил председатель ЦК Рабис Я. О. Боярский.
— Я вас очень прошу завтра же вечером выехать в Москву для личных переговоров с представителями Украины об организации в Харькове (Харьков тогда был столицей Украины) русского театра. Десять лет в Харькове не было русского театра, и украинское правительство и Центральный Комитет партии Украины придают очень большое значение открытию этого театра. Вы понимаете, Николай Васильевич, 357 как это интересно и ответственно, и я лично взявший на себя миссию предварительных переговоров с вами, очень прошу отнестись к этому предложению со всей серьезностью, на которую вы все же бываете иногда способны, — закончил он уже в шутливом тоне, пользуясь правом дружеских отношений.
Через два дня в Москве я встретился с Евгением Михайловичем Радиным, директором будущего Харьковского русского театра, с которым мы познакомились во время летних гастролей театра на Украине.
С первого же разговора Радин произвел на меня прекрасное впечатление своей деловитостью, широтой взглядов и жизненным юмором. На все мои самые смелые предложения по организации будущего театрального дела он отвечал полным согласием.
— Как будем формировать труппу? — спросил я. Это был самый серьезный вопрос в деле строительства театра.
— Мы строим дело на чистом месте — и это наше большое преимущество, — начал он, поглядывая на меня с улыбкой. У нас будет первоклассная верхушка мастеров и талантливая группа молодежи, способная через год-два занять ведущее положение в труппе. Я убежден, Николай Васильевич, что из числа ваших учеников найдутся многие, которые расстанутся с Ленинградом и поедут вместе с вами. Среднее же поколение актеров мы соберем и из харьковчан и киевлян.
— Мы откроем учебную студию при театре, — предложил я.
— Обязательно откроем и, может быть, не только драматическую, но и музыкальную, — добавлял он.
— Мы будем издавать каждый месяц творческий бюллетень театра, — предлагал я.
— А может быть, лучше давайте издавать газету — раза три в месяц. Она будет освещать не только жизнь нашего театра, но и всю творческую жизнь Харькова. Тем самым мы установим дружеские отношения с украинскими театрами.
Вспомнив издания, которые мы выпустили в Ленинграде, я предложил организовать при театре издательство, чтобы иметь возможность документировать наиболее значительные творческие работы театра.
Радин согласился и с этим.
— А скажите, Евгений Михайлович, в Харькове существует 358 что-нибудь соответствующее нашему Дому актера или Московскому Дому работников искусств?
— К несчастью, в Харькове нет ничего похожего.
— А если бы наш театр взялся за организацию «творческих встреч» и в свой свободный день устраивал бы их у себя? — спросил я.
Подумав, Радин отвечал:
— При театре будет столовая, давайте попробуем устроить там нечто вроде клуба.
Чем дольше мы беседовали с Радиным, тем более я уже чувствовал себя участником нового организуемого интересного театрального дела, во главе которого стоит умный, знающий свое дело директор, чутко и творчески откликающийся на любое предложение.
К трем часам основные принципиальные вопросы строительства нового театра были обсуждены, были ясны его будущие творческие контуры, и я уже чувствовал себя связанным с этим новым интересным делом.
— А ведь мы решили строительство нового театра значительно скорее, чем Станиславский и Немирович-Данченко, — сказал шутливо Радин. — Им потребовалось восемнадцать часов, а мы все обговорили за три с половиной.
Вернувшись в Ленинград, я подробно рассказал С. М. Кирову о планах и масштабах будущего харьковского дела. Рассказал и о студии, и о газете, и об издательстве. То серьезно, то улыбаясь, слушал Киров мое восторженное сообщение и наконец сказал:
— Ох, и увлекающийся же вы человек, товарищ Петров. Но в данном случае, мне думается, вы поступили правильно. Харьков — дело и ответственное и почетное. Трудности-то, конечно, будут, и самая большая трудность — это установить правильные дружеские отношения с украинскими театрами Вот тут вы будете держать серьезный политический экзамен, — сказал Сергей Миронович.
Двадцать молодых актеров Александринского театра, узнав об организации харьковского дела, высказали свое желание поехать туда на работу. Но, чтобы их уход из театра, не носил характера демонстрации, я попросил Радина приехать в Ленинград и тактично уладить этот вопрос.
Евгений Михайлович безболезненно провел переход четырнадцати молодых актеров и нескольких технических работников 359 из Ленинграда в Харьков, обнаружив при этом большие дипломатические способности.
В этот же свой приезд Е. М. Радин договорился с Н. П. Акимовым и А. В. Рыковым, двумя художниками, согласившимися осуществить две ближайшие постановки.
Закончив большой цикл подготовительных работ в Ленинграде, мы дружески расстались с Радиным, договорившись о встрече через месяц в Харькове и о поездке в Киев для формирования той части труппы, которую решено было составить из русских актеров, работавших на Украине.
Строительство будущего театра как будто бы начало благополучно двигаться, и из отдельных наших начинаний уже проглядывали будущие контуры.
Вся организационная работа лежала на плечах Радина, так что отдыхать ему перед сезоном не пришлось. Я собирался ехать в Сочи и уговорил Афиногенова поехать отдыхать со мной вместе, с тем чтобы там он и заканчивал работу над пьесой «Ложь», которую он обещал нам для открытия театра.
За пять дней до конца нашего отпуска пьеса была готова, Александр Николаевич поставил последнюю точку.
Волейбол вечером был отменен, и вся волейбольная команда: И. Я. Судаков, К. Н. Еланская, А. И. Степанова, Е. С. Телешева, а также и отдыхавшие в Сочи А. Г. Коонен, А. Я. Таиров, А. Е. Бадаев с дочкой, З. Н. Зорич, актриса и будущий постановщик этого спектакля в Ростове-на-Дону, — собрались у меня в номере, где и устроили первую читку пьесы Афиногенова «Ложь».
Глубоко взволнованные, разошлись мы после читки, искренне поздравив Афиногенова и радуясь, что в нашей жизни, в жизни советского театра есть такой талантливый драматург.
Через два дня мы расставались с гостеприимным курортом Сочи. Афиногенов увозил оконченную пьесу, я экземпляр пьесы и свою рукопись книги о режиссуре, над которой работал весь отпуск, а впереди, в будущем, нас обоих ожидала полная неизвестность. Что же будет в итоге с этим большим количеством исписанной бумаги?!
Триста двадцать театров перед началом сезона объявили в своем репертуаре пьесу Афиногенова «Ложь». В Москве она была включена в репертуар и МХАТ и МХАТ Второго.
360 Съезд труппы начался, когда далеко еще не все строительство и ремонт были закончены. Но основные рабочие места для творчества, питания и жилья были готовы, и, значит, к работе можно было приступить. А работа предстояла большая, так как мы собирались репетировать сразу же три пьесы: «Ложь» Афиногенова, «Ревизора» Гоголя и «Интервенцию» Славина. Первые две премьеры должен был выпускать я, а «Интервенцию» ставил А. Г. Крамов.
Конечно, впоследствии вскроются кое-какие творческие противоречия. Конечно, не все в работе сразу же будет ладиться. Но сейчас вся собравшаяся труппа представляла собой дружный творческий коллектив, объединенный единым стремлением создать интересный театр, нужный нашему времени.
В прекрасном настроении собрались участники спектакля «Ложь» на первую репетицию, и, вспоминая ее, могу сказать, что очень легко, радостно и творчески интересно было выступать перед новыми товарищами, раскрывая им план будущего спектакля, увлекая и направляя их фантазию к творческому решению новых задач, поставленных драматургом Афиногеновым перед режиссурой и актерским коллективом в своей новой пьесе.
Афиногенов умел это делать, и каждая его пьеса, и «Чудак» и «Страх», и «Ложь», требовала нахождения особой сценической тональности, присущей именно данной пьесе.
С огромным энтузиазмом и большой затратой творческой энергии работал коллектив участников над этой новой пьесой Афиногенова. Я с удовольствием вспоминаю временами трудные, но всегда творческие репетиции «Лжи».
Ведь в период репетиций этой труднейшей пьесы Афиногенова происходил очень сложный процесс творческого объединения коллектива и нахождения единого творческого языка, необходимого в театре, если он пытается и стремится создать художественные ценности, а не быть просто производственно театральной единицей.
За неделю до открытия сезона, то есть в самый горячий предвыпускной период рождения премьеры, в Харьков приехал Александр Николаевич. Репетиции оживились еще больше, так как на них присутствовал автор, хотя мы с ним частенько и спорили из-за вносимых им поправок, сделанных для мхатовских постановок. Да и само название 361 мы отстояли прежнее. В наших афишах спектакль назывался «Ложь», в Москве же пьеса была названа «Семья Ивановых».
Ко дню премьеры из Москвы приехала большая делегация творческих работников, возглавляемая Я. О. Боярским, И. Н. Берсеневым и Е. О. Любимовым-Ланским. Но это не было еще официальное открытие театра, так как мы решили этот спектакль сначала показать специальной и достаточно ответственной аудитории. Уроки неправильного идейно-сценического решения в ряде театров и «Чудака» и «Страха», что жестоко отражалось на судьбах этих пьес, мы понимали очень хорошо и были крайне осторожны с выпуском «Лжи».
Специальная же афиша, извещавшая об открытии театра и анонсирующая, что «Ложь» идет ежедневно в течение целого месяца, была заготовлена, но еще не вывешена, и в расклейку она должна была пойти после закрытых спектаклей.
Такая предусмотрительность была вызвана тем, что мы первые решали судьбу данной пьесы.
Премьера имела огромный успех. Такого успеха в своей жизни я не видел никогда. Успех спектакля «Страх» в Александринском театре казался ничтожным по сравнению с успехом «Лжи» в Харькове.
После окончания спектакля зрители толпились у рампы, протягивали руки актерам, благодарили их. Ошеломленные таким успехом, актеры нарушили обычные формы поклонов — подходили к самому краю сцены и отвечали зрителям крепкими рукопожатиями.
Забегая немного вперед, скажу, что через две недели после премьеры мы получили из Москвы телеграмму, которая не оставляла уже никаких сомнений и надежд.
«Пьесу снимаю Александр Афиногенов».
Так окончилась короткая и печальная повесть сценической жизни пьесы «Ложь».
Вспоминая наш спектакль и думая о спорах вокруг пьесы, отзвук которых слышится еще и ныне в работах об Афиногенове, я вновь возвращаюсь к мысли об активной роли театра, о том, что сценическое прочтение пьесы — ее режиссерское решение и актерское воплощение — могут существенно влиять на ее восприятие. Именно поэтому меня подчас не устраивают 362 выводы, построенные только на анализе текста диалога: я-то ведь помню как этот диалог звучал со сцены…
Но что было делать театру, получившему такую телеграмму?
Ведь спектакль «Ложь» должен был идти целый месяц. Мы подготовили полностью два состава исполнителей, и только через месяц планировали следующие премьеры: «Ревизор» и «Интервенция».
А завтра уже нужно объявить что-то зрителю. Мы выпустили анонс, что открытие театра откладывается, и стремительно бросили все свои силы на спешный выпуск «Ревизора».
Роль Хлестакова должен был играть С. С. Петров, работавший в Одессе. Одесские организации не хотели его отпускать, по этому вопросу шла длительная переписка.
Я проводил репетиции «Ревизора» — в основном первого и пятого актов, полностью закончив работу над ними к злополучным дням несостоявшегося открытия театра. В первом и пятом актах, как известно, Хлестаков не участвует, а когда мы приступили к репетициям второго, третьего и четвертого актов мне приходилось самому подчитывать роль Хлестакова, поскольку я много раз играл эту роль в далекие дни летних сезонов, а также и в Малом драматическом театре.
Несчастье редко приходит в одиночку, и одной неприятности всегда сопутствует другая — так случилось и на этот раз. На второй день после несостоявшегося открытия театра мы получили телеграмму от С. С. Петрова, что его окончательно не отпускают из Одессы.
Мы вчетвером — Н. Н. Синельников, А. Г. Крамов, Е. М. Радин и я — собрались обсудить создавшееся положение, и вдруг Н. Н. Синельников, видевший перед этим репетицию третьего акта, где я вместо Петрова одесского читал знаменитый монолог вранья, обратился ко мне:
— А я бы на вашем месте, Николай Васильевич, сам сыграл Хлестакова. Текст вы знаете прекрасно, тональность роли вами ухвачена правильная и в общем решении образа у вас есть интересные краски, правда, очень свои, но интересные.
Радин сразу же поддержал Синельникова, Крамов присоединился к ним, и мне оставалось только согласиться. В заготовленной афише переменились только инициалы артиста — не С. С. Петров, а Н. В. Петров.
363 Так, помимо всех нагрузок, лежавших на мне, пришлось взять на себя и эту большую и ответственную работу.
Много еще нужно было сделать различных дел за короткий срок — десять дней, данный нам Наркомпросом до открытия театра, но мы не опротестовывали этот срок, так как хорошо понимали, что чем скорее мы откроем сезон, тем скорее сгладится травма, нанесенная еще не родившемуся театру.
Недоделанные декорации, недошитые костюмы, отсутствие нужного количества дней для проведения монтировочных и генеральных репетиций — все это бесконечно волновало и нервировало нас, но еще раз откладывать открытие театра было нельзя, и мы решили во что бы то ни стало не нарушать объявленного срока.
Репетиции «Ревизора» шли днем и ночью.
За полстолетия своей театральной жизни я не видел подлинного гоголевского «Ревизора», сыгранного на сцене, несмотря на бесконечное количество отдельных великолепных актерских исполнений той или иной роли.
Актеров-то, хорошо игравших отдельные роли, я видел, а вот решения спектакля с гоголевским эпиграфом: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива» — и с его эстетической программой: «Смех сквозь слезы» — я не видел.
Правда, Мейерхольд пытался поднять в своем спектакле тему «слез», но попутно он совершенно убил «смех», создав ряд буквально ошеломлявших сценических решений отдельных сцен, не найдя общей гармонии спектакля. Целого гоголевского спектакля «Ревизора» все же не получилось и у него.
О том, какой сложности задачи ставит эта гениальная пьеса перед актерами и постановщиком, можно судить хотя бы по такому небольшому примеру.
Все помнят третий акт и в нем сцену вранья Хлестакова. Все знают этот великолепный монолог, и все знают, что редкий Хлестаков после своего ухода с «Лабарданом» не бывает награжден аплодисментами.
А кто же в этом куске акта, в этой знаменитой сцене, сцене вранья, является главным действующим лицом? К чему и к кому должно быть приковано внимание всего зрительного зала?
К Хлестакову, несущему в пьяном виде бог знает какую чепуху, или к испуганным и потрясенным чиновникам, находящимся, 364 с их точкой зрения, в обществе столь важного человека, чуть ли не «генералиссимуса»?
Полагаю, что правильным ответ может быть только один.
Конечно, чиновники и городничий сейчас главные действующие лица, а Хлестаков лишь повод, «туманное видение Петербурга», для раскрытия глубины и сути их сценических образов.
А что же получается на деле?
Хлестаков имеет блестящий монолог и получает великолепный, что называется под аплодисменты, уход, а бедные чиновники обречены на молчание.
Я собрал участников этой сцены, поведал им свои думы, и мы начали ее репетировать по-другому. Но так и не удалось мне добиться того, чего я желал и во что твердо верю.
На какой-то небольшой срок, в начале сцены вранья, у актеров хватало техники и фантазии, чтобы стать в центре этого зрелища, но затем я чувствовал, что брал верх над ними, вернее, брал верх великолепный гоголевский монолог. Так происходило не только на репетиции. Я неизменно уходил с аплодисментами, проклиная и себя и актеров за столь слабое владение технологией актерского мастерства.
Нахождение сценических мизансцен — дело очень трудное, сложное и далеко еще не исследованное. Расскажу любопытный эпизод, случившийся во время постановки «Ревизора» в Ленинграде, когда Хлестакова играл Жура Соловьев.
Мы работали над вторым актом, когда на сцене находятся городничий и Добчинский, а Бобчинский подглядывает и подслушивает из-за двери.
На краю кровати возле самой двери сидел Добчинский, на табуретке, возле стола, — городничий, а Хлестаков, за неимением другой мебели для сидения, сидел на столе. Расположение актеров было такое, что Хлестаков оказывался между ними и, произнося свои реплики, поворачивался то к одному, то к другому.
Бобчинский, жгуче заинтересованный всем происходящим на сцене, выглядывал из-за двери в те минуты, когда Хлестаков поворачивался к городничему, и Бобчинский быстро ему сообщал все сказанное Хлестаковым. Естественно, что в эти секунды Добчинский оказывался спиной к Хлестакову и не видел его, а слушающий Бобчинский следил за Хлестаковым 365 и, когда последний начинал поворачиваться к Добчинскому, Бобчинский мгновенно исчезал за дверью.
На одной из репетиций, когда актеры работали в полный накал и были увлечены всеми сценическими событиями так, как будто все это происходило с ними в действительности, Бобчинский — Осипенко и Добчинский — Горохов так заигрались, что закономерное продолжение их сценической жизни родило совершенно неожиданную и мгновенно найденную ими тут же на сцене мизансцену.
Любопытство Бобчинского — Осипенко доросло до таких пределов, что, когда Хлестаков только начал свой поворот от городничего к Добчинскому — Горохову, Осипенко схватил Горохова, вытолкнул его за дверь, а сам сел на его место — на кровать.
Повернувшийся к Горохову Хлестаков — Соловьев был несколько удивлен изменившимся обликом Добчинского, но принял это как должное и продолжал свою сцену. Но ведь к финалу сцены на сцене должен быть снова Добчинский, и вот он ждет за дверью удобной минуты, чтобы повторить то, что сделал с ним Бобчинский и вернуться на свое место, на кровать.
Они удачно нашли момент длинной реплики Соловьева, обращенной к городничему, и проделали то, что называется обратной мизансценой, и Горохов торжествующе уселся на кровать как раз в тот момент, когда Соловьев повернулся к нему. У Соловьева глаза полезли на лоб — «да уж не сошел ли я с ума»? — но так как события, происшедшие с ним, были столь невероятны, то он и эту «странность» счел за вполне возможное. Репетиция акта окончилась, и я поздравил Горохова и Осипенко с интересным творческим, а главное, органическим решением данной сцены, утвердив данную мизансцену.
Что же произошло на первом спектакле? Хлестаков, рассказывая, какое он любит отношение к себе, произносит такую фразу: «Я не люблю людей двуличных». Он обратился с вей к рядом стоящему Горохову — Добчинскому, и весь зал, вспомнив предшествующую сцену, разразился громким хохотом.
Бумеранг, остроумно пущенный в зрительный зал, совершенно закономерно вернулся к актерам в последующей сцене.
366 Я реализовал эту редакцию сцены и в харьковском спектакле, но, уже зная, какая должна быть реакция на фразу: «Я не люблю людей двуличных», — каждый раз следил за зрительным залом, и на всех спектаклях реакция зрителей была исключительно бурная.
Мы заканчивали репетиции «Ревизора» не имея ни одного лишнего дня, чтобы проверить себя. Вспоминаю, что полной генеральной репетиции нам так и не удалось провести. Декорации второго акта, например, я увидел только тогда, когда помощник режиссера пригласил меня на сцену к началу второго акта в день премьеры.
Монолог Осипа подходит к концу, сейчас я должен буду выйти на сцену, но мысли мои сосредоточены не на внутренней жизни Хлестакова, а на том, куда открывается дверь, перед которой я стою. Дверь должна была открываться от меня, так что, слегка толкнув ее, Хлестаков должен Медленно войти в комнату и, как «туманное видение Петербурга», пересекая всю сцену, остановиться у самой рампы. Я люблю, этот выход, стою и спокойно ожидаю реплики Осипа: «Ах, боже ты мой, хоть бы какие-нибудь щи! Кажись, так бы теперь весь свет съел». Вот Осип произнес свою реплику, вот я стучу в дверь, вот его вторая реплика, мой второй стук, и наконец я услышал, как Колобов, игравший Осипа, снял крючок с петли. Я легко толкнул дверь, но она не открылась. Толкнул сильнее, но результат тот же. Выскочив из образа «туманного видения Петербурга», я налег всеми силами — дверь слегка поддалась под моим напором, но все же не открылась как нужно.
Колобов — Осип, который должен стоять и скептически наблюдать за проходом Хлестакова, вмешался в «физическое действие» открывания двери, но стал толкать дверь в обратную сторону. Между нами завязалась борьба, и Осип, оказавшись сильнее, в конце концов протолкнул дверь на меня. Но пальцы моей правой руки были уже в комнате, дверь скользнула по пальцам и содрала кожу.
Двадцать дней подряд бессменно я играл Хлестакова, и каждый раз, когда монолог Осипа подходил к концу, я не мог отогнать от себя воспоминаний премьеры, что всегда мешало выходу.
Но вот пролетели двадцать дней, и новая премьера — «Интервенция» Славина в постановке А. Г. Крамова и с его 367 блестящим участием в роли Фильки — сосредоточила на себе все внимание.
После «Интервенции» мы выпустили довольно скоро еще два спектакля: «Егор Булычов и другие» Горького в постановке Крамова и «Чужого ребенка» Шкваркина. Так театр, шаг за шагом завоевывая сердца и умы харьковского зрителя, начал свою длительную и полноценную творческую жизнь.
В марте 1934 года театр праздновал юбилей старейшего члена нашего коллектива Николая Николаевича Синельникова.
«Юбилей Николая Николаевича Синельникова — событие общетеатрального порядка и крупного значения. Уже самая жизнь Николая Николаевича, шестьдесят один год его работы в театре, обязывает к особому вниманию и придает этому необычайному юбилею характер исключительности», — так начиналась передовая статья в нашей газете, приуроченной к выпуску спектакля «Горе от ума», поставленного Синельниковым ко дню своего праздника.
В этом же номере газеты помещены статьи — воспоминания о встречах с Н. Н. Синельниковым. Мария Михайловна Блюменталь-Тамарина, Николай Мариусович Радин и Елизавета Ивановна Тиме поделились своими мыслями о большом художнике с читателями нашей газеты. К дням юбилея театром была выпущена книга Н. Н. Синельникова «Шестьдесят лет на сцене (1874 – 1934)».
На юбилей приехала большая группа московских актеров приветствовать одного из активнейших строителей русского театра.
Но не только одной творческой деятельностью был занят театральный коллектив. Постепенно развертывалась большая общественная жизнь театра, регулярно выходила газета, намечались дальнейшие издательские планы, молодые актеры-ленинградцы начинали свою педагогическую работу под моим непосредственным руководством во вновь открытой Студии сценического мастерства. В нашей студии кроме мастеров старшего поколения большую педагогическую работу вели и молодые актеры — Татьяна Сукова, Владимир Эренберг, Людмила Скопина и Михаил Малинин (ныне уже заслуженные и народные артисты).
Как-то, незадолго до открытия театра, на пороге кабинета 368 вдруг появились четверо юношей и одна девушка, прибывшие из Ленинграда. «Мы приехали закончить свое режиссерское образование под вашим руководством», — были их первые слова.
Так повторилась наша с С. Н. Вороновым история, когда мы в 1909 году явились в Художественный театр и просили принять нас на несуществующее «режиссерское отделение». И так же, как сделал тогда Вл. И. Немирович-Данченко, мы приняли приехавших на «режиссерское отделение», которого раньше не предполагали открывать и о программе которого до этого не думали.
Весь план учебы этого года я построил на максимальном участии молодежи во всех процессах рождения, становления и работы молодого театра.
На глазах молодежи рос и создавался театр. Во время учебы я стремился прежде всего вовлекать молодежь в производственные процессы, а затем уже проводил беседы, разъясняя вопросы, связанные с природой режиссерского искусства.
Благополучно и плодотворно прошел и второй год учебы. Будущие режиссеры практически участвовали в спектаклях, в массовых сценах, исполняли маленькие эпизоды. Они изучали работу цехов, теоретически проходили курс режиссуры, были в моих постановках ассистентами, самостоятельно руководили кружками самодеятельности и, наконец, слушали курс театральных дисциплин вместе с учениками драматического отделения студии.
Приближался третий, последний год учебы, и новое беспокойство охватило меня в связи с программой и процессами учебы. Я издавна привык не разрывать эти два вопроса — программу и процессы работы по данной программе, так как понимал, что правильные процессы учебы могут выправить неправильную программу и, наоборот, — неправильные могут погубить самую идеальную программу.
Не знаю, достиг бы я ясности и определенности при составлении программы третьего курса, если бы сама жизнь не подсказала мне неожиданное и, как впоследствии оказалось, правильное решение.
В те времена в Харькове было пять областных театров. Управление этих театров обратилось ко мне с просьбой принять шефство над их работой.
369 Театров было пять, учеников у меня было тоже пять, и это совпадение цифр подсказало мне новую мысль. Я принял предложение руководить пятью спектаклями и решил направить на самостоятельную практическую работу в каждый из этих театров своих учеников.
Решение было принято, оставалось правильно организовать работу и в первую очередь связать между собой вопросы учебы и производства. К концу второго учебного года мне было сообщено пять названий будущих спектаклей в областных театрах, которые должны были быть выпущены под моим наблюдением в конце следующего сезона.
Я предложил моим ученикам за время летнего отпуска проработать намеченные к постановке пьесы, с тем чтобы к началу будущего учебного года каждый из них представил мне свои постановочные планы. Автор наиболее удачного плана получал право на самостоятельную постановку данной пьесы.
Первые два месяца прошли в оживленных творческих спорах в связи с защитой постановочных планов. Еще через месяц молодые режиссеры отправились каждый в свой театр и попали в чрезвычайно сложную и трудную обстановку работы областных передвижных театров.
За месяц до выпуска спектаклей я объехал театры и прокорректировал работу молодежи. Затем мы организовали выезды из нашего театра отдельных товарищей для принятия этих спектаклей.
Результаты превзошли наши ожидания. Спектакли прошли хорошо, а главное — молодые режиссеры, будучи поставлены в условия полной самостоятельности и ответственности, сумели преодолеть все трудности на пути постановки спектаклей и приобрели очень много знаний как в творческой области, так и в организационной. А организационные трудности были очень большие. Например, молодой режиссер Гриншпун, ныне заслуженный деятель искусств, художественный руководитель Одесского театра музыкальной комедии, работал над «Ревизором» в период, когда театр обслуживал сельские районы и переезжал на волах из одного местечка в другое вместе со всем своим хозяйством.
Постановки, порученные молодым режиссерам, были их дипломными работами. Вся дальнейшая творческая работа харьковской пятерки доказывает правильность избранного 370 нами пути воспитания молодого режиссера как самостоятельного творческого работника.
От практики к теории — таков был избранный нами путь воспитания молодого режиссера.
Друзья театра
Придя на каком-то этапе своей творческой жизни к убеждению, что искусство театра есть жизнь сложнейшего театрального организма в многообразнейших его проявлениях, я уже не могу отказаться от этого убеждения, да и не откажусь, вероятно, никогда.
Создание нового театра в Харькове было целиком подчинено этому пониманию. Знание же жизни и неразрывность искусства и жизни как основной закон в поведении художника мы утверждали через шефские, дружеские и творческие связи с рядом организаций, заводов, театров и даже отдельных людей.
Так возникло взаимное шефство театра над коммуной имени Дзержинского, руководимой Антоном Семеновичем Макаренко, и личная дружба с ним, прерванная его нелепой, внезапной смертью.
Шефство над заводом «Серп и молот» выражалось в постоянной и неразрывной связи с рабочим коллективом, где мы проводили читки предполагаемых к постановке пьес, делали доклады о будущих постановках с показом из них отрывков, обсуждали поставленные спектакли, оказывали помощь их самодеятельности.
В подшефном сельском районе мы помогали самодеятельности, выезжали с шефскими творческими бригадами со спектаклями, поставленными специально для таких выездов, организовали семинар для руководителей самодеятельности и, наконец, выпустили специальный сборник «Весенний сев» в помощь сельской самодеятельности.
Шефская связь с частями Красной Армии выражались в творческих встречах, концертах, а также в выделении отдельных работников театра для непосредственного руководства коллективами самодеятельности.
Деятельное участие принимал театр и в жизни Дворца 371 пионеров, созданного в Харькове по инициативе П. П. Постышева.
И, наконец, взаимное шефство — дружба Харьковского медицинского общества и театра — вылилось в ряд интереснейших вечеров-встреч, концертов, докладов, а главное, дало возможность близко узнать и завязать подлинно дружеские отношения с рядом интереснейших людей, являющихся крупнейшими учеными в области медицины.
Ведь Харьковское медицинское общество является старейшим в Союзе медицинским обществом, и в дни его стодвадцатипятилетия театр принимал деятельное участие, поставив специально к этому празднику спектакль «Люди в белых халатах» и посвятив этот спектакль своим друзьям.
Простой голый перечень этих связей показывает, какой полнокровной общественной жизнью жил Харьковский театр русской драмы.
Обо всех этих общественных мероприятиях можно найти много любопытного материала в газетах, выпускавшихся театром, и за всеми этими делами стояли живые люди, не за страх, а за совесть проводившие свою работу.
Я не упомянул еще о работе нашей столовой, о тех творческих вечерах, которые организовывались в ней после спектаклей. Получился своеобразный клуб, который связывал наш театр со всеми творческими работниками Харькова.
Огромное количество встреч как с отдельными интереснейшими людьми, так и с целыми коллективами, конечно, создали ту своеобразную атмосферу, которой дышал театр.
Мы встречались с множеством интересных людей, устанавливали знакомства, завязывали подлинно дружеские связи, а с другой стороны, театр в целом был окружен большим количеством людей, кровно заинтересованных жизнью театра. Они считали театр своим, радовались его успехам, но и судили его строго за отдельные просчеты.
Мы это очень хорошо понимали и всеми силами стремились честно ответить на такую любовь.
А ответом нашим могло быть только наше творческое совершенствование, наш художественный рост. И вот почему творческий процесс мы не могли строить только на одной репетиционной работе, мы стремились находить новые формы и на этом участке. Наша основная задача была еще и в том, чтобы 372 лучше вооружить каждого творческого работника в области совершенствования его актерского мастерства. Для этого мы организовали учебу для всего коллектива и даже гордо ее назвали — «Наш театральный университет».
Дружба с Медицинским обществом позволила нам иметь лучших лекторов, прочитавших нам сжатые элементарные курсы о том «инструменте», на котором играет актер. Я говорю о человеческом организме, являющемся и инструментом и материалом в творческой деятельности актера.
Актер обязан знать свой инструмент и быть мастером, в совершенстве владеющим им, и только тогда он станет хозяином своего материала, а не материал будет владеть им.
Ряд профессоров Медицинского общества с удовольствием предложили провести цикл лекций по анатомии, физиологии высшей нервной деятельности человека, эндокринологии и вегетативной системе.
Профессор С. Н. Синельников читал курс физиологии, профессор К. И. Платонов — курс психологии, профессор В. М. Коган-Ясный — курс эндокринологии. Отдельные лекции по вопросам пластической анатомии читал академик В. П. Воробьев.
И все это делалось бесплатно, из любви и уважения к нашей работе.
В нашем университете проводился цикл лекций и по идеологическим вопросам и, конечно, по вопросам актерского мастерства, тесно связывали мы эти занятия с творческой практикой, подвергали профессиональному, серьезному анализу выпускаемые премьеры. Разбор спектакля «Ваграмова ночь» Леонида Первомайского занял, например, три таких занятия и превратился в острейшую творческую дискуссию.
Обсуждения спектаклей проводили мы и на зрительских конференциях, дававших тоже любопытнейший материал.
Отчеты об этих конференциях можно найти в нашей театральной газете.
Но до чего же не любопытны наши молодые театроведы! Свыше шестидесяти номеров газеты «Театр русской драмы», в которых отражена вся история молодого театра, еще ждут своего читателя-театроведа.
Нащупывая различные формы для более углубленной проработки творческих вопросов, мы использовали форму «творческих судов», причем первым же «преступником», добровольно 373 севшим на скамью подсудимых, был я, а «преступление», инкриминированное мне, была моя постановка «Ревизора». Прокурором на этом суде был А. Г. Крамов, а он имел юридическое образование, так что мне приходилось очень туго, тем более что я отказался от защитника.
Два дня продолжалось «судебное» заседание. Было опрошено множество вызванных «свидетелей» — зрителей, участников спектакля и не участвующих в нем актеров. Очень любопытно было выступление зрителя А. С. Макаренко. После моего полуторачасового последнего слова подсудимого, я был полностью «оправдан».
Всеми силами, всеми средствами стремились мы направить деятельность театра на путь большого творческого дыхания, заботясь о том, чтобы каждый член коллектива почувствовал и осознал себя художником, участвующим в большой жизни театра, а не узким ремесленником, только играющим спектакль.
И мне кажется, что нам удалось, правда, первые три года, вести коллектив по этому пути, утверждая большое общественно-художественное значение театра в жизни Харькова и не превращая его просто в здание, в котором каждый день играют спектакли.
За долгие годы своей театральной жизни я хорошо понял, что самое простое и легкое в жизни театра — это ежедневно играть спектакли, для чего в основном должен быть плотник, открывающий и закрывающий театральный занавес, я также очень хорошо усвоил, что такое обычное играние спектаклей ничего общего не имеет с подлинным искусством театра, являющимся могущественнейшим культурным фактором в жизни человеческого общества.
Трехгодичная работа в Харькове научила меня очень многому, самое главное, пожалуй, в том, что я стал глубже разбираться в вопросе: в чем же суть руководства театром?
Разворот работы
Одним из трудных участков в намеченной программе дальнейшей работы театра было установление дружеской связи с украинскими драматургами. Вполне естественно, что лучшие свои пьесы авторы отдавали украинским театрам, а таковых в то время 374 в Харькове было два — театр «Березиль», ныне театр имени Шевченко, и Театр Революции, так что на нашу долю оставались пьесы не лучшие, а более слабые. Когда же мы отказывались их ставить, то на нас обижались, говоря, что «русский театр чуждается украинской драматургии».
Вывел нас из этого довольно-таки щекотливого положения Леонид Первомайский, предложивший нашему театру свою прекрасную трагедию «Ваграмова ночь».
Постановка «Ваграмовой ночи» и возникшая творческая и человеческая дружба, сохранившаяся и по сегодняшний день с Леонидом Первомайским, этим интереснейшим поэтом наших дней, — одна из тех больших радостей, которые не так-то часто случаются в нашей театральной жизни.
Вспоминая свою первую встречу с Леонидом Первомайским, свои первые впечатления от нового драматурга, я часто задаюсь довольно странным вопросом, который тем не менее возникал у меня в то время: да любит ли он, Первомайский, вообще театр? Этот вопрос рождался потому, что у Первомайского действительно было какое-то неверие в театр, был какой-то осадок на душе от его прежних встреч с театром, так как «Ваграмова ночь» была не первой его пьесой. Но это мое впечатление мгновенно исчезло, после того как он пришел к нам в театр на прогонную репетицию и увидел свою пьесу на сцене, даже еще без декораций, без грима и костюмов.
Очевидно, театру удалось угадать в этой трудной пьесе идейно-творческие задачи, которые поставил перед собой автор, и в сценической форме выразить тот творческий накал, которым жил драматург в дни работы над этой пьесой.
Я не претендую на то, что первый сценически раскрыл Первомайского, что я первый полностью понял его как художника. Конечно, нет. Но нам удалось хотя бы отчасти примирить его с театром и установить более тесный контакт между драматургией Первомайского и театром.
В день премьеры «Ваграмовой ночи», 11 ноября 1934 года, в газете «Театр русской драмы» я писал: «Приступая к каждой новой постановке, я испытываю всегда большое волнение, как будто это моя первая постановка, как будто я впервые ставлю спектакль. И длинный сценический путь как будто начинаешь сначала».
Я не хочу, чтобы меня поняли так, будто я утрачиваю 375 профессиональное умение и знания, полученные от многочисленных постановок за долгий путь моей сценической работы; я говорю о творческом волнении художника, впервые встречающегося с новым драматургическим произведением.
Самое главное — первая встреча, первое ощущение, полученное от пьесы, та непосредственная взволнованность, которая явится зерном будущего спектакля и которую бережно, внимательно и кропотливо выращиваешь во все последующие периоды. Мы должны хорошо понимать разницу между творческим зачатием и бережным, трудным периодом вынашивания.
«Ваграмову ночь» Леонида Первомайского я услышал на украинском языке впервые в чтении самого автора. Я не настолько владею украинским языком, чтобы охватить пьесу во всех ее деталях, во всех тонкостях. Но первая же читка произвела на меня большое впечатление. Я понял целое, почувствовал пьесу в ее основном звучании и был покорен ее искренностью, каким-то своеобразным драматургическим целомудрием, ее бесконечной лаконичностью и поэтичностью.
Поэты, работающие в области драматургии, всегда наши желанные товарищи. Они дисциплинируют речь, они требуют от актера большого образного насыщения слова, они ритмически воспитывают.
Ставя трудные задания, они нас учат. Вот почему мы с большой радостью работаем над поэтической драматургией.
Первый перевод «Ваграмовой ночи» оказался неудачным. Сохранилась основная концепция пьесы, но многие места, увлекшие нас при читке, звучали бледно. «Пленительная незнакомка» поблекла в свете плохого перевода. Влюбленность начала проходить, закрадывалось сомнение: «Уж не ошибся ли ты? Быть может, очаровательная музыка украинского языка взволновала тебя и ты, увлекшись, сам сочинил содержание?»
Время шло, шла и работа.
Новый перевод поэта Н. Н. Ушакова вернул пьесе ее первоначальное звучание.
Слова насытились образами, строки таили в себе огромное содержание. Тут и события, и обстоятельства, и тончайшие психологические нюансы, и большая идейная целеустремленность. Оставалась трудность поисков той напряженности 376 и сознательной точности событий, той сложнейшей психологической коллизии, той масштабной взволнованности, которые присущи были трагедии Первомайского.
Эта третья встреча оказалась еще более пленительной.
Перед театром возникла трудность огромной и сложной работы, а также ответственность — впервые воплотить на сцене трагедию Л. Первомайского.
Мы знаем, какая ответственность лежит на театре при первом сценическом прочтении драматургического произведения.
Театр может сценически родить драматурга, а может и надолго, и даже навсегда, закрыть перед писателем двери сцены.
С чувством большой ответственности руководил я этой постановкой. Хотелось верить, что мы выйдем победителями.
Такие мысли рождались накануне премьеры.
А какие это великолепные и в то же время тревожные дни перед премьерой, когда ни режиссер, ни драматург, ни творческий коллектив актеров еще не знают, что ожидает их завтра! Как примет работу зритель! Сумеем ли мы донести до сознания зрителя те основные мысли, которые волновали драматурга, когда он писал свою пьесу? Обретет ли свою настоящую длительную жизнь в сознании зрителя поставленный тобой спектакль?
И все же в дни, предшествовавшие премьере «Ваграмовой ночи», главным для меня, пожалуй, было другое: я думал о завязывающейся дружбе между русским театром и украинскими драматургами, вспоминал напутственные слова С. М. Кирова, сказанные им мне по этому поводу.
Наконец премьера состоялась. Но единодушного мнения у публики не было. Одни очень хвалили спектакль, ходили на него по нескольку раз, а другие считали его скучным.
Пресса приняла спектакль как большую удачу нашего коллектива, как «спектакль, показывающий творческое лицо театра».
Сейчас, когда прошло уже много лет, мне приятно сознавать, что этот спектакль помог драматургу, заставил его поверить в театр, по-настоящему полюбить его.
Помимо вопроса о взаимоотношении драматурга и режиссера в период работы в Харькове волновала и интересовала меня еще одна, правда, более технологическая тема.
377 Ставили мы и классику, ставили и современные пьесы В современных пьесах, посвященных темам сегодняшнего дня, где действующие лица — современные люди, хорошо знакомые нам, мы стремились сосредоточить свое внимание в первую очередь на вопросах обогащения актерской техники новыми средствами сценической выразительности.
Именно там, в Харькове, во время работы над двумя современными комедиями — «Чужим ребенком» Шкваркина и «Чудесным сплавом» Киршона — я, пожалуй, впервые серьезно задумался о точнейших и тончайших выразительных средствах, раскрывающих большие глубины «жизни человеческого духа».
Современная драматургия еще только вступала во вторую фазу своего развития, когда драматурги начали задумываться не только над идейной целеустремленностью пьесы, не только над поступками своих персонажей, но и над сложным духовным строем жизни своих героев, раскрывающих суть нового человека, строителя коммунистического общества.
И Александр Афиногенов и Борис Ромашов в своих работах уже отходили от схематических образов, создавая полноценную, правдоподобную жизнь сценических персонажей, требующую от актеров не только утверждения определенной тенденции, которая раньше вполне удовлетворяла нового зрителя, но и полноценного раскрытия сложного духовного строя внутренней жизни создаваемых ими образов.
И в нашей сценической практике мы, идущие рука об руку с нашей драматургией, также стремились встать на этот путь, повышая требования к углублению актерами духовной жизни своих образов и нахождению новых сценических средств выразительности, раскрывающих эти глубины.
И не случайно, а вполне закономерно, что именно в этот период времени мною написана следующая работа — «Актер и сценический образ».
Вероятно, очень уж настоятельно требовали возникающие тогда мысли, чтобы их сформулировали и построили в творческой последовательности.
Почему же именно эти две комедии натолкнули меня на эти мысли и почему на таком, казалось бы, недостаточно подходящем драматургическом материале для творческого эксперимента мы рискнули попробовать решать большие принципиально творческие вопросы?
378 Поставить обе эти комедии так, чтобы зритель смеялся и хорошо принимал спектакль, было делом довольно-таки нетрудным, так как обе они написаны с достаточным драматургическим мастерством, и я бы сказал, что их скорее трудно провалить, чем поставить.
Не случайно же что обе эти комедии игрались на всех существующих площадках необъятного Советского Союза, и я думаю, что, вероятно, не было даже маленького железнодорожного полустанка, где бы «Чужого ребенка» не играл самодеятельный коллектив. Я так и вижу, как Сенечку Перчаткина играет телеграфист полустанка, начальник полустанка играет Караулова, а его дочь, мечтающая о театральной карьере, играет Машу Караулову.
И тем не менее именно работа над этими двумя комедиями натолкнула меня на те принципиальные вопросы, о которых я говорил выше.
Вероятно, новое, повышенное требование драматургов к созданию сценических образов было первым толчком, пробудившим новые режиссерские мысли, а точность и мастерское построение драматургами развертывающихся сценических событий в пьесах было столь убедительно, что невольно режиссерская фантазия сосредоточивалась не на том, «что» происходит на сцене, а на том, «кто» же эти сценические образы, так логически и убеждающе действующие на сцене в пьесах. А как только в ваше сознание входило понятие «кто», то совершенно естественно, что оно немедленно ставило перед вами новое требование: «как» же достигнуть убедительности этих поступков?
Я вспомнил свой давнишний юношеский педагогический парадокс: «Будущего комедийного актера обучать на драматургическом материале Достоевского и Шекспира, а будущего драматического актера научить играть водевили Лабиша».
Мы приняли этот парадокс как эстетическую платформу для данных работ и с увлечением погрузились в преодоление трудностей, неминуемо возникающих в процессах работы.
Подстегивая и свою и актерскую фантазию, ставя перед актерами большие требования, мы постепенно приближались к дням премьер, неожиданно для себя замечая, что все, над чем мы смеялись при читках этих комедий, переставало быть 379 смешным, и тот наш первичный смех над сюжетными положениями и над отдельными репликами исчезал совершенно.
Но зато на сцене рождалась достоверная глубокая жизнь современной молодежи, энтузиастов строительства новой жизни. В своей работе мы добились того, что не неожиданная острота сюжетного поворота событий главенствовала на сцене, а сложные человеческие характеры, попавшие в эти неожиданные ситуации, становились центром внимания. А отсюда рождались и огромнейшие сценические паузы, закономерно необходимые актерам для оправдания глубины духовного строя жизни своего образа, столь противоречащие законам комедийного спектакля, требующего в большинстве случаев стремительного и напряженного ритма.
От стремительности событий мы уводили исполнителей в сложные глубины человеческой психики. «Чужой ребенок», поскольку в нем Караулов был виолончелистом и любил играть на виолончели, строился как лирическая комедия, с большим количеством закономерно звучащих мелодий, как сценических, так и внесценических.
«Чудесный сплав» — пьеса, посвященная научной деятельности творческого коллектива советской молодежи, давала возможность приблизиться почти что к «философскому спектаклю».
А. Г. Крамов, не видавший этапов нашей работы и пришедший на генеральную репетицию, уговаривал меня даже отменить премьеру «Чудесного сплава».
— Какая же это комедия? — говорил он, удивленно посматривая на меня. — Разве это комедийные образы? Они же закатывают такие огромные психологические паузы, которые великоваты даже для Достоевского. Прежде всего это не смешно, и зрители не досидят до конца этого «психологического представления». По-моему, вы что-то перемудрили в этой простой и ясной комедии.
Огорченный такой неожиданной оценкой товарища и прекрасного художника Крамова, я был в довольно-таки затруднительном положении накануне премьеры. Что делать?
«Нельзя не прислушаться к Крамову, — печально размышлял я, — ведь он же великолепнейший профессионал…» И все-таки я не отменил премьеры.
380 Зрительный зал необычайно хорошо и чутко принял эти комедийные спектакли. Они быстро стали любимыми у публики и дали свыше ста аншлагов за сезон.
Никогда не забуду огромную паузу в сцене Наташи и Гоши в спектакле «Чудесный сплав», против которой особенно протестовал Крамов.
Гоша (М. П. Малинин), молодой инженер, творческая мысль которого упорно работает в области научных исследований. Перед ним задача — найти сплав «бериллия». И в это же время он оказывается выбитым из колеи. Он поражен любовью — чувством, доселе ему неведомым.
И вот в сцене объяснения с Наташей (Л. А. Скопина) он как будто и не говорит ей о своей любви, а рассказывает о звездах, и вдруг во время этого рассказа у него неожиданно рождается решение формулы сплава «бериллия». Он продолжает говорить уже о «бериллии», вызывая полное недоумение Наташи. — «О чем же он говорит: о любви, звездах или бериллии», — думает Наташа.
Гоша это понимает и замолкает, и вот между ними возникает молчаливый диалог, может быть, даже более интересный, чем если бы он был написан словами.
Эту огромную паузу зрители принимали необычайно смеясь, хохоча, аплодируя, замолкая, вновь смеясь и аплодируя, опять замолкая и на какое-то еле уловимое движение Гоши разражаясь взрывом бурного смеха и оглушительных, долго не смолкающих аплодисментов.
Вспоминаю, как удивлен был Крамов реакцией зрительного зала на эту паузу. Удивлен был и я.
Но больше всего испугались этой реакции Скопина и Малинин, добросовестно репетировавшие молчаливую сцену, но никак не ожидая такого бурного приема.
Глубоко убежден, что и для Скопиной и для Малинина эта сцена послужила серьезным уроком. Она научила их уметь в молчании раскрывать большое содержание и понимать, что содержательное молчание может быть иной раз в сто раз убедительнее и действеннее, чем произносимые слова.
Уроком это было и для меня, и найденное в этих двух спектаклях я развивал дальше в спектакле «Со всяким может случиться» Б. Ромашова и поставленной вслед за ним комедии того же автора «Знатная фамилия».
381 Но, конечно, творческий рост и актера и режиссера происходит не только в стенах театра, в творчески-производственных процессах, а главным образом за пределами стен театра, в большой жизни народа, строящего новую жизнь.
А. С. Макаренко
Антон Семенович Макаренко принадлежит к числу тех замечательных людей, воспоминания о которых или даже простое произнесение их имени невольно воскрешают в сознании и бесконечное количество дел, свершенных ими, и образы людей, связанных с этими делами, и огромнейшую борьбу, происходившую во время свершения этих дел.
Макаренко оставил нам величайшее богатство в области методики коммунистического воспитания. Огромный коллектив советских граждан, воспитанных им подлинными патриотами своей Родины, оставил неизгладимое воспоминание о нем, как о выдающемся и в то же время необыкновенно скромном человеке, свершившем большое дело.
Я лишь театральный режиссер и, конечно, не настолько компетентен, чтобы писать о вопросах методики коммунистического воспитания. Но мне хочется рассказать о том Макаренко, с которым я встречался в коммуне имени Ф. Э. Дзержинского в Харькове, о том писателе Макаренко, с которым мы вели споры о путях развития советской драматургии, о том Макаренко, с которым задумано было много интересных театральных начинаний, которые были прерваны его преждевременной смертью.
7 ноября 1933 года, стоя на трибуне и наблюдая праздничную демонстрацию трудящихся Харькова, я заинтересовался одной группой, которая появилась на площади и отличалась от других демонстрантов и дисциплиной и особым своеобразием. Поток демонстрантов прервался, где-то затрещал барабан, грянул оркестр, и на опустевшую площадь торжественно вышел знаменосец. Рядом шли с гордым видом два мальчугана, энергично отбивая барабанную дробь. Стройными рядами, четким шагом шли девушки в белых платьях, за ними не менее торжественно ступали юноши — тоже в белом. Прекрасный оркестр превосходно аккомпанировал 382 этому параду молодежи. На трибунах грянули аплодисменты.
— Кто это? — обратился я к соседу.
— Коммуна имени Дзержинского, — гордо ответил он. Так впервые, стоя на трибуне, познакомился я с питомцами Антона Семеновича.
Незадолго до того прочитанная первая часть «Педагогической поэмы» и парад молодежи на площади в день праздника Октября неразрывно слились в моем сознании, и невольно возник предо мной хоть и не знакомый мне лично, но уж как-то ощутимый образ Макаренко.
«Надо познакомиться, надо ближе узнать этого необычного и беспокойного человека», — вот с такой мыслью я возвращался с праздника домой накануне открытия театрального сезона.
Театры обычно над кем-нибудь шефствуют, и вот мы решили шефствовать над коммуной имени Дзержинского. Сговорившись по телефону и условившись о встрече, мы вскоре выехали в коммуну, чтобы лично познакомиться с прославленным Макаренко.
Наша театральная профессия, зачастую пользующаяся привычными штампами, и тут услужливо подсказывала многим из нас очередной штамп облика педагога, человека, обязательно сразу же располагающего к себе.
Но вот автомобиль свернул с шоссе. Мы проехали деревянную арку с надписью: «Коммуна имени Дзержинского» — въехали в небольшой лесок, на опушке которого виднелись какие-то строения. Чем ближе мы приближались к цели, тем больше нами овладевало любопытство увидеть этого необыкновенного педагога, занимающегося педагогической деятельностью не в недрах Наркомпроса, а в органах ВЧК и ОГПУ.
Лес стал редеть, и мы попали в прекрасно распланированную местность с несколькими фабричными корпусами, жилыми зданиями, асфальтированными дорожками и живописно разбитыми цветниками. Сразу же почувствовался мудрый хозяин, умело строящий жизнь коллектива.
Машина остановилась перед центральным двухэтажным зданием с флагами на башнях. Мы вошли в подъезд и были встречены дежурным по коммуне.
Умная планировка территории коммуны, цветники, чистота и порядок, форма у коммунаров, подтянутость и вежливость 383 дежурного — вот первые впечатления, которые не изгладились из памяти, несмотря на то, что это было много лет тому назад. Дежурный провел нас по длинному коридору и, попросив подождать, вошел в кабинет заведующего учебной частью.
По стенам коридора аккуратно были развешаны стенные газеты, художественно исполненные ребусы, викторины. Во всем чувствовались смысл и вкус, а не только внешняя форма. Дверь отворилась, и дежурный пригласил нас войти в кабинет Макаренко.
За большим письменным столом на фоне окна мы увидели по-военному подтянутую худощавую фигуру человека в очках. В окно за спиной Антона Семеновича врывались лучи солнца, виднелось голубое небо и буйная пестрота красок осенних цветов. Антон Семенович пригласил нас сесть, и начался тот обычный разговор готовыми фразами, когда между собеседниками еще не установились ясные отношения и когда они как бы изучают друг друга.
Но этот период продолжался недолго. Через несколько минут мы поняли, что побеждены, что готовые стандартные фразы не вызывают стандартных ответов, что разговор может завязаться не в поверхностной форме общих фраз, а в какой-то иной. Мы поняли, что Антон Семенович нисколько не интересуется внешней стороной шефства и что сейчас он скорее изучает нас для того, чтобы решить, а можно ли включить нас в группу людей, помогающих ему воспитывать детей.
Острый, требовательный, испытующий глаз Макаренко следил за каждым из нас, а наши банальные фразы о шефстве рождали у него лишь саркастическую улыбку, которую он, впрочем, торопливо сгонял со своего лица.
Вскоре солнце зашло за тучи, в комнате потемнело, начал накрапывать дождь, а сидящий за столом несколько суровый Макаренко продолжал вести испытующий нас строгий разговор.
В беседе Антон Семенович вскрыл абсолютную неподготовленность нашего предложения о шефстве и, как внимательный педагог, продолжал изучать каждого из нас.
Группа актеров, приехавшая к педагогу Макаренко, действительно неожиданно попала на своеобразный экзамен. Казалось, не наше предложение интересовало Макаренко, а люди, то есть мы сами, приехавшие с этим предложением.
384 К концу нашей беседы требовательный педагог добился своего; вероятно, он прощупал для себя каждого из нас и поверил в нашу искренность, простив нам наше легкомыслие. Когда мы прощались с Антоном Семеновичем, то впервые за всю беседу видели его обаятельную улыбку и располагающее к себе лукавство его умных глаз. Мы попрощались и отправились к машине. Макаренко провожал нас, окруженный группой коммунаров, которые с любопытством рассматривали гостей.
Дождь кончился. Солнце вновь ослепительно светило Всем нам запомнился этот радостный осенний день.
За первой встречей последовала вторая, третья, четвертая… Мы ездили в коммуну. Макаренко бывал в театре. Коммунары стали нашими постоянными зрителями. Каждый вечер к театру подъезжал автобус коммуны, и тридцать коммунаров, подтянутых, с гордостью носивших свою изобретенную Макаренко форму, входили в театр и чинно занимали свои постоянные места.
Коммунары любили, уважали свою коммуну, ревниво поддерживали ее честь. Наблюдая за коммунарами в общественных местах, я удивлялся их образцовому поведению и воспитанности.
Откуда у этих трудновоспитуемых ребят бралась выдержка, выправка и такое блестящее владение собой? Этому, конечно, нельзя научить, это можно только воспитать, и воспитать не индивидуально, а через коллектив.
Театр шефствовал над коммуной, а по существу, Антон Семенович воспитывал нас и наш театральный коллектив. Каждый наш приезд в коммуну с лекцией или беседой, с читкой новой пьесы или для обсуждения просмотренного коммунарами спектакля кончался беседами с Макаренко. Мы уезжали обогащенные новыми впечатлениями, новыми мыслями, новыми чувствами.
Самая большая прелесть этих встреч была в том, что в них никогда не было повторений. Антон Семенович был неистощим в своей изобретательности, в своем таланте содействовать рождению нового.
Поэтому каждая наша встреча приносила что-нибудь новое. Видимо, это новое было в природе самого Антона Семеновича, это было существо его богатейшей натуры, чрезвычайно многогранной, всегда неожиданной в своих проявлениях 385 и несущей в себе неиссякаемую, неуемную и радостную человеческую энергию. Умением проникнуть в самые сокровенные тайники человеческой психики, умением смело и энергично активизировать самые незаметные положительные тенденции человека бесстрашным и правдивым раскрытием темных начал в человеке, безграничной верой в силу коллектива и, наконец, умением создавать и воспитывать этот коллектив — вот чем в совершенстве владел Антон Семенович.
Воспитание высокой этики в коллективе — вот что было фундаментом педагогики Макаренко, и можно только удивляться быстроте создания этого фундамента и, главное, его прочности. Объяснить это можно одним изумительным мастерством и педагогическим талантом Макаренко. Высокие моральные качества граждан будущего коммунистического общества — вот конечная цель, к которой уверенно шел Макаренко в своей педагогической работе.
Антон Семенович был верным сыном своего народа, несущим в себе его гуманистические идеалы. Он обладал тем богатством подлинно русского человека, которого может родить только наш народ.
Мы хорошо знаем Макаренко-педагога и по его практической деятельности и по его литературным трудам, но мы, к сожалению, очень мало знаем о самой личности Антона Семеновича.
Быть человеком — это значит любить людей, работать для них, а не быть влюбленным в самого себя.
Как-то раз после спектакля «Далекое» А. Афиногенова Антон Семенович зашел к нам за кулисы и мрачно сел в уборной А. Г. Крамова, наблюдая за тем, как он разгримировывается. Молчание Макаренко было для нас непонятно и тревожно.
«Очевидно, спектакль не понравился ему, — подумали мы, — ведь Антон Семенович всегда так интересно, хотя и беспощадно, говорит о нашей работе». Крамов разгримировался, оделся, и мы уже собирались уходить, когда наконец Антон Семенович нарушил это тягостное молчание. «Плакать заставили, подлецы», — сказал он мрачно, пожал нам крепко руки и молча удалился.
Я очень ценю и уважаю слезы зрителя, тем более такого требовательного зрителя, как Макаренко. Чем человечнее 386 зритель, тем ближе ему человеческие чувства, и чем крупнее человеческий интеллект зрителя, тем меньше он стесняется проявлять эти человеческие чувства.
Я помню слезы на глазах С. М. Кирова и Серго Орджоникидзе на спектакле «Ярость» в бывшем Александринском театре, помню слезы на глазах А. М. Горького на спектакле «Страх», и много раз мне приходилось наблюдать порывы чувств у зрителя, которые, конечно, нам, театральным работникам, ценнее, чем скепсис у людей, считающих себя причастными к искусству, а в действительности лишенных живых и непосредственных чувств.
Помню, как однажды, приехав в коммуну, я неожиданно застал Антона Семеновича на сцене со скрипкой в руках, окруженного мальчиками, с которыми он терпеливо разучивал какой-то хор. Ребята старательно пели, и когда кто-нибудь из них неожиданно испускал петушиный звук, то хохот мгновенно оглашал сцену. Громче всех, моложе и заразительнее всех смеялся сам Антон Семенович. Но вот водворялась тишина, и снова он терпеливо продолжал обучать свой молодой и непослушный хор.
Правда чувства, присущая натуре Макаренко, — вот что делало его необыкновенно приятным, а иногда и неприятным, когда эта правда бывала не по сердцу его собеседнику. А бесед было много, и самых разнообразных: и по вопросам театра, и о жизни, и о педагогике, и по общим вопросам развития нашего искусства, и о личной жизни, и о жизни коллектива, и о прошлом, и о настоящем, и о лучезарном будущем.
Да разве только беседы?!
А сколько проектов, сколько начатых работ, задуманных творческих затей остались неосуществленными, прерванными его нелепой смертью.
Так, в одном из писем, датированном 27 февраля 1935 года, А. С. Макаренко писал мне о своей пьесе, которая, к сожалению, не была завершена им:
«Дорогой Николай Васильевич!
… Моя пьеса? Стоит ли о ней говорить? Много в ней слов. Честное слово, я очень хорошо знаю, что все эти “Кольца”3* не стоят того, чтобы Вы особенно о них думали».
387 Антону Семеновичу была чужда отвлеченная педагогика. Не был он и узким практиком, целиком растворившимся в сегодняшнем дне и не видящим грядущего завтра. Это был подлинный революционер, горячо преданный своему делу, безгранично верящий в его правоту, неутомимый и изобретательный в своей практической деятельности. Смело и глубоко анализируя свою огромную практику, он рождал самую передовую педагогическую теорию. Антон Семенович создал опытный участок педагогической практики, преодолевая гигантские трудности, возникающие на пути. Он проверял свою теорию не в оранжерейно-лабораторных условиях, не под охраной директивы, а в сложнейших условиях реальной жизни, в напряженной борьбе преодолевая не только теоретические наскоки своих противников, но и всевозможные материально-бытовые затруднения, а главное, — непрерывно постигая психологию своего труднейшего коллектива, умело ее организуя.
Увлекательная «Педагогическая поэма» нам дорога не только как художественное произведение, раскрывающее образы замечательных ребят, вырастающих в подлинных граждан нашей Родины, но и как книга, потрясающая нас глубиной своей философии: «Человек не может жить на свете, если у него нет впереди ничего радостного. Истинным стимулом человеческой жизни является завтрашняя радость.
В педагогической технике эта завтрашняя радость является одним из важнейших объектов работы. Сначала нужно организовать самую радость, вызвать ее к жизни и поставить как реальность… Во-вторых, нужно настойчиво претворять более простые виды радости в более сложные и человечески значительные. Здесь проходит интересная линия — от примитивного удовлетворения каким-нибудь пряником до глубочайшего чувства долга».
И несколько дальше: «Воспитать человека — значит воспитать у него перспективные пути, по которым располагается его завтрашняя радость. Можно написать целую методику этой важной работы. Она заключается в организации новых перспектив, в использовании уже имеющихся, в постепенной подстановке более ценных. Начинать можно и с хорошего обеда, и с похода в цирк, и с очистки пруда, но надо всегда возбуждать к жизни и постепенно расширять перспективы 388 целого коллектива, доводить их до перспективы всего Союза»4*.
Макаренко свою педагогическую систему выработал в кедрах бурной и страстной практической деятельности, в борьбе человеческих личностей, в сложнейших процессах созидания и воспитания коллектива. «Педагогическая поэма» настолько правдивая и откровенная книга, она настолько чужда литературной выдумки, что невольно преклоняешься перед величием человека Макаренко, который не боится рассказать правду не только о людях, его окружающих, но и о самом себе. Суровая и жестокая правда — вот чем пронизана вся «Педагогическая поэма», вот на каком фундаменте построена педагогическая система Макаренко. Правда, труд и радостная перспектива — вот три кита, на которых зиждется повседневная деятельность коммуны.
Однажды кто-то из критиков, разбирая «Флаги на башнях», назвал Антона Семеновича «добрым дядюшкой», который все приукрасил, сгладил все шероховатости и который смотрит на мир через розовые очки.
Критик «просмотрел» правду советской действительности. Он не понял оптимизма Макаренко, который обладал редким свойством — видеть в человеке главным образом то положительное, что бывает на первый взгляд не столь заметно, как отрицательное. Причем Макаренко умел не только видеть это незаметное положительное, но и активизировать в человеке это положительное.
Такова сущность новаторства Макаренко, который смело выступил против утвердившегося в педагогике взгляда на воспитание как на непосредственную борьбу с отрицательными чертами человеческого характера.
Говоря о «Педагогической поэме» Макаренко, я как работник театра невольно вспоминаю и другое произведение — «Моя жизнь в искусстве», написанное другим выдающимся человеком — К. С. Станиславским.
Два великих человека нашей эпохи, педагог и художник, оставили нам в наследство две замечательные книги. В стране, строящей коммунистическое общество, мы по праву можем гордиться этими книгами, этими замечательными памятниками культуры.
389 Еще об Афиногенове
В конце лета 1934 года Афиногенов прислал мне свою новую пьесу «Портрет». Пьесу эту театр не принял, и я написал ему по этому поводу откровенно и беспощадно. Я счел невозможным скрыть от него все, что я думаю об этой пьесе.
Такое письмо или еще больше укрепляет дружбу между людьми, или делает их врагами, и они перестают здороваться друг с другом. Я послал это письмо и мучительно ждал результатов. Афиногенов нашел третий выход: он сделал вид, что его не получал. Но я сохранил копию и при первом же свидании, когда он сказал, что не знает, о каком письме я говорю, так как он, вероятно, его не получал, я вынул копию из кармана и, передав ему, сказал:
— Мне очень важно, дорогой Александр Николаевич, чтобы вы его получили, и потому я лично вручаю его вам.
По тому, как Афиногенов читал его, я великолепно понимал, что оно знакомо ему. А он, делая вид будто впервые читает письмо, по-видимому, обдумывал, как же ему поступить. Но, вероятно, прочитав его, он не пришел ни к какому решению, так как молча встал, оделся и вышел из дому.
Только через два часа вернулся Афиногенов домой и, подойдя ко мне, крепко пожал руку и поцеловал меня.
Привожу полный текст письма режиссера к драматургу, связанных подлинной дружбой.
«Я потрясен, я глубоко взволнован, дорогой Александр Николаевич!
Потрясен неожиданностью и взволнован полным своим неведением о Вашем собственном отношении к тому, что Вы написали.
Когда я читаю какую-нибудь пьесу, то помимо того, о чем пишет автор, для меня совершенно необходимо понять его душевное состояние, те тайники духовной жизни художника, где рождаются благородные, а иногда и низкие поступки. Мне совершенно необходимо понять, какие душевные мотивы оплодотворили его фантазию и толкнули на работу.
Простите, дорогой Александр Николаевич, что я позволяю себе искренне отозваться о “Портрете”, но я чувствую в себе не только право на это, но и обязательство, так как я очень люблю Вас, ценю и уважаю как художника, так как много 390 моих искренних творческих взлетов было связано с вашими пьесами, так как, наконец, мы делаем одно общее дело — строя большевистский театр.
“Портрет” будет иметь несомненный успех. Зритель залом будет валить в театр, — но в этом-то и трагедия.
Вы! Который средствами драматургического искусства раскрывали сложную духовную жизнь в сложнейшей “системе художественных образов”, устанавливая острейшие и важнейшие проблемы!
Вы! Который шел впереди молодой шеренги пролетарской драматургии и диктовал законы сценического искусства!
Вы! Который вкладывал творческое целомудрие в свои пьесы!
Наконец, Вы — автор и “Чудака”, и “Страха”, и “Лжи”. Да, “Лжи” — я на этом настаиваю, так как конкретный факт харьковского спектакля для меня убедительнее всех закулисных разговоров относительно этой пьесы, пьесы, как таковой, а не пьесы, звучащей в конкретном спектакле!
И вдруг Вы ставите свою фамилию как автор “Портрета”, драмы в трех действиях!
Я не верю, что это Ваша пьеса!
Я не верю, что Вы могли, серьезно и творчески работая, выпустить такую вещь!
Я не верю, наконец, что Вы сами считаете “Портрет” художественным произведением.
А от Вас, дорогой Александр Николаевич, мы ждем только творческой продукции, а не ремесленной вещи, имеющей несомненный рыночный успех.
Какое творческое волнение охватывало меня, когда я работал над “Чудаком”, “Страхом” и “Ложью”, и как глубоко оскорблен я был вчера, когда ночью, после спектакля, читал “Портрет”!
Произошла какая-то непоправимая ошибка — пьеса размножена и пущена на читки в театры.
А вы не имели права допускать до этого!
В нашей среде слишком слабо развита критика, люди очень боятся высказывать свою точку зрения, а иногда, к несчастью, и вовсе ее не имеют, и верят в кредит в то, что называется определенной фирмой.
А Александр Афиногенов — фирма крепкая и верная — боевая фирма.
391 Что самое страшное в “Портрете” — это бесконечный пессимизм.
Пессимизм, который является результатом того, что содержание пьесы доходит до нас не через раскрытие глубин духовной жизни образов, а путем ряда сюжетных положений, оскорбительных для вкуса художника своим обнаженным цинизмом. Тут и воровство фартучков, и потеря невинности, и шантаж, и наговор, и обыгрывание в очко, и синильная кислота, и попытки убийства, и суд, и самосуд, и пьяное битье посуды, и полная разнузданность всяких моральных устоев.
Каким образом подобная помойная яма образовалась в Вашей кристальной душе художника?
Факты событий, разрушая все моральные устои, разрушают жизнь образов, не устанавливая никакой перспективы.
Вы, художник всегда зовущий в будущее, силой своего дарования приглашаете всех нас удариться лбом в тупик!
А образы? — Да нет, это не образы, это номенклатурные “действующие лица” — они страшны и не правдоподобны в своей человеческой опустошенности!
Искусной рукой драматурга эти опустошенные маски брошены в детективный сюжет, и никакие монологи финала, никакое оправдание Марии Гавриловны не спасут положение.
Персонажи “Портрета” не действуют, а бродят, как сомнамбулы, загипнотизированные злой волей талантливого автора.
Пьеса злая, обидная, бьющая нашу действительность и никак ее не утверждающая.
Простите, дорогой Александр Николаевич, за откровенность, но Вы, однажды давший мне творческую радость работы над монологом Клары в “Страхе”, не имеете права предлагать мне работу над монологом Михаила, этого бесхребетного гражданина с полотна фальшивого “Портрета”.
Что в пьесе ценно?
В чем виден прежний Афиногенов, талантливый, интересный, дерзновенно смелый, Афиногенов, геройски ставящий далекие вехи на пути развития пролетарской драматургии?
Это живой, полнокровный образ Лидии Петровны Горюновой и вся сюжетная линия “Портрета”.
Под остальным, простите, дорогой Александр Николаевич, 392 я не могу поставить фамилию драматурга, творчество которого всегда обогащало меня и двигало вперед нашу драматургию, оплодотворяя советский театр.
Фамилию автора, которая всегда упоминалась в порядке фамилий Чехова, Ибсена, а после “Портрета” будет упоминаться рядом с Рышковым и Невежиным.
Я не мог промолчать и считал себя обязанным написать Вам искренне свое мнение.
Любящий Вас и глубоко верящий, что этот “Портрет”, разрезанный Лизой, — явление случайное на Вашем творческом пути.
Ждущий боевого клича и призывной песни от революционера-драматурга Александра Афиногенова
Николай Петров
20 сентября 1934 года».
Не как образец эпистолярной литературы привожу я это письмо на страницах повести о своей жизни, а как показатель того, какие, мне кажется, должны быть правдивые взаимоотношения между драматургом и режиссером, если они совместно работают как строители советского театра, а не являются — один поставщиком пьес, а другой — постановщиком оных. Человеческие взаимоотношения между ними — вот тот фундамент, который должен быть положен в основу строительства театра, а не «дипломатические» разговоры, затемняющие истину во имя сохранения видимости приличных отношений и из боязни обидеть друг друга.
Искусство правды не терпит лжи и всегда мстит, когда нарушается этот закон.
«Портрет» не имел успеха, шел в очень ограниченном числе театров, и Афиногенов впоследствии понял, что какая-то доля моего протеста была справедлива. В дневнике он записывает: «“Портрет” писал для цели, мерещилась его постановка, аплодисменты, слава — и потому вышел холодным, профессиональным, расчетливым, все было на своем месте, и не было того, что образует искусство…»
Следующая пьеса Афиногенова — «Далекое» — была впервые сыграна в Москве в театре имени Евг. Вахтангова. Мне уже приходилось говорить о важности для судьбы пьесы первого ее сценического прочтения. Пример с «Далеким» был особенно выразителен. После того как она была поставлена 393 в театре имени Евг. Вахтангова, уже никакие другие сценические решения не смогли снять общественной оценки, полученной пьесой вследствие не совсем точного идейного решения спектакля.
В Харькове мы ставили спектакль, подчиняя его основной теме пьесы — «у нас незаметных разъездов нет». Эта тема, выдвинутая как ведущая тема, естественно, устанавливала и то взаимоотношение между образами, вернее, ту систему сценических образов, которая раскрывала содержание пьесы, выдвигая на первый план идею — «большие дела на малых участках».
Но в пьесе, особенно в ролях путевого обходчика, бывшего дьякона Тонких, и неизлечимо больного комкора Малько, возможен, акцент и на другой теме, а именно: «Смерть и жизнь», — которая раскрывается в диалогах Малько и Тонких.
Если взять в основу спектакля эту тему, спектакль неминуемо окажется перевернутым, пьеса приобретет иное идейное звучание. В вахтанговском театре, к несчастью, именно эта тема прозвучала как центральная тема. Неожиданно получилось так, что, чем лучше играл Щукин роль Малько, тем опаснее это было для спектакля. Вероятно, это произошло бессознательно, так как режиссура не очень точно решила систему сценических образов, и пьеса не прозвучала, несмотря на то, что она имела все основания прозвучать достаточно сильно. Постановка этой пьесы в Харькове была мной подчинена другой идейной направленности, и спектакль от этого неизмеримо выиграл. В работе над этой пьесой понятие «системы сценических образов» было для меня окончательно подтверждено и прочно вошло в практику всей моей дальнейшей работы. Не в том было дело, кто лучше поставил, а в том, кто правильнее решил спектакль и правильнее установил взаимоотношения сценических образов. Это решение, в частности, зависело и от распределения ролей. В Харькове лучшие актеры были назначены на роли работников разъезда «Далекое»: Б. Ильин — телеграфист Томилин, М. Малинин — путевой обходчик Лаврентий, М. Борин — Корюшко, начальник разъезда, Л. Скопина — Глаша, Т. Сукова — жена Корюшко, К. Вертышев — Макаров, а от Александра Григорьевича Крамова, игравшего роль Малько, мы потребовали максимального такта и скромности, а также и той партийной 394 мудрости, которая незаметно и органично раскрывает духовный мир этих скромных людей, работающих на незаметном разъезде «Далекое».
Я ни одной секунды не хочу быть понятым в том смысле, что вот-де, мол, я очень хорошо поставил «Далекое», а вахтанговцы плохо. Дело вовсе не в «хорошо» и «плохо». Пора уже нам было бы выбросить эти оценки при разборе художественных явлений театрального искусства. Дело в том, что существуют понятия «правильно» и «неправильно», и вот, исходя именно из этого, я и позволил себе сравнить эти две постановки.
Читка «Далекого» и мое письмо к Афиногенову после читки не только ликвидировали наш возникший было временный творческий конфликт в связи с его пьесой «Портрет», но и внесли в нашу дружбу новые, дорогие для нас оттенки, утвердив право высокой требовательности друг к другу. В ответ на мое «послание» в связи с его пьесой «Далекое» 10 декабря 1934 года я получил от него письмо, которое помещаю полностью, так как в нем необыкновенно ясно раскрывается творческая суть Афиногенова.
«Дорогой Николай Васильевич!
С волнением и радостью прочел и перечел я Ваше письмо… Не только потому, что “Далекое” оказалось удачей… Но и потому также, что в письме своем Вы затронули ряд насущных вопросов творческой моей жизни и нашего творческого пути. Все мы растем, движемся, стареем. Нет уже “детских шалостей пера”, уже ленивее становишься на подъем и чаще задумываешься о сделанном тобой в жизни. А сделано очень мало, чертовски мало, почти ничего. Багаж моей жизни — мизерен по сравнению с задачами и возможностями, заложенными в жизни.
Почему и думаю я, что дальнейший мой путь должен определиться как путь напряженнейшей и непрестанной работы над собой, своими вещами, наблюдениями, мыслями…
Прошло время, когда, написав пьесу, можно было отдыхать, год наблюдать и потом год писать… Время — вперед! Сдвигаются дни, и когда реально ощутишь, что уже прожито тобой тридцать лет, — поймешь, как небрежен был в жизни, как ленив и нелюбопытен… А главное — как мало мыслей 395 брошено тобой со сцены… Поэтому Ваше письмо, Ваша удовлетворенность пьесой всколыхнули во мне все “чувства лучшие”, развернули перспективу будущего, показали, что можно и надо идти вперед быстрее, а главное — в соответствии с самим собой…
Я не согласен с Вами в оценке “Портрета”… Считаю, что пьеса эта для меня и моего пути закономерна. Не будь ее, не будь удовлетворенной страсти… не появиться бы “Далекому”, во всяком случае, далеко не так быстро и удачно, цельно… Именно в силу того, что “Портрет” взял у меня все возможное в смысле постижения техники сцены, отделки деталей интриги, характеров, именно поэтому мог я, уже не заботясь об этом, подумать о “Далеком” и написать его уверенно…
Вот, пожалуй, главное в характеристике сделанного мной… Да, уверенность сопутствовала мне… и порой чувствовал я, когда писал “Далекое”, что рука, перо приобретают гибкость и упругость, что образы не нуждаются больше в “личных делах”, а отливаются готовыми в голове и сердце… и само действие вытекает свободно из поведения характеров на сцене… Отсюда родятся столкновения и жизнь…
Но эта уверенность была лишь для меня… А когда Вы после прочтения пьесы подошли обнять меня, уверенность стала уже во мне… Вот что необычайно важно… Ибо сотни раз, проверяя себя, борясь с отчаянием и неверием в собственные силы, слушая тысячи мнений и никому не веря до конца, за исключением очень, очень немногих друзей, я никак не мог обрести свое слово, мечась из крайности в крайность… Только теперь, как будто твердо, понял я путь свой… Понял, как могут рождаться образы в сердце и мысль воплощаться на бумаге… И за то, что Вы помогли росту моего определения в себе, хочется крепко пожать Вам руку и от всего сердца поблагодарить…
Уже давно думаю я о роли писателя в нашей социалистической жизни… Инженеры душ… Это же ведь не фраза — это определение существа!.. Кажется, даже с Вами говорил я, что религия была не только средством классового подавления и всяческих иных мерзостей… Религия была еще и суммой этических и эстетических, моральных, нравственных правил личной жизни…
Теперь миллионы живут без религиозного тумана… Но кто 396 будет воспитывать в них новые правила жизни, отношений к людям, к самому себе, все то громадное и замечательное, что не покрывается политикой и директивами?..
Только театр, простите за неуклюжее сопоставление, — это ж как церковь для нас теперь… туда надо ходить учиться жить и вести себя… и, слушая слова со сцены, примерять их на себе, на своем отношении к близким и далеким, друзьям, врагам, посторонним и родным…
Отсюда роль мысли в произведениях наших! Не может быть писатель инженером души, если он сам только слесарь третьего разряда…
Мысли нет в наших пьесах… оттого и образы слабенькие… и худенькие скелеты бродят по сцене…
А мысль может рождаться лишь в столкновении с чувством и через чувство… Слезы Ваши были для меня самой лучшей и по-настоящему прекрасной наградой за сделанное мной… Ибо мысли мои уже воплотились в Вас через образы, и Вы, говоря о начальнике станции, отдающем честь, о глазах Глаши, тем самым роднитесь со мной строем мыслей своих, принимая утверждаемое мной как саму жизнь, как закон ее… Это ли не высшее, чего должен добиваться писатель?
Страшно выросла наша ответственность, всех нас, и драматургов, и актеров, и режиссеров… Уходят в Лету всякие выверты и пряники… Выше и выше поднимается театр… и мы еще не можем представить себе роли, которую он будет играть в самом недалеком будущем, когда улучшится сильно жизнь и время освободится у людей для размышления… а то ведь сейчас думать не то, что не любят, а так некогда что-то… надо бы все поскорей, поскорей… Осознать себя в этом движении вперед — значит уметь мыслить глубже… уметь волновать людей близкими им всем мыслями… через образы, через смех и слезы…
… Вот мысли по поводу Вашего письма… Может быть, они не совсем на повестке дня… уходят от нее, но, во всяком случае, мысли эти вызваны Вашим письмом, которое помогло мне обобщить и утвердить многое, еще только начинавшее формироваться во мне…
Пути наши далеки и трудны…
Еще не раз и не два, наверное, получу я от Вас гневное письмо по поводу очередного “Портрета”…
397 Но так же верю я и в то, что эти гневные письма не остановят Вас от второго такого письма, какое я получил вчера, если Вы когда-нибудь прочтете один ли, со мной ли вновь новое “Далекое”.
В ожидании этого, с большой радостью от уже сделанного, с надеждой на совместную работу по “Далекому” дружески обнимаю Вас, дорогой Николай Васильевич.
А. Афиногенов».
Успех спектакля «Далекое» вновь окрылил талантливого драматурга. Между нами возобновились оживленная переписка, интересные встречи, полные страстных споров и дерзких мечтаний.
Прощай, Харьков!
Малько, как я писал выше, играл Александр Григорьевич Крамов. За три года совместной работы он сыграл четыре роли в моих постановках, и наша творческая встреча актера и режиссера очень обогатила меня.
Крамов играл в спектакле «Ложь» Афиногенова роль Рядового, стойкого коммуниста; старика-виолончелиста Караулова в пьесе Шкваркина «Чужой ребенок»; комкора Малько в афиногеновском «Далеком» и конторщика Епиходова в «Вишневом саде» Чехова.
Одно это перечисление ролей, сыгранных Крамовым в моих постановках, необычайно глубокое внутреннее различие созданных им образов показывает нам огромнейший диапазон его творческих возможностей, а если сюда еще добавить сыгранные им роли в других постановках — легендарный Чапаев, Филька-анархист в «Интервенции» и образ В. И. Ленина в спектакле «Человек с ружьем», то нам станет совершенно ясно, что в лице актера Крамова Харьковский театр русской драмы имел крупнейшего художника.
Только крупный художник-актер может быть убедительным в роли коммуниста Рядового, а затем смешить зрителя до упаду в образе Караулова.
Вчера мы видели Крамова комкором Малько, а сегодня поражаемся неожиданностью актерских сценических красок, 398 которыми он лепит труднейший образ Епиходова. Крамов создал незабываемый, трагический образ Епиходова, потому что брал его глубоко, а не просто смешил публику, как часто делают многие актеры, играющие роль этого незадачливого человека.
Крамов был первым создателем образа Чапаева в московском спектакле, поставленном Е. О. Любимовым-Ланским, и он же как вершину своего мастерства создает образ Ленина.
Вот эта способность полнейшего перевоплощения в диаметрально противоположные образы и нахождение для раскрытия их содержания яркие сценические краски и есть та отличительная черта, которая присуща только очень большим актерам.
У Крамова была несколько своеобразная манера работать. Он очень редко репетировал полным голосом, будто бродя возле будущего своего образа; часто очень тихо почти бормотал текст, стремясь найти органическое поведение образа, не всегда, может быть, отчетливо видя и ощущая его.
Как-то отдельными фрагментами возникал образ в его художнической фантазии, и только на генеральных репетициях, когда он надевал костюм и гримировался, создаваемый им образ приобретал полное звучание, радуя окружающих рождением нового художественного произведения театрального искусства.
Откровенно признаюсь, что при первой встрече в работе с Александром Григорьевичем над ролью Рядового в спектакле «Ложь», я даже заволновался, не очень ясно понимая, каковы же будут результаты при такой своеобразной работе Но итоги были прекрасные, и актер Крамов обогатил меня тем, что открыл еще один путь работы актера над созданием образа, доселе мне неведомый. Мне, воспитаннику Художественного театра, утверждавшему логическую последовательность выращивания создаваемого образа, было несколько непривычно и непонятно видеть импрессионистическую, а возможно что и экспрессионистическую манеру лепки Крамовым своих образов, и тем не менее в итоге он всегда бывал победителем.
Когда мы приехали в Харьков, в первый же день после сбора труппы, приветствий, программных выступлений, после обеда-банкета и первой вечерней репетиции «Лжи» Крамов 399 пришел ко мне в номер и совершенно неожиданно заявил, что завтра же он уезжает обратно в Москву.
— Это была моя огромнейшая ошибка, когда я дал согласие работать в Харькове, — говорил он. — Я чувствую, что не смогу привыкнуть к здешней жизни, и рано или поздно, но непременно уеду отсюда. Так уж лучше и честнее уехать сразу же, чем, войдя в дело, покидать его и тем нанести большой производственный вред.
Часов до трех ночи беседовали мы с ним, и он ушел, не убежденный мною до конца, но все же отложивший свой отъезд на некоторое время.
Так и не уехал Крамов из Харькова, и после моего отъезда принял на себя руководство театром, хотя все время, до самой своей смерти, он постоянно говорил о своем отъезде.
И когда, бывало, он вновь и вновь возвращался в разговорах к этой теме, то никогда нельзя было сказать, серьезно ли он говорит об этом или шутит и дразнит нас.
А как он бывал неистощим на шутки в жизни, и каким он обладал серьезным юмором, а ведь это, можно сказать, самый «дорогой», настоящий юмор.
Дружно и творчески интересно жили и работали мы в Харькове, и в создании этой творческой атмосферы Александр Григорьевич Крамов принимал самое деятельное участие.
Повествование о Харькове приближается к своему концу. Читатель вполне законно может задать мне вопрос: почему же все-таки я оставил такую действительно увлекательную работу и покинул театр, прошедший самый трудный этап в своей жизни?
Конечно, самое трудное в строительстве театрального дела это сорганизовать творческий коллектив и вести его в первые два-три сезона по намеченной заранее творческой программе. Правильно намеченный и уверенно пройденный путь первых сезонов создает такую силу инерции, которая помогает дальнейшей жизни театра иногда на протяжении многих лет и даже десятилетий.
Нами еще совершенно не изучен этот интересный вопрос о двигательной силе, наличествующей в наших театрах. Мы как-то еще очень плохо разбираемся в том, что же есть основной двигательный стимул — творческая программа, положенная в основу существования театра, или прежней 400 жизнью выработанная инерция, по которой и влачится существование театра.
Мы еще достаточно близоруки и не очень-то хорошо различаем два понятия: «творческая жизнь театра» и «благополучие его существования». А ведь жизнь очень отлична от существования.
Читатель видел, что нам удалось создать нормальную и творчески хорошо питающую театр атмосферу, и благодаря этому театр так быстро встал на ноги и смело шагнул к намеченным целям, благополучно, а временами даже и интересно свершая свой путь.
Дальше произошло следующее. Столицей Украины правительственным постановлением стал Киев, и перебазирование различных организаций и учреждений в новую столицу окончилось тем, что мы, оставшись в Харькове, автоматически превратились в периферийный театр.
Нас заверяли, что все останется, как было и раньше, но реальная жизнь опрокинула заверения. Одна за другой как-то усыхали и испарялись те привилегии, которыми пользовался наш театр как столичный. Резко сократилась, а потом и вовсе прекратилась издательская деятельность театра. Перестала выходить наша газета. Начали поговаривать о закрытии учебной студии и т. д.
Возможно, что мы с Радиным не проявили достаточной энергии в борьбе за свои права и поддались голосу обиженного самолюбия. Нам казалось, что при создавшихся условиях через год-два театр упрется в тупик и станет равнодушно «крутить шарманку» обычных ежедневных спектаклей. Не для этого мы все ехали в Харьков, и не такая деятельность была нашей мечтой. Здесь и родилось решение покинуть театр, и я надумал вновь побродяжить…
401 Глава 9
«Вишневый сад»
Воспоминания о Харькове были бы далеко не полными, если бы я не коснулся еще одной темы, волновавшей меня в те дни.
Приближалось семидесятипятилетие со дня рождения А. П. Чехова, и мы решили отметить эту большую дату постановкой «Вишневого сада».
Я останавливаюсь на этой работе не только потому, что влюблен в эту пьесу и считаю ее совершенным творением, двинувшим русскую классическую драматургию на следующую ступень ее развития, не только потому, что я целиком согласен со Станиславским, писавшим, что «книга о Чехове еще не прочитана до конца, раскройте и прочтите ее», не только потому, что мы отмечали знаменательную дату, не только потому, что для самого Чехова «Вишневый сад» был действительно новым творческим словом в его драматургии, но и потому, что, как мне кажется, эта работа творчески обогатила жизнь нашего театра и заставила нас серьезно задуматься над рядом теоретических вопросов, вставших при постановке этого спектакля.
Искусство театра, существующее главным образом во 402 времени, то есть тогда, когда идет спектакль, теснейшим образом связано с жизнью, с сегодняшним днем, с сегодняшними запросами общества, и потому драматурги, твои современники, являются наибольшими твоими друзьями и учителями, поскольку вместе с ними ты строишь современный театр.
Но и среди блестящей плеяды классиков драматургии есть имена, которые тебе дороги так же, как и современников.
И, вероятно, это происходит оттого, что они своим творческим вкладом так обогатили театр и жизнь, что богатства этого хватает и по сегодняшний день.
Они из далекого прошлого как бы протянули нам руку и готовы идти вместе с нами на завоевание высот современного театрального искусства, помогая народу строить свое лучезарное будущее.
И вот почему наряду с именами драматургов, друзей-современников — Алексея Толстого и Луначарского, Ромашова и Всеволода Иванова, Билль-Белоцерковского и Яновского, Афиногенова и Тренева, Гусева и Киршона, наряду с титаническими именами Горького и Маяковского — невольно вспоминается и иронически прищуренный взгляд Антона Павловича Чехова.
Мне довелось поставить все его пьесы, но к «Вишневому саду» я возвращался неоднократно.
Возвращался на различных этапах своего творческого становления, и каждый раз все больше и больше поражался богатству, таящемуся в этом необыкновенном драматургическом произведении.
Так почему же из всей драматургии Чехова я возвращаюсь именно к «Вишневому саду»?
Конечно, не только потому, что «и в энциклопедическом словаре упоминается про этот сад», не только потому, что нет ничего прекраснее и волнительнее в своей девственности, чем цветущие вишневые сады, не только потому, что эта талантливая пьеса не сходит со сцен русских и европейских театров, а потому, мне кажется, что нет более сложного, тонкого и в то же время простого драматургического произведения, нет более глубокой пьесы, не исследованной до сих пор полностью в своих глубочайших тайнах, нет более неразрывно связанного художественного произведения со своей эпохой, нет другого такого драматургического произведения, в котором 403 бы так полноценно раскрылась прекрасная человеческая суть драматурга-художника, в предсмертные месяцы своим обостренным ухом услышавшего тревожное дыхание эпохи.
«Вишневый сад» мне представляется драматургическим произведением такой емкости и глубины, что ни нашего познания, ни нашей техники и мастерства не хватает, чтобы достигнуть дна этой необычайной пьесы.
А работая над ней и думая о ней, мы совершенствуем и углубляем наше мастерство.
Так как же не возвращаться к этому богатству, одно только прикосновение к которому тебя обогащает?
А ведь прикасаясь к любому драматургическому произведению, ты невольно прикасаешься к самому сложному, что есть в театральном организме. Ты прикасаешься к душевному миру драматурга в период его работы над данным произведением.
Я неоднократно высказывался, что первое, чем я бываю заинтересован, приступая к новой постановке, — это именно душевное состояние драматурга в период создания им данной пьесы.
Меня интересует не только то, что хотел сказать драматург своей пьесой, не только то, как он это сказал, но меня интересует больше всего и в первую очередь почему он это сказал?
Каков был строй его душевного мира во время творческой работы над созданием данной пьесы?
Душевный мир драматурга — это первый ключ, которым открываются врата, за которыми скрыты тайны творческих процессов художников, не разгадав которых вы никогда не сможете полностью познать созданное им произведение искусства.
И вот это-то познание духовного мира драматурга, соприкосновение твоей творческой взволнованности с ним, мне думается, и будет тем зачатием, в результате которого рождается подлинный спектакль. Столкновение мысли драматурга и мысли режиссера, выражающих суть их духовной жизни именно в «сегодняшний день», и есть зачатке того процесса, который мы называем рождением будущего спектакля.
404 Три причины возврата
Желание проникнуть в духовный мир А. П. Чехова, когда он работал над «Вишневым садом», и есть та первая причина, которая неоднократно возвращает меня к этому необыкновенному произведению. А если мы серьезно задумаемся над теми отношениями, которые существовали между А. П. Чеховым, К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко во время работы над «Вишневым садом», то мы начнем понимать и все вышесказанное и, пожалуй, согласимся, что не такая уж это досужая мысль режиссера Петрова, а скорее правильный вывод из истории блестящих дней рождения и жизни Московского Художественного театра.
Не будем забывать, что и сами создатели Художественного театра, поставив на своей сцене все пьесы Чехова, раскрыв его как драматурга и этим самым установив новую веху на пути развития русского театра, неоднократно высказывались о новом возврате к Чехову, о новом его прочтении.
«Глава о Чехове еще не кончена, ее еще не прочли как следует, не вникли в ее сущность и преждевременно закрыли книгу. Пусть ее раскроют вновь, изучат и дочтут до конца» (К. С. Станиславский).
«Придет какая-то молодая труппа, очень талантливая, какие-то наши внуки, которые сумеют схватить все то, что сделал Художественный театр с Чеховым, и в то же время сумеют как-то осветить пьесу и с точки зрения новой жизни, и тогда опять будет реставрация “Вишневого сада”, и тогда Чехов еще раз начнет жить для русской публики» (Вл. И. Немирович-Данченко).
Эти высказывания великих деятелей русского театра являются причинами моих все новых и новых возвращений к работе над «Вишневым садом».
А может быть, эти частые возвращения происходят и оттого, что вся моя театральная жизнь сопутствовала сценической жизни «Вишневого сада»?
Именно в 1903 году, будучи влюбленным в Чехова и зачитываясь его произведениями, я впервые увидел его в жизни, и эта встреча совпала с началом мечты о театре, и эта мечта крепла, становилась реальностью, сначала корявой, но все же реальностью.
Через пять лет я попал в число счастливой группы молодежи, 405 принятой в Художественный театр, и там, на сцене, увидел незабываемый спектакль — «Вишневый сад».
А было мне в то время всего только девятнадцать лет.
Через год летом я жил в городе Сумах и часто бывал в усадьбе Линтваревых на Пеле, где жил когда-то и Антон Павлович. В моих альбомах того времени (я тогда увлекался живописью) сохранились наброски и дома, где жил Чехов, и виды на сад с балкона дома.
Все это как будто и не имеет прямого отношения к поставленному мной вопросу, а может быть, и имеет, потому что и влюбленность в Чехова-современника, и далекое юношеское воспоминание о живом Чехове, и благоговение, с которым я ходил по комнатам линтваревской усадьбы — все это неминуемо где-то отложилось в душевных тайниках молодого человека.
И это, мне кажется, третья причина моих возвращений к «Вишневому саду».
Ведь через «Вишневый сад», который является сверстником моей творческой жизни, я из современности протягиваю руку далекому прошлому, современником которого я был.
Я хорошо помню платья, фасоны рукавов, прически матери и старшей сестры, и это именно тот внешний вид, который имеют Раневская и Аня. В альбоме моих фотографий есть снимок загородного митинга в Вологде в 1904 году, и, рассматривая в лупу фигуры людей и их одежды, как будто бы попадаешь в эпоху костюмной пьесы — а снимок сделан мной, и я был участником жизни этой якобы костюмной эпохи.
Я сейчас принимаю «Вишневый сад» как классику, но где-то в далеком прошлом он все-таки являлся для меня современной пьесой.
Драматург и театр
«Вишневый сад» Чехов назвал комедией, но по сути своей эта комедия является романом, увлекательным романом, который охватывает период жизни от 1861 до 1905 года и в котором рассказано о жизни русских людей накануне начала краха царской России.
406 Именно в 1905 году треснули устои царской России, и жизнь страны вступила в свою новую двенадцатилетнюю фазу, являвшуюся финальным этапом определенного общественного уклада. В глубинных пластах общественной жизни России зрели и формировались новые силы; быт жизни начал стремительно расползаться и разваливаться. В письме к Чехову от 2 октября 1903 года А. Суворин пишет: «Мне кажется, что не только я разваливаюсь, не только “Новое время” разваливается, но разваливается Россия». Именно об этом «развале» и светлых перспективах будущего и написал Чехов в своей последней комедии.
Для того чтобы нам яснее стал духовный мир А. П. Чехова в период его работы над «Вишневым садом», для того чтобы нам в нем было легче разобраться, прежде всего необходимо ознакомиться с высказываниями самого Чехова как о своей пьесе, так впоследствии и о спектакле, поставленном К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко.
Не менее важны будут точки зрения и Станиславского и Немировича-Данченко также на пьесу и на созданный спектакль.
Эти материалы, мне кажется, дадут нам возможность слегка приоткрыть завесу, скрывающую от нас те противоречия, которые были между автором, театром, поставившим «Вишневый сад», и критикой, направленной и на пьесу и на спектакль. А разобравшись в них, возможно, мы сможем нащупать и те противоречия, которые были скрыты и в самом Антоне Павловиче в период создания им «Вишневого сада».
Письма того времени и к О. Л. Книппер, и к К. С. Станиславскому, и к Вл. И. Немировичу-Данченко, и к М. П. Лилиной прежде всего раскрывают нам отношение самого Чехова к пьесе. Он назвал ее комедией, он писал, что «вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс, и я боюсь, как бы мне не досталось от Владимира Ивановича».
Он неоднократно пытался отстоять свою точку зрения на комедию-водевиль, и даже чересчур резко высказывал ее: «Почему на афишах и в газетных объявлениях моя пьеса так упорно называется драмой? Немирович и Алексеев [Станиславский] в моей пьесе видят положительно не то, что я написал, и я готов дать какое угодно слово, что оба они ни разу не прочли внимательно моей пьесы».
407 Он протестовал против психологической затянутости четвертого акта, желая подчинить душевную жизнь образов закону времени: «Как это ужасно! Акт [IV], который должен продолжаться 12 минут maximum, у вас идет 40 минут! Одно могу сказать: сгубил мне пьесу Станиславский».
Он пытался натолкнуть на правильное понимание образа Вари: «Почему ты в телеграмме говоришь, что в пьесе много плачущих? Где они? Только одна Варя, но это потому, что Варя плакса по натуре, и слезы ее не должны возбуждать в зрителе унылого чувства. Часто у меня встречаются “сквозь слезы”, но это показывает только настроение лиц, а не слезы».
Чехов вообще стремился снять налет излишнего драматизма, который он ощущал, получая письма и Станиславского и Немировича-Данченко из Москвы, где шла работа над спектаклем.
А письма действительно давали возможность быть встревоженным Чехову: «Это не комедия, не фарс, как Вы писали, — это трагедия, какой бы исход к лучшей жизни Вы ни открывали в последнем акте», — писал Станиславский Чехову.
Но дело было не только в понимании общей тональности спектакля, дело было в более сложных и глубоких вопросах, которые ощущал также и Вл. И. Немирович-Данченко, и о чем он говорил впоследствии: «Так как уже были сыграны и “Чайка”, и “Дядя Ваня”, и “Три сестры”, то многие средства уже были использованы и очень может быть, что в своей новой пьесе Чехов искал новых приемов для воздействия и на театр и на публику».
Несмотря на то, что это была уже не первая пьеса А. П. Чехова и актеры не только нашли своеобразие сценической чеховской тональности, но и утвердили ее в истории русского театра, тем не менее в этом спектакле они не сразу овладели пьесой.
Именно это подтверждает и Владимир Иванович: «Казалось бы, театр уже уловил подход к пьесам Чехова, но теперь явились новые затруднения, и через самый аромат произведений, через какое-то особенное своеобразие отношений лиц нужно было догадаться о том, что хотел сказать Чехов и что хотел нарисовать Чехов».
Не случайно Немирович-Данченко говорит об «особенном 408 своеобразии отношений», о том, что «нужно было догадаться о том, что хотел сказать Чехов».
Тысячу раз прав Владимир Иванович, утверждая, что нужно догадаться о том, что хотел сказать Чехов.
Но ведь Чехов не только «хотел сказать», но и сказал, и сказал гениально, утвердив новый драматургический прием, прием, новый для самого Чехова и, очевидно, не нашедший тогда адекватного сценического решения в театре.
Очевидно, именно в этом-то и крылись те противоречия, которые возникли между драматургом и театром, взаимно влюбленными друг в друга.
И если в «Чайке» театр слился с драматургом полностью, растворился в драматурге и драматург растворился в театре, то есть произошло подлинное и идеальное взаимопроникновение, то в «Вишневом саде» такого не случилось.
В одном из писем Чехову, в конце декабря 1898 года, Горький пишет об одном старом театрале, который сказал ему: «… почти сорок лет хожу в театр и многое видел. Но никогда не видел такой удивительно еретически-гениальной вещи, как “Чайка”. Это не один голос — Вы знаете. Не видел я “Чайку” на сцене, но читал — она написана могучей рукой».
И вот Художественный театр, гениально раскрыв Чехова-драматурга, сценически решив и «Чайку», и «Иванова», и «Дядю Ваню», и «Три сестры», чем-то не удовлетворил автора. Да и у самих руководителей не было полной уверенности, что они нашли сценически то новое, что принес Чехов в своем «Вишневом саде».
О чем-то «не догадались» и не нашли «особенное своеобразие отношений», в чем сознавался и Немирович-Данченко.
Почему же это произошло?
А произошло это, мне думается, потому, что идейно-творческий путь художника Чехова от «Чайки» до «Вишневого сада» был несколько иной, чем этот же путь у Художественного театра.
С каждой новой пьесой Чехов все глубже и глубже проникал острым глазом художника в самую суть человеческой жизни того времени. Он ощущал надвигающиеся общественные события и видел влияние их на людей. Он глубоко входил в жизнь, пытаясь приподнять таинственную завесу будущего и желая сценически воплотить грядущие события.
И если в 1901 году Чехов писал Горькому: «Я мало, почти 409 ничего не знаю, как и подобает россиянину, проживающему в Татарии, но предчувствую очень многое», — то уже в 1903 году, в год работы над «Вишневым садом», он говорил С. Мамонтову: «Нагрянут в России такие события, которые все перевернут вверх дном. Мы переживаем такое время, какое переживали наши отцы накануне крымской кампании».
Чехов не был активным революционером, но он был подлинным художником, нервно и чутко ощущал биение пульса общественной жизни России накануне 1905 года.
И если в прежних пьесах его увлекала сложность и тонкость человеческой психики, если он в молчании пытался раскрыть движение жизни образа, если он находил необыкновенную силу полутонов, то во время работы над «Вишневым садом» он особенно остро ощущал встревоженность общественной жизни, в которой уже звучали отдаленные раскаты будущих русских революций. Он ощущал начавшийся развал царской России.
Именно об этом-то «развале» и писал Чехов в своем «Вишневом саде», и именно этот-то развал и увидел В. Дорошевич, поместив статью в «Русском слове»: «Помещичье землевладение умирает, и Чехов прочел ему отходную, поэтическую, прекрасную… Последний акт — страшный акт. Это жестокий акт».
Чехов в период работы над «Вишневым садом» был совершенно другой Чехов, чем в дни написания «Чайки», его интересовало другое, и для сценического решения этого другого он искал иную идейно-эстетическую концепцию, мучительно вырабатывая для этого нового — новую драматургическую форму.
Вот почему и работа шла так мучительно трудно: «Пишу по 4 строки в день, и те с нестерпимым мучением».
Так писал Чехов Вл. И. Немировичу-Данченко.
Да, Чехов был иной, а Московский Художественный театр остался почти тем же, как и в дни «Чайки». Театр вырос, возмужал, получил признание, но общественные интересы его развивались медленнее, чем у Чехова.
И если в «Чайке» действительно произошло полное слияние автора и театра, то в «Вишневом саде» этого не случилось, так как автор и театр в это время стояли уже на разных идейно-творческих платформах. Это различие, конечно, было не осознанно, эта разница была мало заметна, но намечалось 410 уже различие целеустремленностей в сценическом решении пьесы «Вишневый сад».
Чехов отжимал все лишнее, он спрессовывал психологию образов, он сознательно закладывал необыкновенные противоречия как в самые образы, так и в построение актов и отдельных сцен, он ставил новые задачи и перед режиссурой и перед актером. Художественный же театр сценически решал спектакль «Вишневый сад» старыми творческими приемами, найденными в прежних работах над прежними пьесами Чехова.
Чеховское мучительное новое в драматургии театр решал по-старому.
И в этом-то, мне кажется, и крылось то еле ощутимое, но все же существовавшее противоречие, которое возникло между драматургом и театром. Драматург идейно перерос театр Драматург в жизни занял иное место, чем театр. А жизнь в то время была сложная, и разобраться в происходящих событиях, еще не видимых, но для художника уже ощущаемых, было довольно трудно: «Жизнь приняла характер напряженный, жуткий. Кажется, что где-то, около тебя, в сумраке событий, притаился огромный черный зверь и ждет и соображает — кого пожрать. А студентки — милые люди, славные люди! Лучшие люди в эти дни, ибо бесстрашно идут, дабы победить или погибнуть. Погибнуть или победить — не важно, важна драка, ибо драка — жизнь. Хорошо живется». Так писал Горький Чехову в конце марта 1901 года.
Чехов в эти годы по-иному, чем прежде, понимал жизнь и расценивал свою роль писателя. Горький в письме к В. А. Поссе в том же 1901 году пишет о Чехове: «Чехов пишет какую-то большую вещь и говорит мне: “Чувствую, что теперь нужно писать не так, не о том, а как-то иначе, о чем-то другом, для кого-то другого, строгого и честного”. Полагает, что в России ежегодно, а потом ежемесячно, потом еженедельно будут драться на улицах, и лет через десять-пятнадцать додерутся до конституции. Путь не быстрый, но единственно верный и прямой. Вообще А. П. очень много говорит о конституции, и ты, зная его, разумеется, поймешь, о чем сие свидетельствует. Вообще — знамения, все знамения, всюду знамения. Очень интересное время».
Именно в это-то «интересное время» Чехов и создает свой «Вишневый сад», лебединую песню своей драматургии.
411 Именно в это «интересное время» назревали и обострялись противоречия в общественной жизни.
Именно в это «интересное время» революционное движение в России готовилось к «генеральной репетиции».
Очевидно, Чехов более острым ухом и глазом художника, более тонким чутьем ощущал эти назревающие события, так как более широко и глубоко видел жизнь, чем театр.
Художественный театр, как, к несчастью, и всякий театр, был более замкнут в самом себе, менее широко осознавал и понимал смысл грядущей жизни, и интересы его были ограничены более узкими творчески профессиональными и эстетическими вопросами.
Не будем забывать, что именно в это время Станиславский, не удовлетворенный современной техникой актерского мастерства, не способной, с его точки зрения, раскрыть тонкости и сложности новой драматургии, готовился к открытию студии на Поварской. Студии так и не было суждено открыться.
Общественные события как вихрь смели эти эстетические затеи, заставив театр задуматься и о репертуаре и о своем дальнейшем творческом пути, о чем в дни десятилетнего юбилея театра с достаточной ясностью и откровенностью, присущей только большим и подлинным художникам, говорили и К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко.
«Противоречия» в Чехове
Именно в этом-то различном понимании жизни, пусть неосознанном, но несомненно существующем, и крылось то противоречие, которое еле заметно, но все же ощущалось между драматургом Чеховым и Московским Художественным театром.
Противоречия взрывали видимое спокойствие жизни русского общества. Противоречия намечались между автором и театром.
Но, мне кажется, что и в духовной жизни самого Антона Павловича бушевали свои, присущие большому художнику и кристально чистому человеку противоречия, которые направляли и определяли новый путь драматурга Чехова.
412 Пусть только начатый, пусть нашедший воплощение лишь в одном «Вишневом саде», но все же новый путь, смысл и существо которого должно быть для нас тем более ценно. И не случайно великий провидец путей развития русского театра — Станиславский дал нам, последующему поколению, свой завет: «Глава о Чехове еще не кончена, ее еще не прочли как следует, не вникли в ее сущность и преждевременно закрыли книгу. Пусть ее раскроют вновь, изучат и дочтут до конца».
И если нашему поколению не удастся дочесть ее «до конца», то, во всяком случае, мы, выполняя завет Станиславского, обязаны кое-что оставить последующему поколению.
На нас лежит обязательство «как следует» вникнуть «в ее сущность» и тем облегчить будущим художникам русского театра полнее, глубже и интереснее прочесть эту увлекательную «главу» и в особенности последние ее страницы, на которых увековечен бессмертный, но полный тайн, благоухающий «Вишневый сад».
Обратимся же к тем мыслям и страстям, которые, сплетаясь в сложнейшие противоречия, бушевали во внешне спокойном и мягком, всегда немного ироническом облике художника — Антона Павловича Чехова.
В одном из писем к Чехову Горький писал: «Знаете, что Вы делаете? Убиваете реализм. И убьете Вы его скоро — насмерть, надолго. Эта форма отжила свое время — факт! Дальше Вас никто не может идти по сей стезе, никто не может писать так просто о таких простых вещах, как Вы это умеете».
Горький неправ, конечно, утверждая, что Чехов убивает реализм, но он тысячу раз прав, ощущая, что Чехов поднимает до таких недосягаемых высот понятие критического реализма, находит такую необыкновенную форму этим высотам, утверждает и в литературе и в драматургии такую новизну словесного мастерства, что действительно может создаться впечатление рождения и выковывания новых эстетических понятий и в литературе и в драматургии, понятий, идущих на смену обычному понятию реализма.
Чехов действительно сделал такой скачок и в литературе, и особенно в драматургии, что может создаться впечатление рождения чего-то нового.
И это новое действительно родилось в «Вишневом саде». 413 Но не как абсолютно самостоятельно новое, а как высшая форма критического реализма или как начало нового этапа.
Чехов, верный сын своего народа, действительный член русского общества, неразрывными узами связанный с жизнью своей родины, гениальный художник, явился подлинным выразителем того нового своеобразия реализма, которое выдвигала новая эпоха, эпоха предреволюционных гроз. Искусство неотрывно от жизни. Подлинное искусство — часть жизни. Из жизни рождаемое, оно, входя в жизнь, преобразовывает ее. Так как же подлинному художнику не услышать отзвуков нового, как же ему не почувствовать новый пульс общественной жизни, не ощутить нового темперамента, новой энергии жизни, не уловить новые взлеты мыслей, и всему этому не найти новые художественные формы?
Чехов раскрывал более широкие горизонты в художественном понятии реализма, он находил более неисследованные глубины, он дерзновенно призывал к радостному, но еще недостаточно ясному будущему, он утверждал новое понятие реализма в его идейной сущности, присущее данной эпохе.
Понятие реализма не есть стабильное понятие, и оно видоизменяется вместе с жизнью.
Чехов оказался самым чутким художником эпохи, творческой сутью своей услышавшим то, чего многие еще не слышали. Чехов «предчувствовал очень многое».
И это свое «предчувствие» он облек в прекрасный «Вишневый сад», найдя для него новую, революционную драматургическую форму, которая поставила и перед театром, и перед режиссурой, и перед актерами задачу понять ее и найти ей адекватное творческое сценическое решение.
Найдено ли это решение?
Мне думается, нет, точно так же, как оно до сих пор еще полностью сценически не найдено в решении таких пьес, как «Борис Годунов» Пушкина, «Ревизор» Гоголя, «Горе от ума» Грибоедова.
Так как же вновь и вновь не возвращаться к исследованию этих необычайных богатств, познание которых возможно только тогда, когда нам удастся проникнуть в творческую сущность художников, создававших их.
А. П. Чехов, будучи бесконечно скромным человеком, еще в 1888 году писал Суворину: «Все мною написанное забудется 414 через 5 – 10 лет; но пути, мною проложенные, будут целы и невредимы — и в этом моя единственная заслуга».
Уже в 1888 году Чехов резко делил вопросы, что он пишет и как он пишет. Он был более чем скромен в оценке своих художественных произведений, но он был твердо убежден, что «пути, мною проложенные, будут целы и невредимы» — и именно в этом он видел свою «единственную заслугу».
Чехов был революционер и в литературе и в особенности в драматургии. Он взрывал старые отживающие формы и для своего нового содержания выковывал и оттачивал новые, устанавливая в русской литературе и драматургии новые вехи и прокладывая новые пути в будущее русского искусства И именно в то время, когда Чехов писал «Вишневый сад», когда ему удалось не только нащупать, но и гениально найти новую форму для своего нового произведения, рождаемого в тревожное время жизни России, и когда он, как художник, понимал, что он создал что-то новое, — отсюда и его страстное отстаивание жанра своей новой вещи и наивные, но трогательные по необыкновенной искренности письма, защищающие характер своей новой пьесы: «Сгубил мне пьесу Станиславский», — именно в это время, находясь как художник на необыкновенной высоте и творческими очами своими видя и ощущая прекрасное будущее в жизни, он, как врач, понимал, что его жизнь кончается, что близится время, когда он замолчит как художник, и все страстно призывные песни, живущие в нем и обращенные к радостному будущему, останутся неспетыми.
Понимать, что ты уносишь в могилу сокровища, которыми ты обладаешь, понимать, что ты не можешь отдать человечеству свои мысли и свои чувства, понимать, что ты до конца не свершил то, что тебе предначертано, — понимать это и ясно видеть неумолимое приближение смерти — это ли не величайшая трагедия и человека и художника?!
И именно в этом-то состоянии Чехов мучительно работал над «Вишневым садом».
Так неужели же это сложное и трагически противоречивое душевное состояние не отразится на последней вещи?
А Чехов знал, знал, как врач, что дни его сочтены и что «Вишневый сад» — его лебединая песня.
А если и не знал, то несомненно ощущал.
415 Ощущал так же, как ощущал и Вахтангов, работая над «Принцессой Турандот», так же, как совершенно неосознанное ощущение близости смерти напрягло всю душевную энергию и мобилизовало все духовные богатства у Щукина в работе над не сыгранной, но гениально сделанной ролью городничего, так же, как не увидели мы великолепно сделанной роли Иоанна Грозного у Хмелева, раскрывающей нам облик нового трагического актера.
Лебединая песня большого художника — разве это не своеобразный ключ к раскрытию и пониманию созданного им произведения искусства?
В спорте существует понятие «второго дыхания», — а кто знает, возможно, что у подлинного художественного произведения существует и третье и четвертое дыхание.
Неуловимые, неосознанные, еле заметные, намечающиеся разногласия между драматургом и театром, являющиеся своеобразными творческими противоречиями, были по своей сути рождены теми противоречиями, которые были заложены в самой жизни и которые не могли не перекликаться, не найти отзвука с теми творческими противоречиями, которые бушевали в страстной натуре великого художника, ощущавшего неумолимую поступь смерти.
Вот этот-то сложнейший узел трех противоречий и служит, мне кажется, компасом в подходе к работе над «Вишневым садом», и этот компас указывает нам путь к анализу бессмертного произведения Антона Павловича Чехова, который с каждым годом становится нам дороже и ближе как вдохновенный певец труда, как величайший поэт красоты, правды и нравственного начала в человеке.
Система образов
На каждой репетиции в театре, на каждом уроке в институте, работая и с актером и с учениками, я постоянно говорю о системе художественных образов. Неоднократно высказывался я об этом и в печати.
Работая сам и наблюдая работу окружающих товарищей, я пришел к выводу, что существуют два понятия: галерея сценических образов и система сценических образов.
416 В понятии галерея — дело ограничивается интересностью построения и жизненной правдивостью каждого отдельного образа. Образы зачастую строятся вне понимания основной идейной направленности спектакля и не являются результатом необходимости, а рождаются благодаря буйной и бездумной фантазии и режиссера и актера, ничем не обусловленной, кроме желания создать яркий и интересный сценический образ, или рождаются от дилетантизма драматурга, когда ему необходимо о чем-то сказать, что-то сообщить зрителю и он создает так называемые служебные образы.
В понятии же система сценических образов — жизненность, правдоподобие и яркость образа обусловливаются прежде всего идейной направленностью будущего спектакля. Каждый образ закономерно необходим, исходя из сценического действия и сценической жизни всех сценических образов.
В понятии галерея — все образы фронтальны, они все выпирают на первый план, они спорят друг с другом, они не помогают друг другу, а, скорее, мешают, они не дополняют один другого, и в них не чувствуешь закономерной необходимости.
В пьесах, написанных исходя из понятия галереи сценических образов, возможно безнаказанно убивать образы, передавая реплики одних персонажей другим.
Вспоминаю любопытный случай из своей практики.
В пьесе Яновского «Ярость», которую я ставил в Александринском театре, было занято около ста человек.
Летом группа молодежи, отправляющаяся в поездку, решила включить в свой репертуар «Ярость». Спектакль у них шел с большим успехом, идейно смысловое значение его нисколько не было снижено, хотя исполнителей было всего двадцать человек.
В пьесах же, написанных исходя из принципа системы сценических образов, нельзя тронуть ни одного персонажа.
Все они строго необходимы, между ними существует закономерная гармония, и попробуйте убрать хотя бы самый незначительный персонаж как рухнет вся пьеса.
В такой пьесе невозможно передать реплику одного персонажа другому.
Понятий галерея и система, к великому сожалению, в нашей практике не существует, а вот если бы мы серьезно 417 задумались над этой проблемой, то многих ошибок не было бы в нашем театре как у драматургов, так и у режиссеров и у актеров.
«Вишневый сад» идеально подтверждает существование понятия системы художественных образов.
Каждый образ в «Вишневом саде» закономерен, и ни один образ не обособленно самостоятелен. Каждый образ раскрывается в тесной зависимости от остальных образов, и все вместе, будучи связанными неразрывной цепью в своих взаимосвязях и взаимовлияниях, представляют идеальную гармонию сценических персонажей.
Законы взаимосвязи и взаимовлияния, устанавливаемые идейной сутью пьесы, и образуют то понятие системы, о которой я говорил выше.
Создавая кованую систему сценических образов в «Вишневом саде», Чехов расширил это понятие, включив в систему образов не только те персонажи, которые действуют на сцене, но и те персонажи, которые в пьесе не действуют на сцене, но существуют и действуют во внесценическом действии. Понятие внесценического действия и внесценических образов блестяще утверждается Чеховым в «Вишневом саде».
В самом деле, разве любовник Раневской не живое существо, разве Дериганова не хочется сыграть — настолько он убедителен в монологе Лопахина, а разве не живое интереснейшее существо ярославская тетушка?
Данные образы не только живы и любопытны, но они, не существуя фактически на сцене, активно действуют в спектакле.
Их внесценическая жизнь настолько богата, что дает возможность написать самостоятельные пьесы о судьбе данных образов.
Своей комедией «Вишневый сад» Чехов утвердил новый драматургический прием, устанавливая все происходящее на сцене как результат столкновения нескольких пьес, выходящих за пределы обычного сценического действия. Приведу примеры.
Вот материалы для этих пьес.
Раневская выходит «замуж за недворянина» против воли своей тетки. Муж умирает «от шампанского», она сходится с другим «и как раз в это время… вот тут на реке…» утонул 418 ее маленький сын, Раневская бежит, уезжает за границу. Любовник едет за ней. Она покупает дачу возле Ментоны, «так как он заболел там». Три мучительных года на даче в Ментоне. Дача продается за долги. Раневская едет в Париж, он за ней, обирает ее в Париже, сходится с другой. Раневская пробует травиться. Стыд, отчаяние, тоска по родине. Приезд Ани в Париж. «Старый патер с книжкой». Возвращение в Россию.
Материалы второй пьесы.
Жизнь в этом же имении в 1860 году. Гаев и Раневская — дети. Их отец, который «всех сургучом пользовал», — набожный. Дом — полная чаша. Вишню «возами отправляют в Москву». Балы, на которых «танцевали генералы, бароны, адмиралы». Семья набожная и суеверная. «Самовар гудел бесперечь». «Сова кричала». Это перед несчастьем. Освобождение крестьян — это «несчастье». И дальше… семейная радость и гордость — что вишневый сад попал в Энциклопедический словарь.
Материалы третьей пьесы.
Ярмарочный балаган. Счастливая пара акробатов. Рождение девочки. Трудности работы. Работает один — содержит троих. Трудности жизни. Ребенок подрос и помогает родителям. Но жизнь уже подорвала силы. Смерть матери. Смерть отца. Девочку берет к себе «немецкая госпожа». Учеба девочки. Смерть «немецкой госпожи». Девушка начинает зарабатывать деньги уроками. Два пути. Путь ярмарочной плясуньи и путь гувернантки.
Целую пьесу можно написать на материалах, относящихся к внесценической жизни Симеонова-Пищика.
Самостоятельная пьеса — детство Лопахина и превращение его из простого бедного человека в капиталиста.
И дело, конечно, не в количестве пьес, которые можно написать, исходя из материалов «Вишневого сада», а дело в том, что Чехов нашел новый драматургический прием, который и положил в основу, работая над своей последней комедией.
Чехов выходил за пределы «комнатного психологизма», взрывал законы, им же установленные для предшествующих пьес, и подсознательно, а возможно и сознательно, пытался внести социальное звучание в свою пьесу.
419 То, что я называю «внесценическим действием», позволяло ему расширять рамки пьесы, превращая ее, как я и говорил выше, в социальный роман.
Система сценических образов обогащалась внесценическими образами, создавая своеобразие и богатство данной системы.
В одной из своих работ я приводил как пример хотя бы даже просто количество этих внесценических образов.
В первом акте (перечисляю в порядке появления в акте):
Отец Лопахина.
Садовник.
Старый патер с книжкой.
Федор Козоедов, отец Дуняши.
Гриша, сын Раневской.
Покойный барин (отец Гаева и Раневской).
Няня.
Петрушка Косой.
Пристав в городе.
Дашенька.
Любовник Раневской.
Покойная мама Раневской.
Баба в вагоне.
Мать Яши.
Ярославская тетушка.
Умерший муж Раневской.
Ефимьюшка.
Поля.
Евстигней.
Карп.
Кроме этих отдельных персонажей Чехов вводит еще и групповые внесценические образы:
Французы.
Дамы.
Компания в окружном суде.
Проходимцы.
Вот какое количество персонажей во внесценическом действии вводит Чехов только в одном первом акте.
Во втором акте мы знакомимся со следующими персонажами:
Отец Шарлотты.
Мать Шарлотты.
Немецкая госпожа.
Дериганов.
Снова ярославская тетушка.
Снова муж Раневской.
Снова любовник Раневской.
Снова Гриша.
Снова отец Лопахина.
Снова отец Гаева.
Генерал, который может дать деньги.
420 И опять мы видим групповые персонажи:
Старики на кухне.
Половые в ресторане.
Еврейский оркестр.
В третьем акте:
Отец Пищика.
Дашенька.
Ярославская тетушка.
Гриша.
Любовник Раневской.
Отец Гаева.
Человек на кухне, старик.
Дериганов.
Отец Лопахина.
Из групповых персонажей Чехов вводит в третьем акте только:
Генералов.
Баронов.
Адмиралов.
Еврейский оркестр (четыре скрипки, флейта и контрабас).
В третьем акте Чехов вводит только два новых лица: отца Пищика и старика на кухне, с остальными же мы уже знакомы по первым двум актам, и они вполне жизненны для нас; и если бы в четвертом акте появились и Дериганов, и возмущенная ярославская тетушка, и приехал бы из Парижа любовник Раневской, то мы их встретили бы как давно знакомых персонажей.
В четвертом акте Чехов выводит следующие внесценические персонажи:
Отец Лопахина.
Отец Пети, аптекарь.
Мать Яши.
Ярославская тетушка.
Знойков.
Кардамонов.
Дашенька.
Рагулины.
Отец Гаева.
Мать Раневской.
Групповые персонажи у Чехова в четвертом акте следующие:
Дворовые («простой народ прощаться пришел»).
Профессора.
Англичане.
421 Вот многочисленные персонажи внесценического действия, которые Чехов вводит, чтобы более конкретизировать и оживить образы, живущие в самой пьесе, на сцене.
Тридцать два персонажа и четырнадцать групповых сцен внесценического действия дополняют и раскрывают жизнь пятнадцати основных персонажей сценического действия — таково соотношение данных групп в общей системе художественных образов «Вишневого сада».
И они у Чехова не повод, не случайность, а закономерная необходимость. Они неразрывно связаны со всеми сценическими персонажами, и только в своем взаимовлиянии с ними сценические образы, оживая, создают сложнейшую систему художественных образов.
Уберите «генералов, баронов и адмиралов» — и почтовый чиновник и начальник станции сценически «не зазвучат» на балу.
Уберите Дериганова — и некому будет спорить с Лопахиным и, может быть, Лопахин не купит вишневый сад.
Уберите англичан — и Симеонову-Пищику незачем будет появиться в четвертом акте и, конечно, он уже не будет спешить, если мы уберем Знойкова и Кардамонова.
Уберите любовника Раневской — и ей незачем будет ехать в Париж.
Все введенные Чеховым внесценические образы крепчайшими нитями связаны с действующими персонажами пьесы и даже зачастую управляют их поступками. Они создают свою собственную жизнь каждого сценического образа, они создают не выдуманную, а действительную биографию всех персонажей пьесы. А как часто в современных пьесах автор говорит об образе и то и другое, наделяет его сложнейшей биографией, ему одному автору известной, а в сценической конкретизации дает данному образу вялый текст и лишает всяких поступков и действований. Одно дело, что я хочу, а другое, что я сделал.
И вот благодаря этому новому драматургическому приему Чехову удается безгранично широко раскрыть рамки жизни Гаевых и Раневских и выплеснуть их далеко за пределы фабулы и пьесы.
Чехов с потрясающей художественной силой написал пьесу в трех отрезках времени. В развертывающихся простых событиях настоящей действительности Чехов блестяще вскрыл 422 все корни прошлого и тем самым создал прочный фундамент для всех образов. Образы не болтаются только в настоящем, не существуют только в пределах и рамках совершающихся сегодняшних событий в пьесе, но, наоборот, взрывая эти события, преодолевая их, образы прорастают могучими корнями в прошлое, а листвой своей уходят в будущее. В пьесе нет ни одного образа, будущее которого для зрителя было бы неизвестно.
Гаев поступает в банк, Раневская едет в Париж, Лопахин будет строить дачи, вырубив вишневый сад. Трофимов и Аня едут в Москву, Варя к Рагулиным, Яша в Париж, Епиходов остается приказчиком у Лопахина и т. д. И только Фирс, которого забыли здесь, в запертом доме, не имеет своего будущего, его ждет близкая смерть.
Развертывая в пьесе события сценического действия, Чехов мастерски поворачивает вспять, а в нужные моменты — стремительно уносит наше сознание в будущее.
Гениальное владение временными отрезками дало возможность Чехову расширить камерный сюжет комедии до пределов широчайшего социального полотна. И в этом-то новость и особенность драматургического приема Чехова, который он так блестяще нашел в комедии «Вишневый сад».
Он нашел новый драматургический прием, раскрывающий систему образов не только в настоящем, то есть в событиях пьесы, но главным образом в прошлом и будущем, то есть в отношениях к тем событиям, которые происходили и которые произойдут.
Чехов «порвал цепь времен» традиционного драматургического приема и вывел драматургию на новые рельсы.
Я не буду подробно останавливаться на самой системе сценических образов, а только определю те основные принципы, которые, по-моему, следует положить в основу будущей системы.
Прежде всего, три основные группы, определяющие три отрезка времени:
уходящие, тесно и неразрывно связанные с прошлым, — Гаев, Раневская, Фирс, Симеонов-Пищик;
новые, живущие под знаком будущего, — Аня, Лопахин, Трофимов и Варя;
болото, пребывающие исключительно в настоящем, — 423 Яша, Епиходов, Шарлотта, Дуняша, начальник станции, почтовый чиновник.
Совершенно особо стоит образ Прохожего, введенный Чеховым как противоположение всем образам.
Чехов, как никто из драматургов, сумел очертить образы «Вишневого сада» в трех отрезках времени. Их прошлое, их настоящее и их тенденции в будущем. В каждом образе есть эти три раздела времени, но один из них превалирует.
В первой группе, уходящие, превалирует прошлое, и они, как бы забытые и ненужные в этой жизни, механически продолжают существование. Они живут, они действуют, но существо их все в прошлом.
Вторая группа, новые, в основном живет темами будущего. Каждый по-своему, каждый, своеобразно понимая это будущее, живет в настоящей жизни, но для этого будущего, которое одним, как Ане, кажется прекрасным, но туманным, а для Лопахина оно конкретно и реально с первого акта.
Перед нами две основные группы образов: одна, над которой довлеет прошлое, и другая, которая имеет тенденции будущего. Но ведь они все живут в настоящем. Они все просыпаются каждый день, совершают те или иные дела, едят, спят, мыслят и чувствуют. Они все живут.
Так в чем же разница между этими группами? В чем специфика этих групп, которая может помочь актерам правильно раскрыть и овладеть образом?
По-моему, разница в этих группах в том, что они по-разному смотрят на жизнь и каждый по-своему понимает окружающую их действительность.
Фирс ничего не видит, кроме «не тех брючек», которые надел Гаев, а Лопахин видит возможность «спасения» вишневого сада в его вырубке и сдаче в аренду дачникам участков земли, что он и начинает делать уже в четвертом акте.
Он видит спасение в вырубке и не понимает, что для Раневской важен вишневый сад как воспоминание о своем далеком детстве.
Лопахину не понять Раневской, точно так же как и Раневская не понимает Лопахина, потому что они несут в себе каждый свое содержание и воспринимают окружающую действительность 424 по-своему, видя в ней только то, что каждый способен увидеть.
Каждый образ, неся в себе свое собственное содержание, по-своему смотрит на мир и отбирает из жизни в своем восприятии только те явления, которые резонируют в его мировоззрении, в его интеллекте.
Из образов третьей группы, образов, не несущих в себе яркого прошлого, не таящих тенденций будущего, образов, живущих настоящим, а я бы даже подчеркнул — сегодняшним днем, самый сложный образ, конечно, Шарлотта. И не случайно Чехов мечтал, чтобы эту роль играла О. Л. Книппер.
В данном беглом наброске, я только предлагаю принцип, на основе которого режиссура может строить систему художественных образов.
И этот принцип не придуман мною, а заложен Чеховым в самой драматургической манере, заложен в каждом образе, благодаря чему и получилась такая устойчивая и творчески принципиальная пьеса, прокладывающая новые пути в законы драматургии.
Чеховские паузы
Антон Павлович Чехов был дружен с художником Левитаном и очень любил музыку Чайковского Все творчество Чехова пронизано его влюбленностью в русский пейзаж и необыкновенной музыкальностью человеческих переживаний.
Чехов, как Чайковский и Левитан, был сыном своей родины, и огромное свое человеческое содержание, содержание подлинного художника выражал совершенно естественно в той видимой плавной и спокойной, многокрасочной и музыкальной форме, в которую облекалась видимая жизнь России того времени.
Я подчеркиваю именно эту, видимую, сторону жизни России, в которой жили и Чехов, и Чайковский, и Левитан.
Но эта видимая, многокрасочная и музыкальная жизнь таила в себе уже назревающие социальные противоречия, и Чехов в своей предсмертной работе обостренным ухом и глазом художника проник за пределы этого видимого спокойствия 425 и увидел и услышал то, чего не видели и не слышали другие.
Он ощутил неумолимую поступь хода жизни, он фанатически уверовал в неизбежное светлое будущее, которое из далекой туманности приблизилось к сегодняшнему дню и властно постучалось в расшатавшиеся двери той жизни.
Он почувствовал иные краски, иные музыкальные ритмы, которыми нужно раскрыть и утвердить это будущее, и он создал «Вишневый сад» в иной драматургической манере, как будто бы совершенно не присущей чеховскому творчеству, и в то же время это самое яркое и бессмертное произведение, выражающее именно самую глубокую сущность художника Чехова.
Более смелых сценических решений, чем те, которые использованы в «Вишневом саде», трудно себе представить: и прыгающая Шарлотта в клетчатых штанах и фраке в момент, когда продается имение, и поднятая рукой Вари палка и удар, предназначаемый Епиходову, обрушиваемый на голову Лопахина, и многие другие алогизмы, которые щедрой рукой Чехова разбросаны по всей комедии и вскрывают то своеобразие, которое скрыто в «Вишневом саде». И когда об этих моментах говоришь изолированно, оторванно от общего противоречивого развития акта, то кажется, что это невероятные факты, а вот Чехов сумел эти дерзновенные невероятности сделать абсолютно естественными и убедительными.
С одной стороны, Чехов прозорливым глазом художника проник за пределы спокойной, видимой жизни России и сумел подслушать дыхание и пульс эпохи, скрытые от других глаз, а с другой стороны, он не побоялся, а, наоборот, даже творчески изобретал необыкновенные алогизмы, противоречия и кажущиеся жизненные нелепости, через которые или с помощью которых он раскрывал содержание этого видимого спокойствия жизни.
Значительность глубоких причин, естественно, вступала в конфликт с кажущейся нелепостью, и образовались те знаменитые чеховские паузы, которыми он владел в совершенстве и которые он любил как художник и мастер, но насыщенность их и звучание были уже совершенно не теми, к каким мы привыкли, зная и любя чеховские паузы в прежних пьесах.
Я уже затрагивал этот вопрос выше, но сейчас хочу подробнее 426 на нем остановиться, так как строение и насыщение пауз в «Вишневом саде» приобретает решающее значение при постановке этой комедии.
В чем же суть этих новых пауз — пауз «Вишневого сада»?
Возьмем для примера сцену из второго акта.
«… все сидят, задумались. Тишина. Слышно только, как тихо бормочет Фирс. Вдруг раздается отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный.
Любовь Андреевна. Это что?
Лопахин. Не знаю. Где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья. Но где-нибудь очень далеко.
Гаев. А может быть, птица какая-нибудь… вроде цапли.
Трофимов. Или филин…
Любовь Андреевна (вздрагивает). Неприятно почему-то. (Пауза.)
Фирс. Перед несчастьем то же было: и сова кричала и самовар гудел бесперечь.
Гаев. Перед каким несчастьем?
Фирс. Перед волей. (Пауза.)
Любовь Андреевна. Знаете, друзья, пойдемте, уже вечереет (Ане.) У тебя на глазах слезы… Что ты, девочка? (Обнимает ее.)
Аня. Это так, мама. Ничего.
Трофимов. Кто-то идет.
Показывается Прохожий в белой потасканной фуражке, пальто, он слегка пьян».
В короткой сцене, состоящей из одиннадцати реплик, Чехов щедро устанавливает четыре паузы. Паузы начала и конца сцены Чехов раскрывает в развернутых ремарках, а две паузы в середине текста оставляет на совести режиссера и актеров.
Попробуем разобраться в этих четырех паузах и определить их содержание.
Первая пауза. Эту паузу Чехов сам гениально построил из пяти частей: первая часть: «Сидят, задумались»; вторая 427 часть: «Тишина»; третья часть: «Слышно только, как тихо бормочет Фирс»; четвертая часть: «Вдруг раздается отдаленный звук…»
Чехов стремится дальше раскрыть образ этого «звука вдруг»:
«… точное неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный».
Чехов придавал огромное значение этому звуку:
«Скажи Немировичу, что звук во II и IV актах “Вишневого сада” должен быть короче, гораздо короче и чувствоваться совсем издалека. Что за мелочность, не могут никак наладить с пустяком, со звуком, хотя о нем говорится в пьесе ясно». (Письмо к О. Л. Книппер.)
Чехов был гениальный мастер театрального искусства, и его раскрытые ремарки сценических пауз должны послужить нам, режиссерам, примером, как нужно строить и чем заполнять его драматургические паузы.
Чехов потрясающе умел в молчании раскрывать содержание людей и событий, и данная сцена по сути своей есть одна сплошная пауза, вернее, сцена, раскрывающая людей в их сути больше, чем в разговорах, несмотря на то, что сцена имеет одиннадцать реплик.
Из первой паузы с развернутой ремаркой рождается вторая, после реплики Раневской «неприятно почему-то», которая как бы комментирует общее состояние, и это «неприятное» состояние не обрывается, не исчезает, а как-то останавливается, временно замирает после реплики Фирса «перед несчастьем то же было», и это «неприятное» состояние не исчезает, а трансформируется, видоизменяется после реплики Гаева: «Перед каким несчастьем?» — и ответа Фирса: «Перед волей», и видоизмененное «неприятное» состояние заполняет третью паузу, которая в своем итоге рождает действие: «… пойдемте, уже вечереет». В этой третьей паузе приоткрывается душевная суть Ани: «У тебя на глазах слезы…» — «Это так, мама. Ничего». И начавшееся действие ухода, выросшее из третьей паузы, внезапно прерывается четвертой паузой — выходом Прохожего.
Итак, данная сцена представляет собой очень обнаженную суть душевного состояния персонажей, тревожно и чутко 428 прислушивающихся и к дыханию жизни и к своим взволнованным мыслям и чувствам. И на эту сложную гамму душевной взволнованности наложена легкая канва чеховских одиннадцати коротких реплик.
Технологически нужно сцену объяснить так: интенсивное молчание и очень облегченный текст.
И если первая пятитонная пауза служит своеобразной молчаливой увертюрой ко всей сцене, то уже во второй паузе, после реплики Раневской: «Неприятно почему-то» — должны прозвучать тревожные мысли обитателей «Вишневого сада». Не мысли, связанные с взаимоотношениями людей между собой, а мысли, связывающие этих людей с жизнью, и не только с местной жизнью, протекающей в пределах имения с вишневым садом, но и с жизнью, протекающей за пределами имения. Настоящая большая жизнь врывается в тихую и стоячую жизнь имения. И вот почему именно Фирс принимает эстафету.
И если вторая пауза дает, вернее устанавливает, направление и тему мыслям персонажей, то третья пауза уже целиком заполнена тремя отрезками времени жизни.
Третья пауза установлена Чеховым после реплики Фирса «перед волей».
На встревоженное состояние людей, которые оторвались от своей личной жизни, задумались о большой жизни, Чехов накладывает легкую текстовую канву трех реплик:
«Фирс. Перед несчастьем то же было: и сова кричала и самовар гудел бесперечь.
Гаев. Перед каким несчастьем? Фирс. Перед волей. (Пауза.)»
И эта канва, несущая в себе новую тему «Несчастья» и «Воли», рождает третью и, пожалуй, самую сложную паузу, в которой мысли, рожденные во второй паузе, пробуждают ощущения, чувства, которые концентрируются в новые, уже более жестокие мысли, устанавливая неизбежную связь и зависимость своей личной жизни от большой жизни.
Фирс сказал: «Перед волей» — и тем самым установил исходный путь мысли каждого. Далекое прошлое — освобождение крестьян, воля — и ее-то Фирс и определяет как 429 «несчастье». Каждый по-своему определяет этот исторический факт и, неминуемо думая о прошлом, но находясь в сегодняшнем дне, протягивает мысль от прошлого к настоящему, довольно-таки печальному и тревожному, и, напитав тревогой настоящего, мысль стремительно несется к будущему, неясному и туманному, но неизбежному и для каждого различному.
Четвертая пауза, уже с авторской ремаркой, нужна Чехову, чтобы затормозить уход, насытить его еще большим испугом перед пьяным прохожим, и после его ухода написать великолепный эпилог общего ухода помещиков с вещей фразой Лопахина в конце: «Напоминаю вам, господа: двадцать второго августа будет продаваться вишневый сад. Думайте об этом!.. Думайте!..»
Паузы в предшествующих пьесах Чехова служили ему своеобразной средой тончайших чувств и мыслей, в которые он погружал своих персонажей, создавая то, что впоследствии приняло наименование «чеховских пауз», «пауз настроения».
Да, это были паузы настроения, полутонов, получувств, полумыслей — паузы, продолжающие и делающие еще более тонкими чувства и мысли людей.
Для этих тончайших пауз нельзя было найти таких же тонких и нежных слов. Нужно было молчание.
Совсем иное в паузах «Вишневого сада». Паузы «Вишневого сада» не продолжают, не утончают предшествующую сцену, а они создают свои энергичные сцены, сцены переломов, сцены всполохов, сцены обостренной мысли, так как содержание пауз «Вишневого сада» через собственные ощущения персонажей неминуемо связано с большой жизнью и неминуемым будущим, которое уже властно стучит в обветшавшую калитку имения помещицы Раневской.
Душевные полутона и настроения — такова сценическая фактура пауз в других пьесах.
Властная поступь жизни — такова фактура пауз «Вишневого сада».
Я позволю себе раскрыть еще одну паузу, чтобы сказанное выше было более убедительно.
«Любовь Андреевна. Дачи и дачники — это так пошло, простите.
430 Гаев Совершенно с тобой согласен.
Лопахин. Я или зарыдаю, или закричу, или в обморок упаду. Не могу! Вы меня замучили! (Гаеву.) Баба вы!
Гаев. Кого?
Лопахин. Баба! (Хочет уйти.)
Любовь Андреевна (испуганно). Нет, не уходите, останьтесь, голубчик. Прошу вас. Может быть, надумаем что-нибудь!
Лопахин. О чем тут думать!
Любовь Андреевна. Не уходите, прошу вас. С вами все-таки веселее… (Пауза.) Я все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом.
Гаев (в глубоком раздумье). Дуплет в угол… Круазе в середину…
Любовь Андреевна. Уж очень много мы грешили…
Лопахин. Какие у вас грехи…
Гаев (кладет в рот леденец). Говорят, что я все свое состояние проел на леденцах… (Смеется.)
Любовь Андреевна. О, мои грехи…»
И дальше идет великолепный монолог покаяния и раскрытия прошлого Любови Андреевны — замужество, смерть мужа «от шампанского», любовник, гибель сына, бегство в Париж, трагическая жизнь с любовником, бегство в Россию, на родину, к девочке.
Данная сцена имеет только одну паузу, но эта пауза такой насыщенности и такой энергии, что смело может поглотить пять-шесть пауз настроения.
Пауза Чеховым поставлена после реплики Раневской: «С вам все-таки веселее…» — и как будто бы слово «веселее» и многоточие после него рождают свое противоположение, так кик следующая реплика после паузы у Чехова построена так: «Я все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом». Слово «веселее» взрывает глубину содержания образа Раневской, которое раскрывается в прекрасном монологе покаяния «О, мои грехи…».
Лопахин «хотел уйти», Раневская «испугалась», испугалась одиночества, своих навязчивых мыслей, своей внутренней борьбы по отношению к Парижу, испугалась встречи с самой собой. Она говорит Лопахину: «С вами все-таки веселее…» — 431 и это «веселее» звучит не так, как должно звучать это слово, не так, как звучало оно, когда она была молода. Да, она уже не та, она «всегда сорила деньгами без удержу, как сумасшедшая», она разорила имение, оно продается, на 22 августа назначены торги, а что дальше?.. Так несутся мысли Раневской в этой паузе, которая является не только переломом сцены, но и содержит в себе весь монолог покаяния, все ее прошлое, настоящее и через телеграмму: «Получила сегодня из Парижа… Просит прощения, умоляет вернуться…» — возникает даже будущее. Пауза, переламывающая сцену, пауза, питающая такое огромное и глубокое человеческое душевное раскрытие, — это, конечно, не пауза, продолжающая или оканчивающая сцену, и уж, конечно, отнюдь не пауза настроения.
В паузу властно врывается жизнь с ее неумолимой поступью. «Я все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом» — Раневская это ощущает, а дело даже не в продаже имения, а в общем приближающемся «развале», в «ликвидации» помещичьего строя. Раневская не знает этого, она не может так сформулировать, и она «все ждет чего-то».
Она боится встречи с этой жизнью, и потому просит Лопахина остаться, но нервы ее не выдерживают, и после паузы начинается ее монолог покаяния.
Вот какая насыщенность, какое построение и какое содержание пауз «Вишневого сада».
Содержание пауз в предшествующих пьесах Чехова относится к психологическим мотивам, а содержание пауз в «Вишневом саде» глубоко социально, но строит их Чехов как новеллы, как рассказы, и в эти паузы должны влюбиться и режиссер и актеры. И таких пауз на протяжении всей пьесы тридцать три.
Семь пауз заключено в первом акте, пятнадцать пауз во втором акте, только одна пауза в третьем и десять пауз в последнем акте.
Даже количественная расстановка пауз по актам заставляет серьезно задуматься над ритмикой и характером актов в будущем спектакле.
Совсем иной характер пауз в «Дяде Ване». Возьмем, например, сцену финала второго акта:
432 «Входит Елена Андреевна.
Елена Андреевна (открывает окно). Прошла гроза Какой хороший воздух! (пауза). Где доктор?
Соня. Ушел (пауза).
Елена Андреевна. Софи!
Соня. Что?
Елена Андреевна. До каких пор вы будете дуться на меня? Друг другу мы не сделали никакого зла. Зачем же нам быть врагами? Полноте…
Соня. Я сама хотела… (Обнимает ее.) Довольно сердиться.
Елена Андреевна. И отлично. (Обе взволнованы.)»
И не случайно, очевидно, все паузы в «Дяде Ване» у Чехова написаны с маленькой буквы, а все паузы «Вишневого сада» Чехов пишет с большой буквы.
Другой характер, другое значение и другое отношение самого автора.
Паузы с маленькой буквы, и паузы с большой буквы.
Паузы в вышеприведенном отрывке носят характер чисто психологических пауз, относящихся только к личной жизни персонажа. Материал этих пауз не выходит за пределы данной комнаты.
«Какой хороший воздух!» — и Елена Андреевна, вдыхая аромат ночи после грозы, вспомнила Астрова. Пауза заполнена глубоко личными переживаниями Елены Андреевны.
«Где доктор?
Соня. Ушел (пауза).
Елена Андреевна. Софи».
Вторая пауза наполнена содержанием взаимоотношений Сони и Елены Андреевны. В том, как Соня ответила — «Ушел», и в дальнейшем ее молчании раскрываются отношения Сони к Елене Андреевне и к Астрову — она это понимает, у нее возникает желание сгладить эти натянутые отношения и она произносит: «Софи»…
Две чистые и ясные психологические паузы, которые Чехов мог бы и не акцентировать, доверяя чутью, такту и пониманию человеческой психики режиссерами и актерами.
Но до чего же эти две паузы не похожи на вышеприведенные две паузы из «Вишневого сада».
433 Паузы «Дяди Вани» можно назвать лично частными. Паузы «Вишневого сада» приобретают характер общественно проблемный.
Возьмем для примера еще одну сцену из первого акта:
«Мария Васильевна. Что ты хочешь этим сказать?
Соня (умоляюще). Бабушка! Дядя Ваня! Умоляю вас!
Войницкий. Я молчу. Молчу и извиняюсь.
(Пауза.)
Елена Андреевна. А хорошая сегодня погода… Не жарко…
(Пауза.)
Войницкий. В такую погоду хорошо повеситься…
(Телегин настраивает гитару, Марина ходит около дома и кличет кур.)»
В данной сцене паузы поставлены Чеховым очень энергично, он даже эти две паузы, в отличие от прочих пауз «Дяди Вани», написал с большой буквы, и все же эти паузы по своему содержанию дальше обычной психологической паузы не подымаются и насыщать их излишним содержанием будет даже вредно.
А вот паузы в «Вишневом саде» возможно насыщать беспредельно, но для сценического решения их у нас, режиссеров, недостаточно режиссерской техники, а для исполнения их актерами потребуется пересмотр многих приемов актерского мастерства.
Паузы «Дяди Вани», имея свое содержание и построение, несут в себе и предопределяют одни ритмы мыслей, чувств и поступков сценических образов, а паузы «Вишневого сада» скрывают в себе совершенно иную динамику и ритмику.
В паузах «Дяди Вани» Чехов стоит на одних творческих позициях с Левитаном и Чайковским, в паузах же «Вишневого сада» как бы преддверием уже звучат ритмы и Прокофьева и Шостаковича.
И расширяя суть пауз, их противоречивое содержание, их энергию, их ритмику до больших сцен, накладывая на них канву текста, Чехов достигает такой сложности в ритмической форме драматургии, что опять и опять встает вопрос о пересмотре приемов мастерства и режиссуры и актера.
434 «Любовь Андреевна. “Я выше любви!” Вы не выше любви, а просто, как вот говорит наш Фирс, вы недотепа. В ваши годы не иметь любовницы!..
Трофимов (в ужасе). Это ужасно! Что она говорит?! (Идет быстро в залу, схватив себя за голову.) Это ужасно… Не могу, я уйду… (Уходит, но тотчас же возвращается.) Между нами все кончено! (Уходит в переднюю.)
Любовь Андреевна (кричит вслед.) Петя, погодите! Смешной человек, я пошутила! Петя!
(Слышно, как в передней кто-то быстро идет по лестнице и вдруг с грохотом падает вниз. Аня и Варя вскрикивают, но тотчас же слышится смех.)
Любовь Андреевна. Что там такое?
(Вбегает Аня.)
Аня (смеясь). Петя с лестницы упал! (Убегает.)
Любовь Андреевна. Какой чудак этот Петя…
(Начальник станции останавливается среди залы и читает “Грешницу” А. Толстого. Его слушают, но едва он прочел несколько строк, как из передней доносятся звуки вальса, и чтение обрывается. Все танцуют. Проходят из передней Трофимов, Аня, Варя и Любовь Андреевна.)
Любовь Андреевна. Ну, Петя… ну, чистая душа… я прощения прошу… Пойдемте танцевать… (Танцует с Петей.)
(Аня и Варя танцуют.)
(Фирс входит, ставит свою палку около боковой двери. Яша тоже вошел из гостиной, смотрит на танцы)».
Текстовая канва этой сцены состоит только из семи реплик, а вот количество материалов, заложенных в эту сцену, бесконечно и многообразно.
Попробуем определить эти материалы: возмущение Любови Андреевны и неожиданность, произнесенного слова — «любовница», ужас Пети, решение разрыва, уход Пети, сконфуженность Любови Андреевны, закулисная сцена, состоящая из четырех частей: «… кто-то быстро идет по лестнице», «вдруг с грохотом падает», «Аня и Варя вскрикивают», «тотчас же 435 слышится смех», вопрос Любови Андреевны, вбегающая Аня, ее реплика, уход Любови Андреевны, начальник станции читает «Грешницу», его слушают, вальс, оборванное чтение, «все танцуют», выход из передней Трофимова, Ани, Вари и Любови Андреевны, реплики Любови Андреевны и ее вальс с Петей, Аня и Варя танцуют, Фирс пришел, поставил палку у двери, Яша пришел, смотрит на танцы.
Двадцать семь (это при элементарном перечислении) сценических положений Чехов заключает в небольшую семирепличную сцену и делает это с таким гениальным мастерством, что многим эта сцена может показаться обычной жанровой сценой на балу, а не изобретательски и новаторски построенной величайшим мастером, умеющим самое невероятное и противоречивое превратить в жизненно правдивое.
И не следует забывать еще одного обстоятельства, что данная сцена в спектакле займет, очевидно, не больше одной минуты времени.
Вот уложить в одну минуту времени такой обширный, противоречивый и разноритмичный материал и подчинить его сценическому правдоподобию мог, конечно, только один Антон Павлович.
И становится понятным медленность и трудность, с которыми Чехов писал «Вишневый сад».
«Пишу по четыре строчки в день и те с нестерпимым мучением».
Да, чтобы построить такую сцену помимо таланта нужно и умение, и мастерство, и огромный труд.
Для подтверждения ритмического богатства драматургического материала возьмем еще одну сцену из того же третьего акта.
«Яша. Надоел ты, дед. (Зевает.) Хоть бы ты поскорее подох.
Фирс. Эх, ты… Недотепа! (Бормочет.)
(Трофимов и Любовь Андреевна танцуют в зале, потом в гостиной.)
Любовь Андреевна. Merci. Я посижу… (Садится) Устала.
(Входит Аня.)
436 Аня (взволнованно). А сейчас на кухне какой-то человек говорил, что вишневый сад уже продан сегодня.
Любовь Андреевна. Кому продан?
Аня. Не сказал, кому. Ушел. (Танцует с Трофимовым, оба уходят в залу.)»
Материал сцены: лакей хам, лакей служака, танцующие Раневская и Петя, усталая Раневская, выход Ани, ее взволнованность, сообщение о продаже вишневого сада, бессмысленный вопрос Раневской, ответ Ани, уход в танце Ани и Пети.
И опять шесть текстовых реплик и десять (элементарных) сценических положений.
Сообщение о продаже вишневого сада Чехов вкладывает в уста Ани, она взволнована, но взволнованность эта такая, что через секунду она танцует вальс с Петей, и в вихре вальса уносится из гостиной в залу.
Помещица проданного имения осталась одна, ее дочь умчалась в вальсе и очевидцами трагедии (а может быть, не трагедии?) Раневской Чехов оставляет двух лакеев. Лакея далекого прошлого и лакея настоящего, действительно во всех смыслах лакея и хама. Трогательность Фирса, хамство Яши и между ними сметенная Раневская.
Написав слово «трагедия», я в скобках высказал мысль, что, может быть, и не трагедия. И вот почему. А не будет ли первым душевным всплеском у Раневской при известии, что вишневый сад продан, — радость. Подсознательный и неожиданный всплеск радости, который сейчас же снимется смыслом известия о продаже.
А почему же радость? — спросит удивленно читатель.
А вот почему.
Ведь душевное-то состояние Любови Андреевны помимо встревоженности о продаже имения заполнено мыслями и чувствами о своем любовнике. Она каждый день получает телеграммы: «И вчера и сегодня». Она же говорит Пете: «И что же тут скрывать или молчать, я люблю его, это ясно. Люблю, люблю… Это камень на моей шее, я иду с ним на дно, но я люблю этот камень и жить без него не могу».
А ведь продажа вишневого сада — это логический толчок, чтобы она поехала в Париж. Ведь здесь ее держит именно 437 этот вишневый сад. И, внезапно узнав, что он уже продан сегодня, что она свободна, — мне кажется возможно всплеснуться этой подсознательной радостью своего права отъезда в Париж.
Будь я женщиной и играй я Раневскую, я бы непременно играл эту подсознательную секундную радость, как величайшее противоречие образа, а потом бы отдавал себя целиком во власть трагического известия.
И опять мы имеем дело с остротой и своеобразием душевной ритмики персонажей.
Драма после известия о продаже имения — это Чайковский.
Подсознательный всплеск радости, а потом трагедия — это Шостакович.
Я говорю сейчас о тех секундных, а иногда и полусекундных паузах, не помеченных Чеховым как паузы, так как они относятся к паузам образов, а не к паузам актов или спектакля. А ведь это огромная разница, и как часто и мы, режиссеры, и товарищи-актеры путают эти два совершенно различных понятия, думая, что раз пауза, то она всюду и всегда одинакова в своем заполнении актерской игрой.
А бывают вот такие паузы, как в «Вишневом саде», которые, конечно, заполнены актерской игрой, но игра-то эта не самодовлеющая, а подчинена смыслу материала и построению паузы, относящейся не только к актерскому образу лично, а через него раскрывающая в более широких возможностях акт или даже весь спектакль в целом.
Вот такие паузы мы, режиссеры, не очень еще хорошо умеем строить, а актеры не очень любят их понимать и играть. Конечно, гораздо приятнее и легче заполнить паузу тончайшими нюансами интеллектуальной сложности сценического образа, но не всегда это приносит пользу целостности построения спектакля и его целеустремленности.
Суворов как-то сказал: «Секунда решает битву, минута — кампанию, а час — судьбу государства».
Мудрейшие слова великого полководца мы, театральные работники, должны понять и запомнить навсегда, руководствуясь ими в своей повседневной работе и на репетициях и на спектакле.
Ведь спектакль — это битва, битва сцены со зрительным 438 залом — так как же мы должны беречь секунды и с каким вниманием должны заполнять и насыщать эти секунды.
А секунды в чеховском «Вишневом саде» играют решающую роль и решают битву спектакля.
Итоги размышлений
Итак, я заканчиваю подведение итогов некоторых мыслей, которые невольно возникают у меня, как только я задумываюсь над комедией «Вишневый сад».
У режиссера, ставящего спектакль, должны быть три этапа его работы, совершенно ясных и определенных, а следовательно, и три раздела его мышления.
Мысли, накопленные им до первой встречи с творческим коллективом участников, создающих спектакль.
Мысли, которые возникают в процессе работы и которые являются подведением итогов, служа своеобразным напутствием для актеров, вступающих в сценический бой на спектаклях.
Мысли, которые появятся у режиссера, просмотрев и изучив зрителя на пяти или десяти спектаклях.
Я что-то задумал, я эти мысли творчески реализовал в работе с коллективом и наконец я проверяю уже на спектакле, на непосредственной реакции зрителя, получился ли спектакль, родился ли он, дошел ли он до зрителя, правильно ли мое решение спектакля и найдены ли творческие средства мной и всем коллективом, чтобы это решение сделать убедительным и обязательным для зрителя.
Властвует ли спектакль над сознанием зрителя или зритель равнодушно воспринимает показываемый ему спектакль?
Мы боремся с равнодушием художника, но мы забываем, что главная наша обязанность, обязанность художника, уничтожить и разрушить равнодушие у зрителя.
Зритель пришел в театр и хочет за эти три-четыре часа спектакля прикоснуться к произведению искусства, принять участие в его творческом рождении, быть подлинно творчески взволнованным, как волнуемся и мы, воспринимая подлинное произведение искусства. И подлинным оно будет только 439 тогда, когда сила его будет заключаться в том, чтобы, сумев взволновать зрителя, привести его сознание к тем основным идейным установкам, которые заложены в пьесе, которые ставит перед собой и театр, работая над данной пьесой.
Спектакль — это страстная трибуна, с которой художник-актер силой мастерства, через созданный образ властно владеет сознанием зрителя.
А ведь в этом-то и есть сила искусства. Вспомним высказывания самого же Чехова по этому вопросу.
«… Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими, и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они идут куда-то и вас зовут туда же, и вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что в них какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая недаром приходила и тревожила воображение».
И дальше:
«Лучшие из них реальны и пишут жизнь такой, какая она есть, но от того, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, вы кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть». (Из письма к Суворину, 1892 г.)
Именно этим чувством — «какая должна быть» жизнь — пропитан «Вишневый сад».
Именно поэтому-то это не только «отходная» умирающему дворянству, но, главное, предвозвещение радостного и светлого будущего.
Это не отрицание, а утверждение, и поэтому-то Чехов и не хотел видеть в этой пьесе драмы, а, возможно, даже преувеличивая, настаивал на комедийном, но самое важное, на оптимистическом звучании.
Не лирическая красота умирания «Вишневого сада» волновала Чехова, а он вместе с Аней кричал в будущее: «Здравствуй, новая жизнь…».
И Антон Павлович мечтал о власти над зрителем, именно этой призывной, дерзновенной и оптимистической темы.
О власти автора над зрителем хорошо говорил Л. Н. Толстой.
«Автор должен захватывать зрителя, и не вежливо под руку, а сильно — за шиворот. Автор должен вести зрителя за собой, куда он хочет, и не позволять оглядываться по сторонам. 440 Он должен вести его за своими героями вперед и вперед…»
И Чехов в «Вишневом саде» ведет зрителя «вперед и вперед» к «неугасимой звезде».
Чехов владел сознанием передовой русской интеллигенции на рубеже двух эпох.
Чехов оказал влияние на зарубежную литературу.
Чехов вторично родился в нашем социалистическом обществе и стал любимым писателем в славной плеяде русских классиков.
Чехов стал достоянием передового человечества.
«Все мною написанное забудется через 5 – 10 лет; но пути, мною проложенные, будут целы и невредимы — и в этом моя единственная заслуга».
Изучению «этих путей», вернее части этих путей, я и посвящаю эту главу.
Станиславский писал Чехову:
«… Это не комедия, не фарс, как Вы писали, — это трагедия, какой бы исход к лучшей жизни Вы ни открыли в последнем акте».
А Чехов писал М. П. Лилиной:
«Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс, и я боюсь, как бы мне не досталось от Владимира Ивановича».
Вот основное противоречие, которое не следует забывать Находить, вскрывать и изучать эти противоречия — самое главное, работая и изучая Чехова.
Вся жизнь Антона Павловича была соткана из сложнейших противоречий, и даже в дни его похорон это чеховское противоречие блеснуло последний раз:
«Несмотря на глухое летнее время, дебаркадер вокзала в Москве был полон съехавшимися со всех концов летнего отдыха. Когда поезд подошел, мы, вместе с вышедшей к нам в полном трауре вдовой, в глубоком молчании и почтительно двинулись к товарному вагону, где находился гроб. И… Право, словно с того света сверкнул в последний раз юмор Чехова. На том месте вагона, где обозначают его содержимое, крупными буквами было написано: УСТРИЦЫ». («Из прошлого» Вл. И. Немировича-Данченко).
В сложной международной обстановке нащупываются новые пути развития советского искусства.
441 Русский театр совершает свой исторический поворот.
И сейчас, как никогда, следует внимательно и глубоко изучить глубочайшее новаторство драматурга Чехова, который проложил «новые пути» в развитии русского театра, Чехова-драматурга, автора гениальной комедии «Вишневый сад», — Чехова, глава о ком «… еще не кончена, ее еще не прочли как следует, не вникли в ее сущность и преждевременно закрыли книгу.
Пусть ее раскроют вновь, изучат и дочтут до конца».
А сейчас вернемся к дням отъезда из Харькова в 1936 году.
442 Глава 10
Из театра в театр
Честно, не за страх, а за совесть работал я три года в Харькове. А в январе месяце 1936 года получил приглашение из Ленинграда от «Красного театра».
«Красный театр» имел свое прекрасное помещение в бывшем Народном доме, но сейчас это помещение перестраивалось после пожара весной 1933 года, и театр играл на разных клубных площадках.
Мы выбрали пьесу Леонида Первомайского «Начало жизни», которую я только что выпустил в харьковском театре, и мне действительно удалось ее поставить в Ленинграде, совмещая работу с основными своими обязанностями в Харькове.
Но роман с «Красным театром» в итоге не состоялся из-за возникших разногласий с директором театра, и, выпустив спектакль «Начало жизни», я распростился с ними.
Осенью 1936 года, окончив работу в Харькове, я приехал в Ленинград после летнего отдыха с непреоборимой уверенностью, что уже на Октябрьском вокзале мне на блюде будут поднесены ключи от всех театров, а я буду выбирать, какую связку из них положить в карман.
443 Однако ничего похожего в действительности не произошло, и я имел достаточно времени, чтобы спокойно сделать свой выбор.
Случайно сохранившийся в архиве пропуск свидетельствует о том, что я для начала принял пост главного режиссера не какого-нибудь театра, а Института физической культуры имени И. Ф. Лесгафта.
И такие случайности бывали в моей жизни…
Я сначала присматривался к работе в институте, а затем выдвинул предложение о постановке к майским дням большой пантомимы силами студентов института. Началась подготовительная, сначала педагогическая, а затем и постановочная работа по реализации этой пантомимы.
Но, конечно, я не мог совершенно оторваться от жизни театров. Сохранились и прежние связи и прежние взаимоотношения с людьми театра.
В один из своих приездов в Москву я долго и подробно беседовал с Афиногеновым о возможностях театра-пантомимы и попутно рассказывал о своей теперешней работе.
Был этот разговор в октябре 1936 года, того года, когда весь мир был взволнован и потрясен франкистским мятежом в Испании. Естественно, что наш разговор все время возвращался к этим трагическим событиям.
— А вы знаете, Николай Васильевич, на днях я вот так же беседовал на эти темы с Иваном Николаевичем Берсеневым и у меня возникает желание написать пьесу, написать быстро, стремительно, как бы единым дыханием. Останавливает только неповоротливость наших театров, хотя Иван Николаевич загорелся и обещал очень скоро поставить спектакль, если я действительно скоро напишу.
— Если вы, Александр Николаевич, напишете пьесу в десять-пятнадцать дней, то даю вам честное слово, что я ее поставлю дней в двадцать — двадцать пять, — категорически заявил я, даже не представляя себе, в каком же театре я буду ее ставить.
В творческом сознании Афиногенова, вероятно, уже бродили кое-какие мысли, а мой напор был той последней каплей, когда рухнули все его сомнения и он со свойственным ему задором принял решение.
— Итак, через три дня вы получаете первый акт. Какой у нас сегодня день? — Александр Николаевич взял календарь, 444 карандаш и начал набрасывать план будущей работы. 25-го — второй, а еще через пять дней, то есть 30 октября, — окончательную редакцию пьесы. Прошу теперь вас взять карандаш и составить свой план работ и сроки выпуска премьеры.
Отступать уже было невозможно, и я, взяв карандаш, начал составлять свой план.
— Первые три дня, пока вы будете писать первый акт, я буду уговаривать Радлова взять эту ненаписанную пьесу в Александринку и поручить ее постановку мне…
Через десять минут мой план был готов, и получалось, что через двадцать три дня с начала репетиций мы показываем премьеру.
На другой день я встретил Крамова, приехавшего в Москву по делам театра, рассказал ему о своем разговоре с Афиногеновым и уговорил его включиться также в сверхсрочную постановку еще ненаписанной пьесы. Вечером мы с ним пошли к Александру Николаевичу, и Крамов, целиком приняв выпускной режиссерский план, составленный еще вчера, поставил и свою подпись под этим документом.
— Хоть кто-нибудь из вас троих поставит пьесу в обещанный срок? — полушутя говорил Афиногенов. — Сегодня утром мне звонили из Малого театра и также просили дать им пьесу. Они также «грозятся» очень скоро поставить спектакль.
— «Какая это земля?» — неожиданно продекламировал он. — «Испания!» — «Зачем нас привезли сюда?» — «Воевать»…
— Откуда это? — удивленно спросили мы с Крамовым.
— Так начинается первая сцена первого акта моей новой пьесы, — ответил несколько торжественно Александр Николаевич, прощаясь с нами.
Через три дня я действительно с оказией получил от него первый акт этой пьесы, а мне удалось за это время уговорить С. Э. Радлова, который был в это время художественным руководителем Александринского театра, включиться в намечающееся соревнование четырех театров и граждански ответить своей работой на события в Испании.
Н. П. Акимов приступил к общему решению будущего спектакля, имея, правда, только первый акт. Труднее было уговорить Д. Д. Шостаковича написать музыку к спектаклю.
445 Наше предложение было, вероятно, одним из первых после появления известной рецензии «Сумбур в музыке». Но и эту трудность мы преодолели, и Шостакович, к большой нашей радости, наконец дал свое согласие.
Выразительные декорации Акимова, патетическая музыка Шостаковича и огромные массовые сцены, в которых было занято около полутораста человек, — все это обещало спектакль не проходной, а монументально трагический.
Для исполнения роли Долорес Ибаррури мы специально пригласили Е. Т. Жихареву, не только прекрасно игравшую эту роль, но даже своим внешним обликом напоминавшую героический образ Долорес. Афиногенов работал с Берсеневым, а потому нет-нет да и присылал нам свои добавления, рожденные в процессе создания московского спектакля.
«Милый Николай Васильевич!
Посылаю исправления. Сцена клоуна и генерала — исключительно на ваше усмотрение.
Сокращайте ее, переделывайте, как угодно… а может быть, и оставьте первый вариант. Здесь ни за что не соглашаются переменить премьеру… Неужели я не буду на вашей премьере? Может быть, вы устроите 23-го только просмотр для высоких гостей (подсыпьте побольше молодежи в зрительный зал! Больше молодежи!.. Рабочих! Красную Армию!.. Словом, простых и настоящих зрителей. А не снобов из бюрократических кабинетов).
Может быть, премьеру дадите 26-го?.. А?..
Сгораю от нетерпения!
Ваш А. Афиногенов».
Все четыре премьеры были готовы к одному и тому же сроку. Автор разрывался, он даже соглашался на отсрочки — так хотелось ему быть очевидцем этих премьер. Но судьба у этих четырех премьер была различна. Берсеневский спектакль, крамовский и наш прошли с огромным успехом, превращая постоянно финал спектакля в своеобразный политический митинг, а Малый театр постигла неудача. Спектакль у них не получился, и публике его не показывали.
Вероятно, чтобы смягчить неудачу Малого театра Комитет по делам искусств запретил пьесу Афиногенова «Салют, Испания!», и нам стоило огромнейшего труда сохранить в репертуаре наши постановки.
446 Три удачные премьеры «Салюта», пьесы, хотя и несколько схематичной, но горячей и поставленной такими «сверхскоростными» темпами, нельзя сбрасывать со счетов достижений советского театра. Они являются наглядным свидетельством органической связи театра с жизнью в наше героическое стремительное время.
Корнейчук
Имя Александра Корнейчука известно сейчас не только на Украине, не только в Советском Союзе, но и далеко за рубежом нашей Родины. Его знают и как драматурга, и как крупного общественного и государственного деятеля, и как стойкого, последовательного борца за мир. Но не об этом Александре Корнейчуке сейчас вспоминаю я, а о том молодом комсомольце, с которым я познакомился в дни премьеры «Гибели эскадры» на сцене украинского театра в Харькове, когда зрители настойчиво требовали автора, а взволнованный автор скромно прятался в кулисах.
Мне не удалось в Харькове поставить ни одной пьесы Корнейчука, так как его пьесы всегда шли на украинской сцене, и наше знакомство складывалось только в связи с его работой в других театрах.
Первая встреча с Корнейчуком произошла у меня уже в 1936 году в Ленинграде, когда я ставил его пьесу «Банкир» в Государственном академическом театре имени Пушкина.
Одновременно пьеса «Банкир» репетировалась в Москве в Театре Красной Армии и в Художественном театре.
Первое, что сохранилось в памяти, — это участь трех названных постановок. В Театре Красной Армии спектакль не имел успеха и прошел всего несколько раз. В Художественном театре спектакль не пошел совсем, несмотря на то, что в работе он был доведен до полных генеральных репетиций. В Ленинградском академическом театре имени Пушкина менее чем за полтора года спектакль «Банкир» прошел свыше двухсот раз. Я вспоминаю этот факт из сценической истории пьесы Корнейчука вовсе не из режиссерской гордости за свой собственный творческий успех, а потому, что я случайно обнаружил одну очень интересную деталь, имеющую, 447 как мне кажется, серьезное значение в режиссерской работе над пьесой.
Факты — упрямая вещь, но мы как-то не любопытны бываем к нашим театральным фактам и не любим изучать и анализировать их. Я не видел спектаклей «Банкира» ни в Театре Красной Армии, ни в Художественном, а потому, к сожалению, не могу сравнивать эти спектакли, но один эпизод, повторяю, врезался мне в память.
В день премьеры «Банкира» в Ленинградском театре имени Пушкина из Москвы приехала режиссер спектакля «Банкир» в Художественном театре Е. С. Телешева. Накануне у них была генеральная репетиция, после которой состоялась большая двухчасовая беседа Вл. И. Немировича-Данченко с участниками о проделанной работе. Решения о снятии спектакля тогда еще не было.
Елизавету Сергеевну я встретил в вестибюле. Мы оживленно беседовали с ней, как это обычно бывает между двумя режиссерами, когда они одновременно ставят одну и ту же пьесу.
— А сколько времени у вас идет последний акт? — неожиданно спросила меня Телешева.
— Тридцать семь минут, — ответил я, хорошо помня цифры тщательно прохронометрированного накануне прогона всего спектакля.
— Вы, вероятно, сделали большие купюры? — продолжала свои вопросы Телешева.
— Нет, я не вымарал ни одного слова. А почему вы, Елизавета Сергеевна, спрашиваете меня об этом?
— Да видите ли, в чем дело… — сказала, задумавшись, Телешева. — У нас последний акт идет час двадцать минут, и мы ничего не можем сделать с ним, чтобы он был короче.
На этом разговор оборвался, так как раздался третий звонок к началу спектакля.
Идя на сцену, я невольно думал о происшедшем между нами разговоре. Мертвые цифры как будто оживились и наполнились определенным содержанием. «Тридцать семь минут» и «час двадцать минут» становились не только цифрами, измеряющими время. Они раскрыли ту интенсивность или ослабленность, ту насыщенность или рыхлость сценических событий, которые происходят в последнем акте, а следовательно, и подчиняют психическую структуру образа данным событиям. Стало предельно ясным значение темпа и 448 ритма в спектакле, как чрезвычайно существенных факторов раскрытия идейного содержания пьесы в напряженности ее сценического действия. Невольно вспоминалось и письмо А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой в связи с работой театра над «Вишневым садом». «Как это ужасно! Акт [IV], который должен продолжаться 12 минут maximum, у вас идет 40 минут. Одно могу сказать: сгубил мне пьесу Станиславский»5*. Конечно, Станиславский не «сгубил» пьесы, но разночтение (автора и режиссера) было налицо, и цифры 12 и 40 являлись определителями этого разночтения. Вообще в нашей театральной жизни цифры иногда несут за собой любопытные вещи, а мы почему-то не любопытствуем раскрывать их. Например, 26 репетиций «Чайки» в Художественном театре и 296 репетиций пьесы «Мольер» в том же театре. Разве цифры и раскрытие их содержания не представляют для нас огромнейшего интереса?
Вот какие мысли меня волновали, когда я шел на сцену после разговора с Е. С. Телешовой в день премьеры «Банкира».
Не только идейно-образное решение будущего спектакля создает его благополучие, но и те сценические средства воплощения, которыми ты строишь данный спектакль, то обогащение сценических средств выразительности, которые ты как режиссер совместно с актерским коллективом нашел для данной пьесы, та реалистическая форма, которая раскрывает суть эпохи, родившей данную пьесу. А ведь каждая пьеса требует именно своего, присущего ей неповторимого решения, не только нарушая и не разрушая основных положений сценического реализма, но и обогащая его неповторимыми особенностями, присущими только данной пьесе. Если же мы встанем на позиции, что-де существуют однажды и раз навсегда найденные средства сценической выразительности, свойственные вообще реалистическому искусству, и будем их применять ко всем пьесам, то мы неминуемо сценически причешем под одну гребенку все пьесы и убьем самую суть сценического искусства, создавая скучнейшие и однообразные, серенькие спектакли. Неповторимая особенность 449 каждой новой пьесы драматурга прежде всего определяется поставленной им идеей и ясностью его эстетической платформы.
Основную тему пьесы «Банкир» мы сформулировали тогда так: «Сложность природы человеческих чувств героя сегодняшнего дня».
Но Корнейчук в этой пьесе идет дальше и затрагивает тему о человеческих чувствах и в будущем.
Дерзкая и смелая мысль драматурга придавала особый интерес творческой работе над этим спектаклем и требовала от режиссера и от участвующих также большой смелости в поисках общего решения спектакля и приемов построения отдельных сценических образов. Прекрасный состав исполнителей основных ролей — К. Скоробогатов, Н. Черкасов, Н. Рашевская и Б. Жуковский — дал возможность свежо в ярко и в чем-то по-новому сценически решить эту интересную пьесу.
В пьесе через ряд сложнейших столкновений сегодняшнего дня смело приподнимается завеса будущего. Основная идея, выраженная в поступках основных персонажей, раскрывается автором в монологе Романа Кручи (его играл К. Скоробогатов), в четвертом действии: «Вчера я долго думал о любви наших детей… Какой будет любовь в будущем? Мне кажется, родится она в трогательной дружбе, в какой-то большой, необычайной нежности мужественных душ, берегущих свою свободу… Тончайшие переживания классических образов прошлой литературы, которые волнуют нас сейчас, покажутся будущему человеку ограниченными…»
Вероятно, утверждение в спектакле именно этой темы через жизнь и поступки интересных сценических образов создали устойчивый успех спектаклю и его длительную жизнь.
Театр Революции
Сдав постановку «Банкира» и продолжая работу в Институте Лесгафта я все чаще и чаще задумывался о том, что пора бы уже было заняться и непосредственной работой в театре.
Как раз в это время я получил предложение стать главным режиссером Московского театра Революции.
450 Приехал я в Москву в тот день, когда решалась судьба спектакля, который еще и до сегодняшнего дня не сходит с афиши театра имени Вл. Маяковского. Шла генеральная репетиция «Собаки на сене» Лопе де Вега.
Спектакль не ладился, были в нем какие-то неточности в решении, были неправильные вымарки, не были потушены личные актерские взаимоотношения, и они часто главенствовали на сцене вместо точных соотношений образов. Одним словом, спектакль не вытанцовывался, и директор театра Соболев после просмотра первого же акта сказал:
— Надо спектакль снимать. Ничего не получилось. И продолжать репетиции нечего.
Он был прав и неправ. Неправ потому, что в спектакле было нечто такое, во имя чего стоило еще потрудиться, так как это «нечто» было подлинным явлением театрального искусства. Я говорю о Марии Ивановне Бабановой, исполнительнице роли Дианы.
Я знал Бабанову как актрису, видел на сцене почти во всех ее ролях, был влюблен в нее, как и подобает режиссеру быть влюбленным в подлинные явления искусства, но я никогда не видел ее в работе, и не знал, что такое Бабанова на репетиции. Слышал много о ее трудном характере в работе, но не всяким слухам можно верить, и мне хотелось самому — ведь я главный режиссер театра — на практике увидеть и понять творческие секреты Марии Ивановны.
Уже во втором акте я начал останавливать репетицию и делать замечания, предлагая или восстановить вымарку, или перестроить решение той или иной сцены. В третьем акте я уже снял пиджак и был постоянным гостем на сцене, а к концу репетиции уже просто репетировал со всей активностью режиссера, когда он профессиональным глазом со стороны видит те препятствия, которые тормозят и мешают раскрыться подлинно вдохновенным творческим взлетам художника, стесненного неправильной формой.
Репетиция окончилась дружной беседой, и было решено, что я проведу нужное количество репетиций и мы будем выпускать спектакль.
— Теперь получится! Спектакль пойдет. Продолжайте также работать, — сказал на прощание успокоенный директор театра.
Днем и вечером, в течение недели мы дружно репетировали 451 этот спектакль, и в процессе работы я понял, почему существует легенда о трудном характере актрисы Бабановой.
Дело совершенно не в ее характере, а в ее необычайной одаренности. Да, одаренности! Бабанова является столь одаренным актерским организмом, что ей противопоказана какая бы то ни было ложь на сцене. Она совершенно не умеет и не может врать и притворяться на сцене. Не умеет то, что называется «представлять». Бабанова может только предельно органически действовать на сцене в точных мыслях, подлинных чувствах и необходимых поступках создаваемого ею образа. Всякое наигрывание ей противопоказано, а потому и не может она отвечать партнеру, когда он фальшив в своей сценической жизни.
Разве она виновата?
Говоря определенную реплику своему партнеру, Бабанова в мире своей творческой фантазии уже слышит и его ответ, творческий ответ, а не ремесленный, и это напряженное и целеустремленное ожидание художника почти ежеминутно оскорбляется театральной ложью. Она ждет правды от партнера, а правды-то и не получает.
Горьковский персонаж в рассказе Луки в ответ на слова об отсутствии «праведной земли» поступил очень просто.
«Ах, ты… сволочь эдакой! Подлец ты, а не ученый…» «Да в ухо ему — раз! Да еще!.. А после того пошел домой и — удавился!..»
Бабанова в «ухо не дает» своему партнеру и не «вешается» после репетиции, и ее вполне закономерное нервное состояние следует объяснять трагедией ее огромнейшего актерского дарования, а не трудным характером в работе.
Пятнадцать-двадцать репетиций, проведенных с коллективом участников спектакля, дали возможность откорректировать форму спектакля, сделав ее более удобной для творческого раскрытия актерами духовной жизни образов.
Спектакль имел шумный успех, и, начав свою сценическую жизнь в 1937 году, живет и по сей день.
Осенью 1937 года отмечалась историческая дата двадцатилетия Октября. В спектаклях, посвященных этой знаменательной дате, театры впервые решали труднейшую задачу — задачу воплощения на сцене образа Владимира Ильича Ленина.
Несмотря на то, что я только что начал работать в Театре 452 Революции и еще мало знал актерский коллектив, а времени для выпуска спектакля оставалось совсем немного, я считал себя обязанным принять участие в решении той творческой задачи, которую партия и правительство ставили перед театрами: в дни двадцатилетия Октября создать на сцене советского театра образ Ленина.
Помня удачную постановку «Банкира», Александр Евдокимович Корнейчук передал свою пьесу «Правда» Театру Революции, и мы спешно приступили к работе. Самое главное и самое трудное было, конечно, определить, кто будет работать над созданием образа Ленина. В театре имени Евг. Вахтангова над образом Ленина в пьесе Н. Погодина «Человек с ружьем» работал Б. В. Щукин. Огромный творческий диапазон такого выдающегося актера, как Щукин, его внешние данные, дававшие возможность добиться почти портретного сходства (тем более что в кино это было апробировано), создавали относительное спокойствие в театре при решении этого невероятно сложного вопроса: кто же из актеров будет работать над созданием образа Ленина?
Совсем иная картина была в Театре Революции. Безусловного кандидата на эту почетную и бесконечно трудную работу не было, и никто в театре не брал на себя ответственность принять то или иное решение. Я же, только что вступивший в театр, менее чем кто-либо из членов коллектива мог это сделать, так как совершенно не знал творческих возможностей актерского состава.
Бывая на всех репетициях и знакомясь с актерским коллективом в текущих работах театра, я пришел и на репетицию пьесы «Последние» Горького, которую ставили М. Штраух и Ю. Глизер. Окончилась прогонная репетиция, и М. Штраух стал делать замечания. По тому, как он говорил с актерами, стремясь убедить их в правоте своей точки зрения, по тому, как он слушал их не всегда убедительные возражения, по той серьезности, с которой он обращался к ним, по неожиданным фразам, полным юмора и образности, по мгновенным переходам от глубочайшей серьезности к неожиданной улыбке мне показалось, что у Штрауха есть какие-то качества в его актерской природе, необходимые для предстоящей трудной работы. В это время он, объясняя какой-то кусок акта, прошел быстро на сцену и свое объяснение подтвердил актерским показом. Быстрота, легкость 453 перехода на сцену и стремительный, технически совершенный показ М. Штрауха, актера, прекрасно владеющего формой и умеющего точно передать в этой форме емкое содержание, внезапно родили во мне мысль: вот актер, с которым нужно пробовать работу над образом Ленина. Репетиция окончилась. Участники спешили домой, так как было уже поздно и до вечернего спектакля оставалось не много времени. Штраух продолжал разговор с одним из участников «Последних». Слушая и продолжая присматриваться к Максиму Максимовичу Штрауху, я уже не мог смотреть на него иначе, как через призму принятого мной решения. Вот он лукаво слушает актера, и на серьезном лице его вы видите только смеющиеся глаза. Вот он в лаконичную фразу вложил большое содержание, веско произнося каждое слово, и при этом очень выразительно похлопал партнера по плечу.
— Максим Максимович, а вы знаете, что Ленина будете играть вы? — сказал я неожиданно, прерывая беседу актера и режиссера.
Штраух посмотрел на меня и засмеялся. Да, первая его реакция была — смех! Уж очень неожиданным показалось ему мое предложение. Затем через мгновение он стал серьезным, было видно, что в сознании его пронеслось бесконечное количество мыслей, и, уже не смеясь, а улыбаясь, он сказал:
— Я в роли Ленина? Да что вы? Как же я могу быть Лениным?
— Овладеть материалом роли вы, конечно, сможете, — уверенно настаивал я, — а вот что касается возможности добиться сходства, то это, конечно, очень трудно. Но мы по пробуем сделать первоначальный набросок грима и костюма, и вы проверите свое самочувствие и свою способность действовать от предложенного вам образа Владимира Ильича.
Прошло несколько дней. Штраух готовился к пробе грима и костюма, но в нем все время продолжалась борьба между появившимся большим желанием создать образ Ленина и сомнением в возможности решить эту сложную творческую задачу. Наконец день пробы был назначен. Шел спектакль «Последние», и мы решили после спектакля просмотреть грим и костюм на сцене. Штраух заперся в уборной, никого не пускал и в течение всего спектакля совместно с художником-гримером работал над созданием грима.
454 Спектакль кончился. Зрительный зал опустел. Открыли занавес и на сцене установили в декорациях квартиры полицмейстера Коломийцева вечерний свет (первый раз в пьесе Корнейчука «Правда» Ленин появляется вечером в комнате связи в Смольном). Была тишина, которая всегда возникает после спектакля, когда зрители покидают стены театра. Уходят зрители, уходят актеры, уходит обслуживающий персонал, и в театре наступает та тишина, в которой вы всегда сможете ощутить те отблески волнений, которые еще недавно бушевали в театре во время спектакля. Я очень люблю эту театральную тишину после спектакля. Мы сидели в пустом зрительном зале и тихо беседовали, ожидая, когда нам сообщат, что М. Штраух готов приступить к просмотру. Тишина во всем театре, тишина в притушенном зрительном зале, наш тихий разговор, открытый занавес и пустая с вечерним освещением квартира Коломийцева — таковы были предлагаемые обстоятельства в тот знаменательный день.
И вдруг — здесь очень уместно это слово, так как оно точно определяет то, что испытали мы все, сидящие в зрительном зале, — раздался звонок в прихожей квартиры Коломийцева, мы невольно повернулись к сцене, не понимая, почему прозвучал этот звонок, еще секунда, и всех нас как бы обожгло то, что произошло на сцене. Из прихожей быстрой походкой вышел Ленин, задержался несколько секунд около стола, что-то взял со стола и так же стремительно ушел в дверь, ведущую во внутренние комнаты. Как молния мелькнул образ, созданный Штраухом, и когда именно он исчез со сцены, мы даже точно не могли себе ответить. Да было ли то, что мы видели, или нам это только показалось? На первой же пробе Штраух завоевал безусловное право работать над образом Ленина. Он не просто показал грим и костюм, он показал действенный фрагмент будущего образа, и этим, одержал большую победу.
Впоследствии Штраух успешно выступил в роли Ленина и в кино — перед объективом киноаппарата, куда более придирчивым, чем глаза театрального зрителя. И эта победа Штрауха определялась в первую очередь тем, что в создании образа он шел от его внутреннего содержания, а не только от внешнего сходства.
Дружба с Корнейчуком крепла и углублялась. Он не очень часто наезжал в Москву, так как был связан с постановкой 455 «Правды» на Украине, где над образом Ленина работал Амвросий Бучма. Но дни его пребывания у нас в театре, его беседы с нами вселяли уверенность, что мы стоим на правильном пути и что мы установили ту творчески дружескую атмосферу между актерами и драматургом, которая дала возможность в очень короткий срок выпустить полноценный спектакль. Этот спектакль прожил длительную сценическую жизнь и явился для актера М. М. Штрауха, по его собственному признанию, этапным в его творческой жизни.
У меня лично сложились с М. М. Штраухом чудесные творческие и дружеские взаимоотношения, которые нам очень помогали во время напряженной работы над спектаклем, сделанным в чрезвычайно короткие сроки. Работу Штрауха над образом Ленина я считаю выдающейся и потому законно горжусь подарком, который он мне сделал после премьеры.
Этот подарок — большой фотопортрет сценического образа Ленина, созданного М. М. Штраухом, и, главное, надпись на портрете, которую не всякий актер, хорошо сыгравший ответственную роль, напишет режиссеру, работавшему с ним. Мы, режиссеры, гораздо больше привыкли все удачи совместной работы с актером отдавать ему, а все неудачи принимать на свою голову. Такова уж печальная участь нашей профессии. Вот почему я был очень взволнован, когда прочел то, что написал мне М. М. Штраух.
«Николаю Васильевичу Петрову
с благодарностью.
Работа над образом В. И. Ленина была для меня возможной только благодаря Вашей смелой инициативе и помощи!
В этом деле я обязан всецело Вам!
М. Штраух
10 октября 1938 года».
Эта надпись много говорит о самом актере. И я дорожу подарком Штрауха не только потому, что он напоминает мне дни интересной работы над пьесой Корнейчука, о нашей общей — актера, режиссера и драматурга — творческой удаче, а главным образом потому, что в надписи актера, подарившего мне портрет, содержится нечто такое, что является, на мой 456 взгляд, очень важным в нашем искусстве. Я имею в виду скромность актера, человеческую и творческую дружбу между актером и режиссером.
Но такие подлинно творческие взаимоотношения возникают и складываются только в тех работах, когда существует творческая атмосфера в репетиционном периоде, которая устанавливается в первую очередь драматургом благодаря его человеческим качествам. Очень важно, как придет драматург на первую читку своей пьесы. Как он разговаривает с режиссером и актерами. Как он ведет себя на репетициях Как, наконец, он знает и понимает законы сценического искусства. Человеческое поведение драматурга — вот то первое обстоятельство, которое устанавливает ту или иную атмосферу творческой работы.
Александр Корнейчук как раз обладает этими особыми человеческими качествами. Он привносит радость, легкость и праздничность в процесс созидания спектакля. Он великолепно чувствует будущую реакцию зрителя, то есть знает законы внимания зрительного зала, хорошо понимает природу актерского мастерства. Наконец, он внимательно, чутко и серьезно прислушивается к предложениям режиссера.
Есть и еще одно неоценимое качество у драматурга Александра Корнейчука — это то человеческое обаяние, тот художественный шарм, которыми природа не очень часто одаряет артистические натуры. Глядя на обаятельно улыбающегося Корнейчука, режиссер ему верит. Его понимают и любят актеры, а зритель с радостью и доверием подчиняется мыслям, выдвигаемым в пьесе. А это ли Не является высшей радостью для драматурга, когда зритель подчиняется его творческой воле?
Жадность к работе
Напряженная и предельно интенсивная репетиционная работа первых месяцев отодвигала на второй план большие вопросы руководства театром, хотя несколько раз я и пытался вызвать актерский коллектив на откровенный и творчески принципиальный разговор о будущих путях жизни театра. Но эти попытки не дали желательных результатов. Разговор как-то не завязывался. 457 Товарищи очень внимательно выслушивали мои «декларации», отвечали тремя-четырьмя остроумными репликами и все расходились, не желая тревожить себя размышлениями о будущем театра.
Природа коллектива, созданного Мейерхольдом и впоследствии руководимого Алексеем Поповым, была слишком сложная и противоречивая, чтобы сразу же непосредственно и доверчиво ответить на мои искренние обращения к ним. Да и слишком различны были и творческие устремления и творческие облики отдельных талантливейших актеров, составляющих этот коллектив. Надо было много вместе съесть соли, чтобы найти общий язык.
«Казацкая вольница», как тогда называли в Москве коллектив Театра Революции, жила своей годами сложившейся жизнью и не очень-то охотно впускала постороннего в свой «казачий круг».
Мне надо было быть терпеливым, а я проявлял нетерпение. Не получилось разговора в «Славянском базаре» и с милейшим Соболевым, директором театра, довольно примитивно понимавшим роль руководителя театра.
И даже в самом Комитете по делам искусств трудно было услышать что-нибудь определенное о принципиальных вопросах руководства театром.
Блуждая в сомнениях и нерешительности, очень неуютно и одиноко я чувствовал себя эти восемь месяцев пребывания в Москве, не находя общего разговора с директором, не установив дружеского контакта с творческим коллективом, хотя с каждым в отдельности мы были в прекрасных отношениях, и не получая нужной поддержки и мудрых советов в комитете, состав которого в то время начал изменяться.
События 1937 года непосредственно коснулись и Афиногенова. Его исключили из Союза писателей, затем исключили из партии. Встречаясь по вечерам у него в Переделкине, мы уже не играли в шахматы, а предавались невеселым размышлениям о трудностях, которые встают в такое время перед художником.
— Вероятно, мне трудно еще и потому, — философствовал я, — что я все же ленинградец, и не очень-то своим считает меня театральная Москва.
— Ну, и поезжайте в Ленинград, — быстро сказал Александр 458 Николаевич, — там вас примут с распростертыми объятиями.
Он ли подсказал мне решение или я сам пришел к нему, не помню, да и не в этом сейчас дело, но так или иначе, а в начале 1938 года я попросил освободить меня от работы в Театре Революции и решил возвратиться в Ленинград.
За день до отъезда из Москвы я получил телеграмму от Ленинградского Большого драматического театра с предложением поставить у них «Благочестивую Марту» Тирсо де Молина, а также войти к ним в состав режиссуры.
Настороженно одинокая жизнь в Москве мгновенно сменилась бурной деятельностью в Ленинграде. Как только я приехал в Ленинград, меня буквально завалили работой. Слова Афиногенова быстро сбывались.
Один из моих бывших учеников — Е. П. Гершуни, работавший в области цирковой режиссуры, предложил мне поставить в цирке пантомиму. Новые впечатления, новые люди, а главное, новые, еще неведомые мне процессы работы увлекли меня, и я с удовольствием и большой энергией принялся за постановку пантомимы «Тайга в огне», написанной Е. Кузнецовым и А. Бродянским.
Пантомима по ходу действия оканчивалась «водяным каскадом». В ленинградском цирке давно уже не ставили пантомим с водой, и все усердно и тщательно готовились к этому аттракциону.
«Благочестивую Марту» я выпустил вполне благополучно к середине работ над постановкой пантомимы, и сейчас целиком ушел в цирковую жизнь, знакомясь с бытом и нравами людей циркового искусства. Сознаюсь, что я был удивлен высоким чувством ответственности и той морально-этической чистоплотностью, которые царят у них в работе.
Что же воспитывает в них эти качества и как они формируются?
Драматический актер может провалить роль, и после этого, ужиная с друзьями в ресторане ВТО, все же надеяться, что найдется кто-нибудь из друзей-критиков, кто завтра объявит его провал «творческим достижением», тем более если этот актер оснащен пышными званиями.
Другое дело актер цирка.
Укротитель львов или тигров, вошедший к ним в клетку и вдруг утративший свою власть над ними, не сможет ужинать 459 после такой катастрофы. Точно так же не до ужина будет и тому гимнасту под куполом цирка, который, не рассчитав расстояния, не долетит до качающейся трапеции.
Неудача циркового актера зачастую граничит с его смертью, а неудача драматического актера — дело безвредное и никогда не угрожает его жизни. Мне кажется, что это один из тех крупнейших факторов, который влияет на высокое чувство ответственности в работе цирковых актеров.
Работая над пантомимой, драматической по своему содержанию, приходилось решать подчас удивительные задачи. Помню, как мучительно мы искали возможность решения одной трагической сцены, где главным действующим лицом должна была быть лошадь.
Потеряв всадника, партизана, убитого японцами, сделав круг по манежу, она должна была найти своего хозяина, и, не понимая, что он убит, пытаться его поднять. Задание было очень трудное, но руководитель конной группы, энтузиаст Туганов, уверял нас, что это вполне возможно и что он приготовит эту сцену. Очень уж хотелось ему, чтобы лошадь сыграла драматическую роль.
В одну из последних репетиций, когда все уже было готово, предстояло испробовать водяной аттракцион. Проба пуска воды в цирке имеет свои традиции и обставляется достаточно торжественно, вот почему к этому дню из Москвы приехал художественный руководитель Управления цирков В. К. Владимиров, директор Малого театра в те годы, когда я руководил Александринским театром.
Одновременно с этой работой в цирке мне как режиссеру пришлось принять участие и в постановке одного балетного спектакля.
Театр имени С. М. Кирова работал над постановкой нового балета «Сердце гор». Это был один из первых современных балетов. Либретто балета принадлежало Н. Д. Волкову, а музыку написал А. Баланчивадзе. Ставил танцы Вахтанг Чабукиани, впервые выступавший в театре Кирова в роли балетмейстера.
Он очень талантливо и интересно поставил все танцы, но требовалось еще общее решение балета и всех пантомимных сцен, связывающих между собой танцы, для чего руководство театра пригласило меня.
460 В моем художническом характере есть два начала, которые часто определяют направление деятельности. Первое — это жадность к работе, второе — заинтересованность, может быть, проще сказать любопытство, которое толкает меня на новые места, в неизведанные отрасли театрального труда.
Худо это или хорошо, я не знаю, но в данном случае я сразу же согласился на интересное предложение, поблагодарив директора за огромное доверие.
Три месяца дружной творческой работы с великолепным и талантливым балетным коллективом промчались как сказочный сон. Постигая тайны балетного искусства, я наблюдал необычайный и упорный труд крупнейших мастеров балета в преодолении трудностей как постановочного плана, так и подчинения своего организма поставленным заданиям Вспоминая свои прежние впечатления от балетных спектаклей, я начинал понимать, какое безграничное количество человеческого труда заложено балетными актерами в эту чарующую легкость движений, столь пленяющую нас, когда мы смотрим балетный спектакль.
На какой-то период времени мне было даже грустно ходить на балетные спектакли, так как я временно потерял наивность зрителя, не видящего за легкостью танца титанический труд и гигантскую работу, но я еще больше полюбил актеров балета и проникся к ним и их труду безграничным уважением.
Понимая огромную трудоемкость мастерства балетного актера, я сначала робко присматривался к их упорной работе, сопоставляя их физический труд с затратой физического труда наших актеров драмы, но уже через неделю, увлеченный их работой, я делал деликатные замечания и вежливые предложения, а через две недели, сняв пиджак, уже пытался вмешиваться в их труд не только своими предложениями, но и сценическим показом отдельных сцен, а в пылу увлечения даже иногда пытался и протанцевать то или иное место.
Артисты очень внимательно и сосредоточенно, иногда буквально как робкие ученики следили за показом всех пантомимных сцен и разражались бурным весельем и аплодировали, когда я пытался протанцевать какой-нибудь кусок из ролей Вахтанга Чабукиани или Татьяны Вечесловой.
461 Свое участие в постановке балета я видел в следующем. Точно выстроить пантомимные сцены, раскрывающие содержание балета, и найти образно-выразительные решения пантомимных сцен, непосредственно переходящих в танец, а также и начала пантомимных сцен, рождаемых окончанием танца. Вероятно, это удалось в какой-то мере, так как критика отмечала именно эту общую понятность содержания и логическое рождение танца.
Премьера прошла с большим успехом, радость участников была столь велика, что, выходя на аплодисменты по окончании спектакля, они вызывали и меня. Режиссер драматического театра в окружении артистов балета принимал приветствие зрительного зала. Это было нечто новое в моей биографии, и я пытался разобраться в своих мыслях и ощущениях, накопленных за интереснейший период времени совместной работы с талантливейшим коллективом одной из высочайших форм сценического искусства (ведь недаром же говорил Конфуций, что «искусство жеста так значительно, что о качестве форм правления в государстве надо судить по мимическим танцам, которые были в моде в данное время»).
Еще раз поздравив друг друга и дружески, с традиционными поцелуями простившись, я быстро вышел из театра и нанял извозчика.
— В цирк. И поскорее, — сказал я унылому вознице, который точно принял к исполнению первую часть моей просьбы и оставил без внимания вторую. Его лошадка не поддавалась ни на какие увещевания.
— Она у меня, зануда, хитрая, — заявил извозчик, — но мы сейчас приведем ее в действование, — сказал он, взмахнув кнутом и попутно задев им и мое лицо.
«Действование», — невольно повторил я про себя. Вот даже извозчик и тот говорит о «действования», а сколько энергии, труда и знания вкладываем мы в свою работу, чтобы достигнуть этого «действования» актеров на сцене. Вот сейчас прошел балет, и зрители его очень хорошо приняли, и успех крылся, вероятно, в этом самом непрерывном «действовании», через которое до зрителя дошло содержание.
А разве не о «действовании» думаем мы сейчас и в цирке, решая трагическую мизансцену для тугановской лошади?
462 Да, это самое «действование», или «сценическое действие», как говорим мы, профессионалы театра, есть основной и непреложный закон искусства во всех жанрах.
А ведь искусство неотрывно от жизни, мелькнуло в голове, следовательно, закон непрерывного действия и есть закон самой жизни и т. д. и т. д.
Так одна внезапно возникшая мысль потянула за собой другую, другая по ассоциации родила третью, и поток мыслей сразу же захватил меня.
«Жаль, что со мной рядом на извозчике не сидит Афиногенов, — подумал я. — Мы с ним бы сейчас пофилософствовали. Что-то он давно не звонил и не писал? Уж не случилось ли что?»
А унылый возница медленно продолжал свой путь к цирку, и, опережая ритм топота лошади, мысли наскакивали одна на другую. Любопытнейший получался контрапункт двух ритмов: медленного лошадиного топота и быстрого человеческого мышления.
Почему же он все-таки ничего не пишет?
В последнем письме он писал:
«… Наплюйте на БДТ и просто приезжайте по каким-нибудь другим делам. Давно уже не слышал Вашего голоса и всяческих новостей театральных и иных прочих, которые Вы так превосходно умеете рассказывать».
Следовательно, и ему тоже хочется побеседовать со мной.
Жаль, что его нет, он бы так радовался и веселился, когда увидел бы репетицию водяной пантомимы, он же так любит все необычное…
Возница остановил лошадь и, уныло обращаясь ко мне, произнес:
— Следует прибавить, гражданин. Резво бежала зануда.
Из цирка как раз выходила публика после окончания представления.
Дежурный свет на манеже как бы боролся с темнотой, заполняющей огромное пространство пустого цирка, и в этой неравной борьбе ему удавалось высветить только пустой манеж и первые три-четыре ряда амфитеатра.
Из форганга выходили участники пантомимы и занимали места возле центральной ложи, чтобы полностью видеть каскад воды, стремительно мчащийся на арену.
В цирке царила настороженная тишина, всегда возникающая 463 даже в любом зрелищном предприятии, когда отсчитываются последние секунды перед началом представления.
Я люблю эту волнующую, внезапно возникающую предначальную тишину, и всегда в дни премьер остаюсь до последней секунды на сцене, чтобы быть свидетелем и участником торжества начала рождения явления искусства.
Как прав был Немирович-Данченко, говоривший, что «тишину на сцене нужно создавать звуками».
И вот «оно» началось…
Первым было звуковое ощущение, внезапно ворвавшееся в напряженнейшую тишину. Звук был похож на мгновенно возникший ливень. Мощный поток воды ворвался на построенный «каскад» и стремительно помчался вниз, сталкиваясь с установленными препятствиями на днище «каскада».
Каждое препятствие рождало миллионы брызг, внезапно засветившихся всеми цветами радуги. Электрики не могли отказать себе в удовольствии блеснуть своим мастерством и самостоятельно организовали подсветку пуска воды.
Я никогда не видел водяных пантомим и, сознаюсь, с восхищением смотрел на этот водопад, созданный людьми, а не природой.
Аплодируя, мы столпились у барьера арены и наблюдали, как, теряя свою силу, водопад постепенно превращался сначала в волнующуюся реку, затем в ручеек и, наконец, совершенно исчез, после чего опытные электрики мгновенно перенесли свет своей аппаратуры на волнующуюся поверхность озера, таящую еще в себе мощь водяного потока.
— Николай Васильевич, где это вы запачкали так пиджак? — неожиданно обратился ко мне режиссер Альперов.
Я повернулся.
— Вот тут… Да вы снимите его…
Ничего не подозревая, я доверчиво снял пиджак. Участники пантомимы быстро подхватили меня на руки, раскачали и бросили на середину водного пространства. Все произошло буквально в одно мгновение.
Едва я коснулся воды, оркестр грянул туш. Все кругом аплодировали и громко смеялись. Глубина бассейна была несколько выше пояса, и, едва почувствовав под ногами дно, я взял курс «к берегу». Так совершилось традиционное купание режиссера, впервые ставящего водяную пантомиму.
464 На «берегу» меня уже ждали с мохнатой простыней и поздравляли с боевым крещением…
Через два дня состоялась премьера пантомимы «Тайга в огне».
Весной я получил приглашение из Москвы встать во главе Театра народного творчества, деятельность которого временно прекратилась, так как помещение бывшего цирка Никитиных, где были спектакли театра, перестраивалось и сейчас нужно было проводить большую организационную работу, подготовляя открытие театра на новых началах. Итак, опять Москва и новое неизведанное дело.
Назывался он — Всесоюзный театр народного творчества, а находился в ведении Московского управления по делам искусств. Наши планы охватывали самодеятельность во всесоюзном масштабе, а Московское управление искусств не имело на это ни денег, ни тем паче желания заниматься столь хлопотливым делом. Кончилось это тем, что нас передали в ведение Комитета по делам искусств при Совнаркоме.
Для открытия театра мы выбрали пьесу «Иван Болотников» и приступили к ее постановке, опираясь в основном на драматический коллектив завода «Серп и молот».
Ставили спектакль мы вместе с А. З. Богатыревым, декорации были заказаны художнику Арапову, а музыку писал композитор Степанов.
Работа шла увлекательно и интересно и уже приближалась к концу, даже бетонный купол вместо старой железной крыши был окончен, и мы придумывали, как сделать так, чтобы создать лучшие акустические условия, когда вдруг совершенно неожиданно, как говорится, в один прекрасный день мы получили извещение от Комитета по делам искусств о том, что наше помещение передается Театру оперетты.
И это в то время, когда спектакль был почти готов, когда было закончено изготовление декораций и их уже свозили в театр, когда шли оркестровые репетиции музыкальных номеров.
Так и окончилась моя деятельность еще на одном неизведанном участке, на долгое время лишив меня желания принимать участие в жизни самодеятельного искусства. А жаль…
465 * * *
Кисловодск в летние месяцы напоминал филиал московских и ленинградских театров, так как, совершая прогулки, вы непременно или кого-либо обгоняли, или вам шли навстречу бесконечные знакомые. Вы могли встретить Н. К. Черкасова и Н. Н. Вейсбрехт, только что вернувшихся после поездки на Хасан, В. А. Подгорного, С. В. Михалкова, в то время еще начинающего поэта, А. Г. Коонен и А. Я. Таирова, Б. Н. Ливанова, А. Г. Зархи, А. Н. Толстого и старого ветерана кисловодского курорта Н. Ф. Погодина с женой — всех не перечислишь.
Это было лето 1938 года. В один из первых дней после приезда, стоя на балконе своего номера, я наблюдал двигающихся курортников в их медленном, бесцельном, одноритмичном хождении по дорожкам санатория.
Неожиданно внимание мое привлекла фигура человека, идущего вразрез с ритмом окружающих. Он шел быстро, но не спешил. Он был наверняка отдыхающим, но в то же время резко выделялся среди них. В его нервно-подвижной фигуре было что-то особенное, чего не могла потушить курортная дрёма. Несколько отстав от него, шла красивая женщина в черном шелковом плаще.
Это были Всеволод Мейерхольд и Зинаида Райх. Вероятно, они шли сюда навестить кого-нибудь из знакомых. Я знал, что они отдыхают в Кисловодске, но как-то не успел еще повидаться с ними. Мейерхольд не видел меня, так как смотрел на балкон, который был ближе к краю корпуса.
— Борис! Борис! — кричал театральным голосом Мейерхольд, подняв обе руки кверху и помахивая ими. На балконе появился Ливанов.
— Мы с Зиной шли… — далее он замолк, так как Ливанов, наклонившись с балкона, что-то сказал ему. Что он сказал, я не слышал, но видел, как сказанное Ливановым мгновенно сковало всю фигуру Мейерхольда. Он замер. Приветствующие Ливанова руки были еще устремлены к балкону, голова поднята и направлена туда же, но это была только застывшая форма предшествующего радостного приветствия, и мгновенная заторможенность этой формы еще больше подчеркивала то новое содержание, которое заполнило его целиком тем, что сообщил ему Ливанов. И эта подлинно скульптурная 466 статика еще больше подчеркивала трагизм внезапного сообщения.
«Что такое сказал ему Ливанов? — невольно подумал я. — Его сообщение буквально потрясло Всеволода Эмильевича».
Мейерхольд продолжал неподвижно стоять, затем голова его начала медленно опускаться и, когда она опустилась совсем, он тяжелыми шагами направился к входу в наш корпус, а руки так и остались поднятыми вверх. Медленно шла за ним с опущенной головой и Зинаида Райх.
Я быстро вышел в коридор, чтобы узнать, что же это такое случилось так потрясшее Мейерхольда.
— Умер Константин Сергеевич Станиславский, — сказал мне Таиров, быстро проходивший по коридору.
467 Глава 11
Снова Москва
Вернувшись осенью в Москву я был буквально завален предложениями.
Мне предлагали руководить предполагавшимся открыться Театром киноактера.
И. М. Махлин предложил поставить спектакль «Генеральный консул» Л. Шейнина и братьев Тур в реорганизуемом им Транспортном театре.
Руководство театра имени Ленинского Совета предложило быть у них главным режиссером.
Е. О. Любимов-Ланской звал к себе в театр МОСПС главным режиссером с перспективами передачи впоследствии руководства. Его доверительная и искренняя беседа бесконечно взволновала меня.
Управление цирков предложило осуществить постановку «Тайга в огне» в Московском цирке, а также принять руководство этой же постановкой в Первом передвижном цирковом коллективе.
Моя «жадность» была удовлетворена полностью, но я, достаточно наученный уже жизнью, не спешил в решении театральных дел, желая подробнее и глубже, а главное, перспективнее продумать все предложения и тогда уже принять 468 окончательное решение, связав свою работу с тем театром, где будет возможно проводить большие планы строительства театра, а не просто осуществлять одну постановку за другой.
Для начала я согласился на отдельную постановку в Театре транспорта, а также дал согласие и Управлению цирков на оба их предложения.
Так прошла зима. В середине марта работа одна за другой постепенно заканчивалась. И. М. Махлин начал заговаривать со мною о вхождении в театр художественным руководителем. Я все внимательнее и внимательнее прислушивался к его предложениям, сулившим широкие творческие перспективы, реализацию больших планов строительства театра под эгидой Народного комиссариата путей сообщения, обеспечивающего дело достаточно прочной материальной базой.
Очень сочувственно относился Афиногенов к созданию нового молодого театрального организма, обещая свое творческое участие. Убеждал меня и Макаренко.
— Ну что же, Николай, ведь занимался же я педагогической работой в органах ГПУ, а не Наркомпроса, и, откровенно говоря, не жалею об этом. Почему бы и тебе не заняться театральными делами на транспорте?
С коллективом театра во время работы над «Генеральным консулом» установились дружеские отношения, и, обсудив все «за» и «против», я дал согласие Махлину быть художественным руководителем Транспортного театра, который, переходя из ведения ЦК Союза железнодорожников непосредственно в Комиссариат путей сообщения, стал называться Центральным театром транспорта.
Решение было принято, и на первое апреля было назначено общее собрание работников театра с официальным объявлением о моем назначении и программным выступлением о перспективных путях перестройки театра.
Очень одобряли мое решение и Афиногенов и Макаренко, с которым, кстати говоря, мы решили совместно строить дачу на Истре. Макаренко жил под Москвой, часто наезжал в город, и как раз в канун первого апреля обещал приехать, чтобы подробно договориться о строительстве…
Первого апреля 1939 года я вступил в свои обязанности художественного руководителя Центрального театра транспорта. 469 Но этот радостный день начала новой большой работы был омрачен трагическим известием, которое буквально потрясло меня — накануне скоропостижно скончался Антон Семенович Макаренко.
Театр транспорта
Пятилетие директорства и художественного руководства бывшим Александринским театром и трехлетняя работа в Харьковском театре русской драмы научили меня очень многому. Многое я понял, о многом догадывался, многое изучил и проверил, многое видел и сам кое-что сделал в театре за эти годы руководства двумя театрами. Александринский театр приходилось поворачивать на новый курс, и в этой работе я познал, что такое «реконструкция театра», в Харькове же мы строили новый театр на пустом месте, что было, конечно, значительно легче.
Разные процессы работы, разные коллективы, разные масштабы, разные творческие облики актеров и режиссеров, различные результаты отдельных премьер, победы и поражения — все это обогащало понимание главного и основного вопроса: что же это такое руководить театром? А новые впечатления за годы «бродяжничества»? Разве они не обогатили и не расширили мой кругозор в понимании вопросов театрального искусства?
«Боюсь перегрузить книгу анекдотом, который суть кирпич русской истории, и афоризмом, в коем сосредоточена наша мудрость», — писал А. М. Горький из Сорренто в письме Сергееву-Ценскому от 7 сентября 1927 года.
Эти же мысли беспокоят и меня, когда я подхожу к финалу своей работы, тем более что, хотя я в то время уже и приближался к полустолетию своей жизни, но, смею уверить читателя, не утратил ни жизнерадостности, ни оптимизма.
«Из-за того, что Фрагонар много смеялся, быстро пришли к заключению, что он небольшой живописец», — писал Ренуар и оканчивал эту мысль следующим выводом: «Людей, которые смеются, не принимают всерьез. Искусство в сюртуке — будь то живопись, музыка или литература — всегда будет поражать».
Меньше всего мне хотелось бы пройти остаток своей жизни в «сюртуке» (очень уж это скучно), но пусть не посетует 470 на меня читатель, если иногда я буду стремиться предложить ему серьезно задуматься и над большими вопросами, связанными с жизнью нашего театра.
Стратегический план на несколько лет и точная разработка тактики проведения отдельных этапов этого плана — вот что необходимо было нам уяснить себе, приступая к работе в новом театральном организме.
В первую очередь нужно было передвижной коллектив театра, каковым он был до нашего с Махлиным прихода, превратить в московский стационар, а это возможно было сделать, только расширив состав труппы и пополнив ее творчески интересными актерами.
Вторая задача из стратегического плана условно названа была нами — «реконструкция труппы».
Проблема современного репертуара, явившаяся фундаментом при перестройке Александринского театра, а также бывшая основой при построении Харьковского театра русской драмы, явилась ведущей проблемой и здесь в Транспортном театре.
Борис Ромашов и Александр Афиногенов были теми первыми драматургами, которые с удовольствием откликнулись на обращение театра, тем более что оба являлись моими большими друзьями. Вновь и вновь подтверждалась истина, что драматург должен быть творческим другом театра, а не просто поставщиком пьес, должен быть равноправным членом театрального коллектива, а не человеком со стороны, и интересы театра должны стать и его, драматурга, творческими интересами.
Искусство театра, отображающее и раскрывающее нашу действительность во имя ее созидания, предметом своей творческой деятельности имеет современную жизнь. Но мы не должны забывать, насколько осложнилась наша жизнь против той жизни, когда жил Щепкин, и даже той эпохи на рубеже двух столетий, когда «буйные сектанты» создавали Московский Художественный театр.
Трудность и сложность жизни наших дней закономерно требовала и от театра — уж ежели он призван отражать нашу действительность — более глубокого ее понимания и нахождения тех новых средств выразительности, которые действительно соответствуют этой ответственной задаче.
Посильна ли такая титаническая работа одному человеку, 471 столь свободно и легко справлявшемуся в далеком прошлом с трудностями в театре тех дней? Не идет ли на смену труда одинокой личности труд коллектива, спаянного единым идейно-творческим пониманием задач современного искусства? Не должен ли повториться на новом этапе, в новой исторической действительности, с новыми идейными и эстетическими требованиями тот творческий опыт, который проделали два гениальных революционера русского театра на рубеже двух столетий, создав Художественный театр?
Прежде всего нам хотелось ответить на законное требование, которое таилось в самом названии театра. Раз театр носит название «Центральный театр транспорта», то, конечно, мы считали своей обязанностью создать ряд спектаклей, посвященных теме «Люди на транспорте».
Но два моих друга-драматурга — Ромашов и Афиногенов, хотя и откликнулись на мою просьбу, но как раз в то время были не в очень хорошей творческой форме, так как у одного, Ромашова, только что произошла неудача с его последней пьесой «Родной дом», а Афиногенов не был еще восстановлен в партии и мучительно переживал свое одиночество. Но жизнь и время брали свое, и мои друзья приступили к работе.
С Афиногеновым мы решили продолжить сценическую жизнь образов, созданных им в его пьесе «Далекое», которая была очень высоко оценена Горьким. Жизнь этих образов на разъезде «Далекое» Афиногенов решил подчинить «предлагаемым обстоятельствам» — начавшейся европейской войне, хотя наша Родина и не была еще втянута в эту трагедию.
Так родилась пьеса «Вторые пути», которую театр выпустил в 1939 году.
В репертуаре театра были современные спектакли: «Любовь Яровая» Тренева, «Генеральный консул» братьев Тур и Шейнина, «Доктор Калюжный» Германа и «Вторые пути» Афиногенова: Русская классика была представлена двумя названиями: «Без вины виноватые» Островского и «Свадьба Кречинского» Сухово-Кобылина. Западная классика — «Комедией ошибок» Шекспира.
Мы считали, что с таким репертуаром мы имеем право смело двинуться в большую гастрольную поездку. Мы не побоялись принять предложение играть на одной из ответственных летних площадок, а именно — в Кисловодске.
Вероятно, наш энтузиазм и твердая вера в светлое будущее 472 нашего театра способствовали благополучному летнему сезону, и героями-победителями мы возвращались после отпуска, в Москву, строя еще более смелые планы будущей работы.
В труппу вливались новые силы, Ромашов заканчивал свою комедию «Со всяким может случиться», Афиногенов приступил к новой пьесе — «Отель “Люкс”», посвященной международным событиям, а мы с Махлиным продолжали разрабатывать дальнейший «стратегический план», ни в чем не стесняемые Комиссариатом путей сообщения и поддерживаемые им во всех наших начинаниях.
В работе как-то все ладилось, и мы дружно трудились, уже предвкушая возможности браться за более ответственные задачи.
Нашему радостно-беззаботному настроению, однако, совершенно не соответствовала международная обстановка. Шли первые акты трагедии второй мировой войны. Обнаглевший фашизм безжалостно проглатывал все, что попадалось на его пути.
Но мы еще не были втянуты в эту мировую мясорубку. В те дни Германия еще не совершила своего вероломного нападения на нашу страну.
И если Александр Афиногенов заканчивал свою новую, пьесу «Отель “Люкс”», исходя именно из этого соглашения и стремясь раскрыть внутренние пружины разворошенного муравейника капиталистического мира, то драматург Георгий Мдивани по нашему заказу заканчивал пьесу «Батальон идет на Запад», где уже описывались события возможной будущей войны на нашей территории. В этой пьесе до поры до времени враг был «некоей империалистической страной» без точного адреса.
Театр к этому времени работал над еще двумя современными спектаклями — Ромашова «Со всяким может случиться» и Афиногенова «Машенькой», тем самым продолжая намеченный репертуарный курс, ориентируясь в основном на современную пьесу.
В комедии Ромашова не было прямых связей с большими событиями нашей эпохи — она рассказывала о делах и днях скромных работников на транспорте. Была в ней и любовь, и закономерная для комедии путаница, и комедийный персонаж, дирижер джаза Володька Агафонов, поведением своим 473 напоминающий образы неудачливых слуг из классических комедий, но была в ней и одна тема, которая, если и не перекликалась в прямую с действительностью, все же оказалась очень актуальной для ближайшего будущего.
«Женщины, осваивающие мужской труд в предвидении войны», — вот та тема, которая была поставлена Ромашовым как основная тема в его комедии.
Наташа Грачева хочет освоить профессию машиниста, а старый машинист Никита Очередько протестует против ее желания — вот тот простой сюжет, который двигал события в комедии, а любовь Наташи к майору Алексею Очередько, сыну старого машиниста, их разлука и попытки Володьки Агафонова помочь соединить влюбленных давали возможность автору раскрыть образы и характеры основных персонажей, а также и блеснуть великолепным мастерством комедийного драматурга.
Спектакль получился жизнерадостный, занятный, человечески чистый и жизнеутверждающий. Рожденный в грозный предвоенный год, он прожил всю войну и с неослабевающим успехом шел и в те дни, когда был завершен разгром фашистской Германии.
Очень интересно написанная Афиногеновым новая пьеса — «Отель “Люкс”» никак не разрешалась к постановке осторожными товарищами из реперткома. Впрочем, ее и не запрещали, но театру от этого не было легче, так как к репетиционным работам он не мог приступить, не имея на то определенного решения.
Афиногенов работал одновременно над двумя заказами, и день в день сдал в два театра свои работы.
Мы получили «Отель “Люкс”», а Театр Ленинского комсомола — пьесу, которая называлась сначала «Апрель», а потом получила свое окончательное название «Машенька». Долго раздумывал театр над «Машенькой» и наконец отказался. Тогда пьесу предложил взять театр Моссовета.
Афиногенов согласился, и работа над постановкой «Машеньки» в театре Моссовета буквально закипела.
Режиссура Ю. А. Завадского и блестящий состав исполнителей — В. П. Марецкая, В. В. Ванин и Е. О. Любимов-Ланской — в главных ролях заранее сулили успех данной постановке.
Радостная и творчески увлекательная работа в театре 474 Моссовета скоро стала достоянием московской театральной жизни, и многие театры позавидовали, что в театре Любимова-Ланского скоро будет интересный современный спектакль.
Я попросил Афиногенова разрешения на параллельную постановку «Машеньки» в Театре транспорта, он согласился, и мы также приступили к работе.
Афиногенов больше бывал на репетициях в театре Моссовета и лишь изредка заезжал к нам. У нас все шло благополучно, пока мы не приступили к третьему акту.
Афиногенов потребовал, чтобы мы взяли новую редакцию третьего акта, созданную в процессе работы с театром имени Моссовета. Однако нам казалось, что первая редакция третьего акта была более правильной, что она полнее раскрывала основной смысл пьесы, и даже больше того, что именно в первой редакции заключался тот коренной поворот событий, с помощью которого делалось особенно ощутимым идейное содержание пьесы.
Опять возникал извечный вопрос: система художественных образов, диктуемая основной идейной установкой пьесы, или простая галерея образов, имеющих право на существование только потому, что они жизненно правдивы и интересны.
Если придерживаться принципа «системы» образов, то приезд матери Машеньки в третьем акте закономерен и необходим, и роль матери приобретает ведущее значение, так как именно она раскрывает Окаемову его ошибку по отношению к сыну и к ней как к жене его сына. Ведь осознание своей вины Окаемовым и верное понимание долга родителей перед детьми и есть основной смысл пьесы.
Если же не придерживаться этого принципа, то роль матери вообще оказывается лишней, как, впрочем, и весь третий акт, так как в этом случае пьеса сводится в основном к судьбе Машеньки, которая своим пребыванием у старика дедушки растопила лед «холодного дома» академика Окаемова и внесла в него радость и теплоту. Но это только частная тема, которая действительно исчерпывается в первых двух актах, и нужна она только для того, чтобы помочь прийти к большому выводу: «Свои пергамента я изучал годами — это было моей профессией… Но никогда до сего дня не задумывался я над тем, что быть отцом или матерью — это тоже профессия, да, да, вторая профессия каждого, у кого есть дети… 475 И эта вторая профессия есть искусство воспитания нового поколения граждан…» — так говорит академик Окаемов в своем последнем монологе, который рождается благодаря приезду матери и ее объяснению с Окаемовым. Именно это и написал Афиногенов в своей первой редакции третьего акта.
Два театра соревновались в решении третьего акта, то есть, по существу, в идейном решении спектакля.
Почему же Афиногенов, правильно написав вначале, сам начал отказываться от того, что так хорошо, а главное, правильно сделал?
Как я говорил, Афиногенов бывал почти на всех репетициях театра Моссовета, где роль Машеньки великолепно играла В. Марецкая. Вполне понятная влюбленность автора в прекрасную актрису сместила общую архитектонику пьесы. Повторилось то же, что произошло и с «Далеким». Б. Щукин играл великолепно, но так же, как и В. Марецкая в «Машеньке», содействовал смещению взаимосвязи сценических образов. Но виноваты в этом не актеры, а режиссеры. То же самое бывало в ряде городов и с пьесой «Страх», но там просто спектакль снимали, так как он приобретал неверное политическое звучание.
Чем же кончилось соревнование двух московских театров?
На премьере «Машеньки» в театре Моссовета тогдашний председатель Комитета по делам искусств М. Б. Храпченко после окончания спектакля, на мой взгляд, очень справедливо заметил: «А зачем вы играете третий акт? Он не нужен Надо спектакль кончать вторым актом». В Центральном театре транспорта пьеса сохранилась до сегодняшнего дня, прошла более пятисот раз и в этой же редакции была мной поставлена в Народном театре в Софии в 1946 году. Она обошла почти все сцены Болгарии и получила признание в других странах народной демократии.
На премьере в Центральном театре транспорта, в апреле 1941 года, Александр Николаевич подарил мне три бокала с покаянной запиской: «Благодарю, старик, вы были правы», — а три бокала означали закономерное звучание трех равноправных смысловых образов, утверждающих понятие системы сценических образов, — Машеньки, Окаемова и матери.
Третий пункт нашего стратегического плана гласил: «Профессиональную труппу перековать в творческий коллектив».
Руководство театра очень хорошо понимало, что положительных 476 результатов в этом направлении мы сможем добиться только тогда, когда найдем и точно установим организационные формы летней работы. Предшествующие летние гастроли театра — и в Ленинград, и в Кисловодск, и в Сочи — не очень-то способствовали пробуждению в труппе тех коллективных начал, к которым мы стремились. Скорее наоборот — обычно эти поездки еще больше дифференцируют коллектив в бытовых условиях — молодежь завидует середняку, а середняк стремится выговорить себе те же условия, которые предоставлены ведущим актерам.
Лето 1941 года руководство театра решило использовать для большой трехмесячной поездки по Великому Сибирскому пути. План работы предполагал не только гастроли театра в больших городах, но и обслуживание попутно всех железнодорожных домов культуры на пути следования Москва — Владивосток.
Комиссариат путей сообщений приветствовал такую большую поездку и предоставил в распоряжение театра на все три месяца специальный поезд, состоящий из двух мягких, двух жестких вагонов, четырех товарных пульмановских вагонов для декораций, а также двух двухосных вагонов — один как мастерская и другой как склад для материалов. Руководство театра предусматривало выпуск новой премьеры в конце гастролей, правда, не очень ясно представляя себе, какая же это будет пьеса: «Отель “Люкс”» Афиногенова или «Батальон идет на Запад» Мдивани?
Премьера «Машеньки» состоялась в начале апреля, а поездка должна была начаться в начале мая, так что у театра был месячный срок для подготовки этой ответственной поездки.
Была тут еще одна трудность, касавшаяся непосредственно меня. Дело в том, что меня назначили художественным руководителем подготовлявшейся Декады башкирского искусства, и я должен был делить свое время между театром и декадой.
Был составлен график, достаточно напряженный и трудный для меня, но вполне выполнимый, если бы все зависело только от нас самих. По этому графику май и июнь я должен был провести в Уфе, подготовляя декаду, а в июле присоединиться к театру.
Основные контуры башкирской декады приобретали 477 реальные формы. Большая творческая группа москвичей помогала профессионально реализовать интересные замыслы башкирских художников. Композиторы Пейко, Чемберджи и Спадавеккиа помогали башкирским композиторам завершить работу над созданием оперных спектаклей. Репетировался балет «Журавлиная песня». Группа башкирских художников, возглавляемая Андреем Гончаровым, заканчивала эскизы для всех спектаклей.
Двадцатого июня по делам декады я срочно выехал в Москву для согласования окончательных решений, принятых местными организациями.
22 июня на станции Мелекес узнал я о предательском нарушении фашистами мирного соглашения с нами, узнал о налетах на наши мирные города, о том, что мы уже воюем.
Когда мы подъезжали к Москве, в окнах домов не зажглись приветливые огоньки, и ночные сумерки постепенно окутывали дома, которые темными силуэтами резко прочерчивались на фоне закатного неба.
Да. Война перешагнула порог нашей Родины.
Война
В Комитете по делам искусств никто не хотел говорить со мной о предстоящей декаде, и я ходил из кабинета в кабинет не столько даже для того, чтобы получить ответы на возникшие в Уфе вопросы, сколько для того, чтобы самому сделаться участником новой жизни, которая диктовала свои требования, ставила новые задачи, но какие именно — никто еще точно не знал.
Разве мы, театральные работники, готовились к этому ожидаемому и все же неожиданному дню? Разве мы приведены в боевую готовность? — Нет.
Даже в Театре Советской Армии в эти дни сдавали премьеру «Сон в летнюю ночь», но эта ночь никак не соответствовала той, которую вчера пережила Москва.
В нашем театре был организован один из эвакопунктов, который принимал беженцев, хлынувших из пограничной зоны, где шли ожесточенные бои. Их оформляли и направляли дальше по разным маршрутам.
478 — Я сейчас работаю здесь на эвакопункте, — сказал встретивший меня Махлин, — но дня через два-три поеду к театру, который направляется сейчас в Улан-Удэ. Думаю, что и вам следует ехать туда же, так как работа по декаде свертывается, — закончил он, передавая мне телеграмму из Уфы.
Я поехал в Переделкино повидаться с Афиногеновым. Долго просидели мы с ним в тот вечер на террасе и беседовали о грозных событиях, происходивших на фронте, простирающемся от Балтийского до Черного моря.
Но никакие трагические известия с фронта не могли сломить оптимизма Афиногенова.
— Что бы ни было на первом этапе войны, какие бы поражения ни терпела наша армия, но в итоге все равно победа будет за нами. Нас нельзя победить! Мы непобедимы! — говорил он, шагая своими длинными ногами по террасе. — Да. Новые условия жизни и новые требования перед художниками…
Много раз в эти тревожные дни, первые дни войны, беседовали мы с ним на эти темы, и вот почему, вероятно, он навеки сохранился в моей памяти именно таким — страстным борцом, уверенным в нашей победе. Это были последние дни, когда я видел живого Афиногенова.
Провожая меня, на вокзале Александр Николаевич подарил мне портсигар, на котором было выгравировано:
«Чудак»
«Страх»
«Ложь»
«Далекое»
«Салют»
«Вторые пути»
«Машенька»
и т. д.
до конца
жизни
16.VII-41 г.
А. Афиногенов
На мое замечание, что портсигара не хватит для дальнейших названий, Александр Николаевич, сосредоточенный и грустный, ответил: «А может быть, и хватит». — И потом, внезапно 479 задорно улыбнувшись, прибавил: «А не хватит, так купим новый».
Это была наша последняя встреча.
В тревожные московские октябрьские дни 1941 года я в последний раз слышал его голос, говоря с ним из Читы по телефону. «Посылаю вам с проводником международного вагона пьесу. Называется “Накануне”. Мы накануне победы!» — уверенно крикнул он в телефон.
А 29 октября Александр Николаевич погиб во время фашистского налета на Москву.
Пьеса Афиногенова «Накануне» была одной из первых пьес советских драматургов, посвященных теме защиты Родины, написанных в тревожные дни первых месяцев войны. Писалась она в то время, когда уже на территории нашей Родины разворачивались трагические события первого этапа войны.
Любовно работал коллектив Центрального театра транспорта над воплощением на сцене последней пьесы Александра Николаевича. Коллектив бесконечно любил, ценил драматурга и человека Афиногенова. Каждому хотелось своим творческим напряжением утвердить оптимизм советского художника, пророчески провозгласившего, что «мы накануне победы».
Спектакль «получился» и имел подлинную власть над зрительным залом. Духовно очищенные, с неуклонной верой в победу расходились зрители после этого спектакля.
Оттого ли, что с первого дня войны я каждый день до своего отъезда из Москвы виделся и беседовал с Александром Николаевичем и у меня сохранился в памяти весь строй его мыслей и чувств, весь его духовный облик, оттого ли, что образы пьесы Андрея и Джерен в чем-то невольно перекликались с самим Александром Николаевичем и его женой Дженни и актерам В. Хохрякову и Л. Скопиной удалось создать прекрасные образы, действительно чем-то напоминавшие Афиногенова и Дженни, оттого ли, что это была лебединая песнь Александра Афиногенова и написана она была совершенно в непривычной для него драматургической манере — скорее, это был ряд лирических, патетических и героических новелл, — в общем, не знаю точно отчего, но сценические образы в спектакле приобрели необыкновенную убедительность в своей сложности и человеческой многогранности. 480 Спектакль прозвучал как своеобразная симфония тончайших человеческих чувств. Зритель по-настоящему любил этих людей, безусловно верил им, их мыслям, чувствам, поступкам, всему, что происходило.
Этот спектакль дорог мне, да и не только мне, но и всем его участникам, — дорог тем, что он подтвердил те великие возможности театра, которые не всегда полностью раскрываются в наших спектаклях, но которые существуют и благодаря которым свершается то подлинное театральное чудо, о котором я уже говорил, ради которого мы любим театральное искусство и отдаем нашу жизнь служению этому великому делу.
Такое чудо свершалось в театре, когда Е. Корчагина-Александровская, игравшая роль большевички Клары, вынимала счет палача в пьесе «Страх», когда в спектакле «Ярость» проходила финальная сцена гражданской панихиды, когда на насыпи партизаны Сибири, ведомые своим вожаком Вершининым, ложились на рельсы, желая остановить бронепоезд, когда все та же Е. Корчагина-Александровская, игравшая в пьесе Тренева «Пугачевщина» мать повешенного, шла молча по берегу и провожала баржу, плывущую по реке, на которой были построены виселицы.
Все эти чудеса, конечно, могут быть объяснены и расшифрованы холодным нашим сознанием, но в том-то и секрет, что они могут быть объяснены после того, как произошли, но они не могут быть созданы холодным рассудком. Такие сценические удачи творчески рождаются на сцене, а потом уже объясняются: «Мелодраму надо ставить, увлекая себя и актеров на репетициях, а для педагогики отводить особые часы», — говорил К. С. Станиславский. Но я убежден, что он призывал работать с увлечением над каждым спектаклем, «увлекая себя и актеров на репетициях». И когда ты работаешь, «увлекая себя и актеров», то это увлечение незримо передается зрителю.
Спектакль «Накануне» увлеченно ставился, увлеченно работался и увлеченно игрался актерами, и он, повторяю, властно увлекал зрителя.
И когда 29 октября 1951 года мы сыграли первый акт «Накануне» на вечере, посвященном десятилетию со дня кончины Афиногенова, то власть эта, оказалось, сохранилась и по сей день.
481 Какой же секрет таил в себе драматург Афиногенов?
Это был пламенный художник современности, влюбленный в нашу действительность, смелый и дерзновенный боец на передовой линии идеологического фронта, не боявшийся смело заглянуть вперед, человек с чистыми руками и горячим, отзывчивым сердцем.
Одиннадцатилетняя дружба и постоянная совместная работа дают мне право говорить об Афиногенове не только как о драматурге, но и коснуться его человеческих качеств, которые несомненно влияют на произведения, создаваемые художником. Я познакомился с Афиногеновым в годы, когда он только еще выходил на большую дорогу драматургии. Ходил он тогда в высоких сапогах и кожаной тужурке, жил более чем скромно и был в полном смысле слова начинающим драматургом. В это время и созревала наша дружба, которая не прекратилась и в те годы, когда Афиногенов стал популярным, любимым и желанным драматургом в каждом театре. Его «Страх» шел более чем в трехстах театрах. Он был тогда, вероятно, самым модным драматургом, в хорошем смысле этого слова.
Афиногенов был замечательным человеком с очень ясной и чистой душой. Выпадающие на его долю тяжелые испытания Александр Николаевич переносил всегда с мужеством настоящего человека, твердо веря в то, что истина восторжествует. Тяжелые переживания не сломили его духа, не подавили его воли. Именно в эти годы, годы его величайшей душевной взволнованности, я получил от Александра Николаевича письмо, которое позволяю себе опубликовать полностью, так как считаю, что оно относится к тем документам, которые раскрывают суть человека:
«Дорогой Николай Васильевич!
Телеграмму Вашу давно получил и все собирался сообщить о дне выезда, но обед мой все откладывается, так как люди кругом заняты, а хочется уже собрать всех вместе (на даче, так как это будет интимнее и интереснее). Но и без обеда сейчас у меня такая радость на сердце, что трудно передать Вам словами, не подберешь их, этих слов. После девяти месяцев жизни в состоянии отверженного и оплеванного клеветой человека, на которого все махнули рукой, — теперь 482 вновь возродиться к жизни во всех ее формах общения с людьми.
Уже я хожу на партийные собрания, в билете моем погашена вся “задолженность” за эти месяцы, газеты должны напечатать постановление райкома о моем полном восстановлении без взысканий и выговоров, уже Ставский заявил, что я должен активно включиться в работу Союза, и т. п.
Словом, колесо завертелось в обратном направлении и вся шелуха грязных слов и обвинений отпала, надеюсь — навсегда.
Но именно теперь, в дни этого ренессанса — для меня особенно дороги воспоминания пережитого за месяцы одиночества и отвержения. Скажу совершенно честно, я не променял бы ни одного из самых моих “удачливых” годов на этот год тяжелейших испытаний, которые грозили не раз вконец раздавить. Но вот ведь — не раздавили. А вышел я из этих испытаний не только окрепшим — другим человеком я стал сам для себя, и все, прожитое и прочувствованное за прошедшие тридцать три года, переоценил и взвесил.
Теперь — другая дорога, очевидно, если даже и снова возьмусь за пьесы, — другими глазами буду смотреть на все… Многое, очень многое во мне совершенно умерло, много родилось вновь. Об умершем не жалею, напротив — радуюсь.
Родившемуся вновь — радуюсь еще больше.
Так что итог, сами видите, — радостный, но даже и радость теперь у меня своя, особенная, совсем иная.
Сейчас еще трудно даже вспомнить все, что произошло. Слишком много случилось, горы лежат позади, разбираться в них не стоит, надо отойти на большее расстояние во времени и потом вернуться к ним окрепшим и спокойным.
Но из всех впечатлений лета одно сейчас еще кровоточит — это разочарование во многих из тех, кого знал друзьями, кому верил и от кого молча ждал участливого слова в эти дни. Не было этих слов от тех, на кого надеялся. Это почувствовалось очень болезненно. И сейчас еще мне тяжело ходить по старым местам, встречаться с теми, кто находил для меня такие жестокие слова или просто отворачивался боязливо при встрече.
Зато, в то же время, нашлись и новые люди. Новые встречи обнаружили, что людей все-таки больше хороших, чем 483 дурных, — и в моем одиночестве я никогда на деле один не оставался. Я нашел настоящие сердца, и именно на их отношения ко всему, на их настоящей вере в лучшие стороны человеческой натуры проверил их искренность и честность. С такими людьми надо жить, для них работать.
Во всяком случае, еще очень много придется прожить. Будет еще больше встреч и людей. Надо надеяться — хороших. С Вами меня связывает давнишняя привязанность — “свидетель жизни неудачной”. Вы всегда появлялись на переломных скрещениях моей жизни, и с Вами легко работалось и хорошо жилось. Верю, что и дальше, сейчас вот опять мы как-то сойдемся на общей работе, опять будем нужны друг другу, а кто знает, может, и создадим что-нибудь такое, что очень будет нужно людям и стране. В это я очень верю…
Желаю Вам самых настоящих удач. (…) Напишите, как складываются дела, над чем и где работаете? Как Большой драматический? Дженни шлет Вам сердечный привет, я обнимаю Вас!
Ваш А. Афиногенов».
Очень грустно, что эпистолярная литература подчас не сохраняется для будущего поколения. Образы художников наших дней нередко наиболее ясно раскрываются в их письмах. Именно в письмах, в словах, обращенных к друзьям, так полно и глубоко раскрывается суть человеческого духа, те тончайшие и неповторимые человеческие свойства, которые полностью характеризуют облик человека-гражданина, человека-художника.
И вот почему я позволяю себе в данной работе опубликовывать письма драматургов ко мне, являющиеся доказательством подлинных человеческих отношений, существовавших между режиссером и драматургом.
Александр Николаевич умел быть настоящим другом. Его дружба никогда не зависела от конъюнктурных соображений. И независимо от того, был ли он на вершине своей славы или в одиночестве, покинутый многими, был ли я директором и худруком одного из первых театров Союза или же начинал новое никому еще не известное дело, дружба наша была всегда крепкой и глубокой. А ведь зачастую бывает и не так. Некоторые драматурги приходят к тебе не как 484 к художнику, а как к лицу, возглавляющему тот или иной театр. И, чем выше пост ты занимаешь, тем шире приток и к тебе драматургов, как будто «место красит человека».
У Афиногенова этого не было. И, однажды связав себя узами дружбы с художником, объединенным единым с ним верованием, он бережно и свято хранил ее.
Прошло много лет со дня смерти Александра Николаевича, но его светлый образ для тех, кто встречался и работал с ним, нисколько не померк и не потускнел, так как встречи с ним были большой творческой радостью, а радость человек не забывает никогда.
Афиногенов погиб в расцвете своих творческих сил, на подступах к тем большим задачам, которые сейчас поставлены жизнью перед советскими художниками. Вся его бурная и страстная творческая деятельность явилась как бы большим творческим прологом к новому расцвету советского театра. Страстный строитель коммунизма, боец и созидатель советской драматургии, он погиб на боевом посту как верный сын своего народа, как патриот своей Родины.
Жизнь в вагоне
Встреча с коллективом театра произошла в Улан-Удэ. Товарищам оставалось доиграть здесь еще шесть спектаклей и затем совершить переезд в Читу, где театр должен был работать три недели.
И если до сих пор театр обслуживал в основном работников железнодорожного транспорта, то, начиная с Читы, нашими постоянными зрителями становились так же бойцы, командиры и политработники Красной Армии.
В репертуаре театра не было спектаклей, отвечающих теме войны, и мы решили создать театральное представление, целиком подчинив его содержание тому, что занимало безраздельно наши сердца и помыслы.
Так родились два спектакля: «Били, бьем и будем бить!» и «Ненависть», сделанные с помощью материалов, которые появлялись в газетах, специальных сборниках, посвященных войне, а также и вновь написанные песни, скетчи и одноактные пьесы, авторами которых являлись члены нашего театрального 485 коллектива. В первую нашу программу входила также одноактная пьеса «Патриоты» Б. Ромашова.
Большим успехом пользовались в этих программах театрализованные «Окна ТАСС» с текстом С. Маршака, статья Ильи Эренбурга «Перекличка городов», очень хорошо исполняемая Людмилой Скопиной, и танцевально-певческий номер «Восемь девок один Влас» (В. Хохряков — Влас и женский ансамбль).
Чита приняла нас очень радушно. Помещение Дома офицера всегда было до отказа забито зрителем. На одном из спектаклей мы познакомились с М. П. Ковалевым, командующим Забайкальским военным округом, и К. Н. Зиминым, членом Военного Совета. Они предложили нам работу по обслуживанию частей Забайкальского военного округа.
Мы играли спектакли в домах культуры, выезжали непосредственно в воинские части в поле, проводили беседы и встречи с бойцами, просматривали выступление самодеятельности. Одним словом, завязывалась большая и настоящая дружба с людьми, которые готовы были по первому же зову встать на защиту нашей Родины.
Неразрывность с жизнью и стремление сделать театр жизненно полезным устанавливали своеобразную производственную практику работы театра, которая сама выковывала морально этические начала, отличающие творческий коллектив от обычного понятия труппы.
Обычно зрители наши исчислялись сотнями и тысячами, но бывали случаи, когда коллектив в составе пятидесяти-шестидесяти человек приезжал на погранзаставу и играл спектакль для шести-семи человек.
В нашей практике был даже такой случай, когда мы, едучи на дрезине с прицепными платформами, собирали путевых обходчиков и в определенном месте давали для них спектакль, и после спектакля и беседы развозили своих зрителей по домам.
Мы считали своей обязанностью обслуживать не только бойцов, но и нашего транспортного зрителя. «Хода-булаг», «Борзя», «77-й разъезд», «Даурия», «114-й разъезд», «Хоронор», «Дацан», «Домна» — стали нашими постоянными сценическими площадками, и каждый раз, вновь приезжая на них с новым репертуаром, мы встречали своих старый друзей, с которыми 486 все больше и глубже устанавливалась дружеская связь.
Но бывали и такие приезды, когда мы не обнаруживали наших старых друзей, которые за время нашего отсутствия были переброшены на Западный фронт.
Прекрасно обученные и закаленные в суровых условиях (в Забайкалье зимой температура бывала 50 – 60 градусов мороза), воинские части ЗАБВО начали перебрасываться на наиболее ответственные участки грандиознейшего фронта военных действий.
Приближался срок окончания нашего договора, и командование пролонгировало его еще на три месяца.
Актерам, выехавшим в мае в летнюю поездку, были выданы меховые тулупы, валенки и ушанки, и театр начал готовиться к первой зимней кампании.
Во время второго лета войны, театр выехал в Монгольскую Народную Республику, и в дни праздника «Надома» играл в столице республики — Улан-Баторе. Играли мы не только в городе, но и за городом — в степи, где и проводился в основном праздник.
Вспоминается один спектакль в городе Чойбалсан. Играли мы «Машеньку» Афиногенова. Здесь мы должны были по плану сыграть десять спектаклей, но на первом же спектакле в зрительном зале начала чувствоваться какая-то нервная атмосфера. Когда окончился первый спектакль, к нам подошел начальник Дома культуры и предложил немедленно погрузиться в поезд.
— Через двадцать пять минут вы должны срочно отправиться отсюда.
В условиях военного времени переспрашивать не рекомендуется, и раз команда дана, то нужно ее точно выполнить. Через двадцать пять минут все наше хозяйство было погружено в поезд, и паровоз без единого свистка с потушенными огнями покинул станцию.
Много бы можно было еще рассказать любопытных эпизодов из двадцатидвухмесячной жизни нашего театра в вагонах. Два лета, две осени, две зимы и одну весну коллектив прожил в поезде.
Уже одно такое длительное время жизни в вагонах, мне кажется, давало право театру действительно называться «Центральным театром транспорта».
487 Вагонная жизнь, постоянный военный зритель и военная дисциплина прекрасно влияли на перестройку профессиональной труппы в творческий коллектив. Большое количество сохранившихся у меня конспектов бесед с коллективом свидетельствует о том, что творческие интересы коллектива значительно возросли и расширились по сравнению с теми днями, когда в мае 1941 года театр выезжал в гастрольную поездку по Великому Сибирскому пути.
В марте 1943 года поезд театра в составе десяти вагонов осторожно пробирался к Москве. Театр не считался эвакуированным, так как выехал в поездку еще до войны, следовательно, разрешения на возвращение в Москву ему не требовалось, чем мы и воспользовались.
Так доехали мы до станции Подсолнечная, откуда уже на электричке я поспешил в Москву — явиться по начальству.
Вернувшийся в Москву Театр транспорта сильно отличался от того театра, который покинул ее два года тому назад.
Во-первых, в нашем репертуаре было пять новых спектаклей: «Накануне» Афиногенова, «Русские люди» Симонова, «Дым Отечества» братьев Тур, «Новые похождения бравого солдата Швейка» Слободского и легкая комедия Слободского и Дыховичного «Свадебное путешествие».
Конечно, не все эти спектакли были одинаковы по своей художественной ценности, но первые два — «Накануне» и «Русские люди» — смело могли соревноваться с многими спектаклями других московских театров.
Нам было предоставлено новое помещение бывшего клуба Кухмистерова с прекрасной сценой и огромнейшим зрительным залом. После нашего клуба Андреева за бензиновой колонкой и подземных домов культуры во время поездки это помещение казалось нам царственным.
В театре начались ремонтно-строительные работы к открытию нового осеннего сезона, а мы тем временем играли в клубе железнодорожников на Комсомольской площади и подготовляли с Махлиным организационно-творческую программу дальнейшей жизни нашего театра в Москве.
Профессиональная труппа действительно превратилась в подлинно творческий коллектив, у театра определился свой творческий путь, ознаменованный в первую очередь современным репертуаром, и, наконец, московская театральная общественность 488 дружески включила и наш театр в семью московских театров.
Хотя война и не окончилась, но она отошла далеко от Москвы и многие театры возвратились в свои родные дома.
Постепенно налаживалась общественная жизнь театральных работников.
В Центральном Доме работников искусств организовались «среды за круглым столом», на которые собирались ведущие художники театров и где происходили интересные творческие беседы.
Театром стали интересоваться, о театре стали уважительно и серьезно писать, одним словом, мы стали ощущать, что и наш Центральный театр транспорта стал столичным театром. Но, ощутив это, мы сейчас же поняли и ту степень ответственности, которую мы принимали на себя.
Ставя перед собой большие творческие задачи, мы считали правильным расширить творческий состав театра, сжатый условиями поездки.
В состав труппы вступили такие талантливые актеры, как Алексей Краснопольский и Эмилия Мильтон, Игорь Смысловский и Екатерина Калинина. Большая группа молодежи также влилась в творческий коллектив, и театр зажил полноценной творческой жизнью.
Основой репертуарного плана оставалась современная пьеса, но мы считали себя вправе, вернее, даже творчески обязанными начать работу и над спектаклем русской классики.
Первый же спектакль этого цикла — «Бесприданница» Островского — получил прекрасную оценку. Среди ведущих московских актеров появились новые имена: В. Хохряков — Карандышев, П. Павленко — Робинзон, Е. Калинина — тетка Карандышева и особенно много говорили о новом сценическом решении Л. Скопиной образа Ларисы.
В это же время меня уговорили вновь заняться педагогической работой, и я начал работать в Государственном институте театрального искусства имени А. В. Луначарского, приняв первый курс на кафедре режиссуры.
Педагогика и режиссура!
Эта тема давно интересовала меня, и я с удовольствием взялся за работу.
Спектаклем «Секрет красоты» Константина Финна, с 489 прекрасными исполнителями главных ролей — М. Малининым и В. Хохряковым — театр открыл осенний сезон 1943 года.
Борис Ромашов закончил свою новую комедию — «Знатная фамилия», посвященную героическому труду людей, работающих на транспорте. Г. Мдивани и А. Киров написали пьесу, навеянную героической жизнью Константина Заслонова, и назвали ее «Молодой человек».
«Бесприданница» прошла с успехом, и театр работой своей оправдывал то отношение театральной Москвы, которое он встретил после своего возвращения в родной дом.
Творчески реализовались далекие дни дружбы с Харьковским медицинским обществом. Член-корреспондент Украинской Академии наук, доктор биологических наук профессор А. М. Утевский предложил театру свою пьесу «Памятные встречи».
До поступления в университет Утевский занимался литературой, печатался в украинских журналах. Но научная работа захватила его так же, как и литература. Дальнейшая его жизнь проходила в борьбе этих двух стремлений. Окончив университет, он получил кафедру, стал профессором и был избран членом-корреспондентом Украинской Академии наук. Наука поглотила его целиком, но иногда творческое беспокойство овладевало им вновь и заставляло браться за перо, и тогда-то рождались стихи и поэмы. Пробовал он себя и в драматургии.
В дни Великой Отечественной войны Харьковский медицинский институт, где работал Утевский, был эвакуирован во Фрунзе. После окончания войны на обратном пути в Харьков, проезжая через Москву, он рассказал мне о теме, которая его очень волновала и на которую он хочет написать пьесу.
«Опасность безопасности» — так сформулировал он тогда свою навязчивую мысль, которая у него родилась в результате наблюдений в глубоком тылу за жизнью людей. Я также увлекся замыслом Утевского и стал убеждать его немедленно приступить к работе. Предложение Утевского совпадало с моими мыслями, и мы договорились, что я буду ставить будущую его пьесу.
Так родилась пьеса «Памятные встречи», которая в первоначальной редакции называлась «Опасность безопасности». 490 Центральный образ пьесы — писатель Завьялов. Именно в этом образе и раскрывалась основная тема пьесы. Завьялов в дни войны эвакуировался в глубокий тыл. Известный литератор, он постепенно отрывается от жизни и, окруженный всеобщим признанием за свои прошлые литературные успехи, незаметно становится творчески мертвым. Он неправильно воспитывает своих детей и даже по-настоящему не знает их. Его встреча в последнем акте с другом детства Ильиным как бы сталкивает Завьялова с самим собой и раскрывает перед ним пропасть, в которую он упал.
Бывают встречи с пришедшим с бою,
Бывают встречи с проспавшим бой,
Бывают встречи с чужой судьбой,
Бывают встречи с самим собой.
Эти стихи написаны Завьяловым в то время, когда он был еще комсомольцем. Эти стихи напоминает ему сейчас Ильин.
Пьеса молодого, еще никому не известного драматурга имела заслуженный успех, хорошую прессу и была поставлена более чем в ста периферийных театрах.
С этой пьесой у меня связано еще одно воспоминание, которым мне хочется поделиться с читателем.
В 1946 году я был командирован в столицу Болгарии Софию на три месяца для постановки пьесы А. Афиногенова «Машенька». После двух недель работы я убедился в том, что болгарские артисты умеют очень интенсивно работать, благодаря чему спектакль будет подготовлен значительно раньше назначенного срока. Побеседовав на эту тему с директором театра Петером Димитровым, я предложил ему поставить еще один спектакль за время своего пребывания в Софии. Предложение было принято, и руководители театра приступили к выбору пьесы. Они хотели поставить еще какую-нибудь советскую современную пьесу и обратились к списку, предложенному им Комитетом по делам искусств и ВОКС. Через три дня меня вызвал к себе П. Димитров и, передавая пьесу, которую они выбрали, спросил меня, знаком ли я с этой пьесой. Каково же было мое удивление и радость, когда на обложке я прочел: «А. Утевский “Памятные встречи”».
Премьера «Памятных встреч» состоялась в те дни, когда 491 болгарский народ проголосовал против монархии и утвердил республику. Однако политические страсти продолжали кипеть.
В день премьеры зал был очень насторожен и с необычайным вниманием следил за развертывающимися событиями на сцене, за ходом мыслей основных персонажей. «А ведь у нас есть свои Завьяловы», — сказал мне во время антракта один из исполнителей.
Успех спектакля был большой, хотя в зале и раздавались отдельные протестующие голоса, но они буквально тонули в общем радостном оживлении зрителей. Взволнованные и счастливые, выходили участники на бесконечные вызовы. Когда смолкли аплодисменты и мы стояли с участниками на сцене, взаимно поздравляя друг друга с праздничной премьерой, на сцену поднялись Георгий Димитров, президент Академии наук Тодор Павлов и писатель Людмил Стоянов. Они поздравили всех нас с большой творческой победой и сказали, что пьеса очень своевременна, так как она говорит о живых и мертвых художниках и затрагивает животрепещущие вопросы современности.
— А ведь и у нас есть свои Завьяловы. Это они протестовали в зрительном зале, — сказал с улыбкой Тодор Павлов.
— Но ведь пьеса кончается началом нового пути Завьялова? Ведь он же осознал свои ошибки? — спросил Людмил Стоянов.
— Поймут и образумятся, — подтвердил, заразительно смеясь, Георгий Димитров, поздравляя нас еще раз и пожимая руки всем участникам, которые радостно и взволнованно слушали слова первого гражданина Болгарии.
Перевод на болгарский язык «Памятных встреч» и фотографии этой постановки я привез и подарил ученому-драматургу А. М. Утевскому.
В Болгарии
Пользуюсь случаем несколько подробнее рассказать об этой поездке — одной из первых поездок за границу театральных деятелей.
Когда я приехал в Софию, выяснилось, что театр, в котором я должен был ставить «Машеньку», в отпуске. Большинство 492 актеров отдыхают в Варне, на берегу Черного моря, — там у них проходит семинар по повышению актерского мастерства, и Петер Димитров предложил мне познакомиться с актерами на семинаре и провести две недели до начала сезона в Варне.
На семинаре я прочел шесть лекций. Переводчиком у меня был Георгий Костов. Когда нас знакомили, то мне сообщили, что Георгий Костов только что перевел на болгарский язык книгу Станиславского «Работа актера над собой».
«Ну если он овладел этой труднейшей книгой Константина Сергеевича, то меня-то уж он как-нибудь переведет», — думал я, когда проводил беседы с молодежью.
На семинаре часто можно было видеть не только молодежь, но и старшее актерское поколение, и знакомство с труппой началось именно здесь, на семинаре, и закончилось на пляже, где я в полном смысле этого слова познал актеров «как голеньких».
Пятнадцать дней в Варне пролетели очень быстро. Семинар, пляж, поездки в окрестности Варны, знакомство с новыми людьми, вечерние посиделки в ресторане, оживленные беседы на волнующие нас темы о путях современного театра — все это было интересно и нисколько не утомительно, и временами мне казалось, что я получаю больше, чем могу дать болгарским товарищам.
Творчески взволнованный возвращался я в Софию в дружеской компании новых товарищей. Распределение ролей было сделано на пляже, с художником Асеном Поповым мы договорились о декорациях, а на завтра была назначена встреча и читка пьесы с участниками будущего спектакля. Я отлично понимал, что от завтрашнего дня зависит судьба спектакля. Или мы сразу найдем общий язык режиссера и актеров, и тогда работа будет радостная и плодотворная, или же если не сразу найдется этот язык, то большое количество времени уйдет на установление подлинно творческих взаимоотношений между режиссером и актерами, и тогда сроки выпуска и судьба спектакля уплывали в таинственную и неясную даль.
На читку пьесы собрался почти весь творческий коллектив театра. Меня познакомили с Крысто Сарафовым, исполнителем роли Окаемова, и Ириной Тасевой — Машенькой, которые 493 не были в Варне, и я внимательно присматривался к ним во время читки, стараясь понять их в их творческой сути.
Пьесу коллектив принял очень хорошо, и по окончании читки я рассказал товарищам об Афиногенове, о его драматургии, о нашей творческой дружбе и о его трагической гибели.
Но я-то очень хорошо понимал, что это еще не все, что решающим рубежом будет вечерняя репетиция, когда режиссер один на один встретится с исполнителями.
Я попросил помощника режиссера для вечерней репетиции поставить большой стол, покрыть его хорошей скатертью, для старейшего актера Сарафова приготовить удобное кресло, на стол поставить букет цветов, а над столом просил повесить сильную лампу и выключить весь остальной свет в репетиционном помещении.
Помощник режиссера несколько удивленно посмотрел на меня, выслушав мою просьбу, но профессионально ответил, что все будет приготовлено так, как я желаю.
На репетицию пришли не только исполнители, но и многие незанятые актеры, желая, очевидно, посмотреть, так же ли профессионально убедительно будет вести репетицию этот приехавший из Москвы режиссер, как он проповедовал на семинаре.
— Попрошу за стол, — возможно любезнее и вежливее обратился я к исполнителям.
Репетиция началась. Мы прочитывали по ролям первый акт и, беседуя о прочитанном, я постепенно и деликатно направлял сознание исполнителей к нужному мне пониманию и «предлагаемых обстоятельств», и действенных поступков персонажей, говорил и о строе мышления образов, и о тех возникающих чувствах, которые рождались у них в процессах происходивших событий, предложенных драматургом.
Актеры прекрасно слушали, соглашались со мной, они даже что-то записывали, но я ясно ощущал, что полностью не овладеваю их фантазией и не могу пробиться в их художническую природу.
Прошло два часа, пока мы прочли первые три картины первого акта.
Перерыв пятнадцать минут.
Актеры покинули репетиционное помещение, оживленно переговариваясь. Я не понимал, что они говорили, но для 494 меня было ясно одно, что первый тайм окончился со счетом 0 : 0. Такое соотношение сил меня не очень устраивало. Но что же делать дальше?
— Прочтемте еще раз первый акт, — предложил я исполнителям, когда перерыв окончился, но мое предложение не встретило особого одобрения.
— Может быть, вы хотите прочесть второй акт? — сдав позиции руководителя, предложил я актерам.
Наступил критический момент, и вдруг я, совершенно неожиданно даже для самого себя, сорвался с места и молча стал расставлять мебель, согласно планировке, вчера еще данной Асену Попову.
Помощник режиссера суетился около меня, стараясь помочь мне. Актеры молча смотрели, видимо, понимая, что репетиционная форма сейчас резко изменится. Весело обращаясь к актерам, я безапелляционно заявил:
— Сейчас мы будем планировать первый акт.
Быстро объяснив расположение декораций и не дав актерам опомниться, я подхватил под руку Крысто Сарафова и подвел его к его окаемовскому письменному столу, предложил Пете Икономовой, исполнительнице роли Моти, стать около двери, из которой она сейчас же выйдет, как только раздадутся телефонные звонки, указал, где стоит телефон, и, не теряя оптимизма, громко и властно скомандовал:
— Начали!
Воспользовавшись полной растерянностью актеров, я начал смело и уверенно лепить будущий спектакль, что мне было очень легко делать, так как пьесу я знал наизусть и недавно у себя в театре отредактировал восстановленный спектакль «Машеньки».
Я мгновенно сбросил с себя облик вдумчивого педагога, руководителя творческой фантазией актера, и, превратившись в профессионального режиссера, увлекающего за собой актеров, начал ставить точные требования перед актерами, исходя из только что разобранного материала первого акта.
И странное дело. Через несколько секунд актеры повеселели и с увлечением начали предлагать мне такие интересные актерские решения, что мне оставалось только благодарить их и принимать как эскизы будущего спектакля, хотя они зачастую были совершенно иные, чем в только что отредактированном нашем московском спектакле. Смысл и содержание 495 были те же, но актерски образные решения были совершенно иные.
Два часа прошло незаметно в оживленной творческой работе, никто не просил делать перерыва, и когда уже утомленный Сарафов произнес финальную реплику: «Совпадение», — мы, посмотрев на часы, поняли, что репетировали без перерыва четыре часа.
— Ну если работа пойдет в таком же темпе и дальше, то спектакль будет готов через две недели, — сказал весело, вытирая платком пот, Крысто Сарафов.
Присутствующие засмеялись и зааплодировали, а он, грустно улыбнувшись, добавил:
— Вот только бы текстом удалось овладеть.
Я позволил себе подробно описать этот первый репетиционный день, но он, мне кажется, является великолепным примером, раскрывающим содержание двух понятий, которые у нас зачастую смешиваются, — режиссура и педагогика.
Возвращаясь поздно ночью домой и вспоминая во всех подробностях сегодняшний день, я прежде всего пришел к выводу, что творческий коллектив «Народного театра» состоит из талантливых, а главное, профессиональных актеров.
Они умели играть. Да, просто играть, крепко храня это неотъемлемое для актера качество, и когда я как режиссер ставил перед ними точные и ясные требования, они их радостно, профессионально и творчески решали, как это и подобает актеру, носящему это высокое имя.
И в то же время они мгновенно как-то уходили в себя и замыкались, как только я пытался пробиться в их творческую лабораторию, превращая их в учеников. Может быть, и неосознанно, но они утверждали свои права и обязанности актера и не желали быть учениками. Они хотели видеть во мне прежде всего режиссера, и только в исключительных случаях допускали, чтобы я превращался в педагога. Нет, театр они не путали со школой.
Я был счастлив встретиться с таким коллективом, и наша работа и в дальнейшем весело протекала почти в том же темпе, как мы и начали ее в первый день.
Вспоминая свое пребывание в Болгарии в 1946 году, я не могу не упомянуть о многочисленных докладах, которые мне там пришлось прочитать.
Слово «доклад» в переводе на болгарский язык звучит 496 очень поэтично. Доклад по-болгарски — это «сказка», и я постепенно превратился в «сказителя о театральных делах» и довольно охотно выполнял эту миссию. Выступал я и среди театральных деятелей и в рабочих аудиториях, выступал и среди молодежи и в зале «Советско-болгарского общества». Одним словом, за трехмесячное свое пребывание мне пришлось выступить свыше сорока раз. И не только в Софии, а в Пловдиве, Габрове, Русе и еще ряде местностей, куда приходилось выезжать.
Кое-какие итоги
Вернемся, однако, к сезону 1944/45 года. Москва. Центральный театр транспорта.
Три острые современные пьесы Ромашова, Мдивани и Кирова, «Памятные встречи» Утевского и «Бесприданница» Островского прибавились к нашему репертуару.
Творческая жизнь театра бурно и интересно развивалась, и у нас даже возникло дерзновенное желание выставить некоторые спектакли на соискание Сталинской премии.
Премии нам не дали, и, вероятно, это было справедливо, но я помню очень хорошо серьезную беседу и с И. М. Москвиным после просмотра сказки «Об Иване-царевиче» и с С. М. Михоэлсом после спектакля «Памятные встречи». Я помню серьезность этих бесед.
Да, театр творчески развивался, и это давало нам право еще дерзновеннее смотреть вперед.
Одним из таких творческих дерзаний было решение поставить на сцене нашего театра «Вишневый сад» А. Чехова.
«Может быть, не нам, а кому-то совсем новому, еще неведомому нам коллективу удастся сделать в спектакле Чехова нечто неожиданное, смелое, верное, чего мы и угадать не можем», — говорил Вл. И. Немирович-Данченко в своем вступительном слове перед началом репетиций «Трех сестер» в 1939 году.
Мы не были столь самоуверенны, чтобы считать, что Немирович-Данченко говорил именно о нашем коллективе, но мы искренне хотели принять творческое участие в том прочтении 497 «до конца» драматургии Чехова, о котором говорили и К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко.
Даже только написав одно название этой замечательной пьесы Чехова, я чувствую, как меня охватывает волнение и воспоминание об этой так и неосуществившейся постановке.
Три акта «Вишневого сада» поставлены, наполовину готовы декорации по великолепным эскизам В. Дмитриева. Но театр едет в гастрольную поездку Одесса — Львов, и выпуск спектакля «Вишневый сад» приурочивается к открытию будущего сезона.
А там моя поездка в Болгарию, и когда я через три месяца вернулся с рукописью книги «Режиссер о пьесе “Вишневый сад”», то узнал, что директор театра снял эту пьесу с репертуара, как не отвечающую задачам времени. Так узко поняли некоторые руководители театров постановление ЦК партии «О репертуаре драматических театров».
История с «Вишневым садом» стала первым камнем преткновения в моих отношениях с директором, или, как он у нас назывался, — начальником театра. Возможно, сыграло известную роль и мое трехмесячное отсутствие.
Затем произошло следующее: Борис Ромашов предложил театру свою новую пьесу — «Великая сила». Начальник безапелляционно отклонил ее.
Ромашов отдал свою пьесу Малому театру.
Малый театр предложил постановку «Великой силы» мне.
Спектакль Малого театра получил Сталинскую премию, а Театр транспорта потерял хорошую пьесу и испортил дружеские отношения со своим драматургом (ведь это была третья пьеса, предложенная Ромашовым театру). А главное, нарушена была гармония творчески дружеских и человеческих отношений между директором, худруком и автором, без которой театр существовать не может.
В театре радостно работается только тогда, когда ты можешь со всем творческим коллективом, а также, конечно, и с руководством говорить на одном творческом языке, когда в коллективе существуют подлинно человеческие отношения, когда этот единый язык, то есть идейно-эстетическая и этическая платформа, положенная в основу деятельности театра, двигает вперед развитие театрального искусства и когда театр является для тебя твоим родным домом.
А вот когда рушатся эти основы, то ты невольно утрачиваешь 498 интерес к работе, ибо тогда творческий организм театра постепенно, но закономерно начинает перерастать в производственное предприятие, а следовательно, и кончается в нем жизнь искусства, уступая место профессиональному ремеслу.
Радостным эпизодом моей жизни в эти дни было завершение учебной работы со студентами в ГИТИСе на режиссерском факультете. Кафедрой режиссуры заведовал тогда В. Г. Сахновский, очень творчески доверительно относившийся к моему педагогическому опыту.
Помню выпускной спектакль — «Двенадцатая ночь» Шекспира, сыгранный целиком будущими режиссерами. С тех пор я с интересом слежу за дальнейшей творческой жизнью молодых режиссеров: А. Эфроса — исполнителя Мальволио, В. Бортко — исполнителя сэра Эндрю Эгьючика, Р. Левите — Виола, Т. Ивановой — Оливия, П. Сушко — сэр Тоби, Гутгарц — Шут, Л. Щеглова — Герцог, Р. Чиаурели — Себастьян и И. Темякова — Антонио. Все они успешно работают сейчас режиссерами в разных театрах Советского Союза.
Радость большого творческого выигрыша на педагогическом фронте несколько компенсировала горечь и обиду от обостряющихся противоречий в жизни Театра транспорта, с которым я вскоре и расстался, поставив там комедию Л. Первомайского «Рядом с нами», «Жизнь в цитадели» Якобсона и совместно с Я. Кракопольским «Хижину дяди Тома», которая и по сей день идет на сцене этого театра.
499 Глава 12
Театр Сатиры
Комитет по делам искусств решил реконструировать Московский театр сатиры, предложив театру быть более актуальным в вопросах репертуара и более сатирически заостренным в своей форме подачи спектаклей.
Перед театром, блестяще владевшим смехом, ставилась задача сделать театр оружием борьбы, разоблачающим еще существующие пороки и недостатки в нашей действительности, а не просто показывать спектакли, на которых весело можно провести время, там более что в труппе находились такие блестящие комедийные актеры, как Владимир Хенкин, Павел Поль, Надежда Слонова, Владимир Лепко, Дмитрий Кара-Дмитриев, Георгий Менглет и ряд других актеров, владеющих комедийным искусством.
Эту трудную и ответственную работу по реконструкции театра комитет решил поручить мне.
После месячных переговоров и раздумий я как-то внутренне убедил себя, что работа в будущем Театре сатиры как раз и является тем, к чему я призван как художник.
Итак, снова реконструкция!
И реконструкция довольно-таки сложная, так как великолепный 500 актерский коллектив комедийных актеров, избалованный и любимый зрителем, всегда охотно заполнявшим зрительный зал, был не очень-то убежден в необходимости реконструкции театра и не очень охотно отказывался от репертуара, дававшего им легкую возможность во всем блеске показать свое актерское мастерство.
И вот, вероятно, почему, когда я на первом же Художественном совете поставил вопрос о включении в репертуар «Бани» Маяковского, как пьесы целиком отвечающей новым задачам, это не встретило сочувствия. Мне указали на только что происшедший оглушительный провал пьесы Евгения Петрова «Остров мира», которую актеры считали образцом «серьезной сатиры».
Я не видел этого спектакля, но по рассказам участников никакого контакта с зрительным залом не было, и зритель, очень любивший своих актеров, видимо, не желая их ставить в неловкое положение, просто не ходил на этот спектакль.
Итак, мое предложение о постановке «Бани» потонуло в веселых остротах, шутках и смехе, на которые был таким величайшим мастером неутомимый и неугомонный Владимир Хенкин.
Я очень любил его необычайно яркое актерское дарование. Он обладал даром огромного сценического обаяния, и достаточно было ему выйти на сцену, как спектакль преображался, становился ярче, интереснее, и мгновенно возникало то величайшее единство сцены и зрительного зала, без которого немыслимо само понятие театра.
Хенкин был глубоко театрален, и в то же время он был удивительно прост и правдоподобен. Он не боялся остроты рисунка образа, и силой своего дарования был способен вдохнуть подлинную жизнь в то, что казалось сценически совершенно неправдоподобным.
Неправдоподобное сделать правдоподобным и убедительным для зрителя — вот в чем была сила этого замечательного актера, подлинного художника сцены.
Его не обучали по системе Станиславского, но все его поведение на сцене не противоречило, а как раз подтверждало систему. И не случайно, что, когда записывали на граммофонную пластинку В. И. Качалова, читающего сцену Несчастливцева и Аркашки из «Леса» Островского, Василий Иванович 501 партнером своим пригласил Владимира Яковлевича Хенкина.
Хенкин в совершенстве владел сценической правдой, и в то же время не был ее рабом. Будучи предельно правдивым на сцене, он в то же время мог, хитро подмигнув вам, сказать в кулису какую-нибудь остроту, причем зритель даже не замечал этого.
Он мог, увидев знакомого в зрительном зале, неожиданно сказать ему какую-то фразу от себя, от Хенкина, но это нисколько не разрушало правду его образа, и зритель принимал это как должное по ходу пьесы, а не как сценическое озорство талантливого художника.
Он властно и органически владел правдой, а не правда управляла его поступками.
В начале 1957 года в Праге мне довелось видеть в театре «ABC» актера Жана Вериха, и что-то в нем напомнило мне В. Я. Хенкина.
Очевидно, это та же предельно правдивая свобода поведения на сцене и абсолютная вера во все, что он делает. А делает он зачастую бог знает что, и так же, как и Хенкин, иногда не может удержаться, чтобы не сказать от себя что-нибудь зрителю. Во втором акте спектакля «Баллада о тряпках», который я смотрел, будучи в Праге, он, поправляя партнера в произносимой им фразе, неожиданно обратился прямо ко мне и на ломаном русском языке спросил:
— А как, по-вашему, хорошо я говорю по-русски?
Зал загрохотал и зааплодировал от неожиданности, а я был поражен его сосредоточенностью и правдивостью, с которой он продолжал сценически жить в своем образе.
Это своеобразное актерское свойство было и у Хенкина, и в этом было что-то родственное между ним и Верихом. Я вспоминаю это свойство и у «короля русского смеха» Константина Александровича Варламова, когда он играл в водевилях, например в знаменитом «Званом вечере с итальянцами». Но родоначальником этого свойства был, конечно, Живокини, которого мне не довелось видеть на сцене, но театральная литература об этом выдающемся актере говорит довольно убедительно.
А не является ли это свойство или качество одним из существенных черт актерского характера и не должны ли мы, обучая в театральных институтах молодежь, стремиться воспитывать 502 и это свойство, а не только начетнически обучать грамоте и правдивости сценического поведения.
Ведь не нужно даже доказывать, что Живокини, Варламов, Верих и Хенкин были подлинными «властителями сердца», а через эту власть они овладевали и мышлением зрителя, становясь «властителями дум», когда они выступали в серьезных ролях.
Я ставлю этот вопрос, не вдаваясь в его подробности, так как это уведет нас в сторону от материалов воспоминаний, а нам уже пора возвратиться к дням несостоявшегося предложения о постановке «Бани» и посмотреть, что же за сим последовало.
Новый репертуар, к которому мы стремились, требовал и нового режиссерского подхода, и потому я считал правильным на данном этапе работы театра сосредоточить все свое внимание именно на этом участке, полагая, что новое от режиссуры потребует нового и от актеров, и в процессах выковывания этого нового мы частично перевооружим актеров, а главное, подготовим их к тому, чтобы новый «Остров мира» не провалился.
Первым спектаклем на этом пути была пьеса Дьяконова «Свадьба с приданым». На постановку ее мы пригласили Бориса Равенских.
Я знал Равенских еще мальчиком, когда он учился у меня на первом курсе в Ленинградском театральном институте, слышал о нем от Мейерхольда, когда он был ассистентом у него в постановке «Пиковой дамы» в Ленинградском Малом оперном театре, знал его спектакли в театре имени Станиславского и знал о его удачной постановке пьесы Павла Нилина «На белом свете», тогда как спектакль этой же пьесы не увидел света рампы в Малом театре.
Нам казалось, что пьесу Дьяконова Борис Равенских должен сценически творчески интересно решить. В итоге мы не ошиблись и спектакль получил Сталинскую премию, но не так-то легок был путь его рождения.
Деспотически властный Равенских не нашел общего языка с Хенкиным, работая с ним над ролью Авдеича, не состоялась у него любовь и с Полем, заявившим о своем желании играть эту роль, и только с Дорофеевым режиссеру удалось довести работу до конца. Были у режиссуры конфликты и с рядом других исполнителей, так что к моменту выпуска спектакля 503 атмосфера вокруг довольно-таки смелой режиссерской работы, была накалена. Спектакль называли «махровым формализмом», требовали запрета и т. д.
Мы с М. С. Никоновым, только что назначенным новым директором Театра сатиры, считали спектакль нужным, а главное, идейно-творчески интересным, и потому тактично, но упрямо подводили работу к премьере.
Не буду подробно рассказывать о самом спектакле, вероятно, не найдется ни одного читателя этой книги, который бы сам лично не видел его или не слышал, не читал о нем.
Первый шаг на трудном пути был сделан, но Борис Равенских, получивший после этого спектакля приглашение от Малого театра, тут же ушел от нас.
«Пролитая чаша»
С М. С. Никоновым было очень приятно работать, так как он великолепно понимал все трудности, стоящие перед нами, прекрасно разбирался в сложности обстановки и не боялся в нужный и ответственный момент брать ответственность целиком на себя.
Именно Никонов предложил привлечь к режиссерской работе В. Н. Плучека, которого он знал еще в молодые годы его работы в театре Мейерхольда.
Я лично не был знаком с Плучеком, но предвоенное начинание его и драматурга Арбузова по организации театральной студии и постановка спектакля «Город на заре» меня очень интересовали, и мы решили привлечь его к работе в театре. Так появился в Московском театре сатиры нынешний его главный режиссер.
Первая наша совместная с Плучеком работа — пьеса китайского драматурга Ван Ши-фу «Пролитая чаша». Под этим названием скрывалась сценическая переработка классической китайской оперы «Записки Западного флигеля», сделанная драматургом-поэтом Андреем Глобой.
Нас с Плучеком пьеса поразила своей неожиданной драматургической формой, раскрывающей большое идейное содержание, а также и своей поэтичностью. Нам понравилась и сюжетная концепция трагедии двух влюбленных, заинтересовали 504 нас и сценические образы, дающие возможность интересной актерской работы и в то же время требующие от актеров вот уж действительно чего-то нового в области актерского мастерства, так как сразу же было очевидно, что это интересное театральное представление играть в обычной манере наших спектаклей нельзя.
Для того чтобы «Пролитая чаша» Ван Ши-фу полноценно прозвучала на нашей сцене, нужно было и точное режиссерское, идейно-образное решение спектакля, а также и нахождение актерами новых выразительных средств для полного и увлекательного раскрытия сути и природы сценических образов — героев классического китайского театра.
Приступая к постановке первой китайской пьесы, мы с Плучеком невольно вспоминали незабываемое впечатление от спектаклей величайшего актера Китая Мэй Лань-фана, когда гм в 1936 году приезжал на гастроли в Москву. Мы все бывшие на этих спектаклях буквально были ослеплены невиданным нами блеском актерского мастерства, а ведь среди зрителей почти на всех спектаклях Мэй Лань-фана были и Станиславский, и Немирович-Данченко, и Мейерхольд, и Таиров, и все мы, теперешнее старшее поколение режиссуры, и театральные юноши, ставшие теперь Валентином Плучеком и Борисом Равенских.
Театральная Москва была взволнована тем новым и неожиданным, что таил в себе художник Мэй Лань-фан, величайший исполнитель женских образов в классическом китайском театре. И через его исполнение отдельных сцен почти зримо вырастало величие китайского театра, мудро хранящее великие народные традиции праздничных представлений.
Сначала мы старались восстановить все, что сохранила нам память от мастерства Мэй Лань-фана. Мы так увлеченно беседовали с Плучеком, спорили и предавались дерзновенным мечтаниям на репетициях «Пролитой чаши», что появилась даже опасность, как бы вся работа не растворилась в воспоминаниях и разговорах. Но вслед за этим «лирическим» периодом последовали самые реальные и насыщенные репетиции, требовавшие от актеров большого труда и профессиональной дисциплины.
Большинство репетиций мы вели под барабан, устанавливая точный ритмический рисунок репетируемых сцен. Барабан была моя привилегия, а Валентин Плучек, как более молодой, 505 сняв пиджак, был готов каждую минуту кинуться на сцену и изобразить, а тем самым и предложить исполнителям пластическую форму данного сценического куска.
Мы репетировали в верхнем фойе театра в теплые, тихие, золотые, осенние дни. Окна фойе выходили на Малую Бронную. В репетиционные часы можно было наблюдать, как спешащие москвичи останавливались на улице, привлеченные звуками, вылетающими из раскрытых окон театра.
Когда утром режиссура отправлялась на репетицию, то один из нас торжественно нес перед собой настоящий китайский барабан.
На своем пути мы обычно встречали Хенкина и Поля, идущих на параллельную репетицию, и Хенкин, приветствуя меня строчками из «Горя от ума», патетически восклицал:
С ума сошел, прошу покорно,
Да невзначай, да как проворно.
Они проходили в нижнее фойе, а мы с Плучеком поднимались по лестнице наверх, где стояла выгородка «Пролитой чаши».
И тем более было приятно для нас, когда эти два ветерана Театра сатиры на обсуждении спектакля после генеральной репетиции выдали самую прекрасную аттестацию проделанной работе, целиком приняв спектакль.
Художником спектакля был С. И. Юткевич, только что вернувшийся из Китая со съемок картины «Пржевальский».
Спектакль был готов, но выпуск его задерживался из-за излишней предосторожности и нерешительности.
Как раз в это время, на наше счастье, в Москве оказалась проездом китайская труппа, возвращавшаяся в Пекин после Берлинского фестиваля. С большим трудом нам удалось устроить открытую генеральную репетицию и пригласить на нее не только китайских актеров, но и представителей Китайского посольства.
В процессе работы над спектаклем мне посчастливилось встретиться с рядом товарищей, которые первыми откликнулись на нашу просьбу и помогли нам своей консультацией во время репетиционных работ.
Имена этих дорогих нам товарищей — Го Мо-жо и Оуян 506 Юй-чен. Они во время своего пребывания в Москве нашли возможным вырвать несколько часов из своего крайне напряженного графика и помогли нам своими советами и пожелали успеха предстоящему спектаклю.
Особенно меня взволновал и запомнился на всю жизнь рассказ Оуяна Юй-чена о судьбе драматурга Ван Ши-фу.
Ван Ши-фу не закончил своей пьесы, так как, когда он писал ее финал, где в судьбе влюбленных Ин Ин и Чжан Гуна драматическая ситуация перерастает в трагическую коллизию, то он, автор пьесы, не выдержал трагического напряжения, созданного в его пламенной фантазии, и умер от разрыва сердца.
Пьеса «Записки Западного флигеля» имеет огромное количество финалов, написанных друзьями Ван Ши-фу.
Один из финалов принадлежит перу драматурга Гуань Хань-циня, чье семисотлетие со дня начала драматургической деятельности согласно решению Всемирного Совета Мира праздновалось летом 1958 года в Пекине и на которое я был приглашен в качестве гостя.
Рождение нашего спектакля совпало с первой годовщиной Китайской Народной Республики.
«Потерянное письмо»
Однажды на спектакле «Пролитая чаша», во время последнего акта, мне позвонили из Комитета по делам искусств и сообщили, что председатель комитета Н. Н. Беспалов срочно просит меня заехать к нему.
— Когда у вас премьера «Потерянного письма»? — сразу же спросил меня Беспалов, когда я здоровался с ним.
— Премьера? — удивился я, припоминая, что эту пьесу румынского драматурга Караджале мы действительно собирались ставить и об этом даже где-то было написано…
— Я получил благодарность от румынского министра культуры за то, что мы так торжественно отмечаем столетие со дня смерти их великого классика, — сказал мне Беспалов и передал письмо.
— Помилуйте, Николай Николаевич, — ведь мы только в предполагаемом репертуарном плане упоминали об этой пьесе 507 и ставить ее будем, вероятно, только в будущем сезоне… — начал я оправдываться, но Беспалов прервал меня.
— Премьера должна быть через месяц, так как юбилей Караджале будет через месяц, — он показал в письме отчеркнутую дату…
К утру у меня созрел план. Конечно, за месяц поставить пьесу, к которой мы еще не приступали, нельзя. Но поставить один акт можно. Мы устроим в театре вечер, посвященный памяти Караджале: вступительное слово о творчестве Караджале, затем несколько актеров выступят с чтением отрывков из произведений Караджале. Закончим первое отделение музыкальным номером, а во втором отделении сыграем первый акт «Потерянного письма» в концертном исполнении, то есть без декораций и без гримов и костюмов. К этому же вечеру выпустим афишу с анонсом о предстоящей премьере пьесы Караджале «Потерянное письмо», которая состоится в ближайшее время.
Этот спектакль мы также ставили совместно с Плучеком, и эту работу решили рассматривать как «продолжение боев» на подступах к «Бане».
Примечательным в этом спектакле было еще одно обстоятельство, о котором следует упомянуть. Два ветерана Театра сатиры, Хенкин и Поль, не любили встречаться в одном и том же спектакле. Каждый из них привык быть центром всего происходящего на сцене. Но в этом спектакле мы решили «впрячь в одну телегу» и Хенкина и Поля. Все актеры уверяли нас, что, несмотря на согласие обоих, ко дню премьеры кто-нибудь из них под тем или другим предлогом выйдет из игры.
Но, вероятно, какая-то работа уже была проведена в театре, два интересных спектакля — «Свадьба с приданым» и «Пролитая чаша» — прошли без их участия, театр уже переходил на новые рельсы, и все это заставило «Монтекки» примириться с «Капулетти» и играть в одном спектакле. Хенкин великолепно сыграл роль пьяного гражданина, а Поль был прекрасен в роли Траханаке. И, как ни грустно, обе эти роли были их лебединой песней. Театр понес большую потерю, лишившись двух своих ведущих актеров. Никакие замены Хенкина и Поля в этих ролях не дали положительных результатов, и пьеса сошла с репертуара.
Жизнь в театре продолжалась, и три творчески принципиальных 508 сражения — «Свадьба с приданым», «Пролитая чаша», «Потерянное письмо» — были выиграны, и на одном из совещаний руководство театра наконец согласилось включить в репертуар «Баню» Владимира Маяковского.
Маяковский
Мечта неотделима от художника, и в каждом режиссере, точно так же как и в каждом актере, его желания, творческие стремления всегда выражены определенной мечтой: поставить такую-то пьесу, сыграть такую-то роль. Это страстное желание вполне закономерно и возможно. Именно оно-то и определяет своеобразие натуры художника, так как без мечты художник жить не может.
Но мечтой художника мы называем не бесплодные фантазии, не стремление к недосягаемым и неясным туманностям, не взволнованное мечтательное фантазирование вообще. Нет! Мечтой художника мы называем ту ясную и конкретную задачу, которую он поставил перед собой и которая является его путеводной звездой. Мечта художника является образным выражением тех мыслей, которые владеют им как гражданином общества и которые он хочет высказать своему народу. А достигнув этой мечты, творчески решив поставленную перед собой задачу, он неминуемо определяет свою последующую цель. Им овладевает новая мечта, достижению которой он и подчиняет свою дальнейшую работу.
Мечта, трудовой путь к ее достижению, достижение мечты, новая мечта, новый трудовой путь, новое достижение — такова жизнь подлинного художника, и этим он отличается от равнодушного ремесленника, которого не волнуют никакие большие мысли, который не ставит перед собой никаких задач и живет только благополучием сегодняшнего дня.
Мечтой подлинного художника всегда будет большая мысль, мысль человека, неразрывно связанного со своим народом, с его чаяниями и делами.
Подлинный художник всегда хочет говорить с народом. И через образы, им созданные, через спектакли, им поставленные, он говорит своему зрителю, своему народу то, что его волнует сейчас, о чем он не может молчать. И это право 509 говорить с народом становится и его обязанностью, если он действительно художник и честно выполняет свой долг, — ведь искусство неотрывно от жизни и является частью реальной действительности. «Природа не может быть совершенной без искусства, но и искусство приобретает свое бытие только через природу», — говорил английский драматург XVII века Бен Джонсон.
Утратить мечту, неясно видеть перспективу своей творческой жизни — самое страшное для художника. Потеря ориентира неминуемо сказывается в работе художника, опустошает жизнь твоего «творческого духа» и превращает тебя в ремесленника, создающего тусклую, серую, бескрылую продукцию, не имеющую права называться произведением искусства.
Каждый из нас, людей старшего поколения, отдавших полстолетия своей творческой жизни делу строительства русского театра, великолепно помнит в своей жизни сумеречные дни, а иногда и целые годы бесплодной работы. Так же хорошо помним мы и те дни, когда дерзновенные желания твои, мечты твои находили творческое воплощение в работе и становились нужными, а иногда и необходимыми твоему зрителю — тому, кому и предназначено твое искусство. И эти дни, эти годы, эти спектакли также навсегда останутся в памяти как значительные вехи творческой биографии.
Так и у меня, рядового работника театра, прошедшего большой творческий путь, немало бывало и радостных дней, бывали и дни печали, есть мечты сбывшиеся, есть неосуществленные.
Уже много лет на моем письменном столе лежит «Фауст» Гете — мечта, к осуществлению которой я все еще не рискую приступить, не ощущая в себе полного права на эту работу.
Неоднократно и на разных этапах своего творческого становления возвращался я к гоголевскому «Ревизору», грибоедовскому «Горе от ума» и к чеховскому «Вишневому саду». Вновь и вновь я мечтаю поставить эти, на мой взгляд, еще полностью не решенные на сцене гениальные произведения русской классики. К этим же мечтам относится и пушкинский «Борис Годунов».
Много лет меня волновало желание и мечта осуществить на сцене «Баню» Владимира Маяковского, несправедливо 510 причисленную к пьесам, которые не могут быть поставлены на сцене якобы в силу своей несценичности.
«Маяковский прекрасный поэт, но плохой драматург» — вот формула, возникшая после провала «Бани» и как ярлык приклеенная к пьесам Маяковского.
Когда перечитываешь материалы, относящиеся к первым постановкам «Бани» в 1930 году в Ленинграде и в Москве, то становится понятным, какая ожесточенная борьба шла вокруг этого драматургического произведения и какую великолепную роль мужественного борца играл в этой борьбе автор — поэт-трибун.
Спектакль, конечно, являлся только поводом, и оценка его происходила не только с позиций эстетических, но главным образом с позиций идейно-политических. Дрались, конечно, против Маяковского, а не обсуждали его спектакль.
Рабочий класс голосовал «за», а «ларпурларчики» (так остроумно называл Герцен сторонников «искусства для искусства», русифицируя французское выражение — «L’art pour l’art») голосовали «против». Маяковский шел к рабочим читать свою пьесу, и рабочие ее принимали, а эстетствующие критики, витая в призрачном мире «чистого искусства», утверждали, что «рабочим это не понятно и не нужно».
Из этих ожесточенных споров было «ясно» одно — беспощадная борьба шла вокруг не только, драматурга, но главным образом вокруг поэта-революционера Маяковского.
Она шла еще и потому, что Маяковский пересматривал театральную эстетику того времени, выдвигая свою ясную и четкую программу революционного театра: «Сделать агитацию, пропаганду, тенденцию живой — в этом трудность и смысл сегодняшнего театра».
Маяковский оценивал театр «как арену, отражающую политические лозунги». Вот почему драматургия Маяковского такая взрывчатая, такая народная, такая побеждающая. Ему удалось силой своего гения действительно оживить «тенденцию» и «агитацию сделать живой». Его драматургия очень остра по форме, как того требует публицистически страстная сатира, этой форме не чужды смелая гипербола, резкие краски, но в существе своем драматургия Маяковского глубоко реалистична. Она действительно очень трудна для сценического решения. Театр должен обладать той же страстной мечтой — «сделать пропаганду живой», чтобы найти театральное 511 решение пьес Маяковского и его драматургические произведения превратить в сценические представления, ни на минуту не забывая, что Маяковский требовал от театра не «отобразительства», а «активного вторжения в жизнь».
Сам Маяковский о «Клопе» говорил: «Основная трудность — это перевести факты на театральный язык действия и занимательности». Мечтая о постановках пьес Маяковского, мы должны признать, что основная трудность для нас — это нахождение стиля сценической интерпретации его пьесы. Ведь и «Чайка» Чехова потребовала своего новаторского театрального языка, способного раскрыть гениальную природу Чехова-драматурга.
Так как же можно было не мечтать о постановке «Бани» Маяковского, думая о современной пьесе и будущем нашего театра!
Возникшее творческое содружество с В. Плучеком и С. Юткевичам в период работы над «Пролитой чашей», наша общая влюбленность в поэта Маяковского, которого мы все хорошо знали лично, наше желание реабилитировать его драматургию и доказать, что она сценична, а главное — глубоко современна, позволили нам еще раз выступить с предложением включить в репертуар театра «Баню». И, несмотря на то, что наше предложение было еще в то время, когда теория «бесконфликтности» бытовала в жизни театра, мы получили санкцию на работу и приступили к постановке.
Прежде всего возник вопрос: почему «Баня» провалилась в 1930 году в Москве и Ленинграде? Внимательно ознакомившись с историей постановок «Бани» в прошлом, мы поняли, что театры сценически неверно разрешали постановку и что провал относился не к пьесе, а к самим спектаклям. Учитывая жестокую борьбу, проходившую в то время вокруг Маяковского, нетрудно понять, почему критики открыли свой ураганный огонь именно против этой пьесы. Ошибочное, неправильное раскрытие драматургии, ее очень поверхностное прочтение театрами дало возможность злопыхательской критике обрушиться на Маяковского. Смешение понятий «пьеса» и «спектакль» дало возможность лицеприятной критике обвинить невиновного и снисходительно отнестись к виноватым.
Формула Маяковского — «Драма в 6 действиях с цирком и фейерверком» — в основном была понята режиссурой в ее второй части, а именно — «с цирком и фейерверком», что неминуемо 512 повело спектакли к эксцентриаде, а не к глубокому раскрытию содержания действительной «драмы» Чудакова, попавшего в тиски бюрократической машины Победоносикова и Оптимистенко. Отсюда неминуемое исчезновение из спектакля героико-патетического начала, которое является стержневым мотивом в содержании пьесы.
Эти предпосылки заставили нас прежде всего внимательно изучить пьесу «Баня» как глубоко реалистическое произведение и попытаться найти тот «театральный язык», который необходим для современного прочтения выдающегося драматургического произведения. Я, как один из постановщиков, взял на себя реализацию первой части этого суждения. Ныне, перелистывая свой режиссерский экземпляр «Бани», я вижу, как мы были правы в требованиях к самим себе в реалистическом прочтении содержания пьесы, а затем уже в поисках «театрального языка», «цирка с фейерверком». Глубокое проникновение в содержание «Бани», естественно, обусловило и творческие процессы и формы взаимоотношений режиссуры с актерами.
Большой период застольной работы, в котором мы устанавливали мысли, чувства и поступки персонажей, находил оправдание произносимого ими текста, сыграл большую роль в понимании глубины содержания пьесы и определил для каждого участника смысловое и действенное значение образов. Когда мы полностью овладели действительной жизнью персонажей Маяковского и точно определили их сценическое поведение, мы перешли на сцену, где уже образно решали их сценическое бытие.
Отсюда и спектакль получился понятным. Было понятно, в чем дело, что происходит, кто и почему действует. Зритель не терялся в догадках о смысле происходящих на сцене событий. Абсолютная понятность содержания «драмы» дала нам возможность, а вернее, даже обязывала в дальнейшей работе над сценическим воплощением пьесы не отказываться, а приближаться к стилевому требованию Маяковского — «цирка и фейерверка».
Но и к этому вопросу мы подходили творчески, а не формально. Мы стремились, чтобы «цирк с фейерверком» был прежде всего в самой духовной жизни сценических образов.
Отсюда родилась песня Оптимистенко «Вышли мы все из 513 народа», когда он, встретившись с фосфорической женщиной, должен был пройти мимо нее, чтобы доложить Победоносикову о прибытии делегатки 2030 года. Это образное, глубоко реалистическое решение не было подсказано режиссурой, а мгновенно, творчески родилось у артиста В. Лепко прямо на репетиции, так же неожиданно для него самого, как и для нас, режиссеров. Творческая плодотворность и успех исполнителей этого спектакля служили неопровержимым доказательством правильности избранного нами пути сценического воплощения пьесы Маяковского «Баня».
Не случайно артисты МХАТ В. Топорков и А. Грибов, смотревшие этот спектакль, со всей искренностью заявили, что «Баня» Маяковского — их пьеса. Реалистическое прочтение «Бани» в спектакле делало пьесу близкой для крупнейших мастеров МХАТ.
Выдающийся немецкий писатель — революционер Бертольт Брехт — на вопрос: «Какие спектакли вам понравились больше всего?» — ответил: «Вы, вероятно, удивитесь, но мне больше всего понравились спектакли “Горячее сердце” в МХАТ и “Баня” в Театре сатиры. В обоих спектаклях есть точная, острая режиссерская мысль, и, несмотря на разницу этих спектаклей, они оба глубоко реалистичны».
После премьеры спектакля «Баня» в рецензии, помещенной в газете «Правда» от 2 марта 1954 года, говорилось:
«Что же обеспечило успех спектаклей? Необычайно свежая талантливая пьеса и яркая театральная форма, изобретательная театральная мысль, направленная на глубокое раскрытие содержания сатирической комедии…
Новая постановка “Бани” Маяковского — это радостный праздник нашего театрального искусства».
Так, после двадцатитрехлетнего изгнания из театра «Баня» Маяковского обрела свое право на сценическую жизнь.
Творческий коллектив, работавший над сценическим воплощением «Бани», бесконечно обогатился, соприкоснувшись с таким титаническим художником, как Владимир Маяковский. В процессе работы над спектаклем всех нас, конечно, заинтересовали те мысли, которые высказывал Маяковский о театре его времени и о театральном искусстве. Мы изучали театральную эстетику, которую утверждал Маяковский и своей драматургией и своими выступлениями.
514 Ставь
прожектора,
чтоб
рампа не померкла.
Крути,
чтоб действие
мчало,
а не текло.
Театр
не отображающее
зеркало,
а —
увеличивающее
стекло.
Так утверждал Маяковский свое понимание театра в одном из лозунгов, которые были развешаны на стенах партера в дни спектаклей 1930 года.
К вопросам понимания Маяковским общественного значения театра я вернусь в связи с работой над сценическим воплощением образа самого Владимира Маяковского. Вот об этом-то спектакле, о пьесе «Они знали Маяковского» и о встрече с ее автором В. А. Катаняном, который впервые дебютировал как драматург, мне и хотелось бы рассказать.
В декабре 1953 года на одну из генеральных репетиций «Бани» пришли Л. Ю. Брик и В. А. Катанян.
Дни, когда в театре рождается спектакль, когда драматургическое произведение превращается в сценическое представление, когда пьеса становится спектаклем, — эти дни в театрах всегда тревожные и праздничные. А ведь тут в дни рождения спектакля «Баня» рождался не просто спектакль. Это была не рядовая премьера в театре. Решалась судьба пьес Маяковского, и все мы великолепно понимали, какую ответственность брали на себя, выпуская этот спектакль. Вот почему для нас было бесконечно важно знать отношение к нашей работе всех людей, которые были связаны с Маяковским, которые так же, как и мы, волновались за судьбу его драматургии, за право сценической жизни драматургических произведений Владимира Маяковского.
Товарищи, приходившие на репетиции «Бани», положительно оценивали нашу работу, верили в будущий спектакль и поддерживали в нас уверенность в том, что мы стоим на правильном пути.
В антракте одной из репетиций «Бани» Катанян рассказал, что свою пьесу о Маяковском он передал Ленинградскому академическому театру имени Пушкина и что над образом Маяковского работает Николай Черкасов. Репетиции в театре уже начались, художник уже сделал эскизы, и премьера 515 предполагается в апреле месяце. Я заинтересовался этой пьесой и попросил Катаняна ознакомить меня с ней, хотя отчетливо понимал, что эта пьеса не может быть включена в репертуар Театра сатиры.
В тревожные и праздничные дни, накануне выпуска спектакля «Баня» Маяковского, я ознакомился с пьесой В. А. Катаняна «Они знали Маяковского».
Прочтя за свою жизнь, вероятно, не менее, а возможно и более десятка тысяч пьес, я выработал свою форму первичного чтения драматических произведений, этой форме я очень доверяю, ибо она редко меня подводит.
Я прочитываю пьесу, как самый наивный читатель, читаю быстро, залпом, без перерыва, не позволяя себе размышлять в процессе чтения. Я стремлюсь к непосредственному чувственному восприятию, не позволяя себе тут же анализировать прочитанное. Я стараюсь охватить пьесу в целом с тем, чтобы пережить ту взволнованность, которая должна будет появиться у зрителя, впервые воспринимающего эту пьесу со сцены. Если в процессе чтения я заволновался, если меня заинтересовал тот или иной кусок пьесы, та или иная реплика, та или иная сценическая ситуация, та или иная пауза, тот или иной поворот граней характера образа, одним словом, если хотя бы раз за время быстрого прочтения пьесы я заволновался, то я тут же прочитываю пьесу во второй, третий и четвертый раз. Эти повторные чтения носят уже совершенно иной характер. Во время этого чтения я пытаюсь постигнуть основную мысль, которая волновала автора. При этом чтении у меня в сознании возникает образное решение и вся сложность психологической инструментовки будущих взаимоотношений и взаимовлияний человеческих характеров, которые автор столкнул в своей пьесе. Одним словом, тут уже начинается творчески профессиональная работа режиссера над пьесой, но это уже совершенно иной этап, требующий от режиссера совершенно иной настроенности, чем в период первой читки.
Так вот, читая пьесу Катаняна, я был взволнован, и даже не один раз. В своей работе автор прежде всего решает очень интересную драматургическую проблему: как писать пьесы о больших поэтах?
Мы знаем пьесы о Пушкине и Лермонтове, написанные А. Глобой и Б. Лавреневым. Авторы окружают центральные образы своих драм историческими фигурами. Эти пьесы построены 516 на точных фактах их жизни и столкновениях с реальными историческими персонажами. Пьесы эти представляют собой как бы оживленные куски подлинной жизни, своеобразную театрализованную историческую хронику.
Мы знаем другой принципиальный подход, который выдвинул М. А. Булгаков в своей пьесе «Последние дни». Он также берет подлинные куски жизни Пушкина, также показывает исторические образы, окружающие его, но самого Пушкина он не показывает. Пушкина нет на сцене, но зритель все время ощущает его.
В. А. Катанян своей пьесой выдвигает третий принципиальный подход в драматургическом решении данной трудной задачи. В центре пьесы автором поставлен образ Маяковского. Автор не боится наделить центральный образ подлинными словами Маяковского. Драматург устанавливает точные места действий и событий, участником которых был или мог быть Маяковский, но все персонажи, с которыми он сталкивается в пьесе, являются фантазией автора. Мне кажется, что такой подход наиболее верный, так как он дает большие возможности творческому подходу автора к драматургическому материалу, сохраняя точную историческую достоверность центрального образа.
Пьеса мне показалась необыкновенно публицистической, честной, умной, очень нужной нам сегодня, и, кроме всего, она увлекла меня в то же время своей глубочайшей лирикой. Я люблю Маяковского-лирика не менее, чем Маяковского-трибуна, и, зная его лично, я всегда удивлялся этой тонкости и душевной нежности, которые великолепно уживались с его кажущейся грубостью. Эту кажущуюся грубость Маяковского видели все, его тончайший лирический склад видели немногие. И я глубоко убежден, что его обнаженная публицистика, его явная и неприкрытая тенденциозность были так доходчивы до читателя именно потому, что он был величайший лирик. Публицистический пафос Маяковского тесно смыкался и был неразрывен с глубочайшей тонкостью его человеческой сути.
Вероятно, работа над «Баней» и проникновение в духовный мир автора пьесы именно в этот период его жизни подготовили меня к тому, что мне удалось увидеть в пьесе Катаняна то, что многие не заметили сразу. Я ощутил то, что было в пьесе лишь тенденцией, не получив еще отчетливого 517 драматургического воплощения. Эти тенденции вселяли уверенность, что пьеса может быть творчески претворена в нужный и волнующий спектакль. Задача была трудная, но интересная.
Мне захотелось поставить эту пьесу.
Я люблю миг возникновения мечты, люблю, когда рождается это страстное желание необходимости поставить определенную пьесу, когда ты как режиссер ощущаешь в себе не только личную заинтересованность и потребность, но скорее даже обязанность реализовать свое желание, понимая его важное общественное значение.
Появилась мечта, но не было места, где представилась бы возможность реализовать эту мечту. Разве не бывает так, что у режиссера или у актера возникает мечта, осуществить которую в своем театре по тем или иным причинам он не может?
В таких случаях обычно твоя неосуществленная мечта постепенно тускнеет, меркнет, затем исчезает, а ты приступаешь к профессионально-производственной работе, весьма далекой от твоей мечты. Правильна ли эта наша практика, и воспитывает ли она одно из необходимейших качеств художника, а именно — способность не только творчески мечтать, но и осуществлять свою мечту?
Так вот именно в такое положение попал и я. Была у меня пьеса, но не было театра, где бы я мог ее поставить.
К моему счастью, эта сложность положения, в которое я попал, совпала с работой, которую я проводил в университете на Ленинских горах. Меня просили помочь в организации студенческого театра при университете. Мы к этому времени как раз закончили период ознакомления молодежного коллектива театральной самодеятельности с основными вопросами актерского мастерства. Настала пора переходить к работе над пьесой. Катанян не возражал, чтобы молодежь работала над его пьесой. Участникам коллектива пьеса понравилась, и работа над ее сценическим воплощением началась.
А в это время в театре драмы имени Пушкина в Ленинграде произошли следующие события. Автор приехал ознакомиться с работой над его пьесой и неожиданно узнал, что режиссура перестраивает пьесу, вводя в нее новые стихи Маяковского, сочиняя пролог и интермедии. Собственно говоря, работа в театре шла именно в этой области, а к работе 518 над пьесой коллектив даже и не приступал. Режиссура, перекраивающая пьесу на свой лад, зачастую полагает, что она выполняет установки «работы театра с драматургами», но такая работа по перекройке пьесы ничего общего не имеет с необходимыми и правильными творческими взаимоотношениями между театром и драматургом.
Наблюдая во многих театрах как неправильно понимаются там вопросы «работы театра с драматургом», я прихожу к выводу, что именно этим неправильным пониманием мы очень тормозили развитие драматургии, парализуя самостоятельность у драматурга, убивая его ответственность, приучая к покорному подчинению воле режиссера во имя желания увидеть свою пьесу на сцене. Но в данном случае этого не произошло.
Автор, хотя и молодой в области драматургии (ведь это была его первая пьеса), не согласился с режиссером. Произошел конфликт. Режиссера освободили от постановки данного спектакля, и вся работа законсервировалась. А в университете на Ленинских горах работа хотя и медленно, но подвигалась вперед. Мы стремились возможно глубже и шире взглянуть на предложенный автором драматургический материал, стараясь проникнуть в те первопричины, которые родили именно данную стилевую манеру драматурга.
Мы стремились вскрыть все, что заложено драматургом в его первом детище. Мы тщательно оберегали все то, что было создано драматургом в пьесе, не допуская превращения пьесы в материал, на основе которого режиссером будет создано театральное представление, очень мало общего имеющее с его пьесой. А ведь самое трудное в нашей работе — это правильно понять мечту драматурга и суметь ее сценически раскрыть, творчески найдя для ее подлинного звучания новые сценические краски, присущие особенностям данного драматургического произведения.
В середине мая я получил из Ленинграда приглашение поставить в театре драмы имени Пушкина пьесу Катаняна «Они знали Маяковского». 27 мая 1954 года я провел первую беседу с коллективам актеров — участников данного спектакля. 6 ноября 1954 года состоялась премьера спектакля.
Спектакль имел большой успех у зрителя.
Индийский поэт Али Сардар и драматург Джафри после просмотра спектакля прислали Николаю Черкасову записку:
519 «Мы хотим, чтобы вы создали фильм о Маяковском. Не оставляйте Маяковского у себя — он принадлежит и нам».
Много лет Николай Черкасов мечтал создать образ Маяковского в кино. Сценарий, написанный Катаняном для Черкасова, потонул в бесконечных хождениях по инстанциям. Но не остывала мечта Черкасова, и театр, в котором играет Черкасов, предложил автору киносценария написать пьесу, которую мне и посчастливилось поставить на этой великолепной сцене.
Так страстная мечта актера Николая Черкасова наконец воплотилась в жизнь. Эта страстность мечты помогла нам в работе над спектаклем, а особенно в те дни, когда скрытая борьба вокруг имени Маяковского могла разгореться с новой силой. Благодаря этой страстности мечты Николая Черкасова работа над постановкой спектакля была дружной и увлекательной. Несмотря на то, что пьеса «Они знали Маяковского» была первой пьесой Катаняна, он мужественно и стойко отстаивал каждое слово, каждую строку и не допускал посягательств на обычную для театра переработку и перекройку драматургической ткани. Он готов был даже взять свою пьесу из театра, когда у него возник конфликт с режиссурой в первый период работы. И эта его стойкость заставляла актеров глубже проникать в написанное, чтобы понять и строй мышления образов и особенности драматургического приема, который отличается от многих драматургических произведений своей лаконичностью. Современное актерство избаловано многословием авторов, не всегда способных точно выразить духовную суть сценического образа и подменяющих точность образного драматургического слова обильным беллетристическим описанием.
Что же мне как режиссеру дала эта работа, эта встреча с драматургом В. А. Катаняном, эта встреча с крупным актером Николаем Черкасовым, эта встреча с творческим коллективом театра имени Пушкина, с интереснейшим художником А. Г. Тышлером и молодым композитором Родионом Щедриным?
Приступая к каждой новой постановке, я всегда испытываю странное чувство тревоги и беспокойства, которое возникает при этом потому, что мне кажется, что я впервые приступаю к постановке и что я не знаю даже, как же это делается. Я как будто даже утрачиваю свою профессиональную умелость, не зная, с чего начать. Эти мысли на первый 520 взгляд как будто и странные, если вспомнить мой достаточно долгий театральный путь, мне кажутся вполне закономерными, так как каждая постановка, каждая новая работа никогда не должна быть повторением прошлого. Она должна быть тем новым, чем отличается сегодняшний день от вчерашнего, чем должна быть отлична твоя сегодняшняя работа от той, которую ты только что закончил. Ведь в жизни-то за это время что-то произошло, произошли какие-то новые события, и сегодняшний день выдвинул новые требования, на которые ты, как художник, обязан ответить. Ты можешь хорошо понять и даже точно сформулировать основные задачи сегодняшнего дня, но это еще вовсе не значит, что это ясное твое понимание обязательно родит и ясность твоего творческого ответа. А ведь без этой ясности едва ли работа художника будет творческой и плодотворной, а следовательно, нужной и необходимой обществу. Вероятно, это чувство творческой ответственности и порождает те беспокойные мысли, которые всегда возникают, когда ты приступаешь к новой работе.
Так было и 27 мая, во время первой беседы с актерским коллективом будущего спектакля «Они знали Маяковского». И только влюбленность в поэта, личное знакомство с ним в жизни и недавно проведенная работа над постановкой его пьесы «Баня» несколько успокаивали мою тревогу и как бы подсказывали те пути, по которым надо повести коллектив актеров в процессе репетиционной работы.
Любовь к поэту, огромное духовное богатство личности Владимира Маяковского, гордого гражданина своей Родины, трибуна и борца и в то же время глубочайшего лирика, являлись фундаментом в сценическом построении образа поэта. Этому же помогала и страстность Николая Черкасова, давно уже мечтавшего сценически воссоздать образ Маяковского.
Все эти мысли и ощущения складывались в определенную концепцию и временно успокаивали. Но сейчас же возникали новые тревожные мысли, новые соображения, которые вновь рождали волнения и на которые необходимо было ответить ясно и точно, прежде чем пускаться в большое плавание. Впервые на сцене воссоздается образ талантливейшего поэта нашей эпохи Владимира Маяковского.
Каким же сценическим языком, какими театральными 521 средствами должен ты как режиссер решать спектакль, где центральным образом является поэт Маяковский?
Ведь каждый драматург, вернее, даже каждая пьеса одного и того же драматурга всегда несет в себе что-то свое, особенное, присущее только ей одной, и театр обязан угадать именно эти качественные особенности, если он хочет полноценно и творчески раскрыть данное драматургическое произведение.
Конечно, далеко не исчерпывающим, но все же частичным ответом на эти тревожные мысли были те соображения, которые рождались у нас в период работы над «Баней», когда мы стремились понять и изучить театральную эстетику Маяковского.
«Сделать агитацию, пропаганду, тенденцию живой — в этом трудность и смысл сегодняшнего театра… Театр забыл, как это зрелище использовать для нашей агитации. Попытка вернуть театру зрелищность, попытка сделать подмостки трибуной — в этом суть моей театральной работы».
Такова театрально-эстетическая платформа Маяковского, который не только писал пьесы, но и устанавливал свою точку зрения на понимание сущности и значения театра. Но как-то очень мало прислушивались к его словам и сдали в архив не только драматургию Маяковского, но и его театральные высказывания. Ныне его драматургия полноправно вернулась на советскую сцену. Теперь нам следует воплотить в жизнь и его эстетическую программу.
Продумывая приведенное высказывание Маяковского, мы видим, что он далеко не одинок в своем требовании «зрелищности» театра.
«Я хочу говорить о трех восприятиях театрального представления, будь то спектакль или роль, о трех волнах, из которых создается театральное представление. И, значит, о трех путях к нему:
социальном,
жизненном,
театральном.
… Только соединение всех этих восприятий дает полноту художественности, создает полноценное театральное произведение».
Эти слова принадлежат Вл. И. Немировичу-Данченко, одному из основателей Московского Художественного театра, 522 и данная неразрывная триада является для него критерием «полноценного театрального произведения».
Первую «волну» Немирович-Данченко определяет как «социальную», а Маяковский называет ее «агитацией», «пропагандой», «тенденцией».
Вторая «волна» у Немировича-Данченко названа «жизненной», а Маяковский называет ее «живой».
И третья «волна», определенная Немировичем-Данченко как «театральная», Маяковским названа «зрелищем».
Как ни парадоксально, как ни странно на первый взгляд, но нетрудно заметить перекличку в понимании «полноценного театрального произведения» у двух величайших художников нашего времени.
А разве «попытка» Маяковского «сделать подмостки трибуной» не совпадает с мечтой Гоголя? И разве не об этом же думал Станиславский, ненавидевший рутину: «Не следует путать рутину с необходимыми условиями сцены, так как последняя требует, несомненно, чего-то особенного, что не находится в жизни».
Разве «необходимые условия сцены» и «особенность» Станиславского не перекликаются с «театральностью» Немировича-Данченко и «зрелищностью» Маяковского? Это все словесно различные формулировки трех великих художников, раскрывающих сущность одного и того же понятия.
Три художника — Станиславский, Немирович-Данченко, Маяковский, — своими формулировками утверждая подлинность произведения театрального искусства, борются с бытовизмом и натурализмом, борются с зеркально-мертвым отражением действительности в сознании художника и утверждают наличие «особенности», «театральности» и «зрелищности», неотрывных от искусства театра.
Здесь уместно вспомнить мысль Владимира Ильича Ленина о том, что отражение действительности субъектом не есть простой, зеркально-мертвый акт, а является сложным процессом, включающим в себя возможность отлета фантазии от жизни.
Почему нам не вдуматься глубоко и не пересмотреть нашу творческую практику, бесконечно суженную ошибочным и примитивным пониманием социалистического реализма? И если мы поймем, что суть понятий и «зрелищности», и «театральности», и «особенности», которая «не находится в 523 жизни», содержит в себе не только эстетические решения, но и глубоко философские, то для нас станет ясно, что все эти вопросы в первую очередь затрагивают наше мировоззрение.
Наше искусство самое передовое, так как оно раскрывает в своих произведениях передовые, гуманистические идеи. Оно глубоко тенденциозно, и мы, советские художники, должны быть бесконечно счастливы и горды, так как тенденциозность нашего искусства выражает самую передовую марксистско-ленинскую идеологию, которая ведет человечество к построению коммунизма.
И если наше искусство является самым передовым, самым идейным, если оно является боевым оружием в руках советского художника, то естественно возникает вопрос и об этом оружии, которым мы вооружены, о мастерстве театрального художника, способного полноценно раскрыть великие идеи наших дней. А раз это так, то мы должны ясно усвоить, что вопросы мастерства, вопросы технологии в нашем искусстве перестают быть узкими вопросами технологии и становятся вопросами идеологическими. Чем совершеннее мастерство драматурга, режиссера, актера, тем глубже и убедительнее сумеют они донести до зрителя идейное содержание спектакля и эмоционально увлечь им зрителя. Вот почему мы должны совершенствовать свое мастерство, стремясь к улучшению идейно-художественного качества творческой продукции и повышать свою технологическую умелость.
Маяковский называл свою работу в РОСТА работой, «очищающей наш язык от поэтической шелухи на темах, не допускающих многословия».
Он оттачивал и совершенствовал свое мастерство постоянно: «… разговариваешь, не понимая, ешь, не разбирая, и не будешь спать, почти видя летающую перед глазами рифму».
Все эти мысли явились для нас отправными позициями в процессе нашей работы. Они прокладывали пути нашей фантазии, сплачивали творческий коллектив вокруг них, увлекая каждого участника спектакля большими творческими проблемами, которые так щедро дарила миру кипучая и богатейшая натура Маяковского. Мы очень внимательно изучали тезисы его докладов, которые давали нам возможность более глубокого проникновения в его мышление.
Он говорил о новой природе советского художника — трибуна и бойца. Он предъявлял художнику современности требования 524 активного отношения к жизни, противополагая их пассивному, «зеркальному», созерцательству, с которым некоторые ремесленники, работающие в области искусства, «изображают» явления нашей действительности. Каждая новая постановка в театре обогащает тебя новыми мыслями и благодаря этому дает возможность еще глубже понять вопросы театра, еще шире раскрыть перспективы и возможности театрального искусства.
Эти мысли сейчас являются для меня своеобразной программой моего творческого мышления, так как они не только родились в практической работе, но и проверены итогами этой работы. Они проверены и отношением к ним всего творческого коллектива участников спектакля «Они знали Маяковского». Их взял «на вооружение» крупнейший художник театра Николай Черкасов. Они проверены на многих аудиториях, перед которыми я выступал с докладами. И, что самое главное, они, эти мысли, нашли свое творческое воплощение в созданном нами спектакле, о чем каждый раз в конце спектакля горячо свидетельствует нам зритель.
И если мечтой Маяковского, «существом» его «театральной работы» было желание «вернуть театру зрелищность… сделать подмостки трибуной», то, мне кажется, что мы это частично выполнили, чему очень помогали художник Тышлер и композитор Родион Щедрин.
Спектаклями Московского театра сатиры драматургия Маяковского восстановлена в своих правах на советской сцене. Зритель целиком и полностью проголосовал за эти постановки, до отказа заполняя театр в дни спектаклей «Баня» и «Клоп». Эти спектакли оцениваются как этапные в творческой жизни советского театра.
Ленинградским спектаклем «Они знали Маяковского» положено начало созданию на сцене образа великого поэта. Осуществленная мечта актера Николая Черкасова получила признание ленинградского зрителя. Но все сделанное нами, конечно, еще только начало огромной работы по сценическому освоению всего духовного богатства величайшего поэта нашей эпохи.
Мы, театральные работники, всегда мечтаем о приходе поэта в театр.
Мы мечтаем о поэтической драматургии, о великом значении слова, произносимого со сцены.
525 Мы еще мало сами влюблены и мало еще влюбляем актеров в пламенные, страстные, емкие, образные, взрывчатые слова поэта-драматурга Владимира Маяковского.
А его театральные взгляды, его эстетически-театральная программа разве изучена нами до конца? Какое имеем мы право быть такими равнодушными к тому огромному богатству, которое оставил нам Владимир Маяковский?
Нам еще предстоит сделать обязательным для будущих театральных работников знание театральных взглядов Маяковского.
Слюнявым психоложеством театр не поганьте!
Театр, служи коммунистической пропаганде!
Не думаю, чтобы ответом на этот лозунг были многие наши «бескрылые» спектакли.
Мы еще в очень большом долгу перед Владимиром Маяковским, и он сегодня, говорящий с нами как «живой с живыми», требует нас к ответу.
526 Глава 13
Театр Пушкина
Возвращаясь в Москву после интересного спектакля в Ленинграде, я все еще находился во власти духовного мира великого поэта, невольно вспоминая его беспокойный образ, его страстную энергию в работе, его одержимость, когда он брался за какое-нибудь дело.
В нем сочетались такие спорящие друг с другом черты характера, как неистовство и спокойствие, как резкость, иногда переходящая даже в грубость, и тончайший лиризм. Где бы он ни работал, он всегда был Маяковским, и на каждом участке своей работы он беззаветно и щедро отдавал себя целиком, не щадя ни своих сил, ни здоровья.
Даже раздумье о нем вселяло силы и энергию и хотелось работать больше и лучше, а главное, быть таким же неутомимым и честным бойцом, каким был Владимир Маяковский.
Как раз в эти дни главный режиссер театра имени А. С. Пушкина И. М. Туманов предложил мне поставить у него в театре «Игрока» Достоевского. Разговор со мной он закончил следующими словами:
527 — А может быть, Николай Васильевич, вы целиком перейдете работать в наш театр? Свою миссию в Театре сатиры вы достойно выполнили, и спектакль «Баня» яркое тому свидетельство, а у нас вам, режиссеру драматического театра, будет гораздо интереснее работать. Переходите, и давайте совместно дружно строить театр.
Через некоторое время театры договорились между собой. Управление по делам искусств санкционировало мой переход, и вот я работаю в театре имени А. С. Пушкина.
Если в Театре сатиры мне не очень-то было легко обрести спокойное самочувствие очередного режиссера после того, как я в связи с болезнью отказался от руководства театром, так как там продолжала еще существовать некоторое время инерция авторитета бывшего руководителя, то, откровенно говоря, здесь, в сложнейшем и талантливом актерском коллективе театра Пушкина, обрести это спокойное самочувствие было ничуть не легче, особенно в первое время, в период работы над спектаклем «Игрок».
В коллектив театра одновременно со мной пришли новые талантливые актеры Ф. Г. Раневская, К. П. Вахтеров, и они также впервые встречались с новыми для них товарищами, играя центральные роли в этом спектакле.
Первая редакция спектакля выпускалась во время гастрольной поездки в Куйбышев. Все это было теми добавочными трудностями, которые не очень-то способствовали спокойному творческому самочувствию.
Но я поставил перед собой ясную и, как мне кажется, правильную задачу — стать рядовым, равноправным членом этого своеобразного и, повторяю, очень талантливого творческого коллектива, и, вероятно, добросовестная работа помогла мне выполнить эту первую задачу. У меня установились прекрасные творческие и человеческие дружеские отношения с И. М. Тумановым, и коллектив принял меня как своего равноправного товарища…
На этом бы, кажется, можно было и поставить точку этому достаточно-таки затянувшемуся перелистыванию страниц истории полувековой театральной жизни, тем более что как раз приближается эта дата. Но жизнь не останавливается, и, когда ты думаешь подвести какие-то итоги, она вдруг подхватит тебя и несет дальше в стремительном темпе кинематографических кадров. Тут уж не до итогов!..
528 Благодарю тебя, дорогой читатель, за терпение, которое ты обнаружил, дочитав книгу до этих страниц, и обещаю тебе почти телеграфный лаконизм на последних строчках, которые я должен еще написать.
В декабре 1957 года вышла моя книга «Встречи с драматургами». В ней я рассказываю о творческих взаимоотношениях с авторами многих пьес, которые мне довелось ставить. Читателю этой книги они знакомы.
Начало 1958 года я провел в Праге совместно с Ю. В. Малашевым в качестве гостя, знакомясь с пражскими театрами и просмотрев за пятнадцать дней девятнадцать спектаклей.
В конце января московская театральная общественность очень тепло отметила пятидесятилетие моей театральной работы.
В марте в театре имени А. С. Пушкина состоялась премьера пьесы Цао Юя «Ураган», поставленная мной.
В мае совместно с Е. Е. Севериным я летал в Берлин для участия в работе конференции на тему «Советские пьесы на сценах ГДР».
В конце мая выпускники моего курса в ГИТИСе участвовали на всесоюзном соревновании театральных высших учебных заведений.
В июне по приглашению Общества китайских театральных деятелей я вылетел в Пекин для участия на празднествах, отмечавших 700-летие творческой деятельности китайского драматурга Гуань Хань-циня.
2 февраля 1959 года в Берлине в театре «Фольксбюне» состоялась премьера моей постановки «Бани» Маяковского.
Каждому из этих разделов можно посвятить специальную главу, но я обещал быть лаконичным.
529 Эпилог
Итак, книга закончена.
И сейчас, глядя на оглавление и мысленно пробегая ее содержание, я с грустью вижу, как далеко не полно оно раскрывает полустолетие моей театральной жизни. Как многие значительные факты жизни и интересные встречи с людьми не нашли себе места на этих страницах.
Читатель, вероятно, заметит, как часто, описывая различные эпизоды своей жизни, я возвращался к теме этики — теме человеческих отношений, так как, прожив достаточно большую жизнь, я ясно понял, что именно эти отношения подчас имеют решающее значение в нашем театральном деле. Не случайно К. С. Станиславский среди своих теоретических работ по вопросам актерского мастерства написал и свою замечательную работу «Этика», являющуюся, как мне кажется, фундаментом, на котором зиждется его система.
Нет «Этики» — нет системы.
Вот это, мне думается, часто забывают, когда идет спор о системе.
Конечно, для успеха твоей работы одних человеческих отношений мало, и тут нужно еще, чтобы ты умел работать и любил эту работу, чтобы ты знал смысл и значение своей 530 работы и, наконец, чтобы ты отлично понимал то место, которое занимает твоя работа в жизни.
А для этого ты должен не только владеть ремеслом своей профессии, но и быть способным к творчески обобщающему мышлению, двигающему вперед твой участок работы.
Читатель, вероятно, заметил, что и эта тема часто прорывается на страницах прочитанной книги. Но когда то или иное теоретическое положение, иногда спорное, а иногда и бесспорное, возникало в ходе повествования, то по характеру этой книги я не имел возможности останавливаться подробнее на них или заняться их систематизацией.
— А вы замахиваетесь и на это? — задаст мне каверзный вопрос ядовитый критик, которого я постоянно ощущал рядом с собой, когда затрагивал большие вопросы жизни нашего театрального искусства.
Исчерпывающе ответить я не смогу, но, отказавшись от юмора и полемического задора и разговаривая профессиональным языком с профессионалом, вероятно, кое-что и могу сказать, но тогда этому сказанному будет место не в «Послесловии», а в «Предисловии» к новой работе, которую мне хотелось бы озаглавить:
«Философия, эстетика, теория и технология, а также и законы театрального искусства».
— Ну, знаете ли, Николай Васильевич, это, кажется, вы уж чересчур что-то размахнулись, — скажет опешивший от моего нахальства критик.
— Может быть, и размахнулся.
— Но в искусстве нельзя не рисковать, — сказал мне однажды Анатолий Васильевич Луначарский, когда я предложил ему поставить на сцене его «драму для чтения» «Фауст и город».
Рискнул же я тогда, так почему же не рискнуть и сейчас, когда опыта больше и полстолетия театральной жизни уже за спиной.
И если тогда это был действительно риск молодости, то сейчас, как мне кажется, это является обязанностью зрелого человека.
Я мечтаю, чтобы кто-нибудь из нас, творческих работников современного театра, самого передового театра в мире, создал бы произведение театрального искусства, которое, как Спутник, пронесется вокруг земного шара и овладеет 531 сознанием миллионов людей, тем самым становясь могущественным фактором нашей передовой культуры, прокладывающей путь к сияющим вершинам коммунизма.
И разве в истории театра не было театрального события, взволновавшего сознание художников почти всего земного шара?
Разве дерзновенное открытие Московского Художественного театра не являлось для своего времени таким Спутником?
Так почему же мы, верные ученики Станиславского, не соединимся в единый творчески-рабочий коллектив, чтобы коллективными усилиями выполнить великую миссию, возложенную на нас нашей героической и исторической эпохой?
Ведь и Спутник был создан большим рабочим коллективом, а не одним человеком!
Так бросим же ненужные схоластические споры, разбудим в себе лучшее, что есть в человеке, — его человечность, и, «вздохнув единым дыханием», совершим творческую «бурю».
И пусть эта «буря» будет такой же исторической, творческой вехой в мировой истории культуры, как Гуань Хань-цин и Шекспир, как Мольер и Гоголь, как Чехов и Горький, как Щепкин и Станиславский.
И пусть величайшей поэзией будет пронизана эта «буря», как пронизаны были первые годы нашей революции стихами великого борца за коммунизм Владимира Маяковского.
Мы боремся за мир во всем мире, и для этой борьбы мы должны объединить все передовые творческие силы, способные на подвиг, так как наш народ и все прогрессивное человечество ждет от нас не просто хороших спектаклей, но подвига, дерзновенного, революционного, творческого подвига, который останется в истории человечества как памятник героики наших дней.
533 Список режиссерских работ за 50 лет
1909 – 1910 годы
Москва
1. «Сон советника Попова» — А. К. Толстой.
2. «Росмунда» — Лоло Мунштейн.
3. «Сродство мировых сил» — Козьма Прутков.
(Постановки осуществлены на Курсах драмы А. Адашева в Москве.)
1911 год
Чернигов. Летний сезон
4. «Вишневый сад» — А. Чехов.
5. «Дядя Ваня» — А. Чехов.
6. «Три сестры» — А. Чехов.
7. «Гибель Содома» — Г. Зудерман.
8. «Дети солнца» — М. Горький.
9. «На дне» — М. Горький.
10. «Власть тьмы» — Л. Толстой.
11. «Братья Карамазовы» — Ф. Достоевский (первый вечер)
12. «Братья Карамазовы» — Ф. Достоевский (второй вечер).
13. «Бранд» — Г. Ибсен.
14. «Микаэл Крамер» — Г. Гауптман.
15. «Горе от ума» — А. Грибоедов.
16. «Среди цветов» — Г. Зудерман.
17. «Тайфун» — М. Ленгиэль.
18. «Жулик» — И. Потапенко.
19. «Не все коту масленица» — А. Островский.
20. «У моря» — Г. Энгель.
21. «Эльга» — Г. Гауптман.
534 22. «Лесные тайны» — Е. Чириков.
23. «Сатана» — Я. Гордин.
24. Программа кабаре.
1911 – 1912 годы
Петербург
25. «Белая Лилия» — Вл. Соловьев, художник Э. Зандер.
26. «Маленький Эйольф» — Г. Ибсен, художник Л. Яковлева.
(Постановки осуществлены в кружке «Белая лилия».)
27 – 37. Постановки одиннадцати программ в подвале «Бродячая собака».
Евпатория. Летний сезон
38. «На дне» — М. Горький.
39. «У врат царства» — К. Гамсун.
40. «Мисс Гоббс» Джером К. Джером.
41. «Темное пятно» — Г. Кадельбург.
42. «Дети солнца» — М. Горький.
43. «Микаэл Крамер» — Г. Гауптман.
44. «Шальная девчонка» — Поль Гаво.
45. «Школьные товарищи» — Л. Фульд.
46. «На всякого мудреца довольно простоты» — А. Островский.
47. «Бешеные деньги» — А. Островский.
48. «Золотая осень» — Г. Кайаве.
49. «Хорошо сшитый фрак» — Г. Дрегеле, перевод Федоровича.
50. «Привидения» — Г. Ибсен.
51. «Мизерере» — С. Юшкевич.
52. «Дядя Ваня» — А. Чехов.
1912 – 1913 годы
Петербург
53. «Мираж» — по роману Жоржа Роденбаха, обработка для сцены Н. Петрова.
54. «Горе от ума» — балетный спектакль.
(Постановки осуществлены с благотворительной целью.)
55. «Чрепослов, сиречь Френолог» — Козьма Прутков.
56. «Голос жизни, или Скала смерти» — опера Н. Цибульского.
57. «Средство мировых сил» — Козьма Прутков.
58. «В лунном круге» — Н. Званцев.
(Постановки осуществлены в «Бродячей собаке».)
535 Симферополь и Евпатория. Летний сезон
59. «Дядя Ваня» — А. Чехов.
60. «Мисс Гоббо» — Джером К. Джером.
61. «Заложники жизни» — Ф. Сологуб.
62. «Тривиальная комедия» — О. Уайльд.
63. «Огни Ивановой ночи» — Г. Зудерман.
64. «Лулу» — Сюлли и Догорсе.
65. «Вишневый сад» — А. Чехов.
66. «Наша Китти» — Джером К. Джером.
67. «В маленьком домике» — Т. Ритнер.
68. «Темное пятно» — Г. Кадельбург.
69. «Таланты и поклонники» — А. Островский.
70. «Лабиринт» — С. Поляков.
71. «Змейка» — В. Рышков.
72. «Старческая любовь» — И. Барышев.
73. «Золотая свобода» — Ленокс.
74. «Профессор Старицын» — Л. Андреев.
75. «Хорошо сшитый фрак» — Г. Дрегеле, перевод Федоровича.
76. «Сказка про волка» — Ф. Мольнар.
77. «Ротшильды» — К. Рэслер.
78. «Потонувший колокол» — Г. Гауптман.
79. «Цветы на обоях» — А. Вознесенский.
1913 – 1914 годы
Петербург
80. «Как важно быть серьезным» — О. Уайльд.
81. «Чайка» — А. Чехов.
82. «Шарф Коломбины» — пантомима, либретто А. Шницлера, музыка Донаньи.
83. «Сверчок» — мелодрама.
(Постановки осуществлены в школе А. П. Петровского.)
Гагры. Летний сезон
84. «Тривиальная комедия» — О. Уайльд.
85. «Женская логика» — Джером К. Джером.
86. «Вишневый сад» — А. Чехов.
87. «Я так хочу» — Соммерсет Могэм.
88. «Между двух жен» — Догорсе.
89. «Темное пятно» — Г. Кадельбург.
90. «Три сестры» — А. Чехов.
91. «Ревнивые сны» — Ф. Мольнар.
92. «Шальная девчонка» — Поль Гаво.
93. «Школьные товарищи» — Л. Фульд.
94. Программа кабаре.
536 1914 – 1915 годы
Петроград
95. «Тот, кто получает пощечины» — Л. Андреев, худ. А. Шервашидзе, макет Н. Петрова. (Режиссерский дебют на сцене бывш. Александринского театра.)
96. «Вишневый сад» — А. Чехов.
97. «Идеальный муж» — О. Уайльд.
(Постановки осуществлены в школе сценического искусства.)
Сумы и Севастополь. Летний сезон
98. «Шут Тантрис» — Э. Хардт, худ. А. Петров.
99. «Мисс Гоббс» — Джером К. Джером.
100. «Идиот» — Ф. Достоевский, инсценировка Н. Петрова.
101. «Лулу» — Сюлли и Догорсе.
102. «Мираж» — Ж. Роденбах, сценич. обработка Н. Петрова.
103. «Вишневый сад» — А. Чехов.
104. «Севильский кабачок» — Ф. Нозьер, худ. А. Петров.
105. «Цена жизни» — Вл. Немирович-Данченко.
106. «Романтики» — Э. Ростан.
107. Программа кабаре в Сумах.
108. «Выстрел» — А. Толстой.
109. «Король Дагобер» — А. Ривуар.
110. «Пигмалион» — Б. Шоу.
111. «Начало карьеры» — В. Рышков.
112. «Реймский собор» — Г. Ге.
113. «Женщина и паяц» — Пьер Луис.
114. «Я так хочу» — Соммерсет Могэм.
115. «Ашантка» — В. Пержинский.
116. «Тривиальная комедия» — О. Уайльд.
117. «Мой беби» — М. Майо и М. Энекен.
118. «Гувернер» — В. Дьяченко.
119. «Заза» — П. Бертой и Ш. Симон.
120. Программа кабаре в Севастополе.
1915 – 1916 годы
Петроград
121. «Невеста» — Г. Чулков, худ. А. Шервашидзе.
(Постановка осуществлена в бывш. Александринском театре.)
Петрозаводск. Летний сезон
122. «Цена жизни» — Вл. Немирович-Данченко.
123. «Пигмалион» — Б. Шоу.
124. «Севильский кабачок» — Ф. Нозьер.
537 125. «Осенние скрипки» — И. Сургучев.
126. «Гибель “Надежды”» — Г. Гейерманс.
127. «Шут Тантрис» — Э. Хардт.
128. «Дядя Ваня» — А. Чехов.
129. «На всякого мудреца довольно простоты» — А. Островский.
130. «Хищница» — О. Миртов.
131. «Лулу» — Сюлли и Догорсе.
132. «Тот, кто получает пощечины» — Л. Андреев.
133. «Король Дагобер» — А. Ривуар.
134. «Маскарад» — М. Лермонтов.
135. «Маленькая женщина» — О. Миртов.
136. «Гроза» — А. Островский.
137. «Орленок» — Э. Ростан.
138. «Дворянское гнездо» — И. Тургенев, инсценировка, Собольщикова-Самарина.
139. «Катерина Ивановна» — Л. Андреев.
140. «Мой беби» — М. Майо и М. Энекен.
141. «Погибшая девчонка» — П. Вебер и А. Горст.
142. Программа кабаре.
1916 – 1917 годы
Петроград
143. «Кровь и веер» — Ф. Нозьер.
(Педагогически-экспериментальная работа в Школе сценического искусства.)
Старая Русса. Летний сезон
144. «Мечта любви» — А. Косоротов.
145. «Благодать» — Н. Урванцев.
146. «Мой беби» — М. Майо и М. Энекен.
147. «Жулик» — И. Потапенко.
148. «Брачный бойкот» — А. Чаргонин.
149. «Преступление» — Н. Лернер.
150. «Пригвожденные» — В. Виниченко.
151. «Трильби» — Г. Ге.
152. «Дворянское гнездо» — И. Тургенев.
153. «Сестры Кедровы» — Н. Григорьев-Истомин.
154. «Катерина Ивановна» — Л. Андреев.
155. «Флавия Тессини» — Т. Щепкина-Куперник.
156. «Ночной туман» — А. Сумбатов.
157. «Тривиальная комедия» — О. Уайльд.
158. «Пигмалион» — Б. Шоу.
159. «Роман» — Э. Шельдон.
160. «На всякого мудреца довольно простоты» — А. Островский.
161. «Заза» — П. Бертон и Ш. Симон.
162. «Повесть о господине Сонькине» — С. Юшкевич.
163. «Осел Буридэна» — Г. Кайаве.
164. Программа кабаре.
538 1917 – 1918 годы
Петроград
165. «Как важно быть серьезным» — О. Уайльд.
166. «Снег» — С. Пшибышевский.
(Постановки осуществлены в Школе актерского мастерства.)
Петрозаводск. Летний сезон
167. «На дне» — М. Горький.
168. «Идиот» — Ф. Достоевский, инсценировка Н. Петрова.
169. «Вишневый сад» — А. Чехов.
170. «Кручина» — И. Шпажинский.
171. «Женская логика» — Джером К. Джером.
172. «У моря» — Г. Энгель.
173. «Ню» — О. Дымов.
174. «Цена жизни» — Вл. Немирович-Данченко.
175. «Благодать» — Н. Урванцев.
176. «Фарисеи» — Г. Запольская.
177. «Гроза» — А. Островский.
178. «Золотая осень» — Г. К.
179. «Маскарад» — М. Лермонтов.
180. «Жулик» — И. Потапенко.
181. «Месяц в деревне» — И. Тургенев.
182. «Жизнь человека» — Л. Андреев.
183. «Женитьба Белугина» — А. Островский и Н. Соловьев.
184. «Мой беби» — М. Майо и М. Энекен.
185. «Сестры Кедровы» — Н. Григорьев-Истомин.
186. «Дети Ванюшина» — С. Найденов.
187. «Трильби» — Г. Ге.
188. «Нора» — Г. Ибсен.
189. «На всякого мудреца довольно простоты» — А. Островский.
190. «Не все коту масленица» — А. Островский.
191. «Ночной туман» — А. Сумбатов.
192. «Старый Гейдельберг» — В. Мейер-Фестер.
193. «Потонувший колокол» — Г. Гауптман.
194. «Ревность» — М. Арцыбашев.
195. «Дядя Ваня» — А. Чехов.
196. «Женитьба Бальзаминова» — А. Островский.
197. «Милые призраки» — Л. Андреев.
198. «Тот, кто получает пощечины» — Л. Андреев.
199. «Бабушка» — Г. Кайаве. 200 «Акробаты» — Ф. Шентан.
201. «Бесприданница» — А. Островский.
202. «Торговый дом» — И. Сургучев.
203. «Легенда старого замка» — Е. Чириков.
204. Программа кабаре.
1918 – 1919 год
Петрозаводск
205. «Ревизор» — Н. Гоголь.
206. «У врат царства» — К. Гамсун.
207. «Анфиса» — Л. Андреев.
208. «Дача с камелиями» — А. Дюма.
539 209. «Милый Жорж» — Г. Кайаве.
210. «Горе от ума» — А. Грибоедов.
211. «Свадьба Кречинского» — А. Сухово-Кобылин.
212. «Мысль» — Л. Андреев.
213. «Потонувший колокол» — Г. Гауптман.
214. «Савва» — Л. Андреев.
215. «Тривиальная комедия» — О. Уайльд.
216. «Привидения» — Г. Ибсен.
217. «У моря» — Г. Энгель.
218. «Зеленое кольцо» — З. Гиппиус.
219. «Эльга» — Г. Гауптман.
220. «Три сестры» — А. Чехов.
221. «Золотая осень» — Г. Кайаве.
222. «Борьба» — Дж. Голсуорси.
223. «Братья Карамазовы» — Ф. Достоевский (первый вечер), инсценировка Н. Петрова.
224. «Братья Карамазовы» — Ф. Достоевский (второй вечер) инсценировка Н. Петрова.
225. «Лулу» — Сюлли и Догорсе.
226. «Тот, кто получает пощечины» — Л. Андреев.
227. «Шут на троне» — Р. Лотар.
228. «Пастушка и трубочист» — по Г.-Х. Андерсену.
229. «Женитьба Белугина» — А. Островский и Н. Соловьев.
230. «Общество поощрения скуки» — В. Крылов (Александров).
231. «Севильский кабачок» — Ф. Нозьер.
232. «Коварство и любовь» — Ф. Шиллер.
233. «Вера Мирцева» — Н. Урванцев.
234. «Анатэма» — Л. Андреев.
235. «Волшебная сказка» — И. Потапенко.
236. «Соломенная шляпка» — Э. Лабиш.
237. «Осенние скрипки» — И. Сургучев.
238. «На дне» — М. Горький.
239. «Бранд» — Г. Ибсен.
240. «Гибель “Надежды”» — Г. Гейерманс.
Исполнительные вечера «Таранты»:
241. «Рождение Таранты».
242. «Прорезывается зуб».
243. «Первый шаг».
Петроград. Летний сезон
244. «Как важно быть серьезным» — О. Уайльд, худ. Ю. Бонди.
245. «Соломенная шляпка» — Э. Лабиш, худ. Мисс, музыка Ю. Шапорина.
246. «Ревизор» — Н. Гоголь, худ. Б. Кустодиев.
(Постановки осуществлены в Малом драматическом театре.)
247. «У моря» — Г. Энгель.
248. «Гибель “Надежды”» — Г. Гейерманс.
(Выездные спектакли Малого драматического театра.)
540 1919 – 1920 годы
Кострома
249. «Ревизор» — Н. Гоголь, худ. Б. Кустодиев.
250. «У врат царства» — К. Гамсун, худ. А. Божерянов.
251. «Бранд» — Г. Ибсен, худ. А. Божерянов.
252. «Тот, что получает пощечины» — Л. Андреев, худ. А. Божерянов.
253. «Борьба» — Дж. Голсуорси, худ. А. Божерянов.
254. «Соломенная шляпка» — Э. Лабиш, худ. Мисс.
255. «Микаэл Крамер» — Г. Гауптман, худ. А. Божерянов.
256. «Маскарад» — М. Лермонтов, худ. А. Божерянов.
257. «Жизнь человека» — Л. Андреев, худ. Н. Петров.
258. «Как важно быть серьезным» — О. Уайльд, худ. Ю. Бонди.
259. «Драма жизни» — К. Гамсун, худ. А. Божерянов.
260. «Провозглашение коммуны» — П. Бляхин, худ. А. Божерянов.
261. «Шут Тантрис» — Э. Хардт. худ. А. Божерянов.
262. «Закат» — К. Гамсун, худ. А. Божерянов.
263. «Шарф Коломбины» — либретто А. Шницлера, муз. Э. Донаньи, худ. А. Божерянов.
264. «Зеленый попугай» — А. Шницлер, худ. Ю. Бонди.
265. «Фауст и город» — драма для чтения А. Луначарского, обработана для сцены Н. Петровым, худ. Н. Петров.
Петроград. Летний сезон
266. «Торжество коммуны» — массовая постановка на Фондовой бирже.
1920 – 1921 годы
Петроград
207. «Фауст и город» — А. Луначарский, худ. Н. Петров.
(Спектакль осуществлен в бывш. Александринском театре.)
268. «Сумасшедшая ночь в Александринском театре». Программа кабаре.
269. «Синяя птица» — М. Метерлинк, худ. А. Божерянов.
270. «Двенадцатая ночь» — В. Шекспир, худ. В. Щуко, макет Н. Петрова, муз. М. Кузьмина.
(Постановки осуществлены в Большом драматическом театре.)
271. «Самое главное» — Н. Евреинов, худ. Ю. Анненков.
272 – 277. Шесть программ одноактных пьес и номеров.
(Постановки осуществлены в театре «Вольная комедия».)
541 278. «Жилец 3-го этажа» — Джером К. Джером.
279. «Жизнь человека» — Л. Андреев.
280. «Гибель “Надежды”» — Г. Гейерманс.
(Постановки осуществлены в Театре студийных постановок.)
281. «Взятие Зимнего дворца» — массовая постановка на Дворцовой площади.
1921 – 1922 годы
Петроград
282. «Рюи Блаз» — В. Гюго, худ. В. Щуко.
283. «Земля» — В. Брюсов, худ. В. Щуко.
(Постановки осуществлены в Большом драматическом театре.)
284. «Три вора» — В. Ирецкий, худ. А. Петров.
285. «Мировой конкурс остроумия» — Н. Евреинов, худ. А. Петров.
286. «Здесь славят разум» — В. Каменский, худ. Ю. Анненков.
287. «Веер леди Уиндермиер» — О. Уайльд, худ. А. Петров.
288. «Шпильки и сплетни» — Н. Куликов, худ. А. Петров.
289. «Бедный Йорик» — М. Тамайо, худ. А. Петров.
290 – 309. Двадцать программ одноактных пьес и номеров в театре «Балаганчик».
(Постановки осуществлены в театре «Вольная комедия».)
310. «Мечта любви» — А. Косоротов.
(Постановка осуществлена в бывш. Александринском театре.)
311. «Программа открытия “Десятой музы”».
(Постановка осуществлена в «Балаганчике».)
1922 – 1923 годы
Петроград
312. «Страсть» — Г. Мюллер, худ. В. Пакулин.
313. «Ню» — О. Дымов, худ. В. Пакулин.
314. «Сошествие Ганса в ад» — П. Аппель, худ. В. Пакулин.
315. «Карусель» — А. Вернейль, худ. В. Пакулин.
316. «Тим-би-би» — Дини Корнем, худ. В. Пакулин.
317. «Портрет Дориана Грея» С. Уайльд, худ. В. Пакулин.
318. «Виктория» — К. Гамсун, худ. В. Пакулин.
319. «Консул Гранат» — Д. Айзман, худ. В. Пакулин.
542 320 – 339. Двадцать программ театра «Балаганчик».
(Постановки осуществлены в театре «Вольная комедия».)
340. «Ночь» — М. Мартинэ, худ. В. Щуко.
341. «Эльга» — Г. Гауптман, худ. В. Щуко.
342. «Идеальный муж» — О. Уайльд, худ. Г. Косяков.
(Постановки осуществлены в бывш. Александринском театре.)
343. «Как важно быть серьезным» — О. Уайльд, худ. С. Воробьев.
(Постановка осуществлена в бывш. Михайловском театре.)
344. «Тангейзер» — Р. Вагнер, дирижер Э. Купер.
345. «Интернационал» — Апофеоз вечера, посвященный 25-летию Российской Коммунистической партии.
(Постановки осуществлены в бывш. Мариинском театре.)
1923 – 1924 годы
Петроград
346. «Сарданапал» — Дж. Байрон, худ. В. Щуко, композитор Ю. Шапорин.
(Постановка осуществлена в бывш. Александринском театре.)
347. «Риенци» — Р. Вагнер, дирижер Д. Похитонов худ. В. Щуко.
(Постановка осуществлена в бывш. Мариинском театре.)
348. «Сердца и доллары» — сценарий Дух-Банко и В. Королевича, худ. В. Егоров.
(Картина осуществлена на кинофабрике «Кино-Север».)
349. «Король Бастос» — Леон Режис и Франсуа Берн, худ. П. Снопков.
350. «Мистер Могридж Младший» — М. Тригер, худ Н. Акимов.
351 – 366. Шестнадцать программ «Балаганчика».
(Постановки осуществлены в театре «Вольная комедия».)
367. «Скандальный мертвец» — В. Каменский, худ. В. Ходасевич.
(Постановка осуществлена в театре «Комедия».)
368. «Мендель Маранц» — Фридман, худ. Н. Акимов.
369. «От Парижа до Лиговки» — обозрение В. Шмитгофа, худ. А. Петров.
(Постановки осуществлены в «Свободном театре».)
543 1924 – 1925 годы
Ленинград
370. «Изгнание блудного сына» — А. Н. Толстой, худ. В. Щуко.
(Постановка осуществлена в Академическом театре драмы)
371. «Дон-Жуан» — В. Моцарт, дирижер С. Самосуд, худ. А. Головин.
(Постановка осуществлена в Академическом театре оперы и балета.)
372. «За Красный Петроград» — А. Гладковский и Е. Пруссак, дирижер С. Самосуд, худ. А. Арапов.
(Постановка осуществлена в бывш. Михайловском театре.)
373. «Обжигатель горшков» — Э. Синклер, худ. Н. Акимов.
(Постановка осуществлена в театре «Вольная комедия».)
374. «Аэро НТ-54» — по заказу Осоавиахима.
(Картина поставлена на фабрике «Севзапкино».)
375 – 385. Одиннадцать номеров живой газеты «Станок».
1925 – 1926 годы
Ленинград
386. «Яд» — А. Луначарский, худ. М. Левин, сорежиссер К. Хохлов.
387. «Скипетр» — Абель Эрман, сценическая обработка романа Н. Петрова, худ. В. Ходасевич.
388. «Пугачевщина» — К. Тренев, худ. Н. Акимов, сорежиссеры Л. Вивьен и К. Хохлов.
(Постановки осуществлены в Академическом театре драмы.)
1926 – 1927 годы
Ленинград
389. «Конец Криворыльска» — Б. Ромашов, худ. Н. Акимов, музыка Ю. Шапорина.
390. «Штиль» — В. Билль-Белоцерковский, худ. В. Щуко, музыка Ю. Шапорина.
(Постановки осуществлены в Академическом театре драмы.)
544 391. «Ревизор» — Н. Гоголь, худ. А. Рыков (первая режиссерская редакция).
392. «Зеленый попугай» — А. Шницлер.
(Постановки осуществлены в Театре-студии Акдрамы.)
1927 – 1928 годы
Ленинград
393. «Бронепоезд 14-69» — Вс. Иванов, худ. Н. Акимов.
394. «Рельсы гудят» — В. Киршон, худ. Н. Акимов.
(Постановки осуществлены в Академическом театре драмы.)
395. «Мятеж» — Д. Фурманов, сорежиссер И. Зонне (первая режиссерская редакция).
396. «Елена Толпина» — Д. Щеглов, худ. П. Снопков.
397. «Соломенная шляпка» — Э. Лабиш, худ. Н. Акимов.
(Постановки осуществлены в Театре-студии Акдрамы.)
398. «Двенадцатая ночь» — В. Шекспир, худ. Н. Акимов.
399. «Недоросль» — Д. Фонвизин.
(Постановки осуществлены в «Группе 13» при Акдраме.)
400. «10 лет Октября» — массовая инсценировка на Неве. Худ. В. Ходасевич, сорежиссеры С. Радлов, В. Соловьев.
401. «Тартюф» — Ж. Мольер.
402. «Женитьба Бальзаминова» — А. Островский.
403. «Братья Карамазовы» — Ф. Достоевский.
404. «Жилец 3-го этажа» — Джером К. Джером.
405. «Как важно быть серьезным» — О. Уайльд.
(Постановки осуществлены как выпускные экзамены студии при театре Акдрамы.)
406. Массовая инсценировка на площади Урицкого в день 1 августа.
1928 – 1929 годы
Ленинград
407. «Шахтер» — В. Билль-Белоцерковский, худ. В. Щуко.
408. «Делец» — В. Газенклевер — А. Толстой, худ. Н. Акимов, сорежиссер В. Соловьев, муз. Ю. Шапорина.
409. «Высоты» — Ю. Лебединский, худ. А. Рыков, сорежиссер Л. Вивьен.
410. «Огненный мост» — Б. Ромашов, худ. П. Соколов.
411. «Ревизор» — Н. Гоголь, худ. А. Рыков (вторая режиссерская редакция).
(Постановки осуществлены в Академическом театре драмы.)
545 412. «Мятеж» — Д. Фурманов, сорежиссер И. Зонне (вторая режиссерская редакция).
413. «Бурелом» — П. Маляревский, сорежиссер И. Зонне.
(Постановки осуществлены в Театре-студии при Акдраме.)
1929 – 1930 годы
Ленинград
414. «Тартюф» — Ж. Мольер, худ. Н. Акимов, сорежиссеры В. Соловьев и Н. Акимов, муз. Ю. Шапорина.
415. «Ярость» — Е. Яновский, худ. Н. Акимов, муз. Ю. Шапорина.
416. «Чудак» — А. Афиногенов, худ. К. Кустодиев.
417. «Сенсация» — Бен-Хект, худ. Н. Акимов, муз. Ю. Шапорина.
(Постановки осуществлены в Академическом театре драмы.)
418. «Условно убитый» — Е. Рысс и В. Воеводин, худ. Н. Акимов, Окороков, муз. Д. Шостаковича.
(Постановка осуществлена в Мюзик-холле.)
1930 – 1931 годы
Ленинград
419. «1905 год» — В. Подгорный и Ю. Соболев, худ. Н. Акимов, К. Кустодиев, муз. Ю. Шапорина.
420. «Робеспьер» — Ф. Раскольников, худ. Н. Акимов, сорежиссер В. Соловьев, муз. Ю. Шапорина.
421. «Страх» — А. Афиногенов, худ. Н. Акимов.
422 «Нашествие Наполеона» — В. Газенклевер, худ. В. Ходасевич, сорежиссер В. Соловьев, муз. Ю. Шапорина.
(Постановки осуществлены в Академическом театре драмы.)
423. «Прекрасная Елена» — либретто Эрдмана и Масс, худ. Н. Акимов, дирижер С. Самосуд.
(Постановка осуществлена в Малом оперном театре.)
424. «Чудак» — А. Афиногенов.
425. «Женитьба» — Н. Гоголь.
426. «Пьяный круг» — Д. Дэль.
(Постановки осуществлены в Техникуме сценических искусств.)
546 1931 – 1932 годы
Ленинград
427. «Свадьба Кречинского» — А. Сухово-Кобылин, худ. Н. Акимов.
428. «Карта Кудеяри» — Я. Горев и А. Штейн, худ. Н. Акимов.
429. «Горе от ума» — А. Грибоедов, худ. Н. Акимов, спектакль поставлен к столетию Академического театра драмы.
430. Юбилейный вечер к столетию Академического театра драмы.
(Постановки осуществлены в Академическом театре драмы.)
1932 – 1933 годы
Ленинград
431. «Мятеж» — Д. Фурманов, худ. А. Сегал, сорежиссер И. Зонне (третья режиссерская редакция).
(Постановка осуществлена в Академическом театре драмы.)
432. «Миллион терзаний» — В. Катаев, худ. Е. Якунина.
(Постановка осуществлена в Ленинградской оперетте.)
433. Программа открытия Дома искусств.
434. «Вишневый сад» — А. Чехов.
435. «Завтрак у предводителя» — И. Тургенев.
(Постановки осуществлены в Техникуме сценических искусств.)
1933 – 1934 годы
Харьков
436. «Ложь» — А. Афиногенов, худ. Н. Акимов.
437. «Ревизор» — Н. Гоголь, худ. А. Рыков (третья режиссерская редакция).
438. «Чужой ребенок» — В. Шкваркин, худ. М. Беспалов.
439. «Чудесный сплав» — В. Киршон, худ. М. Беспалов.
440. Программа Капустника.
(Постановки осуществлены в Театре русской драмы.)
547 1934 – 1935 годы
Харьков
441. «Ваграмова ночь» — Л. Первомайский, муз. И. Шац, худ. М. Беспалов.
442. «Вишневый сад» — А. Чехов, худ. А. Рыков.
(Постановки осуществлены в Театре русской драмы.)
1935 – 1936 годы
Харьков и Ленинград
443. «Начало жизни» — Л. Первомайский, худ. А. Рыков, муз. И. Шац.
444. «Далекое» — А. Афиногенов, худ. М. Беспалов.
(Постановки осуществлены в Харьковском театре русской драмы.)
445. «Продолжение следует» — А. Бруштейн, худ. Ю. Глоба (педагогическая работа Т. Суковой и В. Эренберга).
446. «Соломенная шляпка» — Э. Лабиш, худ. Н. Акимов (педагогическая работа Т. Суковой и В. Эренберга).
(Постановки осуществлены в Студии сценических искусств при Харьковском театре русской драмы.)
447. «Начало жизни» — Л. Первомайский, худ. А. Рыков.
(Постановка осуществлена в Ленинградском Красном театре.)
1936 – 1937 годы
Ленинград и Харьков
448. «Салют, Испания!» — А. Афиногенов, худ. Н. Акимов, муз. Д. Шостаковича, сорежиссер С. Радлов.
449. «Банкир» — А. Корнейчук, худ. В. Мосеев, Д. Зеленков.
(Постановки осуществлены в Академическом театре драмы им. Пушкина.)
450. «Гибель “Надежды”» — Г. Гейерманс, худ. М. Малинин.
451. «Женитьба Бальзаминова» — А. Островский, худ. М. Малинин.
452. «Проделки Скапена» — Ж. Мольер, худ. М. Малинин.
(Постановки осуществлены как педагогическая работа Л. Скопиной и М. Малинина в Студии сценических искусств при Харьковском театре русской драмы.)
548 453. Вечер воспоминаний о «Балаганчике» в Театральном клубе.
454. «Первое Мая» — Пантомима.
(Постановки осуществлены со студентами института им. Лесгафта.)
1937 – 1938 годы
Москва и Ленинград
455. «Правда» — А. Корнейчук, худ. Ф. Кондратов.
(Постановка осуществлена в Московском театре Революции.)
456. «Благочестивая Марта» — Тирсо де Молина, худ. Н. Акимов, муз. А. Животова.
(Постановка осуществлена в Большом драматическом театре им. М. Горького.)
457. «Сердце гор» — А. Баланчивадзе, либретто Н. Волкова, балетмейстер В. Чабукиани, худ. С. Вирсаладзе.
(Постановка осуществлена в театре оперы и балета им. Кирова.)
458. «Тайга в огне» — Е. Кузнецов и Б. Бродянский, худ. П. Снопков, сорежиссура — Д. Альперов и В. Лебедев.
(Пантомима осуществлена в Ленинградском госцирке.)
1938 – 1939 годы
Москва
459. «Генконсул» — Бр. Тур и Л. Шейнин, худ. Н. Меньшутин.
460. «Вторые пути» — А. Афиногенов, худ. М. Варпех.
(Постановки осуществлены в Центральном театре транспорта.)
461. «Тайга в огне» — Е. Кузнецов и Б. Бродянский, худ. В. Рындин.
(Пантомима осуществлена в Московском госцирке.)
Курск
462. «Тайга в огне» — Е. Кузнецов и Б. Бродянский, худ. П. Снопков.
(Пантомима осуществлена в г. Курске в Первом передвижном цирке.)
549 1939 – 1940 годы
Москва
463. «Комедия ошибок» — В. Шекспир, худ. Н. Акимов, муз. Ю. Шапорина.
(Постановка осуществлена в Центральном театре транспорта.)
1940 – 1941 годы
Москва
464. «Со всяким может случиться» — Б. Ромашов, худ. Д. Попов, муз. Ю. Шапорина.
465. «Машенька» — А. Афиногенов, худ. М. Малинин.
(Постановки осуществлены в Центральном театре транспорта.)
1941 – 1942 годы
Чита. Забайкальский военный округ
466. «Били, бьем и будем бить» — театрализованное представление.
467. «Ненависть» — театрализованное представление.
468. «Накануне» — А. Афиногенов, худ. М. Малинин.
(Постановки осуществлены в Центральном театре транспорта.)
1942 – 1943 годы
Чита. Забайкальский военный округ
469. «Похождение Швейка» — М. Слободской худ. Вельский, муз. И. Шац.
470. «Русские люди» — К. Симонов, худ. Аредаков.
(Постановки осуществлены в Центральном театре транспорта.)
1943 – 1944 годы
Москва
471. «Секрет красоты» — К. Финн, худ. М. Варпех.
472. «Женитьба Бальзаминова» — А. Островский, худ. М. Беспалов.
(Постановки осуществлены в Центральном театре транспорта.)
550 1944 – 1945 годы
Москва
473. «Знатная фамилия» — Б. Ромашов, худ. М. Беспалов, сорежиссер М. Кристи-Николаева.
474. «Памятные встречи» — А. Утевский, худ. М. Варпех.
(Постановки осуществлены в Центральном театре транспорта.)
Харьков
475. «Вишневый сад» — А. Чехов, худ. М. Беспалов.
(Постановка, новая редакция, осуществлена в Харьковском театре русской драмы.)
1945 – 1946 годы
Москва
476. «На океан» — В. Гольдфельд, худ. М. Варпех.
477. «Молодой человек» — Г. Мдивани и А. Киров, худ. М. Беспалов, сорежиссер Я. Кракопольский.
София
478. «Машенька» — А. Афиногенов, худ. А. Попов.
479. «Памятные встречи» — А. Утевский, худ. А. Попов.
(Постановки осуществлены в Софийском народном театре.)
480. «Молодой человек» — Г. Мдивани и А. Киров, худ. А. Попов, сорежиссер Н. Икономов.
(Постановка осуществлена в Софийском молодежном театре.)
1946 – 1947 годы
Москва
481. «Жизнь в цитадели» — А. Якобсон, худ. Н. Акимов.
482. «Рядом с вами» — Л. Первомайский, худ. М. Варпех.
(Постановки осуществлены в Центральном театре транспорта.)
483. «Двенадцатая ночь» — В. Шекспир, сорежиссер М. П. Кристи-Николаева.
(Постановка осуществлена в ГИТИСе с четвертым курсом режиссерского факультета.)
551 1947 – 1948 годы
Москва
484. «Хижина дяди Тома» — А. Бруштейн, худ. М. Варпех, муз. М. Бак, сорежиссер Я. Кракопольский.
(Постановка осуществлена в Центральном театре транспорта.)
485. «Великая сила» — Б. Ромашов, худ. И. Федотов.
(Постановка осуществлена в Малом театре.)
1948 – 1949 годы
Москва
486. «Мешок соблазнов» — М. Твен, худ. Е. Коваленко.
487. «Роковое наследство» — Л. Шейнин, худ. Е. Коваленко.
(Постановки осуществлены в Московском театре сатиры.)
1949 – 1950 годы
Москва
488. «Человек с именем» — Д. Угрюмов, худ. Н. Акимов.
(Постановка осуществлена в Московском театре сатиры.)
1950 – 1951 годы
Москва
489. «Пролитая чаша» — Ван Ши-фу, сценическая редакция А. Глобы, худ. С. Юткевич, сорежиссер В. Плучек, муз. К. Корчмарева.
(Постановка осуществлена в Московском театре сатиры.)
1951 – 1952 годы
Москва
490. «Потерянное письмо» — Караджале, худ. М. Тышлер сорежиссер В. Плучек.
(Постановка осуществлена в Московском театре сатиры.)
552 1952 – 1953 годы
Москва
491. «Мещане» М. Горький.
(Постановка осуществлена с пятым курсом Туркменской студии ГИТИСа.)
1953 – 1954 годы
Москва
492. «Баня» — В. Маяковский, худ. С. Юткевич, сорежиссеры В. Плучек и С. Юткевич, муз. В. Мурадели.
(Постановка осуществлена в Московском театре сатиры.)
1954 – 1955 годы
Ленинград
493. «Они знали Маяковского» — В. Катанян, худ. А. Тышлер, муз. Р. Щедрина.
(Постановка осуществлена в Ленинградском академическом театре драмы им. Пушкина.)
1955 – 1956 годы
Москва
494. «Они знали Маяковского» — В. Катанян, худ. А. Тышлер, муз. Р. Щедрина, сорежиссер М. Кристи-Николаева.
495. «Д-р» («Доктор философии») — Б. Нушич, худ. М. Мотин, сорежиссер М. Кристи-Николаева.
(Постановка осуществлена в самодеятельном коллективе Московского университета.)
1956 – 1957 годы
Москва
496. «Игрок» — Ф. Достоевский, худ. В. Козлинский.
(Постановка осуществлена в Драматическом театре им. Пушкина.)
553 497. «Радио — Октябрь» — В. Маяковский и О. Брик, сорежиссура — Б. Докутович и В. Демин.
(Постановка осуществлена с третьим курсом актерского факультета ГИТИСа.)
1957 – 1958 годы
Москва
498. «Как важно быть серьезным» — О. Уайльд, худ. В. Кривошеина.
499. «Ураган» — Цао-Юй, худ. Э. Стенберг, муз. Ду Минь-синь.
(Постановка осуществлена в Драматическом театре им. Пушкина.)
Берлин
500. «Баня» — В. Маяковский, худ. Роман Вайль, композитор Ганс Эйслер.
(Постановка осуществлена в Берлинском театре «Фольксбюне».)
ПОСТРАНИЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
1* А. В. Луначарский, Фауст и город, Госиздат, 1921, стр. 3 – 4.
2* Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи Речи. Беседы. Письма, «Искусство», 1952, стр. 102.
3* Название пьесы, над которой работал Макаренко.
4* А. С. Макаренко, Соч., т. 1, Изд-во АПН РСФСР, 1950, стр. 567.
5* С. Д. Балухатый, От «Трех сестер» к «Вишневому саду», Л., изд. Академии наук СССР, 1931, стр. 161. Письмо Чехова к Книппер от 29 марта 1904 г.