3 А. Гвоздев
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Театральный Октябрь — за этими двумя словами скрыта не только целая эпоха в развитии русского театра революционных лет, но и программа на ближайшее будущее нашего сценического искусства. Время боевых, но голых лозунгов миновало. Настала пора углубленной творческой работы, подведения итогов достигнутого и закрепления всех завоеванных революционным театром позиций. Отсюда — из критической проверки и учета уже созданного — должны быть выяснены пути, по которому надлежит идти в настоящий момент.
Осуществлению этих двух задач и должен способствовать настоящий сборник. Его назначение — дать критический анализ пройденного пути и подвести прочный фундамент под строительство нового театра, сложив его из всех камней, обтесанных за революционные годы.
Выполнить поставленные задачи можно только путем применения всех доступных современному театроведению методов. Прежде всего необходимо раскрыть широкие исторические горизонты, на фоне которых происходит становление нового русского театра. Надо заглянуть в историю, не только русского театра XIX – XX веков, но и в судьбы европейского театра в целом, ибо установленными им традициями определяется та система театра, на борьбу с которой, как с наследием капиталистического общества, были выдвинуты лозунги Театрального Октября. Мировое значение Октябрьской революции влечет за собой, как неизбежное следствие, расширение кругозора искусствоведения и выход его из национально ограниченных рамок. Отсюда вытекает требование: не замыкаться в историческом прошлом русского театра, а привлекать к критическому анализу настоящего весь опыт прошлого, накопленный развитием европейского театра.
Но наряду с критической проверкой исторически сложившихся традиций, как методом театрального мышления, должно быть использовано также и все то, что может дать 4 сравнительное театроведение. Осветить судьбы европейского и тем самым русского театра богатым сценическим опытом восточных стран, хранящих в своей неизведанной глубине огромные запасы театрального мастерства является прямым долгом русского театроведения. Только вооружившись всеми доступными званиями, можно нести ту огромную ответственность, которая возлагается на русский театр историческим моментом и значением Советской России в развитии европейской театральной культуры XX века.
Учитывая уроки истории и опираясь на сравнительное изучение театров Востока и Запада мы меньше всего отдаляем себя от настоящего. Ибо основной задачей настоящего является переоценка всех театральных ценностей на основе завоеваний Октября. А при таковой переоценке нельзя довольствоваться изучением игры Щепкина или Мочалова и замыкаться в узком кругозоре индивидуалистического театра XIX века. Ибо современный театр берет на себя отражение и художественное оформление сложнейших вопросов, связанных с классовой борьбой и далеко выходит из границ мировоззрения мещанства, купечества и интеллигенции дореволюционной России. «Театральный Октябрь» несет с собой расширение социально-политической активности театра и укрепляет связь сценического искусства со всеми заданиями советской общественности.
Основным фактом, вызвавшим переоценку театральных ценностей за последние годы является наличие нового зрителя. Идя ему навстречу, новый театр ломал прежние сценические устои и вырабатывал новые изобразительные средства. Он учитывал запросы нового зрителя интуитивно, явственно ощущая его недовольство старым театром, выработавшим свою систему в условиях полной оторванности от широких народных масс. Эта установка на нового зрителя начинает выходить теперь из рамок непосредственного угадывания и стремится обосновать свои наблюдения на точном учете и научно проработанном методе изучения зрителя. Предпринятые в этом направлении попытки, с разных сторон подходившие к разрешению данной проблемы, настоятельно требуют своего углубления и дальнейшего обоснования. Изыскивая в историческом прошлом театра приемы наиболее мощного воздействия на зрителя, современный театр проверяет их действенность путем учета восприятия зрительного зала и тем самым кладет основу научной организации труда в театре. Отсюда открывается возможность построения научной теории театра, иначе говоря, возможность заполнения крупнейшего пробела в европейском театроведении, образовавшегося в связи с нахождением театра под опекой придворного общества, а также в связи с положением театра, как коммерческого предприятия, выпускающего свое производство на свободный рынок. Ввести НОТ в театральную жизнь Советской России является 5 заданием первостепенной важности, при осуществлении которого открывается возможность полного преодоления того кризиса, который так мучительно переживается театром переходной Эпохи.
Появление после Октября нового зрителя в театре вызвало коренную ломку старой системы театра и замену ее новыми звеньями, развитие и скрепление коих должно привести к построению нового театра Советской России. Отсюда вытекает необходимость внимательного анализа тех глубоких процессов, которые вели и ведут к видоизменению сценического оформления спектакля, к перестройке актерской техники и к выработке новой драматургии.
Пройдя через кузницу «Театрального Октября», сценическая коробка старого театра испытала существенные видоизменения. Вместо живописней декорации, рассчитанной на вызов в душе зрителя созерцательных настроений и любования, появился станок, который дал возможность развернуться динамике сценического действия. Неподвижный в начале, он вскоре был приведен в движение и принял участие в действии, то в форме лифтов, то в форме подвижных щитов, то в форме подвижных тротуаров. Освобожденная от статичных декораций сцена ожила. Окруженная новым световым монтажом, прорезанная лучами прожектора, она оказалась вовлеченной в игру и утратила свое значение декоративной рамки. Тем самым режиссер обрел новый сценический аппарат, неизмеримо более гибкий и более приспособленный дать отклик на содержание революционных лет, чем сцена оперно-балетного театра, выросшая из быта придворной аристократии эпохи возрождения.
Меняя сценическое оформление, устанавливая станок вместо декорации, новый театр сменил и приемы актерской игры. Усиление динамики сцены шло параллельно с раскрытием динамики актерской игры. Обновилась вся система движения на сцене. Слово обрело новые опорные пункты в игре с предметами и в актерском жесте, увядшем в салонно-литературном театре XIX столетия. Пересмотру и переустройству подверглись все прежние штампованные навыки актера и наряду с возрождением пантомимы шло обогащение спектакля новыми приемами массовой групповой игры, сменившей индивидуализм актера старого театра. Звуковой монтаж присоединился к световому монтажу и в сочетании со светом и звуком актерская игра вошла в состав сложного организма спектакля, снова обретшего свою самостоятельную действенность и ставшего в руках режиссера мощным орудием организации общественности.
Отсюда неизбежно вытекает необходимость пересмотра основ современной драмы. На очереди стоит создание сценической драматургии, которая опиралась бы в своей идеологии 6 на классовое сознание пролетариата и в то же время являлась бы составной частью нового театра. Подготовку современного драматурга берет на себя самодеятельный театр рабочих масс чрез кружковую работу оформляющий новый быт в созвучии с заданиями советской общественности. Здесь впервые ставятся новые темы, освещаемые с четкой и ясно очерченной точки зрения. Сырые куски нового быта подвергаются здесь первичной обработке, ценность которой заключается прежде всего в твердости и определенности идеологического подхода.
Профессиональному же театру, располагающему богатым аппаратом сценического мастерства, надлежит развивать эти первичные ростки и доводить их до наиболее мощных форм воздействия на массового зрителя. Простую «агитку» он должен развернуть в сложный организм художественного агитационного спектакля, бытовую сценку — набросок, закрепляющий одно из явлений текущей жизни — он превращает в стройную по композиции картину, а бегло очерченные сатирические маски клубной инсценировки — в многообразную и обобщающую комедию, раскрывающую значение того или иного образа во всей его глубине. Выходя за пределы личных и частных отношений, он обрисовывает противоречия, волнующие современность, во всей их обусловленности классовой борьбой, и тем самым пролагает путь к созданию новой трагедии.
Современный драматург не мыслится нами иначе, как вооруженный всем опытом, накопленным за революционные годы в инсценировках рабочих клубов. На основе этого опыта, учитывая новые возможности воздействия на зрителя, обретенные в исканиях нового театра, опираясь на обновленную сценическую технику и актерскую игру, а также и на все достижения современной режиссуры, новый драматург войдет, как составная часть, в новый театр и выявит в своем творчестве все задания общественной жизни, способствуя ее становлению и укреплению в условиях нашей современности. Вне связи с массами и вне связи с завоеваниями послеоктябрьского театра — драматургия обречена на бесплодное повторение старых тем и форм и тем самым на отторжение от строительства новой жизни Советской России.
Из сказанного следует, что намеченные пути театра и драмы были бы неопределенны, если бы «Театральный Октябрь» не устанавливал тесного общения с самодеятельным театром рабочих масс и не принимал бы активного участия в развитии клубной работы. Только эта тесная связь может вскрыть живой источник обновления современной театральной жизни. Отсюда же возникает и другая задача — следить за развитием рабочего театра за рубежом и наблюдать за его ростом в других странах, по мере возможности стремясь к наиболее полной информации.
7 Указанные нами задания, столь насущные для текущего момента, очерчивают круг вопросов, затрагиваемых в настоящем сборнике. Приурочение его выхода в свет к празднованию пятилетия театра имени Вс. Мейерхольда является по нашему глубокому убеждению, вполне естественным фактом, лишний раз отмечающим, сколь многим обязана современная театральная жизнь театру им. Вс. Мейерхольда, осуществившему в своей пятилетней работе наиболее ответственные задания и наметившему основные вехи «Театрального Октября».
2/IV – 26
Ленинград
9 С. Мокульский
ПЕРЕОЦЕНКА ТРАДИЦИИ
I
«Я обвиняю тех, кто, прикрываясь фетишизмом мнимых традиций, не знает способа охранить подлинные традиции Щепкина, Шумского, Садовских, Рыбакова, Ленского». — Так писал Вс. Э. Мейерхольд в одной из своих полемических статей, направленных против Академических театров1*. Всякий, кто следил за ходом борьбы между двумя лагерями современною русского театра, знает, какую остроту имел в этой борьбе вопрос об охране традиций. Академические театры неоднократно оправдывали свое существование в эпоху пролетарской диктатуры тем, что они охраняют приобретения прошлого, те подлинные ценности старой культуры, на фундаменте которых только и может быть построено новое пролетарское и социалистическое искусство. Среди этих приобретений прошлого первое место занимают театральные традиции старых эпох, охрана которых и возложена на Академические театры. Выполняют ли они эту ответственную задачу? Нет, — отвечает Вс. Мейерхольд, — актеатры «систематически и планомерно разрушают» традиции Щепкина, Каратыгина, Новерра, Гонзаго и других великих театральных мастеров, и взамен их насаждают театральную макулатуру второй половины XIX в., т. е. самого беспросветного и убогого из всех периодов истории русского театра. А если так, то эти театры не имеют права называться академическими.
В этом обвинении по адресу актеатров Мейерхольд открыто объявляет себя сторонником охраны и восстановления традиций старинного театра. Исходя из уст художника — революционера, до основания расколовшего твердыню старого театра, это заявление не может не остановить на себе нашего внимания. Оно возбуждает ряд вопросов, и первым из этих вопросов является: что такое эти театральные традиции, которые нужно не только охранять, но даже восстановлять?
10 Под традицией в искусстве мы понимаем совокупность ряда плодотворных, испытанных в своей действенности приемов, которые передаются от одного поколения художников к другому с целью облегчить им оформление их творческих замыслов и начинаний. Цепкость и устойчивость традиций объясняется ограниченностью выразительных средств любого искусства. Подобно тому, как для драматической литературы Polti установил 36 драматических положений (situations dramatiques), которые в различных комбинациях лежат в основе всех произведений мировой драматургии, так и для сценического искусства можно установить некоторое ограниченное число приемов, представляющих элементарные формулы театральной выразительности, которые повторяются в различных странах, у разных народов и в различные эпохи.
Закрепляя и фиксируя достижения отдельных мастеров, эти приемы переходят затем к их ученикам и последователям, и постепенно отлагаются в твердый канон, который становится затем обязательным для дальнейших поколений. Канонические приемы эти не только не стесняют свободу творчества, а наоборот облегчают протекание творческого акта, ибо позволяют сэкономить известное количество психической энергии, потребное для изобретения новых схем. Освобожденное же количество энергии направляется на оживление старых, традиционных схем, которые обогащаются новым эмоциональным содержанием и предстают в совершенно обновленном, зачастую неузнаваемом виде. Таким образом, в основе сохранения традиций лежит не консерватизм, не реакционное преклонение перед стариной, а чисто практическое стремление предотвратить излишнюю трату творческой энергии, — разумная экономия сил, которые используются для новотворчества на основе старых, проверенных схем.
Направление, учитывающее значение традиций для новотворчества и ставящее своей целью охрану наличных традиций и восстановление традиций утерянных, называется традиционализмом (термин, впервые примененный к театру Вл. Н. Соловьевым). Театральный традиционализм провозглашает театральное мастерство, освобожденное от всяких придатков литературщины, морализации, мистики, психологизма и эстетизма, неведомых подлинно театральным эпохам и водворяющихся в театре только в эпохи оскудения театральности. В такие эпохи, новаторы, призывая к борьбе с косностью, автоматизмом и беспринципностью господствующего театра, начертывают на своем боевом знамени лозунг традиционализма и начинают строить новый театр на фундаменте старых, исконно присущих театру и утерянных им традиций.
Такой порой решительного разрыва с театральными традициями и вызванного этим разрывом упадка театрального мастерства 11 явился конец XIX и начало XX века. Упадочная буржуазия, захватив в свои руки все театральное производство, установила в театре первенство литератора-драматурга и объявила основной задачей театра исполнение натуралистических пьес, фотографически точно воспроизводящих быт и нравы буржуазного общества. На сцене воцарилась жизненность, т. е. невнятное, бледное и антитеатральное копирование буржуазного быта. Актер — мастер, мим, гистрион, перестает существовать; его место занимает «сценический деятель», актер-интеллигент с университетским образованием и без малейшей тени актерского мастерства. Самое слово театральность становится в это время бранным («театральщина»). Такое оскопление прекраснейшего из всех искусств производится под прикрытием психологизма и литературности; уделом театра становится воспроизведение моментов антитеатральных, лежащих вне сферы сценических средств. Театральные новаторы этого времени (мейнингенцы, Антуан, ранний МХАТ) идут на самый резкий разрыв с театральными традициями, какой можно себе представить. Они подвергают преследованию и осмеянию самое существо актерского искусства, которое они называют грубым и низменным «ремеслом». Возникает учение о пресловутом «переживании», согласно которому актер должен «стремиться ощущать чувства роли каждый раз и при каждом творчестве», при чем внешние средства выражения придут сами собой. Потому проблема актерского мастерства снимается с очереди; внешняя техника заменяется «внутренней» техникой, заключающейся в умении вызывать и закреплять в себе переживания образа. Эта злополучная теория, будучи доведена до логического конца, означает торжество натурализма и гибель театра, как такового. Бешеная борьба с театральностью приводит к разрыву с динамичной драматургией, к сосредоточению внимания на психологической драме и психологическом романе, инсценировка которых объявляется основной задачей современного театра. Директор МХАТ’а Немирович-Данченко инсценирует романы Достоевского («Братья Карамазовы», «Бесы», «Село Степанчиково»), повести Л. Андреева («Мысль»). Одержимый манией инсценировок, он утверждает, что может инсценировать любое эпическое произведение, до Библии и Илиады включительно.
Таков был театр буржуазных новаторов, искавших способа обновить театральное искусство путем насаждения методов антитеатральных и антитрадиционных. Не лучше обстояло дело и в старых (у нас — казенных, «императорских») театрах. Эти театры видели когда-то в своих стенах Щепкина, Каратыгина, Самойлова, Сосницкого, Садовских, Шумского, Ленского, Стрепетову, Сазонова и столько других мастеров, сохранявших традиции подлинно театральных эпох, знавших секрет исполнения и высокой трагедии, и старинной мелодрамы, и французского 12 водевиля. Но этот секрет они унесли с собой в могилу. Традиции их мастерства были утеряны; на место традиции вступил поверхностный «театральный опыт», рутина, заключавшаяся в механическом воспроизведении отдельных приемов, вырванных из общей связи, на основании театральных сплетен: племянница Сосницкого сообщила дяде такого-то актера, что Сосницкий в известном месте роли принимал такую-то позу и делал такой-то жест, — «бабья традиция», по остроумному выражению В. Э. Мейерхольда. Таким образом мастерство великих актеров предшествующей эпохи застыло в штампах, которые, по определению К. С. Станиславского, суть «готовые формы выражения чувств и сценических интерпретаций для всех ролей и направлений в искусстве», «раз и навсегда зафиксированные маски чувства», которые, «скоро изнашиваются на сцене»2*.
Пользование этими штампами обусловлено возрастающим автоматизмом актерской игры и тесно связано с оскудением драматической литературы, с господством на сцене казенных театров всяких Невежиных, Тимковских, Вл. Александровых, Крыловых, Сумбатовых, Гнедичей, Карповых, Потапенко и других эпигонов Островского. Лишенные всякого театрального чувства, всякого драматургического мастерства, они беспомощно перепевали бытовые темы Островского, сгущая их и порождая «жанризм, противоречащий всякому понятию об искусстве»3*. Эти жалкие поставщики театральной макулатуры не мало повинны в упадке актерского мастерства: они сами штамповали и вынуждали штамповать актеров. Об этом хорошо писал Мейерхольд (в цитированной статье о «Грозе»): «Актер, заучивающий ряд текстов, где на один подлинный приходится девять подделок, невольно тупит свой язык, теряя слух на восприятие тонких поворотов речи и вкус к особенностям в расстановке слов. Актер мало помалу отучается от мастерства передавать устами своими ритмически-тонкую музыку подлинных мастеров слова». То же относится и к другим выразительным средствам актера: мимике, жесте, позе, походке, ко всему внешнему рисунку роли. Лишенные стимула мастеров драматургии, актеры легко развинчивались, механизировали свою игру, становились адептами «легкого» искусства. Правда, оставалось небольшое число актеров, которых даже беспрестанная возня с драматической макулатурой не смогла угасить подлинного мастерства, но ряды их редели с каждым годом. На смену же им приходили совершенно беспринципные деятели сцены. Искусство театра перестало существовать. Театр превратился в торговое предприятие невысокого разбора, заправилы которого 13 изощрялись в способах сбывать доверчивым посетителям всякий недоброкачественный товар. Против этого театра лавочки и выступил МХАТ. Но, отдавая честь всем его культурным достижениям, приходится отметить неудачу его реформы в области чисто театральной. Ибо непосредственным результатом ее явились толки о кризисе театра, во время которых была подвергнута сомнению самая законность существования театрального искусства (Айхенвальд). Вот в какой тупик завела театр буржуазная культура конца XIX и начала XX века.
Так обстояло дело не только в России, но и на Западе. При всем различии социально-экономической структуры Германии, Англии и России, во всех трех странах театральный кризис выразился в сходных явлениях, и сходные причины породили сходные следствия. Почти одновременно зазвучал протест против лжетеатра упадочной буржуазии, раздался призыв к ниспровержению существующего театра и к созданию новой театральной культуры на основе многовековых театральных традиций. Театральные новаторы Макс Рейнгардт, Георг Фукс, Гордон Крэг, Всеволод Мейерхольд, Николай Евреинов по разному провозгласили один и тот же принцип «ретеатрализации театра» путем возвращения его к истокам живой театральности. После длительного периода театрального варварства снова заговорили об актерском мастерстве, об отыскании твердых законов сценического искусства; появились термины «форма», «стиль», «манера», «условность», «стилизация»; спектакль стал сложной проблемой, которую нужно «разрешать», и для разрешения ее потребовалось тесное сотрудничество режиссера с художником — живописцем, который после долгого перерыва снова появился в театре. В России такой, переворот впервые имел место в возглавляемом В. Э. Мейерхольдом Театре-Студии при МХАТ’е (1905). Хотя вскоре Мейерхольд разошелся со Станиславским, и «Театр-Студия» так и не открыл своих дверей для публики, но деятельность его имела большое значение в истории нового русского театра4*. Принципы, взлелеянные здесь Мейерхольдом, легли в основу его работы в Театре В. Ф. Комиссаржевской (1906 – 1907), в котором впервые перед русской публикой дефилировала целая плеяда передовых театральных художников (Н. Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин, Б. И. Анисфельд, В. И. Денисов, Н. Д. Миллиоти, В. Я. Суреньянц), в сотрудничестве с которыми Мейерхольд поставил с невиданной дотоле остротой ряд формальных проблем и здесь же, почти ощупью, подошел к той проблеме возрождения традиционных приемов, которая затем определила направление его 14 театральных исканий. В дальнейшем важную роль для осознания традиционализма, как основополагающего метода обновления театра, сыграл Старинный театр, основанный в Петербурге Н. В. Дризеном и Н. Н. Евреиновым в 1907 г. Здесь был сделан первый опыт реконструкции старинных спектаклей плодотворных в театральном отношении эпох (средневековый и староиспанский театр), и опыт этот, несмотря на его поверхностный, дилетантский характер, обусловивший ряд серьезных промахов5*, имел важное принципиальное значение, ибо обратил внимание театральных новаторов на приемы традиционных театров и побудил их именно там искать материалов для сооружения здания нового театра. В тесной зависимости от этого опыта находятся постановки Вс. Мейерхольдом: 1) пантомим «Шарф Коломбины» по Шницлеру («Дом Интермедий», 1910 – 11), «Арлекин, ходатай свадеб» Вл. Соловьева (Эстрада Дворянского Собрания, 8 – XI – 1911, и Териоки, лето 1912) и «Влюбленные» доктора Дапертутто (квартира Н. П. Карабчевского, 1911 – 12 и Териоки, лето 1912), инсценированных в традиционных приемах commedia dell’arte; 2) «Поклонения Кресту» Кальдерона (Башенный театр в квартире Вяч. Иванова, 19 – IV – 1910, и Териоки, 1912), инсценированного в стиле старо-испанского театра, без декораций, в условном оформлении и с акцентом на актерское мастерство, и, наконец, 3) «Дон-Жуана» Мольера в Александринском театре (9 – XI – 1910), который был поставлен в традиционном стиле народного фарса, разыгранного на подмостках придворного версальского театра. В этой постановке нашла свое полное выражение идея Мейерхольда о народном балагане, как источнике подлинной театральности. Теперь дело театрального обновления обрело твердую почву. В ряде блестящих постановок на сцене б. императорских театров Мейерхольд бережно восстанавливает театральные традиции («Тристан и Изольда», «Шут Тантрис», «Орфей», «Каменный гость», «Стойкий принц», «Гроза», «Смерть Тарелкина», «Маскарад»). В то же время работа в казенных театрах укрепляет его в мысли, что обновление театра немыслимо без создания новой актерской техники, базирующейся на изучении традиционных театров Запада и Востока, и в результате он основывает в 1913 г. свою Студию, главной задачей которой являлась работа на основе сценической техники commedia dell’arte. При студии выходил журнал «Любовь к трем апельсинам», посвященный пропаганде нового театра и театрального традиционализма. Студия В. Э. Мейерхольда сыграла колоссальную роль в истории 15 современного театра. Она была экспериментальной лабораторией театральных исканий и рассадником новой театральной культуры. В этот «студийный» период деятельности Мейерхольда (1913 – 17) полностью наметились пути, по которым Мейерхольд пошел после революции. Это обстоятельство нужно подчеркнуть тем решительнее, что на него упорно закрывают глаза мнимые сторонники «петербургского» Мейерхольда, брезгливо отворачивающиеся от его нынешних работ над созданием пролетарского театра. Но только слепые могли не заметить следующих фраз, написанных Мейерхольдом в 1915 г. во время полемики с Любовью Гуревич: «Интеллигентская художественная культура» — не единственная культура. И «общепризнанный театр» и «народные зрелища» одинаково могут быть «“культурными” и не быть ими». И далее: «Раненые солдаты, явившиеся 17 ноября 1911 г. на представление этюдов и пантомим, подготовлявшихся к 1 вечеру студии, создали своим отношением к игре комедиантов именно тот зрительный зал, для которого и будет новый театр, подлинно народный театр»6*. Вот что говорил и писал Мейерхольд того периода, который принято считать «эстетским». Революцию театральную он не отделял от революции политических и социальных форм. В этом его коренное отличие от других театральных новаторов, запутавшихся в бесплодном формализме (напр., А. Я. Таирова, Ф. Ф. Комиссаржевского и Макса Рейнгардта). Когда пришла революция, Мейерхольд не отступил назад, а смело вступил в ее боевые ряды со всем накопленным им громадным театральным опытом, который он бросил на горн пролетарской революции. И начал стройку пролетарского театра, опираясь на те неизменные законы, которые открылись ему в процессе многолетнего изучения традиций подлинно театральных эпох.
II
Теперь нам надлежит выяснить, какую роль играет театральный традиционализм в нынешних исканиях и достижениях Мейерхольда. Чтобы ответить на этот вопрос, предварительно уясним себе, — какие именно традиции Мейерхольд возрождал в течение всей своей деятельности. Ответ на этот вопрос уже подсказан предыдущим изложением: традиции народного театра, которые ставил себе у всех народов сходные задачи и осуществлял эти задачи сходным образом.
16 Термин «народный» театр настолько скомпрометирован, что нуждается в некотором разъяснении. Понятие «народ» чрезвычайно широко и расплывчато, ибо включает в себя все многообразие классов, сословий и иных социальных группировок, у которых нет и не может быть общих интересов. Между тем всякое искусство всегда имеет ярко выраженный классовой характер, который заметен, как в том отпечатке, который налагает на художника его происхождение, воспитание и положение в обществе, так и в том составе потребителей, который направляет художественное производство по желательному для него руслу. В театральном искусстве это воздействие потребителя на производителя проявляется сильнее, чем в других искусствах, ибо здесь потребитель получает не готовое произведение художника, а присутствует при самом созидании его, наблюдает художника в момент его творческого акта, и своим отношением к его работе создает атмосферу, в большей или меньшей степени благоприятствующую успешности ее выполнения. Театр всегда зависит от публики, от ее социальных симпатий и антипатий, от ее классовой идеологии и морали, проводником которых он неизбежно является. И вот, употребляя термин «народный» театр, я вовсе не хочу вносить неясность в социологически четкую структуру театра. Этим термином я обозначаю не интеллигентскую утопию всенародного театра, обслуживающего одновременно зрителей всех классов, не глубоко буржуазную теорию простонародного театра, популяризирующего в массах основы буржуазной идеологии и морали. Нет, я имею в виду театр массовой, театр общественных низов, которые во все времена противопоставляли свое самобытное творчество искусству господствующих классов. Эта порабощенная масса, свободная от стеснительных оков официальной культуры и цивилизации, удовлетворяла свой инстинкт театральности созданием ряда форм и приемов, которые обнаруживают подчас прямо-таки разительные совпадения между различными народами, не всегда объяснимые путем теории заимствования. Возьмем ли мы балаганный театр греческих мимов или древнеримскую народную комедию масок (ателлану), средневековых гистрионов-жонглеров или русских скоморохов, итальянских комедиантов XVI в., создателей commedia dell’arte или бродячих актеров Англии и Испании, создателей глубоко национальных театральных систем; возьмем ли мы, наконец, народный театр древней Японии или Китая — всюду мы найдем такие черты сходства, которые, при всем учете национальных различий, позволяют наметить некий единый стиль народного театра. Отличительные особенности этого театра: независимость от литературы и тяготение к импровизации; преобладание движения и жеста над словом; отсутствие психологической мотивации действия; сочный и резкий комизм; легкий переход от возвышенного, героического к низменному и уродливо-комическому, 17 непринужденное соединение пылкой риторики с преувеличенной буффонадой; стремление к обобщению, синтезированию изображаемых персонажей путем резкого выделения той или иной черты образа, приводящее к созданию условных театральных фигур — масок; наконец, отсутствие дифференциации актерских функций, смычка актера с акробатом, жонглером, клоуном, фокусником, шарлатаном, песельником, скоморохом и обусловленная этим универсальная актерская техника, построенная на исключительном умении владеть своим челом, на врожденной ритмичности, на целесообразности и экономии движений. В своей совокупности все эти особенности дают чистый театр актерского мастерства, независимый от других искусств, которые привлекаются только на чисто служебную роль. Народный театр свободен от эстетических претензий театра аристократического и буржуазного; он не стремится создать радующее глаз, неподвижное в своей эстетической пышности зрелище, и потому не нуждается в художнике-живописце. Убранство сценической площадки и убранство актера ограничиваются здесь самым необходимым для действия. В своей первичной форме народно-театральное действо совершенно не нуждается и специально оборудованном помещении, а разыгрывается где попало: на повозке, на площади, в ярмарочном балагане, в сарае или гумне, на дворе гостиницы на мгновенно импровизируемых подмостках (несколько бочек или скамей, покрытых досками). Впоследствии, оседая в постоянном здании, бродячие комедианты менее всего интересуются его убранством. Их занимает только вопрос о приспособлении сценической площадки для выполнения их актерских заданий. Так возникает формула староанглийского или староиспанского театра, с широко выдвинутым просцениумом, окруженным со всех сторон зрителями, с расчлененной в горизонтальном и вертикальном направлении сценической площадкой, при полном отсутствии всяких декоративных элементов; или формула старояпонского театра, с его знаменитым «мостом» (ханамити — тропа даров), по которому актеры, приходящие на сцене извне, проходят над головами зрителей через весь зрительный зал, так что каждый их выход и уход превращаются в целое событие. Такую же чисто служебную роль играет в народном театре и реквизит; он является тем прибором, с помощью которого актер показывает свое уменье играть вещами; отсюда его ограниченность самыми необходимыми предметами, совокупность которых ясно характеризует сюжет и действие пьесы7*. Наконец, такое же чисто сценическое (не декоративное) значение имеет и костюм; он должен давать ясное, четкое, убедительное представление об 18 изображаемом персонаже, и в то же время должен облегчать актеру выполнение его сценических задании; потому в нем не должно быть ничего лишнего, стесняющего движения актера, ничего мешающего ему проявить свою ловкость, гибкость, проворство.
Исконно присущая народному театру театральность не только не прикрывается бессмысленным стремлением давать в театре точное подобие жизни (ср. слова Крэга; «реализм — это вульгарный способ изображения, присущий слепым»), а наоборот всеми способами принуждает зрителя смотреть на спектакль как на игру актеров. С этой целью к спектакль вводятся излюбленные в театральной традиции романских народностей части: парад, во время которого разыгрывалась схема последующего спектакля и демонстрировались лучшие актеры труппы; пролог, заключавший в себе приветствия и комплименты зрителям и выхваливавший достоинства исполнителей, и заключительный уход актеров со сценической площадки с неизменной просьбой о снисхождении (plausum date). Все эти части подчеркивали чисто театральный, игровой характер спектакля. С той же целью применялся также следующий прием: актер, только что разыгравший сцену смерти, немедленно вскакивал с веселой улыбкой и раскланивался с публикой, как бы прося аплодисментов за свою искусную игру8*. Такое же значение имели все разнообразные формы сношения с публикой во время спектакля: a parte с подмигиванием в сторону играющих товарищей, сообщение зрителям своих намерений и секретов, комические нравоучения по их адресу, вопросы, восклицания и т. п., прямо обращенные к публике. (Все это стало немыслимо в интеллигентском натуралистическом театре, который в погоне за жизненностью спектакля отметил даже выход актеров на аплодисменты, эту так сказать каноническую форму общения актеров с публикой). Той же цели подчеркивания чисто театрального характера спектакля служила маска, нарочито «неестественное» и в то же время театральное обличие актера, помогающее зрителю мчаться в сторону вымысла. Наконец, и гротеск, своеобразный метод сценического истолкования, объединяющий в себе противоположности (трагическое и комические, отвратительное и смешное, быт и условность) и как бы «играющий собственной своеобразностью», обусловлен той же задачей заставить зрителей смотреть на спектакль, как на актера игру9*.
19 Таковы отличительные особенности народного театра, как Западных, так и восточных стран. Заметим, однако, что почт нигде мы не застаем народного театра в его первоначальном, чистом виде. В любой стране мы наблюдаем следующее явление: стоило народному театру подняться на высокую ступень развития, как тотчас же его достижения воспринимались привилегированными классами, которые привлекали народных комедиантов к свои театры и использовали их в своих целях; в результате последние теряли свою независимость и становились развлекателями аристократии или буржуазии. Так было всюду. Балаганное действо греческих мимов влилось в литературную древнеаттическую комедию (Аристофан); ателлана стала излюбленной забавой римской «золотой молодежи», а актер Плавт, исполнявший в ателлане роли клоуна Макка, стал создателем римской литературной комедии; средневековые жонглеры частью превратились в придворных шутов, частью слились с буржуа-любителями и приняли участие в мистериальных постановках: итальянские комики dell’arte попали в придворно-аристократические театры итальянские и иностранные, где они быстро остепенились, подтянулись и стали изображать образованных людей, входя и состав модных поэтических «академий»: созданный же ими жанр комедии масок был воспринят аристократией для ее любительских спектаклей (первое из известных представлений commedia dell arte — любительский спектакль при баварском дворе под руководством профессионала Massimo Trojano в 1568 г.); сходные испытания пережили также английские, испанские и французские бродячие актеры XVI в., при чем последние ассимилировались быстрее, первые же (англичане и испанцы) медленнее. Однако даже попадая и социально чуждую ему обстановку, народный театр сохраняет большую часть своих отличительных особенностей, которые легко вскрываются под той официальной оболочкой, в которую заключали его привилегированные классы. Характерным примером этого может служить театр Мольера, в котором придворный лоск и чопорный версальский этикет не смогли заглушить традиций народного фарса, законным наследником которого являлся великий французский актер-драматург. Кроме того, если учесть то обстоятельство, что народный театр являлся повсюду носителем подлинного профессионального мастерства и имел строгие и точные законы актерской игры, в противоположность любительскому театру привилегированных классов, пребывавшее почти всегда в плену у других искусств (поэзии, музыки, живописи), — то причина устойчивости народно-театральных традиций станет совершенно понятной. Собственно говоря, только народный театр и является подлинно традиционным театром, и всякий режиссер, ищущий источника обновления своего театра и театральных традициях, неизбежно должен придти к изучению приемов, методов и стиля народного театра.
20 Вот почему театральные новаторы искали новых путей для театра в восстановлении народно-театральных традиций. Уже Гордон Крэг заявил, что «в канатном плясуне может оказаться больше театрального искусства, чем в нынешнем актере, читающем роль на память и зависящем от суфлера». Ту же точку зрения исповедывал и Мейерхольд. Но устремив свои интерес в область народно-театральных традиций романских народов, он воспринимал их в течение первого периода своей деятельности в окружении той социальной среды, которая впитала и претворила в себе эти традиции. Потому, ставя, напр., мольеровского «Дон-Жуана», он не довольствуется восстановлением живых традиции народного театра, вскормивших талант Мольера, но пытается дать также стилизованное отображение тон придворной среды, для которой была создана знаменитая комедия. Точно также, осуществляя испанский спектакль, он дает его в восприятии тех фанатиков католицизма, из которых состояла привилегированная часть испанской театральной публики XVII в. Такая реконструктивная стилизация, при всей ее громадной лабораторной ценности, была совершенно бесплодна в общественном смысле. Она могла доставлять эстетическое наслаждение изысканным любителям и знатокам старинного театра, но широкой массе зрителей она была не интересна и не нужна. И сам Мейерхольд еще до революции почувствовал это. В стороне от официального театра, в тиши своей студии, он учил в 1914 году «О процессе изучения старинных театров надо сказать: это своего рода accuinuler des trésors не с тем, чтобы добытыми ценностями, как они есть, щеголять, а с тем, чтобы (научившись их держать, беречь) ими украшаться, стремиться “одаренным” выйти на сцену и по театральному уметь зажить на сцене… Повторение уже раз бывшего когда-то — не то, чего ищем мы (простое повторение — задача “Старинного театра”). Различие в работе реконструкции и в задачах свободного строительства новой сцены на почве изучения и выбора традиционного»10*. Таким образом, уже здесь наметилось то отношение к театральным традициям, которое характерно для нынешнего периода деятельности Мейерхольда, в той же программе он писал: «Актера нового театра необходимо составить целый кодекс технических приемов, каковые он может добыть при изучении принципов игры подлинно театральных эпох. Есть целый ряд аксиом, обязательных для всякого актера, в каком бы театре он ни творил». Вот такая чисто практическая точка зрения на театральные традиции проникает всю революционную деятельность Мейерхольда.
21 Первое впечатление от этой деятельности — небывало резкий разрыв со всем предшествующим. Как часто повторяли о Мейерхольде банальные слова, будто после революции он «сжег все, чему поклонялся»! На самом же деле фундамент остался в неприкосновенности. Этот фундамент — все те же народно-театральные традиции, которые берутся теперь не в их историко-бытовом преломлений (придворный Мольер, католический Кальдерон), а в их исконной сущности. От самоцельной стилизации старинного театра, проникнутой любованьем изысканным актерским мастерством, Мейерхольд переходит к чисто служебному использованию традиций народного театра, которые являются теперь средством к созданию театра, «созвучного современности», т. е. проникнутого ритмом нашей революционной эпохи, отражающего ее запросы и устремления. И хотя в традиционном театре есть «ряд аксиом, обязательных для всякого актера, в каком бы театре он ни творил», но самый факт народного происхождения этих «аксиом» делает их особенно важными и неотъемлемыми для стройки нового народного (т. е. пролетарского) театра. В результате, путем творческого использования приемов традиционных театров, Мейерхольд создает новый тип спектакля: агитационного, пропагандистского, спектакля-митинга («Земля дыбом», «Д. Е.»), спектакля социальной сатиры («Лес», «Бубус») и даже памфлета («Мандат»). Он создает театр до конца революционный, современный и подлинно новый, хотя и базирующий на самых старых традициях, о каких только можно мечтать.
III
Что же берет Мейерхольд от традиционных театров? Прежде всего он возрождает синтетический тип режиссера и актера, утерянный буржуазным театром XIX в. в силу присущей ему дифференциации.
Режиссер в его лице перестает быть механическим исполнителем воли литератора-драматурга. Он становится творцом, организатором спектакля в целом, включая сюда и драматургический материал, который подвергается переработке, долженствующей вскрыть творческий замысел, вкладываемый им в спектакль. Такой переработке Мейерхольд подвергает не только современные пьесы («Ночь» Мартинэ «Земля дыбом», «Д. Е.», «Бубус», «Мандат»), но и образцы классической драматургии («Смерть Тарелкина», «Лес»), из которых Мейерхольд делает совершенно новые пьесы на старые сюжеты и со старыми персонажами. В этих переделках замечательна их драматургическая целесообразность, повышающая ценность пьесы для современного театра. Так драматург Н. Эрдман, автор «Мандата», не только согласился со всеми изменениями, внесенными в его 22 пьесу Мейерхольдом, но считает ее сценическую традицию канонической и печатает «Мандат» в том виде, в каком он идет у Мейерхольда. Не подлежит никакому сомнению, что и Островский, если бы жил сейчас, не мог бы ничего возразить против мейерхольдовской редакции «Леса», заставившей зазвучать по новому текст, памфлетная острота которого уже перестала ощущаться, в силу привычки. Таким образом, в своем собственном лице Мейерхольд возродил тот тип режиссера-драматурга11*, который был свойствен всем подлинно театральным эпохам (вспомним Эсхила, Софокла, Плавта, Ганса Закса. Лопе де-Руэду, Шекспира, Мольера, Гольдони, Лессинга, Гете и мн. др.).
Далее Мейерхольд восстанавливает синтетический тип актера-мастера, в совершенстве владеющего своей биологической «машиной» во всех ее многообразных функциях. Буржуазный актер XIX в. был прежде всего «говорящим существом», которое Мейерхольд остроумно сравнивает с граммофоном, играющим ежедневно различные пластинки: сегодня с текстом Пушкина, завтра — Сургучева. «Меняя лишь парик и костюмы, актер говорит, говорит, говорит, только говорит, то один текст, то другой»12*. И вот в своем театре Мейерхольд возрождает старую традицию, согласно которой «слова в театре лишь узоры на канве движений»13*. Мейерхольдовские актеры не только говорят; они поют, пляшут, в совершенстве владеют языком жестов, обладают тщательно тренированным телом и проделывают акробатические номера. Где, в каком другом театре можно найти актрису с таким богатейшим запасом выразительных средств, как Бабанова — одновременно, драматическая артистка, певица, танцовщица, пантомимистка и акробатка? Какая актриса может дать такую физиологически убедительную фигуру Аксюши в «Лесе», как Зинаида Райх? Где в наших академических театрах такие пантомимисты, как Зайчиков («Рогоносец»), или Мартинсон («Мандат»)? Такие танцовщики, как Парнах («Д. Е.»)? Такие клоуны-эксцентрики, как Ильинский14*? Какой драматический актер, набивший руку на исполнении «пиджачных» пьес, 23 сумеет дать настоящую трансформацию в роде той, что дает молодой актер Гарин в I эпизоде «Д. Е.», исполняя 7 ролей в течение 10 минут? Когда-то, полемизируя с А. Бенуа, Мейерхольд высказал пожелание, чтобы в нашем театре возродился актер-Cabotin, «владелец чудодейственной актерской техники, носитель традиций подлинного искусства актера»15*. Ныне пожелание это осуществилось: такого универсального мастера мы находим и «Театре имени Мейерхольда».
Возродив в своем театре традицию подлинного актерского мастерства, Мейерхольд не ограничивается этим, и в тех же народно-театральных традициях находит импульс, для обновления приемов оформления спектакля. Прежде всего он наносит смертельный удар старой сцене-коробке, уставленной расписанными холстами, отделенной от зрительного зала огненной линией рампы и замыкаемой занавесом. Эта сцена, возникшая в эпоху позднего Ренессанса (XVI в.) и приспособленная для инсценировки придворных оперно-балетных спектаклей, имевших целью давать аристократической публике «празднество для глаз», была затем воспринята буржуазией, водворившей на ней драму, и сохранилась с ничтожными видоизменениями до наших дней. Между тем наша эпоха, отвергая неподвижное созерцание и эстетическое любование в театре, требует от спектакля действенности, динамичности, которая немыслима на нарочито статичной ренессансной сцене. Мейерхольд первый понял это и сделал отсюда все надлежащие выводы, опираясь на опыт народных театральных систем Англии и Испании, поглощенных в XVII в. победоносной итальянской системой придворного театра. Он ломает рампу и софиты, выбрасывает размалеванные тряпки декорации и воздвигает трехмерные установки, имеющие единственной целью выявить динамику актерского действия, способствовать раскрытию сценического смысла исполняемой пьесы. Тем самым Мейерхольд возрождает в театре конструктивизм, который вовсе не является самоновейшим измышлением режиссера-новатора, а находится в преемственной связи с целым рядом народно-театральных систем (античный, староанглийский и староиспанский театр). Идею конструктивного оформления спектакля подсказало Мейерхольду изучение шекспировского театра с его расчлененной в горизонтальном и вертикальном направлении площадкой, и хронологически первая у Мейерхольда конструкция — станок «Великодушного рогоносца» — представляет собою ничто иное, как закономерное развитие форм шекспировской сцены (просцениум, балкон, заднее углубление). Но и эта трехмерная установка показалась недостаточно динамичной для современности, и вот в «Земле дыбом» вводится другой прием традиционных театров — пользование 24 подвижными площадками (здесь — движущаяся трибуна), которые мы встречаем и в античном театре (эккиклема), и к средневековых мистериальных постановках (английские pageants), и в карнавальных празднествах итальянского Ренессанса (колесницы с размещенными на них аллегорическими персонажами). Впервые намеченный в «Земле дыбом», этот прием далее эволюционирует и порождает сначала движущиеся стены в «Д. Е.», а затем и движущиеся тротуары «Мандата», которые окончательно разрушают неподвижность ренессансной сцены-коробки.
Попутно Мейерхольд использует для оформления приемы старояпонского театра. Отсюда взят столь поразивший всех в «Лесе» мост, который, как уже говорилось выше, является основным конструктивным элементом японской сцены, подчеркивающим всю значительность актерского выхода на сцену и ухода с нее — моментов, совершенно пропадающих на сцене-коробке. Все, видевшие «Лес», никогда не забудут его гениального финала — медленного ухода Аксюши с Петром по мосту под звуки гармоники: ничего подобного не видел доселе не только русский, но и европейский театр. Это хороший пример использования Мейерхольдом плодотворной традиции одной из древнейших театральных культур. К японскому театру восходит и прием оформления «Бубуса», с той только разницей, что на этот раз заимствовано не вещественное оформление, а его целевая установка. Сценическая площадка окаймляется в «Бубусе» рядом индийских бамбуков, подвешенных на медных кольцах: при каждом выходе актера эти бамбуковые палки издают характерный стук, как бы предупреждающий зрителя о предстоящем театральном событии; таким способом подчеркиваются все важнейшие моменты драмы, что напоминает трещотку, используемую и японском театре для той же цели.
Вместе с писанными декорациями Мейерхольд уничтожает и бутафорию, т. е. подделку вещей на сцене, и заменяет ее реквизитом, т. е. настоящими вещами16*. Так в «Земле дыбом» у него выезжают настоящие мотоциклы; в «Лесе» фигурируют настоящие гигантские шаги, настоящая беседка и голубятник, настоящая домашняя утварь, посуда, простыни и т. д. Все эти вещи Играют такую важную роль в пьесе, (гни так неразрывно связаны с действием и диалогом, что режиссер не нашел возможным заменить их бутафорскими суррогатами. Имеем ли мы здесь симптомы возрождения натурализма (хотя бы — обновленного), 25 как думает А. Л. Слонимский? Нет, потому что натурализм имеет задачей самоцельное воспроизведение (вернее — подделку) бытовых мелочен, долженствующих дать ощущение обстановки, среды, тогда как здесь «настоящие» вещи водятся лишь как наиболее целесообразные и удобные приборы для игры актеров. Это чисто театральный прием, восходящий к традиции японского театра, который придает особое значение подлинности и красоте реквизита, считая унижением для актера заставить его возиться со всяким бутафорским хламом17*. В то же время, согласно принципу народного театра, количество реквизита ограничено у Мейерхольда самыми необходимыми вещами. Иногда отсутствуют даже необходимейшие предметы (напр., лестница в эпизоде «Ужин лордов» и «Д. Е.»), которые восполняются тогда виртуозной игрой актеров, дающей ощущение отсутствующей вещи. В этом — резкое отличие от натуралистического театра, который любит загромождать сцену вещами, вовсе не участвующими в действии (ср. океан вещей и мхатовских постановках чеховских пьес).
Судьба декораций постигла и костюмы: они были упразднены и заменены единообразной прозодеждой («Рогоносец»), получившей в «Смерти Тарелкина» некоторую отделку, приблизившую ее к т. наз. «театральной униформе» (реминисценция «Студий В. Э. Мейерхольда»). Упразднение костюма имело временный характер. Это была сознательный полемический прием, связанный с периодом систематической ломки всех устоев старого театра. Этим приемом Мейерхольд хотел показать, что чистая театральность не нуждается в поддержке изобразительных искусств, и что настоящий актер сумеет захватить зрителя без всяких вспомогательных средств, силою своего голого, неприкрашенного мастерства. (По той же причине были сначала упразднен грим и парики). Впоследствии Мейерхольд восстановил в «Лесе» костюм, грим и парики, но придал им совсем иной смысл, чем тот, который они имеют в реалистическом театре. Костюм и грим характеризуют у него сценический облик персонажа; они получают условно-символическое значение, напоминающее их функцию в commedia dell’arte или в средневековом фарсе. Некоторые персонажи «Леса» представляют собою подлинно новые маски народной комедии с характерными для последних подчеркнутыми деталями (елейный «поп», в золотом парике, с золотыми усами и бородой; безмозглый, нахальный и угодливый «молокосос», в зеленом парике с пробором посредине, и в белых брючках; жестокая и сластолюбивая самодурка-«помещица», в рыжем парике, в костюме наездницы с хлыстом в руке и т. д.). Здесь можно наметить ряд точек соприкосновения с народной комедией разных стран, в частности — с русским 26 балаганом (вспомним народною пословицу: «рыжий красный-человек опасный»). В позднейших постановках традиционная острота костюма и грима несколько сгладилась, и они приблизились к бытовым формам.
Изучение приемов традиционных театров привело Мейерхольда также к особому виду музыкального оформления спектакля, к «комедии на музыке» («Бубусу»), которая связана как с «музыкальным чтением» (паракаталогэ) античной трагедии, так и со своеобразным речитативом китайского театра, развертывающимся на фоне оглушительных звуков туземного оркестра, состоящего преимущественно из духовых и ударных инструментов. Как там, так и здесь, музыка имеет не дивертисментный характер, она является не нейтральным по отношению к действию фоном, но организует словесный материал и сочетается с ним в особую сложную партитуру, в которой соблюдается только одно обязательное условие: совпадение музыкальной и сценической фразы. В остальном же актер движется и ведет диалог совершенно свободно, подобно исполнителям старинной мелодрамы, которая тоже осталась не без влияния на композицию «Бубуса»18*.
Из традиционных приемов музыкального оформления, использованных в последних постановках Мейерхольда, отметим еще введение в действие популярных мотивов романсов и песен, которые используются, то в целях буффонады или пародии (фальшивое пение Гурмыжской и Улиты в «Лесе», Тильхен в «Бубусе»), то в целях повышения эмоциональности действия и диалога (гармоника в «Лесе»). В последнем случае имеем совершенно неожиданный по своей эмоциональной значительности эффект: затасканный старинный вальс «Две собачки»19* переключается и музыкальное произведение большого стиля, а в заключительной сцене «Леса» способствуют созданию грандиозного художественного символа. Этот прием восходит к парижским ярмарочным театрам XVIII в., где актеры умели извлекать из популярных песенок и арий совершенно неожиданные эффекты. В том же «Лесе» встречается еще один излюбленный народной комедией прием: бурлескная музыка на невиданных инструментах (гребенки и т. п.). Этот прием, восходящий к скоморохам и бродячим комедиантам (им неоднократно пользовалась commedia dell’arte), в настоящее время бытует в цирке, где он является одним из распространенных клоунских номеров. К Мейерхольды он попал, по-видимому, отсюда, вместе с многочисленными курбетами, пощечинами, акробатическими выходками, которыми изобилуют все ранние постановки до «Леса» включительно.
27 Вслед за цирком использован был и мюзик-холл с его шумовым оркестром (джаз-банд) и эксцентрическими танцами («Д. Е.», «Бубус»). Пристрастие Мейерхольда к цирку, Ueberbrettl’ю и мюзик-холлу объясняется чисто теоретическими основаниями. Тамошние актеры обладают как раз теми качествами, которые Мейерхольд стремится насаждать в драматическом театре: максимальной точностью в выполнении своих заданий, виртуозной «чистотой» техники, абсолютной ритмичностью и ловкостью, уменьем дать максимальное количество ощущений в минимальный промежуток времени. Все эти качества — условия подлинного мастерства, и их-то не доставало драматическим актерам XIX века, воспитанным на теории «представлений» и «переживаний». Призывая учиться мастерству у акробатов, клоунов, фокусников, танцовщиц и куплетистов, Мейерхольд создает новую систему актерской игры, т. наз. био-механику, сближающую драматический театр с цирком и мюзик-холлом и возрождающую традиции актерского мастерства подлинно театральных эпох.
Перечислить хотя бы главнейшие из традиционных приемов в мизансценах и актерском исполнении невозможно в данной статье, ибо пришлось бы дать подробное описание всех постановок Мейерхольда. Отметим только основную особенность их: все они построены по принципу совместного существования различных театральных приемов, впервые намеченному уже в 1914 г. в постановке «Незнакомки» Блока в зале Тенишевского училища20*. Именно это сочетание разнородных элементов, подчиненных оригинальному режиссерскому замыслу, и производит на зрителей впечатление чего-то нового и невиданного. Вот почему вокруг каждой постановки Мейерхольда происходит такой шум. Наибольших размеров он достиг после постановки «Леса». Чего тут только не понаговорили и не понаписывали! Мейерхольд терпеливо выслушивал все эти толки, но наконец не выдержал и сказал на диспуте в Академии Художественных Наук: «Как делался “Лес” в моем театре? Очень просто. Я применил к нет лучшие приемы всех театральных эпох. Эти приемы нужно изучать, и пока мы еще в пределах старого театра, эти приемы не заменимы. Я только выбираю лучший крючок для подцепки зрителя. Новый зритель — это просто народный зритель. Отсюда и особое площадное, народное построение спектакля»21*. Эти золотые слова не худо бы зарубить на стенке многим нашим кустарным критикам. «Лучшие приемы всех театральных эпох», которые «нужно изучать»… Но ведь об этом не устает твердить и наша молодая наука о театре, 28 которая имеет в лице Мейерхольда своего союзника. Мы никогда не поймем деятельность Мейерхольда, если не проследим, как театральное мастерство отдаленного прошлого преломляется в его творческом сознании.
Уже при самом поверхностном наблюдении открываются любопытнейшие факты в этой области. Так, напр., традиционные слуги просцениума, восходящие к театральным прислужникам (куромбо) японского театра, впервые выведенные Мейерхольдом в постановке «Дон-Жуана» (9/XI – 1910), и затем взасос использованные n + 1 режиссерами в n + 1 постановках, предстают теперь в новом обличий «лиц без речей» (итальянских интермедий XVIII в., дополняющих и усиливающих сценическую выразительность персонажей, при которых они состоят (турка и портной в «Лесе», слуга Твайфта в «Д. Е.»). А вот к «Смерти Тарелкина» — разнообразнейшие вариации традиционного приема a parte, долженствующего напомнить зрителю, что перед ним творится только «игра», в том числе любопытнейшее «переключение» в конце пьесы, когда истомленный жаждой, связанный по рукам и по ногам Тарелкин, только что цеплявшийся за поданную ему кружку с водой, вдруг приподнимается, как ни в чем не бывало, вытаскивает из бокового кармана бутылку с вином и пьет из нее, весело подмигивая публике.
Наконец, традиционен и прием, который Мейерхольд называет — несколько неточно — предыгрой и который заключается в том, чтобы сложной пантомимой подготовить зрителя к восприятию словесной реплики. «Предыгра так подготовляет зрителя к восприятию сценического изложения, что зритель все подробности такового получает со сцены в таком проработанном виде, что ему для усвоения смысла, вложенного в сцену, не приходится тратить никаких усилий»22*. Здесь актер показывает как бы сердцевину сценического положения, проникает так сказать в корни реплики, и подтверждает мысль, что «слова в театре лишь узоры на канве движений». Такое вскрытие реплики и пантомимическое развертывание ее может иметь чисто агитационную функцию, показывая зрителю все то, что скрыто за внешне безобидной фразой. Этот прием агитационного углубления и осмысления текста с помощью предыгры великолепно осуществлен в «Бубусе», а также к «Мандате», где он порождает аналогичный по целевой установке и сценическому смыслу прием пантомимической концовки23*. Предыгра имеет весьма древнюю генеалогию: она уходит корнями своими все в тоже прекрасное мастерство японских и китайских актеров, которые в совершенстве постигли механизм театра и умеют подготовлять 29 зрителя к восприятию сценических положений. Часто японский, актер в течение четверти часа ведет пантомимическою сцену, представляющую всего лишь подготовку к минутной реплике, но именно в этой «подготовке» и заключается весь театральный интерес его исполнения. Секрет предыгры был известен также и старым русским актерам-традиционалистам. Характерным примером может явиться, напр. мимическая игра А. П. Ленского в роли Бенедикта («Много шуму из пустяков») после подслушанного им разговора, открывшего ему глаза на любовь Беатриче24*, или знаменитое развертывание В. Н. Давыдовым ремарки «помолчав» в последнем монологе Подколесина25*. Но у Мейерхольда прием этот получает совсем иную целевую установку; он используется в целях сатиры и агитации.
Отрывочные замечания и наблюдении, объединенные в настоящей статье, ни в коем случае не притязают на полное разрешение такого громадного и важного вопроса, как вопрос о традиционализме В. Э. Мейерхольда. Этот вопрос может и должен явиться темой большого научного исследования, В котором все постановки Мейерхольда будут разложены на их составные элементы, где будет составлен подробный перечень всех его театральных приемов и будет дана их генеалогия. Такое исследование явится ценным вкладом в историю театральных традиций, которая не только не написана, но даже еще не намечена. Мне же хотелось только обратить внимание деятелей театра на эту важную проблему, имеющую не только научное, но и актуальное художественное значение. Ибо изучая творчество величайшего режиссера наших дней, мы впервые начинаем понимать, что такое охрана и восстановление подлинных традиций старинных театров. Такое изучение является наилучшим способом разоблачить претензии театров, вместо охраны традиций, занимающихся их систематическим разрешением.
18/ X – 1925
Ленинград
31 И. А. Аксенов
Пространственный конструктивизм на сцене
К осени 1921 года теория пространственного конструктивизма была двинута настолько вперед, что художники, ее разрабатывавшие, сочли полезным ознакомить публику с достигнутыми предпосылками нового художественного течения, практическое развитие которого представлялось не вполне ясным самим его основателям. С этою целью была организована выставка.
Она была названа 5 x 5 = 25, какое название проистекало теоретически от сознания данными художниками непререкаемости и самоочевидности, обнародуемых ими тезисов, а практически оправдывалось тем, что художников-конструктивистов набиралось по тому времени всего пять человек, из которых каждый давал на выставку по пяти вешен.
Выставка эта получила приют от Всероссийского Союза Поэтов, существовала в его тогдашнем клубе (Тверская, 18) в течение двух месяцев и была пересмотрена всеми, кто тогда интересовался пластическим оформлением.
Были на выставке и доклады-диспуты. Экспоненты торжественно отрекались от всякой, даже беспредметной изобразительности и просили присутствующих смотреть на выставленное, только как на необходимый в данное время суррогат подлинных вещей, которые будут созданы конструктивистами при первой к тому возможности, а цель которых будет антиэстетична и исключительно утилитарна.
Среди посетителей этой выставки, неоднократно оказывался В. Э. Мейерхольд. Конструктивистов он знавал и тогда еще, когда они носили имена других школ. С некоторыми из них он и раньше работал. Проекты практических построении будущего, покрывавшие стены Союза Поэтов, показались ему вполне осуществимыми и пределах спектакля, назначение которого было бы отнюдь не эстетическим, а утилитарным, шло бы в разрез с выработанной эстетической традицией и позволяло бы реализовать давнюю мечту о внетеатральном спектакле, вынесенном из коробочной пристройки зрительного зала куда угодно: на площадь, в литейный цех металлургического завода, на палубу 32 линейного корабля. Внешние обстоятельства благоприятствовали размышлениям этого рода с особенною настойчивостью. Театр у В. Э. Мейерхольда был тогда только что отобран в пользу Масткомдрам Бассалыги-Смолина и вопрос о внетеатральном спектакле стал бы и сам собой, не будь он даже заявлен Мейерхольдом за много ранее до того.
В результате выросшего в такой обстановке обмена мнениями и мыслями, к работе в Высших Режиссерских Мастерских, на которых тогда вынуждена была целиком ограничиться работа В. Э. Мейерхольда, был приглашен один из участников выставки 5 x 5 — Л. С. Попова. Ей было поручено разработать программу курса вещественного оформления спектакля, она же явилась представителем цикла пространственных дисциплин на всех освещавших вопросы нового спектакля совещаниях, протекавших в ходе работ Мастерских.
Конструктивизму, таким образом, была дана возможность проявить себя в практической работе почти немедленно после своего появления, удача, редко выпадающая на долю художественной школы, исчисляющей свое существование неделями.
Режиссерские мастерские быстро развились в мастерские театральные, а студенты этих мастерских от теории, в ходе практического ее приложения, продвинулись к спектаклю настолько, что к первых числах 1922 года речь зашла прямо уже о представлении, и начата была читка предположенной к постановке пьесы. Вопрос о вещественном оформлении ставился сам собой в очередь дня, но ответом конструктивизм несколько медлил.
Большинство самих конструктивистов не выяснило еще себе жизненного назначения отстаиваемого ими течения и не хотело дискредитировать его слишком поспешной реализацией. Таковы были и общем те объяснения, какие давала Л. С. Попова своему отказу работать над спектаклем «Великодушный Рогоносец». Так как она утверждала, что эти воззрения общи всем конструктивистам, одно лицо, принимавшее близкое участие в работах мастерских, обратилось от своего имени к некоторым конструктивистам из числа наиболее стойких противников театра (порознь и по секрету от остальных) с предложением сделать эскизы соответственной постановки «не на самом деле, а на всякий случай»: ни один из отрицателей возможности театральной работы конструктивиста против предложения не устоял. Времена это уже прошлые и я считаю возможным предложить Л. М. Родченко, Стенбергам и Медунецкому исправить меня в случае неточности.
Таким образом над вопросами практического конструктивизма в январе 1922 года оказались размышляющими большинство тогдашних участников пластической группы этого течения. Спектакль 25 апреля явился итогом первого полугодия явного существования этой группы (в области вещественного оформления, разумеется).
33 В оформлении «Великодушного Рогоносца», каноническим для всех последующих работ этого направления оказался принцип отказа от услуг колосников и прочих подвесов: спектакль, как и почему — мы видели, предполагался внепортальным. Необходимость опирать все части установки на пол повела к ряду последствий, очень удобных для основных положений конструктивизма — теории.
Принцип построения из комбинаций стандартного элемента постройки имел давний прецедент в театральной технике комбинации различных «станков», обычно маскируемых расписным холстом. Конструктивизм, упраздняя «украшение сцены», открыл станок и стал строить установку из разнообразных и соответственно измененных в размере элементов этого станка. Два высотных элемента установки «Рогоносца» — узкий и широкий — дали неизменно с тех пор воспроизводимую комбинацию «конструктивной» установки.
Эти элементы позволили провести принципы —
1) линейной конструкции в трех измерениях, 2) зрительного ритма, обусловленного не живописными и не объемными эффектами, 3) сохранения в установке только строительно-работающих частей.
К этому, в порядке проверки, прибавилась попытка введения реально-временного элемента, дающего зрительно-временной аккомпанемент спектаклю, в той же мере, в каком музыка до того давала аккомпанемент временно-слуховой. Различная окраска вращающихся в ходе развития спектакля колес преследовала не декоративные, а делительные цели: она позволяла лучше замечать разнообразие вращательных движений кинетического фона.
Будучи образована только работающими частями сооружения, установка, принципиально противополагавшая себя декорации, требовала и соответственной трактовки костюма. Костюм тоже должен был быть сценически-рабочим. Так возникла формула рабочей (производственной) одежды актера — пресловутой прозодежды. Основой этой одежды являлась рабочая синяя блуза и такие же брюки, дополняемые различными, соответственно амплуа и роли, агрегатами. Так основная синяя пара могла служить и для игры «персоны» бургместера, и для «персоны» графа или бочара.
В сущности спектакль предполагался строго программным и предпосылочным: в дальнейшем развитии внетеатральный спектакль должен был бы, по упразднении сцены, декорации, и костюма — привести к упразднению и актера, и пьесы. Театральный спектакль должен был уступить место свободной игре отдыхающих рабочих, проводящих часть своего досуга за представлением, импровизируемом, может быть у места только что прерванной работы, по сценарию тут же придуманному кем-нибудь из них.
34 Этим поддерживалось стремление опереть спектакль не на дореволюционную эстетическую формулировку красоты наибольшей плавности и изнеженности движения (все равно декоративной линии театральной живописи или движения лицедеев), соединенных с томным распевом декламации и прочими идеализациями безделия и праздного паразитизма, а установить его на подлежавшую еще тогда выявлению, скрытую эстетику трудового процесса, лежащую в основе рационального выполнения технически наиболее нагруженного усилия.
Выросший из таких положений спектакль был показан публике 25 апреля 1922 года все в том же театре на Садовой улице. Спектакль предлагался от имени Мастерской В. Э. Мейерхольда, а не Театра Актера, членом правления которого состоял В. Э. Мейерхольд, актеры мастерской — членами коллектива и каковой театр Актера являлся арендатором здания. Правление помянутого предприятия боялось «дискредитировать доходность» своего дела и отбить публику, с крайней неохотой посещавшую представления «Двух сироток», «Казни на Гревской площади», «Сполошного зыка», «Раба наживы» и даже «Красную мантию», откуда помянутое правление авторитетно заключало о большой приверженности аудитории к культивированным театром принципам академического реализма. Мастерская не защищалась: спектакль под фирмой Театра Актера ей привлекательным не был.
Три первых спектакля «Великодушного Рогоносца» дали сборы, превысившие валовой итог всего сезона Театра Актера. Спор был решен. Театр Актера вскоре и совсем прекратил свое существование.
Художники конструктивисты подвергли первый спектакль, прошедший с участием своего сочлена, долгой и подробной критике. Во всяком случае факт оставался фактом: театр дал конструктивизму первую возможность проявить себя в больших формах и с блеском выйти на люди. Естественно, что всякие колебания о возможности театральной работы конструктивиста отпали, возникло, напротив, соревновательное стремление получить постановку. Эта следующая постановка — «Смерть Тарелкина», намеченная к началу следующего сезона, была поручена весной 1922 года — В. Ф. Степановой. Одновременно же Л. С. Поповой были переданы текст и общие принципы постановки «Ночи» Мартинэ, второй пьесы, рисовавшейся, как наиболее острая по борьбе, театральной зимы.
Работа В. Ф. Степановой продолжала и развивала некоторые положения конструктивизма «Великодушного Рогоносца», выявленные уже из наблюдений живого спектакля.
В ходе представления, вся большая и довольно сложная установка Л. С. Поповой, была использована в отдельных своих частях и отдельными своими частями, как предмет актерской игры. С этой установкой оказалось возможным играть, как с веером или шляпой. Однако одновременно использовать всю 35 установку, как предмет игры, было возможным только в редкие моменты массовых сцен или высокой кульминации действия, большей же частью играли отдельными частями установки: скамейкой, дверью, окном, лестницей, скатом, той или иной стойкой или подкосом станка. Разбирая уже эти последние детали установки, как предметы игры, конструктивисты нашли, что игра эта была возможна и успешна, поскольку каждая из этих частей помогала выполнению определенного сценического трюкового жеста: подъема, падения, быстрого исчезания и пр. Каждая такая возможность являлась стандартной возможностью игры, почему и приспособление для нее являлось возможным стандартом установки. Однако, конструктивизм основывал свое построение на едином стандартном элементе, а здесь получалось много стандартов разной формы. Отсюда, во славу последовательности конструктивного мышления, было необходимо сделать вывод о неправомерности объединении одной установкой элементов, несущих задачу обслуживания различных и даже противоположных моментов актерской игры и сценических функции.
Общая установка подлежала расчленению на ряд индивидуальных деталей. Детали эти располагались по месту игры и были объединены не физически, а стилистически — они были одного цвета и построены из деревянных решеток одинакового устройства. Они должны были обслуживать эффекты падения, исчезания, вращения, подбрасывания и пр. Факт расчлененности деталей и придание им форм обыденных предметов: стола, стула, табурета, разбивал окончательно последние признаки сценической декорации и упразднял последние воспоминания о театре. Представление такого рода должно было происходить в какой угодно, кроме театральной, обстановке, и не терпело подмостков.
На тех же принципах строилось проектирование костюма. Прозодежда актера была объявлена понятием не конструктивным, поскольку самая профессия актера признавалась не производственной, а эстетической. Костюм должен, сохраняя принцип стандартизации частей, соответствовать определенным сценическим функциям данной роли, наилучшим образом обслуживая мимическую сторону игры. Таким образом индивидуализовалась единая прозодежда. Чувствуя здесь некоторый отход от принципа подчеркнутого коллективизма, В. Ф. Степанова ввела корректив: расположение пятен новой сценической одежды было рассчитано так, чтобы при группировках все фигуры сливались бы в одну недифференцируемую глазом массу.
Одновременно с разложением понятия единой установки и единой прозодежды широко развилось использование мелких предметов игры, при чем необходимо было решить вопрос об их неметафоричности.
36 Возникавшая таким образом опасность измельчения спектакля должна была быть отведена монументальным стилем игры актеров и планировки мизансцен, что еще затруднялось указанными выше оптическими свойствами сценической одежды.
Этот трудный спектакль принял на себя максимум сопротивления со стороны зрителя и наиболее ожесточенные споры критики. Дать его в условиях постановки вне сценических подмостков удалось только однажды — следующим летом (1923 года, в Харькове). Театральное представление «Смерти Тарелкина», до того воспринималось, естественно, не в полной мере возможностей, содержавшихся в спектакле.
Опыт этой постановки послужил отправным пунктом для дальнейшей критической разработки вопроса о конструктивизме в театре. Развитие это пошло по линии вопроса о ликвидации бутафоричности.
Оказалось, что самый реальный предмет, имеющий определенные бытовые функции, вынесенный на сцену и использованный только как средство актерского жеста становился тем самым предметом бутафорским. Л. С. Попова, получила поэтому полное одобрение в своем проекте вовсе отказаться от специально сценических предметов, заменив таковые реальными вещами, использованными на сцене согласно своему жизненному назначению. Вместе с тем отказ от мелких предметов становился на очередь. Отсюда вытекал ряд новых посылок, направлявших мысли художника к общему пересмотру создавшегося в теории конструктивизма и театре положения.
Наличие в спектакле большого количества специализованных театрально предметов полагало и наличие специального обучения пользованию этими предметами, а это уводило от первоначальной предпосылки общедоступности участия в действии. Со специально сценическим предметом мог обращаться как следует только проф-актер: он и становился хозяином спектакля. Сам спектакль вместо свободной игры-отдыха трудящихся неминуемо должен был бы вернуться к подновленному сценическому представлению, но тогда терял смысл весь план вынесения спектакля из театральной коробки. План постановки пьесы Мартине, переработанный к тому времени С. М. Третьяковым в «Землю дыбом» имел своей целью выровнять эту линию и опирался на привлечение к действию больших масс.
Вместо цирково-театрального принципа жонглирования разнообразными предметами был выдвинут тезис привлечения подлинных орудий, использованных искусными специалистами. Иллюстративная механика «Великодушного Рогоносца» была заменена введением самого настоящего мотоциклета, автомобиля и полевого телефона. Подлинный процесс управления этими снарядами, проводимый в обстановке подчеркивающей искусство 37 соответственного оператора, должен был по мысли плана постановки дать больший и полезнейший эффект, чем «чистое искусство» жонглирования. Зрительно-временный аккомпанемент вылился в форму световой проекции печатного комментария. Комментарий этот предполагался в смысле предметном же. Для проекции были выбраны хорошо всем известные лозунговые формулы, привычные настолько, что уже потеряли словесное членение и мыслились исключительно в виде монолитной фразы; привычные настолько, что уже стали предметами общественного обихода.
Наличие проекции повело к использованию экрана в качестве занавеса, расчленяющего представление на эпизоды и части.
Вопрос об одежде был решен в сторону отказа от специально-актерского облачения. Принцип подлинности коснулся и этой стороны вещественного оформления — действующие лица должны были быть одеты в те костюмы, какие они носили бы в жизни, если бы представление было действительностью. Группировки масс предполагались на основе профессиональных навыков тех общественных групп, которые представлялись сценическим ансамблем.
Единственный крупный предмет постановки являлся моделью козлового крана. Он по необходимости являлся упрощенной моделью, так как подлинный железный кран во-первых не поместился бы на сцене, а во-вторых, уместясь продавил бы подмостки. При реализации этой модели оказалось необходимым укрепить свес крана оттяжкой на колосники, так как деревянный свес не выдерживал тяжести экрана (общеизвестный факт, что деревянная конструкция тяжелей металлической постройки той же прочности). Это было уже крупным отступлением от принципа недопустимости подвески, но оно было вызвано материальной необходимостью, практически не вредило модальности установки, которая сама являлась условностью и при вынесении спектакля на воздух подлежала замене каким-либо местным предметом. Постановка эта, отправлявшаяся от необходимости давать спектакль, хотя и в переоборудованном, но все же театральном помещении допустила и другую подвеску — щит-плакат с обширной цитатой из речи т. Чичерина, излагавшую обще-восстановительную идеологию конструктивизма.
Таким образом, это пластическое течение силою необходимости принуждено было считаться с условиями среды, в которой протекала эта сторона его деятельности и путем борьбы с театром, происходившей в пределах театра же, претерпело ряд изменений, поведших к созданию нового рода театрального представления.
39 В. Н. Соловьев
О ТЕХНИКЕ НОВОГО АКТЕРА
Еще одна статья о новом актере… И перед читателем невольно вырастает изрядное количество книг, сборников и альманахов, посвященных новому театру и отражающих борьбу различных художественных направлений, когда в продолжение последних двадцати пяти лет каждое из театральных течении, сменяя другое, на своем знамени выкидывало все тот же боевой лозунг о новом актере. Теперь, когда время лозунгов миновало и когда небольшое практическое достижение в театре имеет более значительную ценность, чем пространная и многообещающая декларация — отчетливо ощущается необходимость сделать кое-какие возможные обобщения и подвести итоги.
«Театр имени Всеволода Мейерхольда», празднующий пятилетнюю годовщину, представляет собою тот узел, где скрещиваются между собою, как в оптическом фокусе, творческие устремления многих театральных течений. Его основатель и художественный руководитель Вс. Э. Мейерхольд, всегда стоявший на самых боевых и передовых участках театрального фронта, в самом себе, как в зеркале, отражает те изменения, которым подвергался русский театр за последние двадцать пять лет своего существования.
Будучи сам актером, он ясно сознавал необходимость согласования актерской техники с новыми требованиями, предъявляемыми к театру нарождающимися жанрами драматической литературы. Он понимал, что существующие школы актерской игры «эмоциональная» и так называемая «психоаналитическая», не в состоянии разрешить многих вопросов, выдвигаемых теоретиками и практикой театра. Ему самому приходилось намечать те задания, которые должен был преодолевать актер, желающий быть на уровне всех достижений современности. Всем, кому приходилось работать с Мейерхольдом, хорошо памятны мейерхольдовские «показы» актерам, где он блестяще иллюстрировал своей игрой те теоретические положения, которые предлагал для практического осуществления своим товарищам 40 по работе, в отличие от многих современных режиссеров, часто склонных в работе с актерами подменивать чисто театральные задания заимствованиями из соседних областей искусства (преимущественно живописи и музыки), Мейерхольд, оставаясь в пределах сценического искусства, всегда умел и умеет находить конкретные и реальные разрешения для сложнейших вопросов актерской техники. И не совсем уж так несправедливы утверждения некоторых из театральных; критиков, отмечавших в отдельных постановках Мейерхольда, что в них больше всего чувствуется сам Мейерхольд, играющий один за многих актеров многие роли в отчетном спектакле. Это означает, что некоторые из актеров не смогли «мейерхольдовские показы» преломить через свою артистическую индивидуальность и ограничились лишь формальным выполнением всего того, что им было предложено к творческому выполнению режиссером во время репетиций.
Ключ к работе Мейерхольда с актерами, как нам кажется, заключен в одной из его первых и ранних статей «К истории и технике театра», где он рассматривает и описывает два метода работы режиссера в театре, графически изображая их в виде треугольника и прямой горизонтальной линии. Для нашей цели имеет значение лишь то, что относится к первому методу режиссерской работы:
«Треугольник, где верхняя точка — режиссер, две нижних точки автор и актер. Зритель воспринимает творчество двух последних через творчество режиссера (в графическом рисунке начертить “зритель” над верхней точкой треугольника). Это один театр (“театр — треугольник”)…
В “театре — треугольнике” режиссер, раскрыв весь свой план во всех подробностях, указав образы, какими он их видит, наметив все паузы, репетирует до тех пор, пока весь его замысел не будет точно воспроизведен во всех деталях, до тех пор, пока он не услышит и не увидит пьесу такой, какой он слышал и видел ее, когда работал над нею один.
Такой “театр — треугольник” уподобляет себя симфоническому оркестру, где режиссер является дирижером».
Сравнение деятельности режиссера с деятельностью дирижера, ставит перед Мейерхольдом вопрос об инструментовке спектакля, о том, что во время театрального представления каждый из исполнителей в общем ансамбле, играет такую же роль, которая принадлежит любому из инструментов оркестра, разделяющихся на группы: струнных, деревянных, медных и ударных. Не имея еще собственного театра и работая с актерами, пришедшими из различных театров и с различной актерской техникой, Мейерхольд в 1908 г. все-таки условием для совместной с ними работы ставит определенный минимум: ему нужны «актеры… выдающиеся виртуозы, а какой они школы — безразлично».
41 Виртуозность неразрывно связана с наличием технического совершенства. Требуя от актеров технического совершенства. Мейерхольд тем самым разрывал с печальной традицией русского сценического искусства, утверждавшей как раз обратное: в актере, прежде всего, ценен его талант и только один талант. В это время оспаривалось и даже не считалось целесообразным пребывание в театральной школе, будто бы мешающее ученику проявить в достаточной мере свою артистическую индивидуальность.
Понятие о техническом совершенстве могло было быть подсказано Мейерхольду его пребыванием в стенах Московского Художественного театра, где борьба с театральными штампами и трафаретами, велась только с помощью принудительного насаждения принципа переживания и поэтому не приносила достаточно ощутимых результатов.
Разрыв с натуралистической тенденцией Московского Художественного театра является толчком для обоснования Мейерхольдом идеи условного театра. Здесь он был вынужден поставить вопрос, как о новом методе сценического истолкования — стилизации, так и о технике нового актера. Еще во времена «театра имени В. Ф. Комиссаржевской» Мейерхольд считает необходимым для актера заняться усиленной тренировкой своего тела и придает исключительное значение для работ в театре физическому спорту. Замена «логических» (словесных; ударений другими, предоставившая возможность режиссеру и актерам «выявлять внутренний диалог с помощью музыки пластического движения» — выдвинула на первый план общую музыкальность актера и его уменье согласовать его движение с тон манерой художника, в стиле которого ставилась пьеса. Очень любопытны также некоторые замечания Мейерхольда, относящиеся к «дикционной» области техники актера и необходимой, по его мнению, для выявления сущности метерлинковских пьес: «холодная чеканка слов, совершенно освобожденная от вибрирования (tremolo)», «звук должен иметь опору, а слова должны падать, как капли в глубокий колодезь»; «внешний покой при вулканическом переживании», отсутствие «скороговорки» и «трагизм с улыбкой на лице».
Постановка в наши дни пьес Метерлинка кажется анахронизмом. Действительность, нас окружающая, вряд ли сможет примирить современного зрителя с передачей трагического состояния с помощью улыбки, и сама стилизация, приучив актера к четкости и рисунку, уже давно умерла, как самостоятельный метод сценического истолкования. Тем не менее эти наблюдения Мейерхольда над техникой актера, необходимые для постановки метерлинковских пьес, еще не утратили своей теоретической ценности и до сих пор представляют собою первую попытку ввести в практику русского актера понятие формы.
42 Увлечение условным театром сменилось у Мейерхольда усиленным изучением приемов игры актеров старинного театра. В период работы над «Дон Жуаном» Мольера и Лермонтовским «Маскарадом» он представляет собою центральную фигуру среди немногих русских театральных традиционалистов, желающую освободить театр от засилия литературы и вернуть ему утраченные им традиции. Техника актеров итальянской импровизованной комедии и восточных театров (китайского и японского) ему указывают многие пути, с помощью которых он сможет превратить русского актера, всецело еще полагающегося на вдохновение, в мастера-виртуоза, с изощренной техникой, поддающегося всем указаниям дирижерской палочки режиссера. В журнале док юра Дапертутто «Любовь к трем апельсинам» в отделе хроники «Студии» под рубрикой «Класс В. Э. Мейерхольда» затронуты многие вопросы актерской техники, являющиеся следствием внимательного и пристального изучения им старинного театра. В одной, казалось бы случайной, цитате из трактата одного танцмейстера XVI века Гульельмо Мейерхольд находит положение, развиваемое им и последствии в особый закон и связывающее актера со всем, что окружает его во время театрального представления. «Partire del terrene» — учение о координации движений актера с пространством той сценической площадки, где он действует, наносит тяжелый удар обычному представлению о свободе творчества актера, создавшемуся в XIX веке, показывая зависимость его от материальных форм театра.
В тесной связи с умением актера применяться к условиям площадки, где он работает, находится его игра с предметами театральной бутафории. Связь актера с вещью придает его игре более действенный характер, развивая в нем глазомер, внимание и четкость. Игра с предметом к тому же является и тем стержнем, который помогает актеру выявить свое отношение к событиям, происходящим на сцене: «предмет дан для того, чтобы предоставить актеру возможность приложить к акту игры с предметом мастерство, имеющее целью, либо обрадовать, либо опечалить зрителя».
Здесь же дается одна из первых попыток охарактеризовать и определить творческое состояние актеров во время спектакля, лежащее вне плана психологической мотивации. Основному положению эмоциональной школы «чувствование» или «способность к чувствованию» Мейерхольд противопоставляет влюбленность актера: — «радость становится той средой, без которой не может жить актер, даже тогда, когда ему приходится умирать на сцене». Как это определение процесса игры актера разнится от натуралистических тенденций первого периода Московского Художественного театра, когда считалось единственно возможным, что актер может на сцене, с помощью воспоминаний, передавать лишь то, что ему самому случалось пережить в жизни.
43 Аналогия между творчеством музыканта и актера, усиленная наличием в «Студии» класса М. Ф. Гнесина (музыкальное чтение в драме), где предполагалось музыкальное истолкование стихотворных ритмов и запись стихов нотными знаками, заставляет Мейерхольда рассматривать ведущего актера, как мастера, подчиняющего все стороны своего творчества музыкальному началу: «новый хозяин сцены — актер — заявляет о своей радостной душе, о своей музыкальной речи и о гибком своем, как воск, теле… пауза напоминает актеру о счете времени, обязательном для него не меньше, чем для поэта».
Цель изучения старинного театра для Мейерхольда времен Студии на Бородинской улице в Ленинграде — составление каталога театральных приемов. Импровизация, жонглерство, акробатика — вспомогательные и тренировочные средства, пользуясь которыми актер может выбиться из цепей литературы, опутывающих театр, и перестать быть человеком, однообразно произносящим на сцене слова, написанные литератором: «актеру нового театра необходимо составить кодекс технических приемов, каковые он может добыть при изучении принципов игры подлинно театральных эпох. Есть целый ряд аксиом, обязательных для всякого актера, в каком бы театре он ни говорил бы. О процессе изучения старинных театров надо сказать: это своего рода accumuler des trésors не с тем, чтобы добытыми ценностями, как они есть, щеголять, а с тем, чтобы (научившись их держать, беречь) ими украшаться, стремиться “одаренным” выйти на сцену и по театральному уметь зажить на сцене; поклониться нищенским колпачком, будто это головной убор, осыпанный жемчугами, дырявый плащ набросить жестом гидальго, стучать рукой в дырявый бубен, не за тем, чтобы пошуметь, а чтобы взмахом руки выдать весь блеск своей изощренности и так это проделать, что забудет зритель об отсутствии на бубне бычачьего пузыря».
Изучение приемов старинных театров воскрешало искусство представления, имеющее право на существование, как и искусство живого человека на сцене. Очень характерно и показательно, что К. С. Станиславский в своей статье «Теория и техника актера» (Культура Театра, 1921, № 5) противопоставляет искусство «переживания» и искусство «представления» навыкам театрального ремесла, приведшим к длительному процветанию на сцене русских театральных штампов и трафаретов.
Резко отличной от всех прежних постановок является работа с актерами Мейерхольда в Москве в театре его имени и отчасти в Театре Революции («Озеро Люль», «Доходное место»). Каждая отдельная постановка его театра — «Великодушный Рогоносец», «Земля Дыбом», «Лес», «Бубус» — представляет собою значительное достижение в различных областях техники нового революционного театра. Говорить об этой технике, как о чем-то законченном и создавшемся, пока еще не приходится. Сейчас 44 можно только наметить линию устремления и основные положения, которыми руководится Мейерхольд в деле создания актера, наиболее отвечающего запросам современного зрителя. Прежде всего, следует отметить однородность участников последних спектаклей театра Мейерхольда — большинство из них слушатели и слушательницы Высших Режиссерских Мастерских. Пребывание в последних и знакомство с вопросами теории и истории театра выработали в них восприимчивость к выполнению всех указаний мастера и к пониманию всего того, что происходит и что окружает их на сценической площадке в данный момент спектакля. Затем, если «чувствования» и «способность к чувствованию» эмоциональной школы и «волевые напряжения» системы Станиславского так или иначе восходят к учебникам психологии Джемса и Рибо, то Мейерхольд, пытаясь обосновать творчество современного актера, пользуется данными объективной психологии и рефлексологии. В актере, по мнению Мейерхольда, прежде всего ценны мыслительные способности актера (актер умный, актер менее умный, актер еще менее умный, актер глупый), стремление к самокритике. Актер ни на минуту не должен забывать, что он играет; он должен учитывать настроение зрительного зала и стараться использовать его с наибольшей выгодой для себя. Всем известно, что зевота заразительно действует на окружающих. Доказано так же, что раздвигаемые кончики ножниц тоже могут вызвать зевоту и вот актер, желающий воздействовать на зрителя, сейчас должен выбирать те средства, которые напоминают собой раздвинутые кончики ножниц. Актер может даже ничего не чувствовать и ничего не переживать. Не в этом суть. В театральном представлении имеет значение лишь то, что зритель, так или иначе, реагирует на все происходящее перед ним на сцене. Естественно, что при подобной постановке вопроса техническое совершенство актера, на котором Мейерхольд настаивал и раньше, приобретает еще большее значение. Опять встает вопрос об актере — виртуозе, но с тем только различием, что прежде техническое совершенство было как бы самоцелью, своеобразным любованием достижениями мастерства; теперь же техника имеет другое назначение, исполняя служебную роль: помочь актеру в отчетливой и строго проработанной форме показать зрителю образцы людей различной социальной природы. Теперь еще больше встречается необходимость в инструментовке состава исполнителей данного спектакля. Изданная в 1922 году в Москве Мейерхольдом вместе с И. Аксеновым и В. Бебутовым брошюра «Амплуа актера» представляет собою первое практическое театральное разрешение этого вопроса. Здесь, как и в различных курсах инструментовки, намечена классификация всех встречающихся в театральной практике амплуа, описаны внешние данные актеров, необходимые для исполнения той или иной роли и строго обозначены их сценические 45 функции. Следует отметить, что Мейерхольд, истолковывая образы русской драматической литературы, все время пользуется терминологией и аналогиями западноевропейского театра. Так Аксюша в «Лесе» им отнесена к амплуа «второй влюбленной» наряду с Бианкой из «Укрощения строптивой» и Анжеликой из «Мнимого больного». Тем не менее, всем хорошо известно, что Аксюша в исполнении Зинаиды Райх в постановке Мейерхольда при реализации этого образа на сценической площадке, была той настоящей русской девушкой, о которой в свое время мечтали члены «молодой редакции Москвитянина» с Тертием Филипповым во главе. Может быть присутствие Аксюши в рубрика «второй влюбленной» рядом с героинями Шекспира и Мольера, и предоставило возможность исполнительнице этой роли, оставаясь в строгих рамках своего амплуа и пользуясь сравнительным методом, найти и наметить многие характерные черты сценического образа русской девушки, не имеющиеся у ее случайных соседок.
Подобный принцип распределения ролей на традиционные амплуа с обозначением сценических функций и описанием внешних данных, устраняет многие препятствия, обычно встречающиеся при раздаче ролей, и, вместе с тем, намечает для каждого из актеров основную линию его творчества, специализируясь и узких рамках которой, он сможет в достаточной мере выявить перед зрителем свою индивидуальность и приобрести взамен случайного навыка подлинное мастерство.
Если Райх в театре имени Мейерхольда исполняет роли, связанные с амплуа «влюбленной», то Бабановой в этом театре предоставляется право сценической трактовки всех литературных образов, имеющих отношение к амплуа «проказницы», начиная со Стеллы «Великодушного Рогоносца» и кончая Марией Антоновной в «Ревизоре». С Ремизовой у зрителя этого театра связывается представление о шутихе и клоунессе, иногда забавной и смешной, иногда надоедливой и зловещей. Успех выпавший во время последних ленинградских гастролей театра на долю Охлопкова, объясняется тем, что он, исполнял роль генерала Берковец и работая в традиции амплуа «хвастливого воина», сумел из современности взять то, что наиболее соответствует сценическим заданиям роли «капитана» наших дней. В игре Гарина, четко передающего образ молодого Гулячкина в «Мандате», несмотря на его специфически московский говорок, все время чувствуется первый «затейник», обычная фигура старинной европейской комедии. Недаром свою работу в театре он начал исполнением семи ролей изобретателей в «Д. Е.», применив при этом прием трансформации, ведущей свое происхождение от сценического мотива переодевания, столь излюбленного слугами итальянской и испанской комедий.
В отличие от техники стилизационного театра, где движение существует только ради самого движения, актер театра имени 46 Вс. Мейерхольда, владея в совершенстве своим челом, должен прежде всего в своих сценических поступках руководиться принципом целесообразности. В его движениях не должно быть ничего лишнего и случайного. Лаконическая законченность и точность, напоминающая собою работу в цирке жонглеров или акробатов, работающих на снарядах. Учет времени актером к тому же является надежным критерием для его же собственной проверки и самооценки. Отсюда тяготение и стремление актера приблизиться к вещи, предмету на сценической площадке, видя в нем верного товарища в театральной работе. Приборы театральной бутафории в конструктивная установка помогают актеру. Безмятежная и спокойная чистка ружья с помощью шомпола Кельберером в «Лесе» многое добавляет к характеру самого Буланова. Катанье на доске Аркашки и Улиты, в том же «Лесе», позволяет обоим участникам «Лунной Сонаты» надлежащим образом выявить все тонкости комически-любовного восторга. Движущиеся на роликах щиты в «Д. Е.», в сцене преследования Енс Боота умирающими от голода англичанами, требует от актера лишь разметки движений, то в право, то влево, их же быстрое перемещение по разным направлениям сцены, изредка прорезываемое лучом театрального прожектора, создает впечатление необычайной стремительности, бега и прыжков актеров.
Требования и запросы современного зрителя обязывают актера нового нарождающегося театра отказаться от аполитичной разговорности на сцене и стать актером-трибуном. Прежде всего он должен вскрыть пред зрителем социальную природу того действующего лица пьесы, которого он изображает. Примерными средствами для этого могут служить предыгра и переключение. Предыгра — прием, заимствованный Мейерхольдом из практики восточного театра, представляет собой своеобразную небольшую пантомиму, где актер, еще не произнося ни единого слова, рядом намеков должен подсказать зрителям кого он изображает: предыгра так подготовляет зрителя к воспринятою сценического положения, что зритель все подробности такового получает со сцены в таком проработанном виде, что ему для усвоения смысла, вложенного в сцену, не приходится тратить никаких усилий. Например, быстрая маршировка с палочкой взамен ружья Кампердафа (первый акт «Бубуса» в постановке Мейерхольда) четко обрисовывает его как строгого защитника капиталистических традиций и представителя монархических тенденций.
Прием переключения впервые, кажется, примененный Зайчиковым при постановке «Смерти Тарелкина», где он так отчетливо и убедительно, a parte, вел разговоры с публикой, заключается в том, чтобы в определенных местах пьесы актер, играющий данный сценический образ (Тарелкин, Бубус) как бы выходит из него и перед зрителем остается актер такой-то 47 (Зайчиков, Вельский), произносящий слова с целью надлежащего воздействия на зрительный зал. Сознательное и планомерное пользование приемами предыгры и переключения превращает актера из рядового работника театра в актера-трибуна. «Актер-трибун не для искусства строит свое искусство и не искусством даже хочет он строить свою работу… Актер-трибун играет не само положение, а то, что за ним скрыто и что им с определенной целью (агитация) вскрывается».
49 Г. Гаузнер и Е. Габрилович
ПОРТРЕТЫ АКТЕРОВ НОВОГО ТЕАТРА
(Опыт разбора игры)
Искусство нашего времени не является ни тезой, как думают некоторые, ни антитезой, как думают все, а синтезом. Оно соединяет в себе тенденциозное послепушкинское искусство с искусством 1890 – 1917 гг., ставившим во главу угла форму. (Мы говорим, конечно, о прямой линии искусства, не принимая во внимание боковых ответвлений). Театр нашего времени немыслим без содержания, которое ему дал Октябрь, и также немыслим без углубленной формы, идущей еще от первых опытов Мейерхольда.
Разбирая игру актеров нового театра, мы устанавливаем два момента нового в игре: момент социальный и момент формальный. Социоформальный метод имелся и в старой критике, разница только в терминах: формальная работа актера называлась тогда «эффектами», а социальный подход — «общественными мотивами». Разница между игрой старого и нового актера также велика, как между презрительным наименованием «эффект» и изучением формальных приемов игры, как между «общественными мотивчиками» и социальным анализом персонажа.
У Дорошевича есть фельетон о Варламове, в котором он хвалит этого актера за то, что он в своих комических ролях «защитник», за то что он, играя заведомого прохвоста — богача, оправдывает его своей игрой. В этом фельетоне много справедливого: беспристрастный внеклассовый актер невозможен. Актер должен быть — либо общественным защитником, либо общественным обвинителем персонажа. Комический актер нашего времени — обвинитель, прокурор изображаемой в комедиях буржуазия. Театр Мейерхольда поставил своей задачей — обвинение, сатирический показ сущности буржуазии. Все его постановки стали, согласно этого, главами грандиозной социальной эпопеи, эпопеи разложения класса, эпопеи эмоционального разложения буржуазии. Актеры Мейерхольда стали персонажами Этой эпопеи. Каждый актер получил в разработку социальный 50 тип или несколько социальных типов, видоизменения которых в обличье той или иной пьесы и показывает, выявляя их социальные признаки. Социальный подход нового актера ведет к созданию «социального амплуа».
Приемы игры нового актера также противоположны старой системе. Если старый актер объявлял примат вдохновения над техникой, то новый актер объявляет и выполняет примат техники игры. Эта техника игры отнюдь не исчерпывается тем, чем ее обычно исчерпывают толкователи биомеханической теории. Она не заключается в отстранении психического аппарата игры и в возведении умения актера владеть своим телом в единственный спасительный принцип. Нет, хотя умение владеть своим телом и есть один из элементов новой актерской системы, — умение владеть своим психическим аппаратом не менее основное требование новой системы. Мы сказали бы, что основой системы Мейерхольда является формальное показывание эмоционального. Эта формула станет понятной ниже.
СОЦИАЛЬНОЕ АМПЛУА
ВАСИЛИЙ ЗАЙЧИКОВ
Судьба творчества Мейерхольда во многом обща с судьбой творчества Гоголя. Когда Гоголь преподносил читателю «Нос», «Шинель», читатель смеялся, но говорил: все это невероятно. Невероятно, чтобы коллежский секретарь лишился носа; покойник не может сдергивать шинели. Когда Мейерхольд поставил «Рогоносца», «Лес» — праправнук гоголевского читателя недоумевает в тех же выражениях: невероятно, чтобы человек кувыркался от ревности, невероятно, чтобы Аркашка прятался под юбку Улиты. И не только читатель — и зритель. Михайловский, в свое время, жестоко разнес Достоевского за то, что он ставит своих героев в невероятные психологические положения, никогда не случающиеся в жизни, в положения эксцентрические. Некому было разъяснить Михайловскому, но пора разъяснить зрителю и читателю, что только благодаря этой психологической эксцентрике, Достоевский смог вскрыть те глубины, какие он вскрыл. Чтобы вытрясти из человека душу, надо поставить его вверх ногами.
Мейерхольд до сих пор почитается многими каким-то Арманом и Церепом русского театра: еще трюк! Еще трюк! Надо быть слепым, чтобы не понять, что весь «Бубус», весь «Мандат», есть непрерывный, родственный Гоголю и Достоевскому, анализ срывов человеческой психики, анализ, происходящий именно тогда, когда персонаж поставлен в невероятное положение. Каждая эксцентрическая мизансцена Мейерхольда есть сигнал, объявляющий, что происходит анализ психики персонажей. Прием этот можно сравнить с тем, как проявляется 51 истинный, а не показной и не притворный характер людей во время большой опасности или сильного опьянения.
Зайчиков — актер, обладающий исключительным даром строить психологический анализ персонажа при помощи невероятных положений. Если у Зайчикова на голове кастрюля — слушайте его, вы увидите именно в этот момент необыкновенный, гоголевский рассказ о бедном бухгалтере, обиженном и оскорбленном. Если у Зайчикова на галстуке лапша — наблюдайте за ним, — вы увидите психологию влюбленного бухгалтера. Если Зайчиков вылезает из сундука, внимайте ему, — вы увидите бухгалтера, выросшего в обвинителя и поэтому пьяного от своей власти и своей грандиозности.
Зайчиков — явление, вполне искупающее годы нашего увлечения эксцентризмом. Если существует преемственная связь между различными видами искусства, то в лице Зайчикова Гоголь и Сухово-Кобылин имеют своего очевидного продолжателя. Как Гоголь в литературе, Зайчиков на сцене впервые показал обывателю, что он «над собой смеется» и что смеяться тут нечему, а нужно плакать. В отличие от прежних наших клоунов (Давыдова, Варламова) Зайчиков — «клоун-аналитик», вскрывающий социальную подоплеку персонажа путем Эксцентрической игры.
Амплуа «клоуна» имеет у нас свою историю. Первым выдающимся «клоуном» следует считать Пономарева, актера начала XIX века. Он, судя по отзыву Булгарина (см. его «Театральные воспоминания моей юности»), строил свою игру если не в социальном, то в сословном плане. Он создал у нас жанр «подьячего». Но, будучи человеком своего времени, он показал в своих ролях придурковатого и веселого простолюдина, соответствующего Шекспировским могильщикам и шутам. Таким образом насмешка его была направлена сверху вниз, была насмешкой аристократии над простолюдином. Следовательно, она прямо противоположна насмешке Зайчикова, насмешке, бичующей того же «подьячего» уже как представителя господствующего и клонящегося к упадку класса.
Последующие наши «клоуны», придавленные Щепкинской формулой «влезания в кожу действующего лица», бледнеют и теряют основные черты своего амплуа (перестают преувеличивать). Затем амплуа «клоуна» воскресает, со своими истинными качествами, лишь теперь, в лице Зайчикова, чтобы стать социальным амплуа. Здесь необходимо указать на взаимоотношения био-механического и социального амплуа. Если таблица био-механических амплуа указывает необходимые физические данные актера, то овладение социальным амплуа требует определенных психических и социальных данных. Для разработки их требуется, независимо от био-механики — «психомеханика» (термин А. Луначарского) и психомеханический подбор актеров. К данным амплуа «клоуна» в таблицах «Амплуа актера»:
52 Обладание манерой «преувеличенной пародии» (гротеск, химера). Данные для эквилибристики и акробатики. — 4. Клоун, шут, дурак, эксцентрик.
Можно теперь прибавить.
Данные для психо-эксцентрической игры. Данные для иронического отношения к персонажу. Знание социальных признаков. — 4-а. Клоун-аналитик.
Как свидетельствует его игра, Зайчиков этими данными обладает.
ЗИНАИДА РАЙХ
Мы говорили уже, что постановки Мейерхольда являются, в целом, сатирической эпопеей, в которой каждому актеру отведено социальное амплуа, в которой каждый актер анализирует психологию того или иного социального типа. Мало того. Истинная сатирическая эпопея (напр. «Мертвые души») строится из нравоучительного пафоса, издевки и лирических отступлений. Миссию лирических отступлений в театре Мейерхольда выполняет Зинаида Райх. Социальный тип, — данный ей сейчас в разработку, — мещанская женщина.
Понятие «лирики» потерпело в современности существеннейшие изменения: как в плане эмоциональном, так и в плане социальном. Лирика почиталась до сих пор некоей категорией патетического. Она представляла собой некую сумму радостей, печалей и рассуждений актера, переживающего настроения своего персонажа. Лирика была суверенной областью драмы, этого наиболее близкого буржуазии рода драматургии. Не надо забывать, что драмы не существовало до классовой победы буржуазии. У нас мещанская драма появилась и расцвела в эпоху капитализации России. Это время имело своих актрис, наиболее характерная из которых — Савина. Как передавала она образы лирических героинь? Она, прежде всего, любила свой персонаж. Она старалась заставить всех страдать его страданиями, радоваться его радостями и гневаться его гневом. Она любила свой персонаж той потрясающей любовью, которая исключает какую бы то ни было иронию по отношению к эмоциям и действиям любимого существа. Полюбить и оправдать играемый лирический персонаж считалось тогда необходимым.
Но вот пришла война. Ее пулеметы, ее «чемоданы», газы и танки — сразу же отучили человечество от понимания и оправдания лирики. Непонимание рождает насмешку, а затем и ненависть. Лирика перестала восприниматься патетической эмоциональной аппаратурой современного человека, а стала восприниматься его комической аппаратурой. Произошло нечто совершенно 53 неожиданное. Лирика из категории драмы превратилась в категорию комедии. Актриса, играющая сейчас лирическое отступление, должна прежде всего не любить свою героиню и смеяться над ней.
Зинаида Райх — актриса, выросшая после войны, наделена всеми качествами современной лирической актрисы: она умеет ненавидеть свой персонаж, она никогда не ошибется и не обрадуется его радостью и не опечалится его печалью. Только тогда, когда она играет персонаж героический — пути ее и ее персонажа начинают сходиться.
Действительно, миссис Хардайль, персонаж лирический — играется комедийно. Стефка, вплоть до глубоко-лирических мест и особенно в лирических местах — комедийна. Но Аксюша, понятая режиссером героически, играется, как героиня; но та же Стефка, когда в ней показываются проблески героини, играется, как героиня.
Это вполне понятно. Современная комедийная интерпретация лирики, основанная на том, что предаваться мучительным переживаниям ради мучительных переживаний в глазах современного человека — смешно, имеет в Зинаиде Райх своего глубокого истолкователя не только потому, что она послевоенная актриса, но и потому, что она актриса послеоктябрьская. Для нее лирика несуразна не только тем, чем она несуразна для современника вообще, но и тел, что в ней она видит наследие мещанского эмоционального ряда; наследие мещанской драмы и ее актрис. Поэтому с особой ненавистью относится она к радостям и горестям своих героинь. Вся ее лирическая игра есть, в плоскости социальной — комедийный показ того, как разложились радость, горечь, испуг, недоумение, нетерпение, гнев мещанской страдающей и радующейся женщины. И тем же послеоктябрьским происхождением Зинаиды Райх может быть объяснена ее серьезность к героическим мотивам ее персонажей. Эти героические мотивы — то, что принесла революция на смену, превратившейся в суверенную область Чаплина и Ллойда, лирике.
Зинаида Райх проделала огромную работу по ликвидации канонов прежней актрисы, но, как это бывает только у немногих, эта разрушительная переходная работа явилась в то же время и творчеством. Героическая игра у Зинаиды Райх не появляется внезапно, как Минерва во всеоружии — элементы ее постепенно просачиваются сквозь лирико-сатирическую игру. Не будь этой лирико-сатирической игры, дискредитировавшей драму — не была бы возможна и новая, советская, героическая игра.
Прежние актрисы, играя чуждые их лирическому мировоззрению героические роли — играли их драматически. Поясним: их игра развивалась в личном плане, они (переиначиваем терминологию брошюры «Амплуа актера») играли препятствиями, 54 ими же созданными. Их лирика была упадочной, индивидуалистической лирикой. У Зинаиды Райх, в лирико-сатирической игре есть моменты взмета (напр., сцена мелодрамы в «Бубусе», весь третий акт «Бубуса»), когда лирическая игра приобретает социальный характер — и сразу же она становится героической.
Те же эмоции — любовь, страх — становятся героическими, когда они приобретают социальный характер. Интересно, что социальные элементы приобретают сейчас на театре и формальное значение: они являются трамплином, посредством которого театр, оперируя обычными эмоциями: радостью, ужасом и т. д., все же приобретает характер героический, а не лирический. Героика у советской актрисы, какова Зинаида Райх, есть сейчас лирико-сатирическая игра плюс включение активнодействующих социальных элементов. В будущем, когда появится советская трагедия, Зинаида Райх сможет исключить лирико-сатирическую игру. Но не надо забывать, что именно лирико-сатирическая игра рождает нам сейчас героическую игру. Не будь первой — не было бы и второй.
Зинаида Райх, таким образом, создает новое социальное амплуа: «лирико-сатирической влюбленной», коммунистически просвещенной женщины, комично показывающей разложение эмоций прежней женщины и демонстрирующей, в противовес ему, героический ряд, который должен научить зрителя новым героическим мотивам. Это амплуа, все время ширящееся в своей негативной части, заставляет нас с особым нетерпением ожидать от Зинаиды Райх нового в героической области, в которой ей предстоит выступить в ближайшие года.
ПРИЕМЫ ИГРЫ
ГАРИН
(Помимотекстовые сюжетные построения)
Каждая пьеса имеет сюжет, имеет экспозицию, Spannung, развязку. Повышения и понижения этого сюжета определяют ритм спектакля. До сих пор никем не замечалось, что обычна такой же сюжет, с его компонентами, имеет игра актера, при чем сюжет этот развивается независимо от сюжета пьесы. Игра Гарина дает наиболее яркий пример этого.
Посмотрим, как строит Гарин сценическую новеллу. Сюжет рассматриваемой новеллы — приключения ноги одного хромого человека (изобретатель № 5 в «Д. Е.»). Текст теряет тут свое значение, остальные детали игры становятся обрамлением игры ноги. Итак, приключения ноги, — сюжет. Новелла начинается выходом несчастного хромого на сцену. Сразу же нога, которую он несет перед собой, уродливая нога хромого, непроизвольно брыкает миллиардера, к которому бедняк пришел предложить свое изобретение. Миллиардер возмущен. Такова завязка.
55 Мы введены в действие. Следует разговор изобретателя с Джебсом. Хриплый рев урода не дает возможности различить слова, и внимание зрителя концентрируется на игре ноги. Хромой держит ее на весу, перед собой и, когда он подходит к Джебсу вплотную, нога ложится на грудь миллиардера. Там она конвульсивно дергается, зля и раздразнивая Джебса. Мы знаем уже, что изобретение не будет принято. В самом деле — взбешенный Джебс приказывает секретарю выгнать хромого. Казалось бы, что действие закончено, что другой развязки не может быть. Нет! Неожиданная развязка следует немедленно — хромой отходит, нога его, также непроизвольно, как и вначале, выпрямляется и бьет в живот миллиардера, опрокидывая его на пол. Хромой отомщен. Секретарь записывает на грифельной доске — «№ 5. Дерется». Эта надпись — как бы название новеллы; новеллы о ноге хромого человека, которая сначала лишила его заработка, а потом отомстила за него.
Также построены и новеллы об остальных шести изобретателях. Текст теряет в них значение, приобретает особый смысл мимическая игра. Сценическая новелла строится не на тексте, а на помимотекстовой игре актера.
В «Мандате» Гарин показал другой сюжетный прием, известный под названием «лейтмотива». Лейтмотивом называется сюжетный мотив, повторяющийся в фабуле несколько раз, но не сливающийся с ней. Приемы, какими Гарин вводит помимотекстовой лейтмотив в действие «Мандата» — приемы новеллы. Таким образом, мы получаем вводную новеллу (самостоятельный анекдот игры), основанную на лейтмотиве. Тема новеллы — ужас Павла в моменты выдавания себя за коммуниста. Действие ее развивается так. Экспозиция — фраза Павла в начале первого действия: «Я — человек партийный!» Сказав это, Павел ужасается. Он приседает, согнув туловище, рот его раскрыт, зрачки расширены, волосы вздыблены. Эту позу и выражение лица он пускает в ход при всех последующих испугах во время выдавания себя за коммуниста. Эти те поза и выражение лица, которые он употребляет только в моменты испуга, и служат курсивом, выделяющим лейт-мотив вводной новеллы, позволяющим отличить ее от остального действия. Такова экспозиция. Второй момент, — разговор Павла со Сметаничем. Поскольку испуг мотивирован тут текстом — помимотекстовый ужас здесь ослаблен. Третий момент и Spannung новеллы, ее наибольшее напряжение, — конец второго действия. Павел размахивает мандатом «копия которого послана товарищу Сталин)». Поза ужасания здесь выделена тем, что Павел стоит на столе (как бы на пьедестале) и обособлен, таким образом, от остальных действующих лиц. Развязка — в конце третьего действия. Сказав, как в экспозиции, (кольцевое построение): «Я — человек партийный», Павел, в курсивной позе, отходит к матери. Около нее он падает в обморок, сложив на груди крестообразно руки. Этот обморок, 56 сценически равный смерти, и заканчивает новеллу лейтмотива о молодом человеке, который выдавал себя за коммуниста, но очень боялся этого и даже умер от страха.
Таковы сценические, помимотекстовые, сюжетные построения Гарина. Они новы, они показывают необычные приемы игры и на них стоит обратить внимание.
МАРИЯ БАБАНОВА
(Обновление жеста и словозвучания)
Эволюция оркестра привела в настоящее время к джаз-банду. Уже серьезнейшими музыкантами признано, что джаз-банд не забава скучающей буржуазии, но новая форма оркестра, форма для театра особо ценная тем, что она создала мимико-фонетический инструмент в лице оркестранта джаз-банда, осуществив, таким образом, идеал балета — слив музыку с жестом. Оркестрант джаз-банда сопровождает музыку мимическим танцем лица и синкопическими подергиваниями, иллюстрирующими единственную фабулу музыки ее ритм. Оркестрант джаз-банда, кроме того, — что и дает ему право на название мимико-фонетического инструмента, — сопровождает музыку резкими восклицаниями, построенными на вариациях хрипоты простейших гласных. Все это делает оркестранта джаз-банда своеобразным актером просцениума.
Бабанова перенесла приемы джаз-бандистов на сцену, канонизировала их, как метод игры. Исполнение ею роли не есть ни трактовка бытовых признаков роли, ни ее психологической канвы, но простое сопровождение мимикой и резким криком той мелодии спектакля, которая слагается и из действительных музыкальных кусков, и из условной музыки спектакля, состоящей из ритма движений партнеров и из комбинации длиннот и высот реплик. В мелодии «Бубуса», первой высокой комедии нашего времени, ни один актер не говорит бытовым голосом; тембр голоса каждого из них установлен на определенной музыкальной высоте; тембр голоса Бабановой — резкий крик. Этот тембр она сохраняет во всех своих ролях (напр. ультра-бытовой «Воздушный пирог») — он ей присущ. Свой крик Бабанова неизменно сопровождает иллюстрирующим его синкопическим жестом — жестом джаз-бандиста. Когда она в «Бубусе», резко поворачиваясь, звонко шлепает свою партнершу по спине, выкрикивая: «Вот тебе! Вот тебе!» — это соответствует тому моменту, когда барабанщик джаз-банда, ударяя в гонг, спотыкается плечом и выкрикивает: «О! О!» Когда она, вскрикнув: «Хопкинсы — соло!», подпрыгивает, не напевая, а хрипло и резко выкрикивая мелодию, — это соответствует внезапному вскрику барабанщика и его последующему подпрыгиванию на стуле с хриплым выкрикиванием мелодии.
57 И в том, и в другом случае — характерный для джаз-банда и Бабановой переход от пиано к форте с помощью внезапного удара и резкого крика.
В «Д. Е.», в пятиминутной мимической сцене, Бабанова была еще неразрывна с джаз-бандом, она могла даже, ничего не изменив, помещаться не на сцене, а на подмостках джаз-банда, рядом с барабанщиком. В «Бубусе» она уже применила приемы джаз-бандистов к трактовке роли. Дальнейшие ее успехи покажут, что жест и игра голосом, введенные джаз-бандом и разработанные Бабановой, свежи и нужны на сцене; что они ведут к обновлению мизансцены и словесного диалога.
Н. ОХЛОПКОВ
(Темповая игра)
Когда-то, во времена Глупышкина и феерий, слово «кинематограф» было бранным словом. Теперь, когда кино-детективы канонизированы, кинематограф стал образцом и театр заставляют ему подражать. От театра требуют кинематографичности. Это в основе своей нелепо и равносильно требованию от романа — сценичности, от картины — фотогеничности и т. д. Театр, однако идя навстречу требованиям, выработал тип «кинематографического» спектакля («Озеро Люль» и «Д. Е.»), Понятие кинематографичности на театре означает сейчас движение актера на громадных сценических пространствах и ускоренный темп этого движения. Спектакль «Д. Е.» был идеалом такого стиля. Но он был и кульминационной точкой, по ту сторону которой начиналось падение. Начиналась имитация кинематографа, погубившая бы театр. Мейерхольд не переступил этой точки. Он пошел в противоположную сторону. Он поставил «Бубуса», который заставил нас ощутить темп, как новый смысловой элемент театра, элемент не меньшей важности, нежели жест и слово. Он пришел к этому, отправляясь от стремления затормозить темп спектакля. Это стремление затормозить теми спектакля едва ли не охарактеризует собой режиссерский стиль ближайшего десятилетия; это стремление есть естественное восстание театра против кино, законы которого ему навязывают.
Когда темп спектакля в «Бубусе» затормозили, стало заметно, что игра комбинациями отрезков времени может иметь смысловое значение; что «временные», то есть комбинации отрезкой времени — новый театральный прием, прием большой важности.
Уже и в «Д. Е.» при всей его молниеносности, были задатки темповой игры. Уже и в «Д. Е.» была показана, кое-где, крупно игра лица, рук, ног, спины, переведенная из плана чисто мимического в план темповый (см. сцену взрыва в Берлине). В «Бубусе» игра рук, лица и др. является подчеркнутой категорией темпа.
58 Вместе с «Бубусом» появился почти единственный темповый актер — Охлопков; актер, играющий на темпе, на его микроскопически-увеличенных повышениях и понижениях; играющий «временными». Вся роль генерала Берковец есть непрерывная игра отрезками времени большей или меньшей протяженности, которые, накопляясь в одной комбинации, создают, сами по себе, используя мимическую игру лишь как подсобный материал, впечатление то тревоги, то радости, то отчаяния, то похоти.
Рассмотрим ту сцену, когда, будучи вызван к телефону, Берковец прощается с ван-Кампердафом. Если мы обратим здесь внимание на мимические элементы — игру лица, рук, смену ракурсов, то с ясностью убедимся, что они имеют здесь не мимический, а темповый характер. Сами по себе, пне временной комбинации, они ничего не определили бы.
Берковца вызывают к телефону. Он резко поднимает голову и смотрит на вестника (8 секунд)26*. Лицо его при этом неподвижно. Но самая протяженность смотрения явственно говорит о его тревоге. Затем он внезапно встает со стула и стоит (10 секунд). Это остолбенение усиливает тревожное напряжение. Оно растет, когда он начинает медленно раскланиваться (15 секунд). Затем он внезапно всовывает руку за борт мундира и необыкновенно быстро уходит (4 секунды). Контраст между медленным нарастанием предыдущего и внезапным уходом разряжает напряжение, категорически подтверждая, вместе с тем, что сообщение по телефону будет очень неприятным.
Здесь впечатляет самое расположение «временной» — комбинации временных отрезков.
Первое проявление тревоги — 8 сек.
Остолбенение —
10 сек.
Нарастание тревоги —
14 сек.
Тревога достигает предела —
15 сек.
Внезапное разряжение —
4 сек.
Мимика и ракурсы имеют здесь служебное значение: они сложат сигналами, отделяющими временные отрезки. Так резкое поднятие головы служит заглавием игры о тревоге; внезапное засовывание руки за борт мундира — сигналом к развязке.
Вот второй пример: сцена «Пушки». За сценой грохот. Берковеца спрашивают: «Что это?» Он резко поднимает голову (постоянный его сигнал к началу построения «временной» 3 секунды). Рука его медленно движется к карману и оттуда к подбородку — рассеянный жест раздумья (5 секунд). Затем он медленно переходит сцену (15 секунд). Опять переходит сцену (25 секунд). Затем он медленно говорит: «Я думаю, что это…» (5 секунд) — «Пушки!» — говорит он внезапно (2 секунды).
59 Здесь прислушивание выражено не обычной мимикой (прикладывание руки рупором к уху; наклонение корпуса вперед с наклонением в бок головы; прикладывание уха к стене или к двери), но «временной»:
Сигнал к началу прислушивания — 3 сек.
Раздумье —
5 сек.
Протяжное прислушивание —
15 сек.
Протяженность прислушивания начинает вызывать беспокойство — 25 сек.
Сигнал к разряжению —
5 сек.
Внезапное разряжение —
2 сек.
Теперь, проанализировав эти две «временных», мы находимся в преддверии точного знания строения «временной». Мы видим, что «временная» обладает постоянными компонентами, что нарастание и убывание временных отрезков подчиненно определенным законам. Установить эти законы и классифицировать компоненты «временной» можно будет только тогда, когда будут записаны и изучены все «временные» Охлопкова. Тут мы взяли только простейшие примеры: тревогу, прислушивание. Очень интересен показ посредством комбинации временных отрезков — похоти (сцена «Ландыш»).
Не может быть споров о том, что темповая игра в тысячу раз сильнее бьет в цель, нежели обычная мимическая.
Итак, в «Бубусе» мы впервые увидали театральное лицо темпа, не заключающегося, как его прежде понимали, в быстроте, а являющегося, наряду с мимикой и словом, категорией искусства, потому что он, как мимика и слово, приобретает смысловое значение и создает своих виртуозов и свое особое искусство.
Настоящие характеристики, в частности Бабановой, не являются исчерпывающими. Они намечают лишь двоякий путь анализа актерской игры на материале, оказавшемся в пределах доступного авторам наблюдения.
61 Александр Слонимский
ЛЕС
(Опыт анализа спектакля)
I. «ИСКАЖЕНИЕ» ОСТРОВСКОГО
«Лес» Островского, «перемонтированный» Мейерхольдом в 33 эпизода, вызвал, как известно, горячие споры — главным образом, о том, имеет ли право режиссер «искажать» такого классического автора, как Островский. Теперь постановка Мейерхольда стала бесспорным театральным фактом — «Лес» собирает полный театр, т. е. так или иначе удовлетворяет зрителя. Становится ясно, что переделка «Леса» — не случайная прихоть капризной фантазии выдумщика-режиссера, а какой-то естественный, необходимый момент в истории сценического истолкования Островского.
В чем же состоит то «искажение», которое первоначально вызывало протест? Текст Островского, в сущности, остался неприкосновенным. Текстовые перемены не превышают того количества купюр и вставок, какое допускается любым режиссером. «Искажение» выразилось: 1) в перетасовке сцен и установлении между ними новой связи, 2) во введении «лиц без речей» (турчонок, портной и др.), и 3) в сценической интерпретации: сгущении красок, усилении контраста комического и лирического, применении станков и приборов. Все эти «искажения» объединяются одной целью: придать спектаклю памфлетную остроту — сделать его не историческим, а современным.
В свое время — в 50-х годах — Островский выступал, как представитель театрального памфлета. «Обличительное» направление, господствовавшее в литературе, захватывало и сцену. Одновременно с тирадами Жадова («Доходное место») со сцены раздавались — на ту же тему о взятках — речи Назимова («Чиновник» В. А. Сологуба). Островский выделялся и яркостью красок, и меткостью сатиры, и темпераментом, и, главное, динамикой своих пьес. Первое представление новой пьесы Островского всегда было боевым спектаклем — и не только в театральном отношении. Каждый раз это было резким полемическим выпадом, заявлением известных взглядов, вызывавшим энергичную 62 реакцию со стороны зрителей (вспомним славянофильские манифестации на первых представлениях «Бедность не порок»). Сатира Островского была острым памфлетом.
В эпоху Варламова и Давыдова элемент памфлета отпал. Остался один статический быт, с исторической окраской и с упором на колоритное выполнение отдельных ролей. Динамика целого перестала существовать. И на этого «бытового» Островского поднял гонение символизм. Когда Московский Художественный театр вернулся к Островскому (уже на своем закате), он взял его в историческом плане («На всякого мудреца довольно простоты»). Камерный театр подошел к нему с запоздалым символическим истолкованием, подняв его на дыбу модной «конструкции» («Гроза»). И только Мейерхольд — путем проекции на современность — показал первоначальна памфлетную силу Островского, заострив его «натурализм» новыми театральными приемами и освободив динамику диалога от излишней нагрузки. Постановка «Леса» замыкает исторический круг — мимо нее в дальнейшем не сможет пройти ни один театр.
Если «перемонтировка» Мейерхольда показалась «искажением» — то, главным образом, потому, что она разбивала привычный сценический трафарет. «Лес» давно был «дежурной пьесой», которую вытаскивали из архива для «утренников» или на случай отмены репертуарного спектакля27*. Главные роли отлились в прочные шаблоны: плаксивая ingenue (Аксюша), рубаха-парень со слезой (Петр) и т. д. В таком виде «Лес» перестал восприниматься. Нужно было героическое усилие, чтобы освежить «Лес» — вернуть ему ту действенность, какую он имел в 1871 г., когда в первый раз появился на сцене.
II. УСТАНОВКА НА «БУНТАРСТВО»
«Лес» отражает революционный подъем начала 70-х годов. Этим объясняется то, что Мейерхольд выбрал для постановки именно «Лес». Предметом сатиры является тут не торговая буржуазия, как обычно у Островского, а разлагающееся после падения крепостного права дворянство. Быт в «купеческих» пьесах Островского представляется грозным и торжествующим — неприступным, как скала. В «Лесе» быт подвергается полному комическому уничтожению. Молодые силы, идущие против быта, действуют смелее и решительнее. И финал дает им относительную победу.
Изображение быта оживляется и заостряется полемическим противопоставлением ему свободного артиста Несчастливцева. Его устами производится в финале жестокое издевательство над обитателями «Леса»: «Как мы попали в этот лес, к этот сыр 63 дремучий бор? Зачем спугнули сов и филинов?» и пр. Эта тирада, перелетающая за пределы рампы — в зрительный зал, имеет то же значение, что и обращение городничего в «Ревизоре»: «Над чем смеетесь? Над собой смеетесь!» Здесь внезапно открывается лицо автора. И не только над лицами комедии — над всеми зрителями взвивается хлесткий бич сатиры. «Совы и филины» у Островского так же должны быть обращены к зрителям, как и «свиные рыла» в «Ревизоре». Сатирический бич комедии находится в руках Несчастливцева. Его разрыв с бытом делает финал, который разыгрывается в виде грандиозного скандала, с участием всех действующих лиц, как и последнем действии «Ревизора».
В постановке Мейерхольда первое место отводится, однако, не Несчастливцеву — а Аксюше. Это самое существенное отступление от конструкции Островского. Некоторое основание для такого перемещения дается комедией. Главное действие строится на взаимных отношениях Гурмыжской, Буланова, Петра и Аксюши. И в центре — состязание Аксюши с Гурмыжской. Ход пьесы в том, что воля Аксюши торжествует над волей Гурмыжской. Гурмыжская, которая только приказывала — в конце концов принуждена просить — о том, чтобы Аксюша не тревожила ее счастья с Булановым: «Ну, сделай это для меня!» (т. е. уезжай подальше).
С этим центральным действием сплетается трагедия разочарования, пережигая Несчастливцевым. Несчастливцев выступает, как проповедник, благородный свидетель событий, в ход которых он только иногда вмешивается (его вмешательство и создает развязку). Это Дон-Кихот, живущий миражами и принимающий грязную Альдонсу за прекрасную Дульцинею (так он идеализирует в начале свою тетушку Гурмыжскую).
Борьба Несчастливцева в его проповеди. Борьба Аксюши не в словах, а в поступках. Ее сфера — жизнь и деятельность. «Чувство» Аксюши, в котором Несчастливцев видит только драгоценный материал для искусства, нужно ей, как она говорит, «дома» — т. е. для жизни.
Больше десятилетия отделяет Аксюшу от Катерины в «Грозе» (1860 г.). Катерина еще не шла дальше инстинктивного протеста — она гибнет бессловесной жертвой Кабанихи. В Аксюше — этой «девочке с улицы» — появляется уже настоящее, сознательное бунтарство. И в этом бунтарстве — отголосок нарождающейся революции.
Перестройка роли Аксюши — с перенесением центра тяжести на ее «бунтарство» (слегка намеченное у Островского) — и установка на гротескный комизм в сценическом воплощении всего круга Гурмыжской (цветные парики, превращение Милонова в священника) — дали возможность сделать из «Леса» современный, памфлетный спектакль.
64 III. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД
Действующие лица берутся Мейерхольдам в современном плане — т. е. так, как они понимаются сейчас. В каждой роли выделено основное «зерно» — такая черта, которая ярче всего выражает классовую сущность персонажа. На этом классовом признаке строится вся роль. При этом происходит некоторая ломка роли: 1) перемещается ее центр тяжести (напр., в роли Аксюши), 2) отметаются или затушевываются ненужные для целевой установки спектакля психологические или бытовые детали (напр., уничтожены проявления сентиментальности у Аксюши в сцене прощания с Гурмыжской), 3) вводятся новые пантомимные сцены. Таким способом обнажается классовый стержень изображаемого лица. Все комические лица превращены в классовые «маски».
Так обработана роль Гурмыжской. В лице Гурмыжской у Островского обличается разлагающееся дворянство — лицемерное, блудливое и в то же время бестолковое в практическом отношении. На лицемерной «блудливости» Мейерхольд строит свое сценическое изображение Гурмыжской (огненно-рыжий парик, фальшивое низкое контральто, сентиментальное завывание и т. д.). Тот же мотив кладется в основу изображения Улиты, наперсницы Гурмыжской — она является утрированным отражением своей барыни (нелепая прическа, опять фальшивое пение, но уже тонким голосом, с писком — наконец, гротескная поза верхом на брусе).
Комментарием к трактовке Восмибратова может служить то, что говорит Энгельгардт в известных «Письмах из деревни» о деревенских кулаках: «Это самые крайние либералы в деревне, самые яростные противники господ, которых они мало того, что ненавидят, но и презирают, как людей, по их мнению, ни к чему не способных и ни на что не годных»28*.
В постановке резко подчеркнуты и либерализм Восмибратова по отношению к «господам» и его хищные кулацкие инстинкты («Нотариальная контора» и «Объегоривает и молится»). Сценическая внешность Восмибратова носит смешанный характер хищничества и дикости (красная шерстяная борода торчком, заросшая волосами физиономия).
IV. «КОНСТРУКТИВНЫЕ» ОСЛОЖНЕНИЯ
Несчастливцев, по режиссерскому плану, должен занимать серединное положение — между Аксюшей и бытом. Он — «беспочвенный интеллигент», Дон-Кихот в поисках Дульцинеи. И прежде всего — он «барин», Гурмыжским.
65 Отсюда тенденция к его снижению, затушевыванию. В его роли усилен элемент буффонады. Прибавлена (в виде подготовки к грандиозной театральной демонстрации перед Восмибратовым) сцена фокусничества. Сильной сцене с Гурмыжской (когда он берет у нее деньги) придан буффонный, пародийный характер («Сцена из Пиковой Дамы»).
Но совсем снизить Несчастливцева нельзя — по конструктивным соображениям. Он является обличителем «леса». Он делает финал. Его громкий голос служит «основанием» пьесы. Поэтому комическая нагрузка не должна перетягивать — она должна быть в равновесии с другой, патетической стороной Несчастливцева.
Это, по-видимому, учтено режиссером. Во внешнем облике Несчастливцева, начиная с его нарочито-театрального костюма (испанская шляпа — длинный, живописный плащ — мягкая рубаха с открытым воротом), соблюдена условная «красивость». Ему дается благородная романтическая наружность (ореол седых волос над высоким лбом) и мягкий, неторопливый жест. Его ночная сцена с Аксюшей («Между жизнью и смертью») сопровождается лирической музыкой.
Если патетизм Несчастливцева оказался ослабленным, то отчасти по вине исполнителя — т. Мухина. Роль Несчастливцева, в концепции Мейерхольда, требует колоссального размаха. Она строится на резких переходах — падениях и взлетах. Порывы Энтузиазма, отчаяния и самобичевания сливаются в одну стремительную подъемную линию (таков замысел ночной сцены с Аксюшей). Вслед за бурной вспышкой энергии сразу наступает усталость и упадок духа (на этом переходе построен эпизод «Пеньки дыбом»). В этих падениях и взлетах сказывается двойственная социальная позиция Несчастливцева — его шатание, донкихотство, жизненная бесплодность.
Исполнение т. Мухина идет по ровной линии, без падений и взлетов. Голос звучит недостаточно сильно. Поэтому в последней сцене Несчастливцев теряется. Между тем, тут-то ему представляется случай показать свои способности провинциального «оралы». Он должен прорезать общий шум своими репликами — вставляя их в промежутки между шумом. В финале Несчастливцев должен доминировать — иначе режиссер не поставил бы его над толпой на столе.
Социологический метод, как это показывает пример Несчастливцева, вызывает иногда конструктивные осложнения и возлагает на актера трудную задачу: приходится одновременно и снижать и не снижать Несчастливцева, т. е. вести двойную игру. Такие же осложнения возникают в связи с перемещением положения Петра в пьесе.
Конструкция Мейерхольда выдвигает Петра на первый план, вместе с Аксюшей. Но по пьесе он только забитая жертва — бесцветный сентиментальный любовник, играющий служебную роль. Для того, чтобы сделать из него достойного партнера 66 Аксюши, Мейерхольд, не изменяя ни слова в тексте роли, вводит ряд новых моментов: гармонику, гигантские шаги — и таким образом придает Петру новое значение. Из одной энергической реплики Петра в диалоге с Аксюшей («Сейчас мы с тобой на троечку: ой вы, милые!» и пр.) — резко подчеркнутой тремя лихими взлетами на гигантских шагах — создается новый упор всей роли. Центр тяжести переносится на удальство Петра и на скрытые в нем возможности действия.
Виктор Шкловский как-то указывал на противоречие между перемещением Петра на первый план и его положением в сюжете. На языке театра, утверждает Шкловский, взлеты Петра означают уже действительное путешествие. Этим вводится новый сюжет, не получающий дальнейшего движения. После этого с Петром нечего делать: его прячут под стол и т. д. Возражение Это было бы вполне правильным, если бы относилось к написанной пьесе. Но сюжет Петра развертывается не словесно, а сценически (его гармоника — тоже сюжет). Шкловский в данном случае судит, как литератор. Оттого он не замечает пантомимного финала (уход Петра с Аксюшей), который твердо укрепляет сюжетную линию Петра. Последний уход — с повторением лейтмотива гармоники — и есть завершение сюжета гигантских шагов. Перемещение Петра является, таким образом, конструктивно оправданным29*.
V. ОБНАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ
Театральные приемы Островского связаны с приемами беллетристической «натуральной школы» 40-х годов. Островский делает установку на бытовую изобразительность. Бытовой и психологический материал часто заглушает динамический стержень его диалога. Диалоги у Островского не всегда имеют сюжетную или сценическую функцию — во многих случаях они служат целям характеристики (таков длинный диалог Несчастливцева и Счастливцева во II действии). Иногда вводятся повествовательные эпизоды — типичные еще для сатирической комедии XVIII века (сюда относятся анекдоты Счастливцева из его актерской карьеры). Наконец, Островский прибегает к старомодной экспозиции в виде разговора со слугой (пример — вступительный диалог Карпа с Аксюшей).
Мейерхольд свободно преодолевает тяжесть этой нагрузки, редко прибегая к простым сокращениям (оставлены даже некоторые места, которые предлагал сократить сам Островский в письмах к Бурдину). Для этого он пользуется только сценическими 67 средствами: скороговоркой, пантомимными дополнениями, музыкой. Так, напр., скороговоркой произносится рассказ Счастливцева о трагике Бичевкине, который выбросил его в окно. Характеризующий диалог Несчастливцева со Счастливцевым разбивается на части и перетасовывается со сценами первого действия (в доме Гурмыжской). Центр тяжести переносится на ощущение дороги, которое создается целым рядом пантомимных вставок (Счастливцев удит, ловит насекомых, потом оба ложатся спать) и медленным темпом всей сцены, контрастирующим с быстрыми сценами внизу (Аксюша развешивает белье, дает оплеуху Буланову, Буланов и Карп стреляют голубей и т. д.).
Вся постановка строится на динамике диалога. Для того, чтобы обнажить динамическую пружину диалога, Мейерхольд дробит действие на отдельные «эпизоды» — диалогические участки, с единой темой (которая разворачивается до последних пределов экспрессии) и с законченным диалогическим движением. Каждый эпизод образует замкнутое динамическое целое — с завязкой, кризисом и финалом30*.
Особенной отчетливостью обладает эпизод «Пеньки дыбом». Подготовкой грандиозного размаха театральной демонстрации служит мирная сцена фокусов, где дается тема: «театральщина» Несчастливцева. Идет бурный конфликт. Перелом создается «благородной» вспышкой Восмибратова: «Хочешь, барин, я тебя одним словом убью?» (т. е. согласен вернуть деньги). Затем — крепкий финал, с переходом на новое (примирительное) соотношение реплик и на новые интонации. Несчастливцев от бурного негодования через интонацию скорби («О, люди, люди!») — приходит к заключительному: «Руку!»
Динамический размах сцены усилен сценической интерпретацией (грандиозная театральная демонстрация). Весь эпизод 68 построен с расчетом на впечатление действия с равносильной отдачей: напор Несчастливцева вызывает резкую отдачу со стороны Восмибратова (он по-дикарски заражается театральным азартом). Все динамические потенции диалога развиваются до конца. Если Несчастливцев у Островского воздействует на Восмибратова трагической декламацией — то у Мейерхольда разыгрывается грандиозная театральная буффонада с грохотом железного листа, ударами цимбалов, прыжками Счастливцева в костюме черта и т. д. Если Восмибратов говорит: «все отдам» — то по сцене летают полушубки, поддевки, сапоги и пр. Восмибратов стаскивает «все» даже с Петра. И потом это «все» тем же порядком возвращается на место — развернувшаяся лента движения как бы сворачивается обратно (т. е. кулак остается кулаком, несмотря на свою «честь»).
Такой же размах в сцене Счастливцев — Улита, выделенной в особый эпизод «Лунная соната». Дается подготовка в виде томно-пискливых рулад Улиты. Тема: «Счастливцев играет на чувственности Улиты» подчеркивается рядом пантомимных дополнений — и в быстром развертывании вырастает до размеров чудовищного аристофановского гротеска (Улита верхом на поднятом брусе). Момент паузы, обозначающий высшую точку движения (при чем Счастливцев закуривает папиросу) — и затем реакция: отвращение и злость Счастливцева, испуг и разочарование Улиты (переход к новой теме, перемена характера реплик и их соотношения).
Эта гиперболическая экспрессия в раскрытии потенций диалога — не единственный прием Мейерхольда. Он отмечает — посредством тех же пантомимных и иных иллюстраций — и легкие колебания диалога. Для большей четкости применяются — в качестве фона для диалогического движения — сопутствующее механизованное движение или музыка. Параллельно с диалогом на сцене всегда что-то делается: едят, развешивают и катают белье, чистят ружье, моют ноги и пр. Каждый эпизод имеет свой особый динамический фон. Таким фоном являются: 1) танцы и музыка (полька и вальс Буланова, гармоника Петра), 2) работа на вещах и приборах (чистка ружья, развешивание и катание белья, «педикюр» с ведрами и умывальным тазом, накрывание на столе) 3) работа на станках (гимнастика Буланова, гигантские шаги). Изменения в музыке или в аккомпанирующем движении отражают скрытые перебои диалога. Таким образом, скрытый намек в диалоге превращается к сильное движение, сохраняя характер эмоционального нюанса.
Протест Аксюши в первом диалоге с Гурмыжской («Девочка с улицы и светская дама») выражается в постепенном усилении ударов скалки. Скалка служит как бы «динамометром» диалога. Последний удар Аксюши (при словах: «к чему же эта комедия?») вызывает мгновенную «отдачу» со стороны Гурмыжской: она выхватывает и скалку и валек — и бьет со всей силы по столу 69 (при словах: «как ты смеешь?»). Громкий двойной удар Гурмыжской разрешает напряжение и образует финал. Этот финал обозначает временное торжество Гурмыжской («Вот моя воля!»).
Тема любви развертывается на гигантских шагах. Порыв надежды обозначается тремя взлетами Петра при словах: «денек в Казани — другой в Самаре — третий в Саратове». С каждым кругом он забирает все выше — после чего для перехода на повествовательный тон соскакивает с лямки. Размах полета точно передает интонационное движение: чем выше тон — тем круче взлет. Эти три взлета — действительно, гениальная находка31*.
Все эти пантомимные вставки ощущались бы, как ненужные привески, загромождающие пьесу — если бы они не вытекали из диалога и не были захвачены общим диалогическим движением эпизода. Как только слабеет динамическое напряжение — вся эта нагрузка начинает тяжелеть и выпадать из спектакля. Так происходит в последнем эпизоде. Недостаточно силен Несчастливцев, который должен быть осью движения — в то же время идет комическая перегрузка со стороны Счастливцева. И сцена рассыпается на детали — теряется ее динамическая устремленность.
VI. «НАТУРАЛИЗМ»
Возвращение к приемам натурализма — вторая характерная черта постановки (наряду с обнажением динамики диалога). Натуралистический уклон заметен, прежде всего, в обработке жеста. Мейерхольд разрывает заколдованный круг условного Эстетического жеста — будь то изысканный «камерный» жест, или кубический рисунок Радлова — и переходит к живому, естественному, функциональному (утилитарно-целесообразному) жесту. В чистом виде — вне бытовой окраски — этот жест был показан в «Великодушном рогоносце». Но «Великодушный рогоносец» — только лабораторная работа. В «Смерти Тарелкина» функциональный жест имеет уже некоторую бытовую окраску (фигура Варравина). Наконец, «Лес» дает определенно натуралистический жест — с ярким бытовым колоритом32*.
«Био-механика» Мейерхольда была только теорией — пока он не показал Аксюшу в «Лесе». Роль Аксюши (в исполнении 70 Зинаиды Райх) построена на простых, ловких, целесообразных движениях, дающих ощущение народной «ладности» — т. е. сильного, ловкого, правильно функционирующего тела. После такой Аксюши — немыслимой становится традиционная слезливая Аксюша. И выдвигается Аксюша на первый план — именно благодаря разработке жеста.
Комические роли строятся на резко-характерных жестах (при чем выделяется именно классовая «характерность»). Такова, напр., колоритная жестикуляция Восмибратова (в исполнении т. Захавы). Великолепна, в смысле «колорита», сцена в 17-м эпизоде: Восмибратов, прогнанный Карпом, уходит с Петром, оживленно («по-лопахински») жестикулируя правой рукой.
Но этот «натурализм» — конечно, не самодовлеющий, «сплошной» натурализм в духе художественного театра: 1) он подчинен целям максимальной экспрессии, 2) он является широко синтетическим, 3) он определяется смысловым заострением постановки и основан на строгом отборе.
В общий реалистический план спектакля входят и все «иллюстративные» дополнения (механизованное движение, музыка, станки и приборы). Выбор фона в каждом случае соответствует и характеру персонажа, и положению его в данный момент, и основной интонационной окраске сцены.
Так танцы Буланова и бойкие звуки рояля иллюстрируют его развязный тон в последнем диалоге с Несчастливцевым. И все остальные «иллюстрации» к Буланову выдержаны в соответствии с его характером и темой данного эпизода: ружье и голубятня характеризуют времяпровождение «недоросля», гимнастика на стульях передает его карьерные замыслы (в связи с боязнью «сорваться»), примерка костюма («Будущий земский начальник») подчеркивает его положение альфонса при Гурмыжской.
Реплики Аксюши даются на фоне постоянной работы: она развешивает и катает белье, носит воду, накрывает на стол. Катание белья подходит по темпу к диалогу с Гурмыжской (удары скалки отлично демонстрируют резкость реплик). Весь «рабочий» фон Аксюши — не что иное, как развитие одного указания в тексте роли: «я с шести лет уж помогала матери день и ночь работать» (этот мотив сделан «зерном» роли). Другая сторона Аксюши — здоровая веселость — демонстрируется гигантскими шагами, которые выросли из «салазок» Островского (там же: «а по праздникам каталась с мальчишками на салазках»).
Таким образом, мы видим, что все персонажи проходит через спектакль со своим окружением — вещным, музыкальным и моторным (динамическим). На первом плане — работа на вещах, станках и приборах. Вещь (в широком смысле) является только в работе над ней актера. Благодаря этому, оживает весь вещный материал спектакля.
71 Служа для характеристики персонажа, вещь на сцене (в том числе и станки и приборы) является в то же время вполне правдоподобной бытовой деталью. Так гигантские шаги — иллюстрирующие веселость Аксюши — вместе с тем, входят в состав общей картины усадебного быта. Бытовая изобразительность создается, таким образом, сама собой — без установки на нее. И «Лес» Мейерхольда, конечно, даст более яркое ощущение дворянской захолустной усадьбы, чем какие бы то ни было живописные стоячие декорации.
В связи с общим реалистическим планом находится и все оформление спектакля: 1) сценическая площадка без задников, 2) откровенная установка сцены на глазах публики без маскирования музыкой или клоунадой, 3) разрыв с условностью мизансцен (напр., реалистическая установка свадебного стола в последнем эпизоде, с гостями, сидящими спиной к публике — совсем в духе Художественного театра). Все это вытекает из показа подлинной вещи (ведра не декоративные, а подлинные — из Харьковской губернии).
Фокусник, который орудует вещами на эстраде, не нуждается в их декоративном окружении — он строит представление на реальных свойствах вещи. Так и Мейерхольд не нуждается в «декоративном» оформлении спектакля.
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все элементы спектакля сложены в одно целое. Нет лишней нагрузки — ничего статического, декоративного. Все непрерывно функционирует. Благодаря этому, получается своеобразное ощущение силы, как от быстро выпрямляющейся пружины.
Спектакль состоит из ряда динамических кусков, складывающихся в одно стремительное движение. Стремительной темп дается уже «прологом»: крестный ход чуть не на бегу, с иконами и попиком впереди (Милонов у Островского), суетливо помахивающим кадилом направо и налево. Сразу определяется основная сатирическая тема: ханжество Гурмыжской и всего ее круга. Наверху медленно появляется Несчастливцев — возникает патетическая линия. Выходит Аксюша и вносит деловую, рабочую атмосферу: вынимает из корзины белье, развешивает на веревке. Намечаются три линии спектакля: круг Гурмыжской (комический гротеск) — Несчастливцев (трагикомическая линия) — Аксюша (лирическая линия).
Быстрая смена эпизодов поддерживает стремительность темпа. Резче становится контраст комического и лирического. Комизм в финале вырастает в гротеск (пьяные гости, в гротескных позах, сцепившись гуськом, движутся по линии авансцены взад и вперед). Уход гостей Гурмыжской под звуки польского является завершением комической линии. И тут же 72 сильный лирический взмах: прощание Аксюши со слугами и ее медленный уход (с повторением лейтмотива гармоники).
Вдохновенный режиссерский замысел возлагает на актеров огромную ответственность. Весь спектакль построен на темпе и на резкости контрастов. В таком спектакле потеря темпа — «смерти подобна». Ослабление гротескного напряжения, снижение его до фарса (чем грешат оба исполнителя роли Счастливцева — Ильинский и Вельский), равно как ослабление патетической линии — мгновенно нарушают равновесие. Вдохновение режиссера требует такого же вдохновения от актера.
«Лес» до сих пор остается самой значительной постановкой Мейерхольда. Постановка «Леса» — перелом в истории русского театра. Она означает конец театрального «декадентства» и театрального снобизма — и открывает дорогу к простоте и ясности массового, всенародного театра.
Октябрь 1925 г.
73 Борис Гусман
НА ПЕРЕЛОМЕ
(В связи с постановкой «Д. Е.»)
Путь театра Вс. Эм. Мейерхольда от «Зорь» и «Мистерии Буфф» до «Д. Е.», это путь от агит-плаката эпохи военного коммунизма к углубленному агит-спектаклю периода продвижения через НЭП к социализму. При чем это развитие шло по линии не только, вернее — не столько, содержания даваемых театром Мейерхольда пьес, сколько их формального воплощения.
К сожалению, в области драматургии мы за годы революции не имели явления, хоть сколько-нибудь равноценного тому, какое представляет собой театр Мейерхольда в своей области. Поэтому, вероятно, ему по большей части приходилось искать нужный материал у классиков или на Западе, в значительной мере приспособляя избираемые вещи к требованиям момента, натыкаясь часто на косность материала и его непреодолимость (в частности, это произошло и с «Д. Е.»).
Но основная заслуга театра Мейерхольда именно в том, что учету обстановки и переживаемого момента у него подчиняется не только содержание пьесы, но и формальное воплощение ее.
Да иначе, понятно, и не может быть. Художественное явление только тогда может быть гармонично и производить впечатление на «потребителя», когда содержание в нем неотделимо, органически слито с формой, когда при «потреблении» этого художественного продукта даже не возникает вопроса о содержании и форме, как о двух сторонах этого «продукта», когда он воспринимается именно, как нечто органически целое. Все споры о примате формы или содержания повисают в воздухе от того, что нельзя мыслить себе одно без другого в подлинном художественном произведении.
Понятно, что любое произведение искусства может быть таким же сильным орудием классовой борьбы как и другие, при чем, в момент обострения этой борьбы мы не можем быть равнодушны к содержанию художественного явления.
Но нужно также понять, что форма в подлинном художественном произведении, находясь в необходимом органическом сцеплении 74 с содержанием, также агитирует, как и содержание. Ведь не говоря уже о том, что формальными качествами и недостатками определяется художественная ценность того, или иного произведения, в силу этого самого закона об ограничении художественного явления, содержание неизбежно диктует форму, и в зависимости от этого форма может быть для нас также неприемлемой, как неприемлемо содержание. И разве декаданс и ренессанс в искусстве, возникавшие в связи с упадком или возрождением тех или иных общественных классов, касались только содержания? Но выявились ли они в равной степени и в форме?
Огромная заслуга Мейерхольда, повторяю, в том, что в связи с подъемом к общественной жизни нового, бывшего ранее в угнетении, класса, он, становясь в ряды этого класса, совершает по истине революционную ломку театральных форм, подготовляя их для нового революционного репертуара.
В этой работе сразу намечаются те черты творчества Мейерхольда, которые определяют его, как революционного марксиста в искусстве.
Во-первых, Мейерхольд, создавая новые формы революционного театра, не строит их на голой земле. Он не преподносит вам высосанные из пальца схемы, наклеивая на них те или иное ярлычки, вроде: «пролетарская культура», «пролетарский театр» и т. п. Подготовляя форму для будущего социалистического театра, строя театр переходного периода, он использует все богатства культуры буржуазной. Ведь тот кто не замечает, что в своих постановках Мейерхольд часто обращается к истокам старинного испанского, итальянского и, отчасти, русского театра, тот проглядывает многое и существенное в Мейерхольде. Никто, как Мейерхольд, является в нашем театре носителем богатейшей театральной культуры, элементы которой он творчески перерабатывает в своих постановках, все время развивая и обогащая их.
Мейерхольд не соблазнился внешне-революционными лозунгами богдановцев, пролеткультовцев и напостовцев, хотя порою их сближала общая борьба с мнимо-академической косностью и рутиной. Мейерхольд оставался на почве марксизма, проводя его лозунги революционной переработки элементов буржуазной культуры для строительства искусства переходного периода и для подготовки нового, социалистического искусства.
Во-вторых, нельзя не заметить диалектического характера всех его работ.
Вся история деятельности Мейерхольда разбивается, примерно, на следующие три неравномерных по времени периода: если рассматривать всю его дореволюционную деятельность, как первую ступень диалектически триады — тезис, то пооктябрьские постановки (до «Д. Е.») заключают в себе все черты второй диалектической ступени — антитезиса, а его дальнейшие 75 постановки — после «Д. Е.» — дают нам все элементы синтеза. Постановка «Д. Е.», таким образом, стоит на переломе между вторым и третьим периодом деятельности Мейерхольда, и в этом огромное значение этого спектакля.
К сожалению, драматургический материал, с которым имел дело театр Мейерхольда, не дал возможности развернуться этому в высшей степени интересному спектаклю, который в потенции должен был дать яркий тип насыщенного театральностью углубленного агитационного представления. Вообще, как я уже отметил выше, отсутствие подходящего материала заставляло часто театр Мейерхольда обращаться к мало пригодным для его репертуара вещам. В частности, как нам кажется, это произошло и с «Д. Е.».
В основу этого сценария, составленного М. Г. Подгаецким, легли два романа: «Трест Д. Е.» Эренбурга и «Туннель» Келлермана. Уже это соединение двух произведений совершенно различных литературных стилей не могло дать хороших результатов.
В дальнейшем, развитие сценария шло оригинальным путем. Первый проект сценария подвергся критической обработке коммунистов — слушателей высших военных педагогических курсов, ячейка РКП (б) которых является полит-шефом над ячейкой театра Мейерхольда. На основании этих замечаний драматургическая группа режиссерского факультета Государственной Театральной Мастерской им. Мейерхольда под руководством самого мастера предприняла переработку сценария, который затем неоднократно изменялся в течение репетиционных работ над ним. После первых представлений, как в Ленинграде, так и в Москве, было внесено еще много существенных изменений на основании указаний зрителей.
Необычность этого метода и отсутствие опыта в работе такого рода, при всей правильности и полезности ее в условиях новой советской общественности, не могли, конечно, привести к полному выпрямлению драматургических и идеологических недостатков сценария «Д. Е.», который не отвечал, поэтому, требованиям, стоявшим перед театром Мейерхольда в его стремлении создать тип углубленного агит-спектакля.
Но схема для такого спектакля в сценарии была, и в формальном воплощении ее на театре Мейерхольд сумел все же дать образец такой постановки, где ударность агитации сливалась с яркой театральностью.
Сюжетный скелет спектакля несложен: богатеющий Капитализм Америки организует трест разрушения Европы, уже закипающей на революционном огне. В противовес этому и в целях спасения и осуществления грядущей мировой революции, в СССР организуется трест — под конспиративным названием «Радио-трест СССР».
76 Взяв за исходный пункт борьбу этих двух трестов — капиталистического и социалистического, Мейерхольд построил весь спектакль на двух противоположных театральных принципах. Для характеристики отживающего капитализма Мейерхольд выбрал наиболее впечатляющие черты искусства декаданса: патологическую развинченность, нервозность, преувеличенно-шаржированные гримы, движения и т. п. «Советские» сцены, наоборот, выдержаны в строгих, простых и здоровых тонах.
Этот прием, внося своей контрастностью неожиданную остроту в спектакль, проведен через все элементы постановки. Исполнение актеров, их грим, жесты и мимика, сопровождающая спектакль музыка, световые эффекты и даже расположение предметов, составляющих вещественное оформление в этом спектакле — все пронизано этим противопоставлением.
Но особенно характеризует «Д. Е.», как переломный спектакль, его вещественное оформление. Здесь особенно ярко сказалось диалектичность творчества Мейерхольда. Конструктивные установки первого пооктябрьского периода являлись несомненным антитезисом к живописным декорациям. Введенные Мейерхольдом в «Д. Е.» передвижные стены — первый шаг на пути к синтезу.
Стремление к простоте внешнего оформления спектакля здесь нашло наиболее яркое выражение. Однако, при всей своей простоте эти передвижные стены дают самые сложные эффекты, то выстраиваясь в ряд в виде улицы, то окаймляя сцену и создавая, таким образом, впечатление большой комнаты, разбивая сцену на несколько частей, давая простор для параллельного действия, то подчеркивая тем самым темп передвижения исполнителей и т. д.
Элементы синтеза в этих передвижных стенах двояки. Во-первых, в сочетании со световыми эффектами (прожектора) они при своей трехмерности дают живописное впечатление, и во-вторых, вместо полной статичности живописных декораций и относительной динамичности конструкций (при неподвижности всей конструкции динамичность некоторых ее частей), передвижные стены дают нужную абсолютную динамичность, вращаясь на месте и передвигаясь по сцене в нужных направлениях.
И в смысле приемов актерской игры в «Д. Е.» мы также находим элементы дальнейшего движения вперед несомненно диалектического характера. От актеров, исполнявших свои роли без грима и в прозодежде, Мейерхольд приходит к актеру, исполняющему несколько ролей, меняя по принципу трансформации грим и приемы игры.
На этом спектакле впервые с большой яркостью обнаружилось, каких крепких актеров воспитал этот молодой театр, пятилетие которого мы ныне празднуем, и как беспочвенны были все упреки в затирании актеров, в уничтожении их индивидуальности, которые раздавались по адресу театра Мейерхольда.
77 Кроме того, в этом спектакле мы имеем первый шаг к созданию новой театральной маски применительно к новому нарождающемуся репертуару. Если в старинном итальянском театре мы имели постоянные маски доктора, слуги и т. п., то теперь Мейерхольд намечает такие же маски капиталиста, рабочего, соглашателя и др. Применительно к этим маскам, изощряется актерская техника и подгоняется актерское амплуа.
Наиболее полное развитие нашел в «Д. Е.» применявшийся уже и ранее в постановках Мейерхольда принцип введения световых экранов. На двух боковых экранах появляются световые надписи, телеграммы, извещающие о борьбе обоих трестов, и географические карты, олицетворяющие эту борьбу, на центральном — третьем — экране даются, во-первых, названия эпизодов, во-вторых, указания на место действия и характеристики действующих лиц и, в-третьих, агитационные лозунги и различные цитаты, соответствующие отдельным моментам спектакля.
Таким образом, введением этих экранов, углубляется смысл происходящего на сцене, поясняются наиболее запутанные места сценария и подчеркиваются агитационные моменты спектакля.
Переломный характер спектакля «Д. Е.» подчеркивается еще и тем, что здесь впервые с достаточной яркостью Мейерхольдом вводится принцип эмоционального воздействия, так широко развернутый им в последующих постановках.
Таково, в общих чертах содержание постановки «Д. Е.», представляющей собой значительнейший момент и развитии театрального мастерства Мейерхольда. Применяя это свое мастерство и эпоху ниспровержения сказки о «нейтральном» искусстве, театр Мейерхольда ярко доказывает возможность существования остро политического искусства. Театр Мейерхольда, ставя театральное искусство на службу жизни, отнюдь не нарушает театральных канонов, а наоборот, углубляет и развивает их применительно к требованиям жизни. В эпоху обостренной борьбы между трудом и капиталом Мейерхольд сводит театр с нейтральной позиции и заставляет его бороться за победу труда над капиталом, бороться исключительно театральными методами, оставаясь всецело на почве театра.
В этом заслуга театра Мейерхольда и перед новой советской общественностью и перед театральным искусством. Пока театральные «витии» ломают копья вокруг метафизического вопроса о том «что есть марксизм», Мейерхольд уверенно осуществляет практически элементы его на театре.
79 Ник. Извеков
ЗРИТЕЛЬ В ТЕАТРЕ
I
У многих сложилось мнение, что вопрос о зрителе в театре является достоянием последнего времени, что зритель совершенно еще не изучен, но что в то же время это вопрос особо важный. Так ли это? Мы, прежде всего, хотим расчленить рассмотрение этого вопроса, и тогда, нам кажется, вместо огульного представления об этой проблеме, мы сумеем установить те причины, следствия которых и являются задачей нашего изучения.
Прежде всего — интересоваться и печать — понятия явно не совпадающие. Зритель всегда был в поле зрения, по крайней мере, тех, кто близко соприкасался с жизнью театра или был непосредственно его работником, но изучать зрителя, — действительно, никто не изучал. Театральное производство, безразлично, частновладельческого или государственного характера, всегда было заинтересовано в споем потребителе. Учитывался, как спрос, так и покупательская способность зрителя: «Гвоздь сезона», «ходовая вещь», «боевой репертуар» — все это отклики той театральной продукции, которая имеет хороший сбыт у потребителя. Артист хорошо знает, что имея успех у одного зрителя, он проиграет перед другими. Можно подметить, например, очень любопытное районирование крупных актерских имен. В одном городе актера «принимают», в то время, как в другом он «не проходит». Успех в Париже, — далеко еще не обеспечивает успеха в Милане. Москва и Ленинград спокон веков принимали по-разному, как цельные театры, так и отдельных актеров. Исключения были и есть, но они нисколько не разрушают, конечно, этого общего наблюдения.
Предприниматель и артист сугубо интересовались и интересуются зрителем, но изучали ли они его? Конечно, нет. Артист знал, что надо для галерки, что для партера; предприниматель ориентировался в том, кто у него бывает на воскресных утренниках, кто по вторникам и субботам, кто насыщает его театр, на масленицу, но все это, конечно, не изучение, а чисто производственные или коммерческие навыки, очень далекие от научных поползновений.
80 Со зрителем определялась и его покупательская способность. Те же утренники, разные калибры бенефисных цен, абонементы, — все это было, конечно, не случайным, а тесно связанным с театральным рынком и его экономикой, явлением.
В другом разрезе, с другими установками на производство и его сбыт протекал интерес к зрителю в более ранние эпохи существования театра. Наличие такого интереса к зрителю мы неизменно находим и в античном театре, и на площади мистериального театра, и в другие отдаленные от нас эпохи. Вспомним еще, что образование театра есть ничто иное, как выделение зрителя из общей массы участников «действия».
Все это подсказывает нам только одно, что «открыть» зрителя или «изобрести вопрос» о зрителе нам, конечно, не приходится. Зритель в театре, являясь одной из основных групп, на которых базируется искусство театра, не мог не вызывать к себе интереса, он не мог проходить незамеченным и абсолютно неуловимым. Вопрос иной, когда мы говорим о его систематическом изучении, когда через систему мы хотим идти к науке о зрителе, и вместе с тем к науке о театре. Этого не было. Если даже историческое театроведение и то хромает иногда на целые столетия, оставляя лишь, белые листы для будущего историка, то аналитическое театроведение тем более не в силах указать ни на одну из своих областей, где бы его система добиралась до корней театра.
Большую роль в вопросе изучения зрителя и театре сыграла также и основная установка искусствознания на индивидуализацию художника и самостоятельность «творца». От Моцарта и до «Коробочки», от Пикассо и до суздальского богомаза, от Шекспира и до литургии Иоанна Златоуста — всюду хотели найти автора и тем самым объяснить и раскрыть «природу» художественного произведения. Конечно, в таком случае совершенно понятно, почему до нас доходят снимки с артистов, чертежи и планы постановок, воспроизведения масок, но о зрителе доходят сведения, главным образом, только в тех случаях, когда он вел себя, по мнению современников, или крайне неприлично, и тем самым нарушал течение творчества «художника», или наоборот, ярким сочувствием помогал восстановить всю картину торжества «артиста». Словом, история зрителя в театре есть скорее история его эксцессов, если не принимать во внимание отдельные и редкие исключения. Мирное же течение работы зрителя, его творчество во время спектакля, и тем самым, создание спектакля — всегда оставалось в тени истории. Те коренные перестановки, которые сейчас налицо в театроведении, открывают совершенно иные горизонты и возможности для изучения зрителя в театре.
Вопрос о зрителе: — в самом театре явно не новый, да он и не мог быть иным, когда театр всем своим массивом опирается на зрителя. В научно-исследовательском отношении, наоборот, 81 крайне бедный, — в виде исторических справок или разрозненных экспериментов. Явно ложный путь искусствоведения, опирающийся на личность творца — художника, как мы видели, в историческом театроведении привел к тому, что одно из самых существенных слагаемых театра, зритель, осталось не вскрытым.
Таким образом, от первоначально формулированного нами вопроса о зрителе в театре, осталась как бы без ответа его последняя часть, т. е. насколько решение этой задачи особо важно для театра. Нам кажется, что ответ на него нами уже несколько подсказан. Важность этого вопроса прежде всего скрыта в той значимости, которой обладает в театре группа зрителя. Главное значение решения этой задачи заключается не только в том, чтобы учесть и тем самым установить зрителя, а учтя, сохранить его для многотомного труда историка театра, — конечно, нет, гораздо более насущным является для живого театра корректировать спектакль, базируясь на зрителе. Мы могли бы указать на целый ряд опытов, проделанных за последнее время, когда изучение зрителя послужило к ряду изменений, если и не в целом спектакле, то в отдельных и даже крупных его частях. К сожалению, наука о театре и живой театр любят жить в различных зданиях, отделенных каменной стеной. Отсюда, у одних псевдонаучные разработки театральных вопросов, а у других выспренние писания, лишенные экспериментального базиса. Стыки театра и науки о нем только в отдельных работниках и, к сожалению, стыки при этом довольно редкие. Мы не говорим, конечно, о работе над зрителем в театре им. Мейерхольда, работе, еще далеко не законченной, но являющейся, безусловно, научно-экспериментальной. Во всех отдельных случаях и в тех опытах, про которые мы говорили выше, все эти работы хотя и приносили частично реальную пользу, но оставались совершенно незаконченными, а, главное, лишенными методической разработки.
Театр — наиболее динамичный вид искусства, и свою динамику в широком смысле слова он развивает совместно со зрителем. Тем самым уже корректировать спектакль зрителем является крайней необходимостью, но только корректором, конечно, не может быть ни рядовой рецензент, ни завсегдатай кулис, а только весь коллектив зрителей, насыщающий театр, дающий ему жизнь. Театр знает такую корректуру, правда, он называет ее иначе, но не в названии дело, а в тех рядовых репетициях, которые он назначает после открытой генеральной репетиции, чтобы исправить погрешности. Правда, эти исправления чаще всего мерились глазом конструкторов спектакля и близких к театру лиц, но необходимость корректуры видна и здесь. Важно только переложить центр тяжести такой корректуры, и тогда, с одной стороны, мы сумеем сбросить балласт многих лишних постановок, а с другой, установить 82 более крепко на зрителя, а не в пространство, наиболее ценные спектакли. Сколько мест «подается» и «играется» впустую и не только потому, что актер не сумел технически «поднести», а потому, что само «подношение» было «не в плане» того зрителя, которому это «подносилось». Сколько раз режиссер спохватывался и делал купюры после 2 и 3-го спектакля. А сколько раз он не спохватывался?
Часто зритель не успевает в антракте выйти в фойе, как звонок уже зовет его назад, и наоборот, технические затяжки антракта чуть ли не выталкивают его вообще из театра. Все это отражается, конечно, на зрителе, а через него и на спектакле. Антракт вкладывает громадную долю своего участии в спектакль; здесь должен сказать свое слово и зритель, который живет во время антракта, а не просто находится перед фактом закрытого занавеса или потушенных на сцене огней. У антракта была и есть своя техника, но это еще далеко не значит, что ее не стоит ревизовать. Срежиссировать спектакль значит срежиссировать и антракт, но одним из материалов для такой режиссуры будет зритель; его надо знать, и чем лучше, тем больше вероятий на точность и организованность спектакля.
II
Для большей ясности очертаний зрителя в театре, проведем параллель между ним и зрителем в жизни. На этом пути мы прежде всего зададим себе вопросы: что воспринимает зритель в жизни и что в театре?
Митинг, уличное происшествие, лекция, обычный спор, — все это предстоит перед зрителем в жизни в их действительном процессе. В них зритель воспринимает подлинного оратора, лектора, действительно спорящих людей, самую неприкрашенную драку на улице или скандал у остановки трамваи. Все это явно возбуждает ту или иную реакцию в зрителе. Реакцию, объясняющуюся физическим и социальным состоянием наблюдателя. Ясно, что наблюдатель, находящийся всегда в известной среде, социальной сфере, и реагирует под ее углом зрения на происходящее. Это восприятие, независимо от того, повлечет ли оно зрителя к участию в зрелище или оставит его только зрителем, мы обозначим как социальную актуальность, потому что и в том и в другом случае зритель, воспринимая происходящее, будет так или иначе реагировать на него и реагировать под влиянием определенных импульсов, сложившихся в его социальной сфере. Таким образом, мы устанавливаем, что зритель в жизни наделен социальной актуальностью.
Проходя тот же путь рассмотрения зрителя в театре, мы прежде всего установим в театре наличие факта изображения. Театр изображает. Он не дает подлинного оратора, лектора, 83 действительной драки или спора, а только изображает это сценическими средствами или передает в сценическом изображении. При этом есть два момента, которые необходимо осветить ясно и отчетливо. — А что, если на сцене подлинный митинг? Тут может быть два разрешения: или переход театра в подлинную жизнь, или переход митинга в театрализацию. Нюансы этого перехода могут быть самые различные, но переход будет безусловно на лицо. Главную роль, конечно, здесь будет играть не столько отдельный процесс, сколько все его окружение. Можно дать на сцене подлинного оратора, но придав его выступлению театральное окружение, мы тем самым создадим и чисто театральный момент. Такие случаи проходят перед нами почти в каждом массовом празднике, когда самые «настоящие» кузнецы, кожевники, пекаря и т. д., волей или неволей, а делаются в глазах зрителя, «актерами». Нет сомнения, что часто по характеру своего выступления они, действительно, становятся актерами. «Настоящие моряки» в «Д. Е.» у Мейерхольда ни одной минуты не отрывают зрителя от театра, потому что выход их, конечно, театрализован. Пользование фактурой на сцене не разрушает основного устремления театра «изображать».
Так или иначе театр в целом продолжает изображать, и восприятие зрителя направлено на то, чтобы отчетливо впитать это изображение. Это есть рабочая сторона зрителя, тесно примыкающая к работе актера, декоратора, музыканта и т. д. Это есть творческое состояние зрителя, протекающее параллельно творчеству актера. Поэтому, рассматривая зрителя в театре, мы находим у него творческую актуальность, как одно из условий восприятия им спектакля.
В то время как в жизни для зрителя достаточно непосредственно воспринимать то, что перед ним совершается, — зритель в театре, принимая реально протекающее перед ним представление, должен сверх того творчески обрабатывать его, как изображение процессов, расположенных в иных пространственных Я временных плоскостях.
Нам кажется интересным отметить еще один момент обработки зрителем представления. Театр проходит пред ним и как одно из явлений его жизни, поэтому, как и все остальные явления, оно вызывает у зрителя реакцию, направленную по линии социальной актуальности. Таким образом, у зрителя проявляются в театре и творческая и социальная актуальность, которые, соединяясь в одно целое, и образуют собой, главным образом то, что мы называем оценкой спектакля.
Случаи проявления социальной актуальности в театре слишком обычны, чтобы приводить примеры и доводы за ее существование.
Зритель в театре, как мы уже не раз говорили, не является только присутствующим на спектакле, но, наоборот, он создает 84 его, благодаря своему присутствию. В зрителе заложены две основные силы для создания спектакля.
Первая, рождающаяся под влиянием его творческой актуальности, почему и назовем ее активной силой, заключается в той обработке спектакля, которую зритель производит в себе и в сцепке со всем ходом представления.
Назвав первую силу активной, мы полагаем, как ни странно, назвать его другую силу пассивной, заключающуюся в факте присутствия зрителя в театре. Количество занятых мест в театре и импонирующий исполнителям состав зрительного зала — прямо пропорциональны игре актера. Зритель мог еще не проявить своей актуальности, наконец, представление могло еще и не начинаться, а характер его уже может складываться даже в деталях и предрешать весь дальнейший ход спектакля. Вот эту силу зрительного зала — влияние зрителя на актера своим количеством и составом мы и называем пассивной силой зрителя. Конечно, пассивность ее условна, и вся она является только первой ступенью к проявлению зрительным залом активной силы. Это великолепно учитывает и актер; его подчиненность этой силе только предварительное подчинение той же актуальности зрителя.
Конечно, все установления, приведенные нами выше, являются далеко не завершающими, даже предварительное, рассмотрение вопроса о зрителе в театре. Проблематичность их объясняется тем, что слишком недавно этот вопрос поставлен в науке о театре. Вопрос старый, как мы говорили вначале, для живого театра и совсем молодой в его науке. Трудно, а временами немыслимо говорить об анализе зрителя, когда мы не имеем еще ни одной законченной системы его учета.
Коснемся теперь обрисовавшихся основных линий учета зрителя в театре. Таких доминант по учету зрителя мы имеем три:
1) Состав зрителя. Здесь предусматривается возраст, пол, социальное положение, национальность и т. д. Очевидность того, что состав зрителя вплотную влияет на ход спектакля, нами уже утверждалась несколько раз.
2) Насыщение театра и зрительного зала. По этой линии учитывается, как насыщается театр, т. е. время (хронометраж); места, занимаемые зрителем; система посещения: билеты, контрамарки; регулярность и эпизодичность посещения и т. д. Значимость учета по этой доминанте заключается не только в установлении данных, связанных непосредственно с ней, но и в сопоставлении их с данными первой доминанты. Эти сопоставления имеют громадное значение для практики самого театра. Сводка их данных уже раскрывает театру того зрителя, с которым он имеете создает спектакль. Эти данные помогут ему идти от ансамбля представления к ансамблю спектакля. Театр достигает его только тогда, когда знает 85 или угадывает своего зрителя. То, что мы обычно называем «успехом», и есть ничто иное, как достижение, именно, такого «ансамбля спектакля».
3) Поведение зрителя, которое мы будем рассматривать, как реакцию, не только на представление, но и на весь спектакль, т. е., говори проще, на все то время, которое зритель каждый раз проводит в театре. Реакции в зрительном зале на ход представления есть только часть, правда наибольшая, но все хаки только часть реакции зрителя на весь спектакль. Мы говорили уже о значении антракта; не малую роль, кроме него, играет также и то, что ранее называлось «съездом» к спектаклю; наконец, тот же буфет и вешалка, — так или иначе отмечают собой зрителя. Поведение зрителя, как реакция на ход всего спектакля и подтекает под эту третью доминанту по учету зрителя.
Нельзя только рассматривать эти три доминанты, как исчерпывающие данные для всестороннего понимания зрителя. Подтвердим еще раз, что нельзя замкнуть зрителя в колбочку и производить над ним какие-то опыты, якобы в изолированном пространстве. Такие попытки рассматривать «зрителя в себе», — отыскание его «внутренней природы», — было бы простым непониманием задачи изучения зрителя, и вместе с тем и непониманием условий бытия театра. В нем нет ничего изначального, в нем нет ничего самозарождающегося, в нем все извне как и во всяком искусстве, и прежде всего от социального бытия.
III
Теперь обратимся к тому, каким порядком учитывается зритель, или, вернее сказать, какие намечаются методы учета зрителя. Говорить о совершенстве или исчерпывающих возможностях этих методов, конечно, не приходится, но их контуры настолько уже обрисовались, что позволяют сделать хотя бы предварительную их классификацию.
Наиболее ранним из них по происхождению является метод описательный. Его основным признаком служит то, что наблюдатель не ставит своей задачей войти в контакт со зрителем, а, главным образом, полагается на свои наблюдения. Основной критерий здесь — сам наблюдатель, почему и весь этот метод мы могли бы назвать субъективным методом. К простейшему виду его должны быть отнесены и те театральные рецензии, в которых так часто можно было прочесть, что «весь зал замер», «принимали долго и дружно», «номер пользовался исключительным успехом», «публика скучала» и т. д. Таких примеров можно бы было привести громадное количество. Но едва ли стоит о них много говорить в виду их подозрительной ценности, хотя бы даже для поверхностного определения 86 состояния зрительного зала. Все они не точны, условны, взяты на глаз, исключительно субъективны, и тем самым в конце концов ничего не дают для учета зрителя. Такие рецензентские заметки разрастаются иногда до больших глубин театральной критики, но, конечно, не до глубины художественной критики, не до научного исследования.
К описательному методу мы относим, словом, все те записи, которые делаются под влиянием личных впечатлений наблюдателя над зрительным залом. Как пример возьмем так называемую «сплошную запись», практикующуюся в Театре Юных Зрителей (Ленинград). Техника ее такова: наблюдатель (педагог) записывает подряд в течение всего спектакля поведение и все замечания ребенка. Сводка таких сплошных записей может привести к установлению записи всего зала. Не вдаваясь в оценку этой системы, у которой есть, конечно, и свои заслуги и недостатки, мы укажем только на те соображения, которые заставляют нас отнести эту запись к описательному методу субъективных наблюдений. Сделать это необходимо уже потому, что в эту запись частично входят приемы других методов и тем самым как бы нарушают нашу классификацию. Но этого на самом деле нет, так как в нем резко проявляется основной признак этого метода: наблюдатель записывает то, что сумеет записать, или то, что он считает необходимым. Таким образом, вводится момент выборки; а отсюда и зависимость учета от индивидуальной особенности наблюдателя, это-то и заставляет отнести его к указанному выше методу.
Второй метод изучения зрителя — метод опроса или анкетный метод. К нему мы относим, как записи, сделанные самими зрителями, так и ответы, записываемые с его слов наблюдателями. К тому же методу надо отнести и вотирование успеха пьесы, путем опускания шаров или жетонов «за» и «против» в особые урны, поставленные в фойе, коридорах, вестибюле и т. д. Такой способ, практиковавшийся, между прочим, в одном из итальянских театров на первом представлении пьесы Аннунцио, является, конечно, ничем иным, как опросом мнений зрителя.
Что же касается самого метода составления анкет, то можно сказать, что таковой нельзя считать хоть как-нибудь разработанным. Каждая анкета продолжает носить экспериментальный характер и составляется, совершенно не считаясь с опытом предыдущих анкет. Этому изначальному поведению каждой анкеты помогает еще то, что материал по анкетам не только не опубликован, хотя бы даже частично, но в большей части и не обработан, продолжая только накапливаться и не принося почти никакой пользы.
Третьим методом изучения зрителя является учет точных реакций зрительного зала. Прежде всего о формулировке его названия и особенно о «точности» реакций. Она вводится нами, исключительно, для того, чтобы отмежевать этот метод 87 от описательного. В нем пользуются только теми реакциями, которые выражены в процессах, доступных постороннему наблюдению. Таковы, например, смех, выход из зала, аплодисменты и т. д.; наличие таких процессов можно установить совершенно точно, отсюда и условное обозначение учета точных реакций. Наоборот, все то, о чем наблюдатель может только догадываться, путем наводящих заключений, — все это, конечно, не может служить основанием для изучения зрителя по этому методу. Те нее аплодисменты можно рассматривать по нему, во-первых, с точки зрения их наличия, во-вторых, длительности и времени образования (хронометраж), и, в-третьих, локализации; но интенсивности аплодисментов при этом методе мы пока еще не можем учитывать. Так, например, рецензентская заметка «зал аплодировал долго и дружно» может быть проверена по записи этого метода, с одной стороны, по хронометражу (долго ли?), а, с другой — по локализации (все ли, а в сопоставлении с хронометражем и одновременно ли?) В то же время другая заметка рецензента о том, что «артист был встречен громовыми аплодисментами», конечно, остается без ответа в записи по указанному методу.
Число учитываемых реакций зрительного зала всецело зависит от числа наблюдателей, чем больше их, тем большее количество чисто физических реакций зрителя можно захватить на спектакле. В театре им. Вс. Мейерхольда таких учитываемых реакций установлено 20 (тишина, шум, сильный шум, коллективное чтение, пение, кашель, стук, шарканье, возгласы, плач, смех, вздохи, действия, аплодисменты, свист, шиканье, выход из зала, приподнимание с мест, бросание предметов на сцену и вбег на сцену). Их учет заносится на особый отчетный лист (№ 7), форма заполнения которого позволяет впоследствии не только наглядно видеть, как протекал каждый отдельный спектакль во всех его деталях, но и крайне просто вывести чисто графический отчет о спектакле. В этом отчете не только автор или режиссер увидят себя, как в зеркале, но еще большую точность своего отражения получит актер, для которого этот лист может превратиться из аттестата за хорошо исполненную роль в обвинительный акт по спектаклю от такого-то числа. Было бы ошибочным предполагать, что этот метод замыкается внутри зрительного зала, его возможности распространяются не только на учет реакции во время представления, но и на ход всего спектакля.
Кроме указанных нами трех намечающихся методов по изучению зрителя в театре, необходимо указать еще на целый ряд вспомогательных средств. К ним, в первую очередь, относится касса или, при бесплатном спектакле, орган, ведущий распределением мест. В последнем случае громадную роль играют контролеры и турникеты для определения действительного числа зрителей. Рядом с кассой вспомним еще раз о буфете и вешалке, 88 которые хранят в себе большие и показательные данные о театральном зрителе; затем число проданных программ и т. д. Эти, по-видимому, мелочи, при систематическом изучении их могут дать очень богатые результаты.
В заключение вернемся к установленным нами доминантам по учету зрителя и мы увидим, что они далеко еще не улеглись в те методы, которые мы имеем сейчас налицо. Путь к изучению зрителя только намечается; перед нами только ряд отдельных достижений и ошибок, которые, конечно, не бичуют искания, а, наоборот, должны дать еще больший упор для их продолжения.
Без изучения зрителя в прошлом, — нет истории театра; без фиксации его в настоящем — театр движется ощупью, наугад и с большими ухабами в своих достижениях.
Если даже такая маленькая статистическая справка хроникера о том, что Музыкальная Студия МХТ из 37.000 билетов за свои гастроли в Ленинграде продала 25.000 членам профсоюзов, а театр им. Вс. Мейерхольда, во время тех же гастролей, из 50.000 продал 43.000 профсоюзных билетов: если эта справка о 18 % уже дает повод к анализу одновременных гастролей в Ленинграде того и другого театра в 1925 г., то сколько могут дать такие же самые цифры, если мы будем иметь их регулярно день за днем.
Необходимость работы над изучением зрителя вполне очевидна. Но работы не отдельным взмахом, как над модным вопросом, а работы регулярной и повседневной. Она должна питать собой живой театр, а ее результаты откроют совершенно новые горизонты для научного театроведения.
89 Вячеслав Иванов
«РЕВИЗОР» ГОГОЛЯ И КОМЕДИЯ АРИСТОФАНА
|
(Всеволоду Мейерхольды на память о двадцатилетней приязни автора) Редакция, не соглашаясь с автором по целому ряду вопросов (особенно с абстрактно-мистической трактовкой понятия хора и возникновения трагедии), тем не менее дает место его статье в виду крайне интересных замечаний ее конкретной части и ее ценности в дискуссионном отношении. |
I. КОМЕДИЙНЫЙ ГОРОД
В четвергом веке до Р. Х. на развалинах греческих народоправств, из распада всенародной, политической, «высокой» комедии Аристофанова типа, причудливой, крылатой и хищной, как химера, возникла иная, соответствующая муниципальному кругозору комедия, бытовая и обывательская, бескрылая и ручная, как сача обыденность, — и этой-то новой комедии суждено было с той давней поры, благодаря живучести классических форм, господствовать на театральных подмостках по сей день.
Главное отличие Гоголева «Ревизора» от античной мещанской комедии и, в меру разницы, сходство с «высокою» комедией пятого века — в том, что действие его не ограничивается кругом частных отношений, но, представляя их слагаемыми коллективной жизни, обнимает целый, в себе замкнутый и себе довлеющий социальный мирок, символически равный любому общественному союзу и, конечно, отражающий в себе, как в зеркале («на зеркало неча пенять, коли рожа крива» — эпиграф «Ревизора»), именно тот общественный союз, на потеху и в назидание коего правится комедийное действо.
В самом деле, безыменный городок Городничего — своего рода комедийный «Город» (будь то Афины, или Тучекукуевск) древнего Аристофана, и его глупое гражданство так же отвечает, в известном смысле и в известных пределах, выжившему из ума Аристофанову Демосу, как Антон Антонович Сквозник-Дмухановский — управляющему имениями Демоса, отъявленному 90 наглецу, самоуправцу и плуту, пафлагонцу кожевнику. Изображение целого города взамен развития личной или домашней интриги, — коренной замысел бессмертной комедии, замысел Пушкина, который недаром был и «летописцем» села Горюхина.
В согласии с этим гениально новым и смелым замыслом все бытовые и обывательские элементы пьесы освещены со стороны их общественного значения и подчинены историческому началу в судьбах карикатурного государства; все тяжбы и дрязги, наветы и ябеды выходят из сферы гражданского в область публичного права. Существенно, по-аристофановски, комичен «Ревизор» тем, что пошлую мелочность и мерзость быта, основанного на общепризнанной и незыблемой иерархии прав на мошенничество, хищение, самоуправство, насилие и угнетение, представляет он в аспекте предустановленной гармонии некоего социального космоса. И вдруг этот космос потрясается до сокровенных недр, и самый принцип обеспечивающей его бытия иерархии ставится под сомнение: тут уже не семейная или соседская суматоха и свара, а потревоженный в своих глубочайших устоях муравейник.
Целостный образ переворошенного людского муравейника и следует, мне кажется, с всею выпуклостью поставить перед зрителем в будущем, действительно новом, сценическом осуществлении нашего старого, но все еще не исчерпанного ни критическою мыслью, ни театральным искусством «Ревизора». Эта черта его — основная и, в рассуждении стиля, наиболее своеобразная.
II. ПЕРЕЛИЦОВКА «РЕВИЗОРА» НА СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПОШИБ
Сам Гоголь провозглашает, что в комедии выставлены не отдельные, обособленные лица, и не их особые домашние дела, а «выведен Город», как собирательное лицо… Но из этого совершенно правильного положения вытекали затруднительные для автора последствия.
Мучимый тревогой о том, что пьеса его толкуется превратно и опасно, как огульное осуждение всего наличного порядка и строя (ведь осмеяны в ней не подробности общего уклада, не частности быта, а сам город), — ища выяснить себе самому ее внутренний положительный смысл, который должна же она в себе таить, так как он, сочиняя ее, ничего не хотел ею опорочить, кроме самого порока, — Гоголь пишет «развязку Ревизора», дабы вверить общественной мысли «ключ» к здравому разумению не разрушительного, а только назидательного авторского замысла. «Извольте, я дам вам ключ», — говорит он в «Развязке» устами первого комического актера, — «всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе… Да, над собой смеемся!» Но что же иное этот гнилой наш 91 Город, — Город, который оставляем мы сами, — если не Россия в ее целокупном бытии?.. Чтобы уклониться от рокового вывода, сочинитель явно лукавит: «Все до единого согласны, что этакого города нет во всей России». Не замечает он, что его упрямое: «одним словом, такого города нет!» — выставляет комедию лишенною жизненной правды, и, следовательно, несостоятельною. Впрочем, у хитреца припасен «ключ»: оказывается, что живой на сцене, но во внешней действительности не существующий город есть «душевный город» каждого человека, что «плуты-чиновники» суть «страсти» в нем, Хлестаков — «ветреная, светская, продажная, обманчивая совесть», а наша истинная, «проснувшаяся» совесть — подлинный Ревизор.
За эту попытку свести на «нет», на душеспасительную притчу, объективный акт общественного сознания — лет на сто у нас на Гоголя обиделись. Теперь, когда комедия сделала свое историческое дело, мы можем отнестись к замысловатому толкованию беспристрастно. Вез сомнения, это — чуждый поэтическому созданию примысел, — соображение не Гоголя-художника, а Гоголя-стража над художником, — догадка постороннего созерцателя и самоиспытателя, ошеломленного потрясающим зрелищем, о нечисти, расплодившейся в его собственном подполье, о мрачной и отвратительной тайне носимого им в себе самом многоликого внутреннего мира. Но если произведение истинного искусства многосодержательно, как сама жизнь, и, оставаясь тожественным самому себе, говорит разным людям о разном, это размышление об аналогии между общественной организацией и организацией личного сознания, поскольку оно не принудительно и не идет дальше уподобления, само по себе остроумно и глубокомысленно. Не стирая ни йоты в написанном, оно не отменяет прямого смысла пьесы и не притупляет остроты ее непосредственного действия. Наконец, с точки зрения стилистического анализа, оно любопытно и поучительно тем, что опять и по-новому обличает бессознательное тяготение Гоголя к большим формам всенародного искусства: как в первоначальном замысле мы усмотрели нечто общее с «высокою» комедией древности, так сквозь призму позднейшего домысла выступают в пьесе-оборотне характерные черты средневекового действа.
Дело в том, что тот другой Гоголь, которого мы только что назвали сторожем над художником, был в свою очередь художник, и вымышленное им оправдание своего творения было новым художественным преображением последнего. Он уже по-иному видел «Ревизора» — нравоучительную притчу в лицах, на идеальной сцене воображения, и его позднейшее суеверное видение разительно по своей средневековой наивности и силе. Нельзя отрицать своеобразную красоту примитива в этом зримом превращении города плутов в город чертей. Ибо не в одном Хлестакове, но и в других действующих лицах, изображающих 92 человеческие страсти, должны были все явственнее сквозить бесы, а слова: «Что смеетесь? Над собой смеетесь!» принадлежат, по определенному указанию в «Развязке», на «не какому-нибудь рассердившемуся городничему», а «самому нечистому духу»… Но не об этом болезненном сне, приснившемся поэту по написании «Ревизора», идет у нас главная речь, а о «Ревизоре» наяву.
Как бы то ни было, — внешний или «душевный», осязаемый или невещественный (пусть даже зараз тот и другой), — но всячески перед нами, по замыслу Гоголя, «Город». И если, медленно вглядываясь в созданный им образ, постепенно распознает в нем художник «город души», как психического единства действующих в человеке многообразных сил, — не значит ли то, что с самого начала организующая мысль его была сосредоточена не на разрозненных комических масках, а на собирательном лице единого во множественности своих частных проявлений общественного целого?
III. ТЕОРИЯ ВСЕНАРОДНОГО СМЕХА
Другою выдумкою мнительного Гоголя, в оправдание собственного двусмысленного дара «комической силы» (vis comica), была великолепная теория всенародного смеха, и это новое, всеми одобрительно выслушанное и никем музыкально не расслышанное, толкование «Ревизора» опять должно быть признано замышлением великого художника.
Смех, который берет в союзники Гоголь, — не тот рассеянный и забывчивый смех, каким забавляющаяся толпа сопровождает веселые перипетии и острые словца ручной комедии. Тот не сплавляет заградившихся друг от друга людей в созвучном порыве и, как бы ни был он дружен, не гремит победным утверждением какого-то всех объединяющего положительного начала; а Гоголь требует от сцены столь мощного действия, чтобы «все потряслось снизу до верху, превратясь в одно чувство, в один миг, в одного человека, все люди встретились, как братья, в одном движении» («Театральный Разъезд»). Гиперболическое, как всегда, воображение нашего поэта, «перелетев на крыльях лебединых двойную грань пространства и некой», уносит его, неведомо для него самого, в далекие времена и земли, где сверкала и пела иная комедия, какою испытывал себя и закалял свою волю свободный народ.
Этот смех для поэта реальное лицо. «Странно, мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное, благородное лицо, действовавшее в ней во все продолжение ее. Это честное, благородное лицо — смех» («Театр. Разъезд»). — Конечно, лицо: собирательное лицо слиянного в единомыслии народа. Встанет светлый демон смеха во весь свой рост, — и возродится великая комедия. «Смех создан 93 на то, чтобы смеяться над всем, что позорит истинную красоту человека. Возвратим смеху его настоящее значение!» («Развязка Ревизора»).
Всенародный смех есть целительная, кафартическая сила «высокой комедии»: так мог бы выразить свой постулат Гоголь на языке древних эстетиков. Аристотель уже не пережил психологически последней, и потому знает «очистительное» действие только трагической музы. «Возмущает только то, что мрачно; а смех светел. Многое бы возмутило человека, Выв представлено в наготе своей; но озаренное силою смеха, несет оно уже примирение в душу» («Театр. Разъезд»).
Над кем же смеется соборно смеющийся народ? Над собой же салим, видя себя, каков он в низменно-житейском своем убожестве. «Посмеемся великодушно над мерзостью собственной!.. Но возмутимся духом, если какой-нибудь рассердившийся городничий, или, справедливее, сам нечистый дух, шепнул его устами: — Что смеетесь? Над собой смеетесь! — Гордо ему скажем: — Да, над собой смеемся…, потому что слышим приказанье высшее быть лучшими других» («Развязка»).
Признаемся, что в красноречивых похвалах очистительному смеху не все, на наш слух, звучит верно и убедительно, — кое-что, напротив, фальшиво: сентиментально, отвлеченно и искусственно. В обсуждении вопроса, относящегося к эстетической категории форм коллективного самосознания, нельзя безнаказанно быть только моралистом. Восторг Гоголя всегда музыкален, его рассудок моралистичен. «Высокая» комедия древности, морали чуждая, была равно по формам, как и по духу, музыкальна. Сделав эту оговорку, попытаемся показать, что гоголевский идеал всенародного смеха весьма близок задачам, какие она, комедия пятого века, себе ставила и столь же просто, сколь удачно, разрешала.
IV. ПАРАБАЗА В «РЕВИЗОРЕ»
Аттическая комедия разнилась из утвержденного и упорядоченного законодательством республики, в форме назначаемых государством публичных состязаний, карнавального обычая потешных музыкально-декламационных выступлений перед собравшимся в театре народом с вольными шутками и насмешливым, порою издевательским зубоскальством над ним, как собирательным лицом, его политикою и нравами, его выборными правителями и партийными вожаками, его именитыми, влиятельными или иначе заметными людьми.
Это прямое обращение к народу, именовавшееся «парабазою», составляет исторически-первоначальное ядро комедии. Лишь мало-помалу обросла парабаза поэтическим вымыслом, лицедейством, сюжетом фарса, злободневного по тенденции, фантастического по фабуле, несдержанного и непристойного 94 по тону и пошибу. Примечательно, что неотменною и, по-видимому, исконною особенностью разыгрываемого фарса (указывающего на его независимое от парабазы самостоятельное происхождение) была ссора, тяжба, драка и ругань двух ожесточенно спорящих сторон. Все действо вел и архитектонически расчленял на акты последовательною чередой музыкально-орхестических выступлении, непосредственно связанных с моментами развития фабулы, химерически-причудливо или чудовищно обряженный хор, главный участник изображаемого невероятного происшествия.
Но в определенное мгновение комическое действие, еще не доведенное до конца, внезапно прерывалось, актеры неожиданно сбрасывали свои соответствующие ролям смехотворные личины и, вместе с хором, перестроившим свои ряды, открывали под Звуки флейт воинственное наступление на первые ряды зрителей. В ритме военного марша они вплотную надвигались на них и бросали присутствующим в лицо обжигающие стихи ругательной парабазы. Им отвечал, если не свист, смешанный с бранью, то гомерический хохот смеющегося над собой самодержавного народа.
Впрочем, афинское гражданство недолюбливало этих порою слишком откровенных домашних сцен на чужих глазах, в присутствии посторонних свидетелей, и комическому поэту надлежало иметь такт и знать в насмешке меру, особливо на больших празднествах, которые привлекали наплыв иноземцев. Да и вообще смелое слово и самый успех стоили ему нередко крупных неприятностей; административного взыскания, политического процесса, непосредственного и опасного возмездия задетой партии. Недаром молодой Аристофан, на первых шагах своей драматургической деятельности, укрывается за известным именем почтенного и потому щадимого собрата по ремеслу и выступает перед народом впервые от своего липа не иначе, как заручившись надежною защитой сильной политической корпорации. Достаточно напомнить приведенные факты, чтобы мечта Гоголя о всенародном смехе-суде не показалась вовсе оторванною от действительности хотя бы и чуждого нам мира. Но этого мало, и не бесплотная мечта поэта нам важна сама по себе, а его воплощенное творение. И вот, с некоторым удивлением находим мы в «Ревизоре» замечательный рудимент той самой парабазы, которая была отличительным признаком и как бы печатью древней «высокой» комедии. Ибо, что иное Этот выпад исступленного городничего, обращенный не столько к окружающим его действующим лицам, сколько к зрительной зале? — «Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего… Вот, смотрите, смотрите, весь мир, все христианство, как одурачен Городничий… И будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? Над собой смеетесь! Эх, вы!..»
95 И впечатление, намеренно созданное этим выпадом, естественно соответствует, в ослабленной только степени, тому раздражению, какое вызывала парабаза. Ибо древние Афины, конечно, слыхивали, по окончании новой комедии, ропот Семена Семеновича (в «Развязке»): «какое неуважение, какая дерзость! Я этого даже не понимаю, как сметь сказать в глаза всем»… — и согласие с ним Петра Петровича: «Слова эти произвели точно странное действие, и, вероятно, не одному из сидевших в театре, показалось, что автор как бы к нему самому обращает эти слова».
V. ХОРОВОЕ НАЧАЛО В «РЕВИЗОРЕ»
«Высокая» комедия, служа запросам гражданской общины, нуждалась в хоре, как в художественном выражении общественной идеи, как в символе самого народа, глядевшегося в свое комедийное отражение, и потому всецело покоилась на хоровой основе. В комедии четвертого века, пережившей независимость Греции и переставшей служить голосом свободного народоправства, хор закономерно и быстро вырождается в декоративный придаток, бесполезно задерживающий течение пьесы, и наконец не только атрофируется как архитектонический принцип формы, но и как внутренний нерв действия замирает.
В «Ревизоре», при сравнительной оценке комедии в цепи ее историко-литературной генеалогии, мы наблюдаем мощно поднимающуюся волну хоровой энергии. Она давно онемела, эта хоровая волна, но здесь мы явственно слышим ее напряженный прибой. Весь город движется и настороженно гудит уже в то время, когда городничий совещается с чиновниками о роковом госте. Толпа настойчиво заявляет о себе с третьего действия; с рокотом подступает она к берегам сценической площадки, а в конце пьесы как бы вся перед нами, и к ней, бессловесно торжествующей, — а через нее и к нам, беспечно смеющимся, обращает негодующий Городничий свой обличительный монолог.
Так «Ревизор» составляет редчайшее исключение в ноной драматургии по силе выражения хорового начала, искони заложенного и органически, хотя бы сокровенно и пассивно, присутствующего в сценическом действе. Излишне настаивать, что в художественно-адекватном поэтическому замыслу воплощении пьесы на сцене эта хоровая природа ее должна быть соответственно выявлена.
В сущности, говоря о хоровой силе «Ревизора», мы констатируем в категории формы то, что уже было преднамечено анализом содержания. Если комедия есть изображение города, как собирательного лица, очевидно, что действие ее явно ли или внешне-невыявленно, но всецело, как мы сказали о комедии Аристофана, покоится на хоровой основе.
96 Само отношение между хором комедии и сонмом зрителей одинаково у Гоголя и Аристофана. Народ комедийного города и мы, народ, собравшийся на зрелище, — одно и то же: ведь мы, по мысли поэта, в зеркало глядимся, над собою самими потешаемся. Те маски на сцене — мы сами, ряженые, в лице нашей представительной группы. И в то же время мы различны: мы, зрители, возвышаемся над нашими личинами и преодолеваем их, поскольку сознаем их собой и в них над собою смеемся. Если же бы мы про то забыли, в любое мгновение лицедеи, сбросив маски, предстанут нашим глазам нами самими и напомнят нам в глумливой «парабазе», что они — это мы.
VI. ХОР И ГЕРОЙ
«Всякое творение искусства, — писали мы33*, — есть результат на взаимном искании основанного взаимодействия двух начал: вещественной стихии, подлежащей преобразованию, и действенной (актуальной) формы, как идеального образа, своим отпечатлением на вещественной стихии, поскольку она таковое приемлет, — ее преобразующего».
В искусстве сценическом первое начало, т. е. стихия, подлежащая оформлению, не косная материя (как в скульптуре — мрамор), а живое человеческое множество. Поэтому оформление в сценическом искусстве, в отличие от других искусств, может быть только свободным самооформлением коллектива. Так как сценическое искусство осуществляется, подобно музыке, во времени, самооформление коллектива происходит, в виде действия, на наших глазах. Дабы оно было свободным, необходимо, чтобы в самом оформляемом коллективе самопроизвольно возник почин оформляющего движения. Носителем этого почина является личность, выделяемая множеством. Имя объединенному множеству, как собирательному лицу, хор; имя значительной личности — герой.
«Героизм в действе есть энергия перестроения и внутреннего изменения пребывающей в устойчивом равновесии среды значительною личностью. В ней воплощается действенная форма, воздействующая на преобразуемую стихию. Приятие последнею этого воздействия или сопротивление ему составляет содержание действа. Итак, сценическое искусство определяется, по отношению к преобразуемой стихии, как действо сонмищное, общественное, хоровое или соборное, по отношению же к преобразующей форме — как действо героическое»34*.
Хоровое начало — плоть драмы, принцип ее внутреннего здоровья, условие ее устойчивости и жизненной силы. При силе 97 хорового начала драма не нуждается в сложной интриге (как не нуждается в ней «Ревизор»), выигрывая зато в простоте и мощи. В меру ослабления хорового начала трагедия становится патологической («Гамлет») комедия — анекдотической. Поскольку зачинательная личность выделяет из своей среды хор, норма драмы: каков хор, таков и герой. Чем углубленнее и чище соборное сознание, чем величавее собирательное лицо хора, тем возвышеннее и трагичнее в дерзновении своего одинокого почина герой. Трагический герой при комическом хоре неизбежно становится в большей или меньшей мере комичен сам (Дон-Кихот).
«В бытовой драме или комедии понятие (хоровой) общественности совпадает с понятием бытовой среды. Черта героизма и черта общественности дальше всего отстоят одна от другой, как высота и глубина, при наибольшем возвеличении героя и сближаются по мере понижения личного почина до простой человечности и, наконец, повседневности. Пределом этого сближения является такая промежуточность и середина между духовною высотою и глубиной, такая поверхностность и посредственность, на уровне которой уже и сам герой лишь ничтожнейший из ничтожных мира, или, быть может, медиум какого-нибудь мелкого беса, вздумавшего обезьянить творческое дерзновение»35* … И вот, перед нами — Хлестаков.
Такова норма отношений между героем и хором, заложенная в самой природе драмы и потому наиболее ярко выраженная в ее раннюю пору; ее относительное затемнение в новом театре — только следствие его первородного греха — измены хору. Когда в умах афинского народа пошатнулись устои прежнего определенного миросозерцания и крепких нравственных убеждений и мысль его, затуманенная софистическими бреднями, стала подобна облакам, Аристофан выводит хор облаков и героем комедии делает их избранника архисофиста Сократа, живую Эманацию превыспренней, надутой и пустопорожней, отвлеченной, бесформенной и потому податливой на какую угодно форму облачности.
Обращаясь к «Ревизору», мы видим, что выше указанная норма выявлена в нем с резкою отчетливостью. Перед нами «среда, пребывающая в устойчивом равновесии», — стоячее, мертвое болото. Все оно вдруг приведено в движение «значительною, героическою личностью». И все перестраивается и меняется в нем, творится болотное светопреставление и страшный суд, возвещается даже будущая болотная жизнь: во всяком случае коллектив эпилога уже не тот, что в начале действия.
«Но Иван Александрович Хлестаков», — возразят нам, — «не городом выделен из его среды, а в город пожаловал из пространств. Как некий deus ex machina, из трансцендентных облаков 98 шлепнулся он и гнилое болото, рассыпав мутные брызги и подняв всякую дрянь и нечисть до дна». Мы ответим: и Эдип пришел в Фивы чужаком странником, но пришел туда, — хоть и сам того не знал, — потому, что был Фивянин. Пусть с облаков упал Хлестаков, чтобы взбаламутить болото: эти облака были испарениями его родной трясины. Нет он не deus ex machina, а плоть от плоти и кость от кости Города, который не только ждал его, но и магически вызвал к бытию, вдохнув в него свою мысль и волю. Ибо он сам не знает, кто он, но Город внушает ему, актом творящей чудеса веры, что он и есть «неведомый посланник». И недаром живет он себе под лестницей в трактире «недели уже две», прибыв еще «на Василья Египтянина», и ни о какой «значительной деятельности» и во сне не грезит, а только в чужие тарелки заглядывает с голода. Он легко приживается к Городу и уже почти в нем укореняется, потому что всегда был, если не в этом, то в другом таком же, хоть и пришельцем по паспорту, но по душе исконным гражданином. Покамест он только потенция и материал для творчества; творчество же берет на себя сам Город и на наших глазах создает из него свою зачинательную личность, своего героя, своего — «ревизора».
VII. МЫСЛИМАЯ ПОСТАНОВКА «РЕВИЗОРА»
В заключение, несколько намеков на сценические возможности такой постановки «Ревизора», которая бы, как в глубоком рельефе, показала существенные черты, роднящие его с большим всенародным искусством былых веков, а не затемняла этих его особенностей, как по необходимости бывало и бывает до ныне, при обычном и самому Гоголю единственно известном устройстве сцены.
Но так как мыслимая нами постановка является условно-ознаменовательной и уже никак не согласуется с тем, что принято называть реализмом сцены, — необразимо устранить одно принципиальное сомнение. По многочисленным, особенно в письмах, указаниям Гоголя, актеры при исполнении «Ревизора» должны были тщательно избегать, как в игре, так и в одежде и гриме, комедийной условности. Автор запрещает им всякое преувеличение и требует полного правдоподобия. Игры простой, вдумчивой и естественной желал бы он, и кажется, что верность действительности ему дороже всего. Пусть будет так по отношению к игре; но, что касается стиля, этим трезвым наставлениям противоречит собственная манера драматурга. Правило, преподанное актерам, поэта, по-видимому, не связывало. При изучении «Ревизора» бросается и глаза именно комедийная условность превосходного в своем роде письма, и намеренно балаганных мазков не тушит искусственное 99 освещение рампы. Думал ли Гоголь, что того, что он позволил себе самому, в смысле комического шаржа, шутовства и нарушения реалистической меры до явного неправдоподобия, с избытком достаточно, и актерам остается скорее смягчать, нежели усиливать, допущенные им приемы? Как бы то ни было, мы в наши дни уже не можем больше обманываться и называть реализмом у Гоголя то, что еще недавно слыло таковым. А это развязывает нам руки в дальнейших наших соображениях.
Возможно ли не прятать, как это до сих пор делается, то собирательное лицо, о котором единственно написана пьеса, не заслонять его индивидуальными масками, но показать сам Город — весь, как на ладони? Это возможно при условии снятия кулис и загородок и удвоения драмы мистическим представлением всего, что происходит за кулисами и что упоминается или подразумевается в диалоге, — на большой сценической площади, где бы, как это бывало в средневековых действах, по разным местам расположены были разные постройки, служащие центром действия в отдельных актах. Мы видели бы в средоточии сцены отворяющийся наружу и являющий приемную дом Городничего, с мезонином — наблюдательной вышкой любопытствующих дам; ближняя пристройка, в роде флигелька, служила бы покоем почетного гостя. Поодаль, с одной стороны пестрел бы трактир, и взгляд проникал бы внутрь каморки под лестницей; с другой стороны хмуро вытянулись бы казенные дома, благоугодное заведение с больными в колпаках, почта, школа, суд и тюрьма.
По краю сценической площадки торговали бы купцы, толпился бы мелкий мещанский люд и деревенские гости и наблюдал бы за благочинием Держиморда. Обрамлялась бы сцена дворянскими домами, с устьями улиц меж них, откуда выбегали бы и где исчезали Бобчинский и Добчинский, в поисках новостей. Все бы жило и двигалось, вначале по заведенному порядку, потом в постепенно возрастающей тревоге. И молекулярные движения муравейника, по мере нарастания всех охватывающего смятения, естественно слагались бы в массовые действия мистического хора.
Этих намеков, думается, достаточно, чтобы составить по ним, — точнее, извлечь из наличного текста пьесы, — ее подробный сценарий. От нас, читатель, знающий хорошо «Ревизора» и не лишенный воображения, такого сценария не потребует.
Рим, сентябрь 1925 г.
101 Н. Конрад
ТЕАТР КАБУКИ
Современная Япония знает и культивирует очень большое число всевозможных театральных жанров. Не говоря уже об общем различии между жанрами «большими» и «малыми», между сложным зрелищем на особо устроенной сцене в специальном Здании, в исполнении большой и специально организованной труппы, с одной стороны, и полутанцевальным представлением на берегу моря, в исполнении местных рыбаков, — с другой, японские города знают не менее двух основных, исторически обусловленных театральных жанров: европейский и национальный.
Европейский театр в Японии фигурирует прежде всего в своем настоящем, подлинном виде. Это — театр переведенных с европейских языков пьес, пользующийся обычным для Европы устройством сценической площадки, по возможности, — таким же типом самого театрального здания; главное же — применяющий, или, вернее, пытающийся более или менее удачно применять традиционные способы европейской актерской техники. Коротко говоря, это — Европа на японской почве. Тот же Шекспир, с одной стороны, Чехов — с другой, только произносимые по-японски.
Такой театр — совершенно закономерное для Японии явление. Пересадка европейских театральных жанров на японскую почву целиком укладывается в общее русло процесса европеизирования Японии, обусловленного, в свою очередь, точными и ясными историческими причинами. В одной области переносится токарный станок или аэроплан, в другой — эстетическая теория или театр. Различие только в объекте, сущность же явления — одна и та же.
К этому «европейскому» театру тесно примыкает театр, который можно было бы назвать «европеизированным». Под этим именем приходится разуметь тот жанр, который не столько перенесен, сколько создался на японской почве, но создался при этом, под прямым и всепоглощающим воздействием европейского театра. Иначе говоря, не Ибсен, но «под Ибсена», т. е. с перенесением всех отличительных черт драматургии 102 Ибсена на японский по содержанию материал: не Гауптман, но «под Гауптмана»: пьесы — из японской жизни, но сконструированные так же, как и пьесы Гауптмана и разыгрываемые приблизительно так же, как разыгрывались бы эти последние. Театр и не вполне японский, так как японское содержание влито в европейские формы; и не вполне европейский, так как эти европейские формы несколько пригоняются все же к особому японскому содержанию, несколько приспособляются к нему. Другими словами, — новая японская драматургия, развивающаяся всецело под влиянием европейской.
Такое явление опять-таки целиком и полностью закономерно с точки зрения социально-исторической. Поскольку Япония в середине XIX века решительно вступила на путь европейского развития, поскольку ее социальная структура и быт приняли характерный европейский, по своей экономической сущности, облик, постольку в порядок дня стали те же культурные тенденции: театр «проблем», скажем, Ибсена вызвали к жизни, так называемые, «мондай-гэки», «пьесы с вопросами» у его японских последователей. Если европейский театр в Японии есть просто чисто европейское явление, только перенесенное в другое место, «европеизированный» есть явление параллельное соответствующему факту на европейской почве
Национальная театральная стихия в области «больших» жанров формируется уже из совсем других элементов и питается уже совершенно другими культурными факторами.
Прежде всего — иной ее генезис.
Театр Но есть просто на просто театральный жанр XIV – XV веков, любовно культивируемый известными слоями японского общества и до сего времени, и притом в своей характерной исторической форме и обстановке. Устроители представлений Но стремятся показать их в таком же виде, в каком они фигурировали в XV веке, — в эпоху своего расцвета. Иначе говоря, в лице Но мы имеем совершенно точно разработанное, имеющее свой канон, считающее этот канон ненарушимым и, в нем застывшее театральное искусство.
Хронологически это искусство связано с XIV и XV веками, социологически — с японским самурайством, вторым сословием, особенно с его верхушкой — феодальной аристократией. Жанр Но в своей основе — самодеятельный театр феодальной знати при дворе самих властителей Японии тех времен — сегунов Асикага36*. Но в своем целом — придворно-аристократический театр XIV – XV века.
Театр Кабуки исторически связан с совершенно иным социальным слоем: он родился в недрах третьего сословия в эпоху феодальной империи Токугава (XVI – XIX век), в частности — в городе Осака. Богатые купцы и зажиточные ремесленники 103 городов (Осака, а за тем Эдо37*), сильные экономически, как представители народившегося торгового капитала, создавали в это время и свою культуру. Их сильнейшая культурная активность вызвала к жизни и новый театральный жанр, целиком сливавшийся с их интересами, вкусами и потребностями. С середины XIX века японское третье сословие превращается постепенно в капиталистическую буржуазию, сильнейшим образом европеизируется, но сохраняет еще во многом традиции своей собственной исконной национальной культуры; любовно сохраняет и поддерживает и свой традиционный театр. Кабуки генетически и по существу — театр городской буржуазии.
Однако, этот театр не един по своему содержанию. Не говоря уже о том, что его историческая судьба еще в эпоху феодализма показала две фазы его развития: так называемое «старое» и «новое» Кабуки, — уже в новое время можно установить наличность целого течения, стремящегося к каким то новым формам Кабуки, основанным на старых, от них не отрывающимися в основном, но пользующимися и тем, что может быть признано ценным для Японии в области европейского театра. Это, так сказать, — попытка обновить старое, токугавское искусство Кабуки, сделать его более адекватным, более «созвучным» так сильно изменившейся со времен феодализма японской буржуазии. Националистическая стихия, пока еще в значительной мере переполняющая эту буржуазию, мешает ей променять свой традиционный театр на новый европейский; но новый дух европеизма, внедряющийся в нее все более и более, заставляет стремиться к каким то изменениям и в области национального театрального искусства, при сохранении в основе его специфических признаков. Поэтому, наряду с историческим национальным буржуазным театром, в Японии существует новый национальный буржуазный театр, стремящийся, с одной стороны, уложиться в общее русло национального театра, как такового, с другой — отвечать запросам нового городского Зрителя.
Таковы основные театральные жанры в современной Японии с их главными разновидностями. Все они существуют, процветают и развиваются, и их жизнь обусловлена тем, что каждый из них имеет свою публику, имеет свою опору в известной социальной среде.
Чисто европейский театр смотрят наиболее передовые силы японской интеллигенции — в силу органического интереса и сочувствия к нему и в силу родственности психического уклада; его же смотрит передовая капиталистическая буржуазия — более из своеобразного «снобизма», чем из действительно культурного интереса; посмотреть на европейскую пьесу идет и токиосский 104 лавочник и рядовой рабочий, — но больше всего, как на любопытную и подчас забавную для него экзотику.
Европеизированный театр имеет своего зрителя в лице широких кругов японской интеллигенции, присматривающихся к своей жизни, стремящейся ее осознать и видящей в театре «отражение» этой жизни с ее проблемами, с одной стороны, и орудие для доведения этих проблем до сознания широких кругов общества, — с другой. Если же пьеса достаточно мелодраматична, сдобрена фантастикой или представляет собой сценически обработанное действительное, всем хорошо известное происшествие, иначе говоря, — достаточно злободневна, ее идет смотреть и массовой городской зритель.
Театр Но — удел особых любителей и гурманов, ценителей архаических форм, театральных эстетов. Жанр Но культивируется особыми обществами любителей, «друзей искусства Но», и никак не рассчитан на массового зрителя. Очень часто Но — просто закрытое представление. Любители Но вербуются большей частью из среды бывших самураев, феодальных аристократов, из тех элементов новой капиталистической буржуазии, которые представляют собою не «новых» людей в этом кругу, а потомков родового феодального дворянства. Ценителей. Но не мало и среди остатков интеллигенции старого типа, восходящей еще к интеллигенции XVIII и начала XIX вв., происходившей преимущественно из того же самурайства. Не мало приверженцев Но и в среде потомков «именитого» эдосского купечества, в свое время составлявших своеобразную аристократию третьего сословия. Для широкого зрителя театр Но не существует.
Наиболее массовым театром в Японии является, вне всякого сомнения, театр Кабуки — во всех его внутренних разновидностях. Его пьесами восторгаются до самозабвения, его актеры пользуются совершенно ненаблюдаемой в Европе популярностью. Театр Кабуки ходит смотреть вся японская буржуазия во всех ее слоях; театр Кабуки доступен, близок и понятен и массовому рабочему зрителю, живущему еще почти целиком в национальной и националистической стихии; этот же театр с большим, часто, правда, невысказываемым, но несомненным удовольствием смотрит и бывшая родовая знать, волею судьбы уже сходящая со своего аристократического пьедестала и растворяющаяся все более и более в общей массе буржуазии. Несмотря на свою европеизацию, Япония — все еще Япония; наиболее широким, национальным театральным жанром в ней является Кабуки; поэтому он и пользуется наибольшей популярностью.
Национальные особенности театра Кабуки начинаются прежде всего с самого театрального здания. Само собою разумеется, театральное здание Кабуки пережило и свою эволюцию; 105 в первые времена существования этого жанра, как нам хорошо известно, это здание, если даже вообще можно говорить о таковом в строгом смысле этого слова, было значительно иным. Однако, здесь не место вдаваться в историю; кроме того же, во всей постепенности перехода к современному типу, здание Кабуки сохраняет до сих пор свой основной принцип: дерево, как материал и своеобразное внешнее и внутреннее устройство, как форму.
Употребление дерева, как основного строительного материала, вызванное определенными чисто, хозяйственными причинами, давно уже стало в Японии принципиальным. Дерево — единственный материал, допускаемый национальным культом Синто для своих храмов; дерево — основной материал для торжественного ритуального обихода. В жилищной технике дерево до сих пор неоспоримый материал — во всяком случае для всех внутренних украшений: балок, колонн, потолков, шкафиков, полочек вт, в. В области обработки дерева японские строители достигли изумительного искусства, доходящего до особенной виртуозности в резьбе и орнаментальном использовании. На таком именно принципе материального и орнаментального использования дерева построена традиционная архитектура здания Кабуки. Не говоря уже о том, что этим самым театральное здание как бы укладывается в общий архитектурный облик японского города, не говоря уже о том, что этим создается привычное материальное окружение для зрителя, сама сущность дерева, как материала, создает впечатление особенной внутренней наполненности всех этих стен, колонн, балюстрад, внутренней «теплоты» их колорита и «интимности» их тона. С другой стороны, дерево позволяет создавать гамму балюстрад, столбиков, перекрытий и перегородок, столь характерную для более или менее затейливого японского дома. Наконец, деревянный орнамент обусловливает возможность самого разнообразного использования любого места поверхности.
С точки зрения внешней структуры, здание Кабуки обычно стремится к более или менее выдержанному «стилю Момояма» т. е. к той архитектурной форме, которая ассоциируется преимущественно с эпохой Тоётоми Хидэёси, с концом XVI в.; стремится по той причине, что будто бы в это время сложились те архитектурные принципы, которые столь важны, между прочим, и для театрального здания.
Об этих принципах легче всего судить со слов самих японцев. Один из современных театральных деятелей говоря о типе здания для японского театра, в связи с появившимся стремлением заменить традиционный тип европейским, высказывается так:
«Конечно, европейское театральное здание неизмеримо лучше японского и с, точки зрения зрительных удобств, и со стороны 106 акустики, и в отношении пожарной безопасности, но это самое европейское здание из за этого упускает из виду самое главное, самое основное для театра. Если бы кто-нибудь для японского театрального искусства построил такое именно здание, его бы следовало назвать разбойником, губителем этого искусства. Основное требование, предъявляемое к театральному зданию — не зрительное удобство, не акустическое совершенство, не пожарная безопасность, но две вещи: 1) гармоничность и 2) соразмерность. И в чем должны проявляться эти два начала прежде всего — это в том, чтобы весь стиль здания соединялся в единое целое с самим характером театрального искусства и его формами. Поэтому, точно так же, как не гармонирует с маленькой японской комнатой фигура, облеченная в европейский костюм, никак не укладывается в одно целое японский оркестр на сцене, в своих традиционных наплечниках, с обрамлением сцены в стиле рококо…».
Автор признает закономерность и культурно-историческую оправданность появления на японской почве и европейских театральных зданий — в роде пресловутого «Imperial Theatre», Тэйкоку-Гэкидзё в Токио; он считает, что раз новые времена, то и новые требования; поскольку существует европейский и европеизированный театр, постольку необходимо и подходящее для него здание. И тем не менее автор категорически заявляет: «Я не колеблюсь утверждать, что европейский тип постройки здания для театра Кабуки абсолютно не подходит»; «если меня спросят, какой же тип пригоден для Кабуки? — я отвечу: без всякого сомнения — только чисто японский»!
Все эти заявления японского театрала любопытны не столько тем, что они ратуют за сохранение национального типа театрального здания пред лицом наступающей европеизации и в этой области, сколько тем, что все они основаны на одной, для японцев само собой разумеющейся, мысли: каждый театральный жанр требует и необходимо подразумевает свой собственный тип театрального здания. Несмотря на все растущее использование одного здания для разных жанров, в Японии до сих пор все-таки по существу, сохраняется это положение.
Лирические пьесы Но даются обычно в особо устроенных, часто временных, специально для данного цикла воздвигнутых постройках, ничего общего не имеющих со зданием Кабуки. Это последнее имеет свою собственную физиономию как в общем — стиль Момояма, так и во внутреннем устройстве: самой площадки, вращающейся сцены, ходов для прохода актеров через зрительный зал на сцену — т. наз. «ханамити», особого устройства партера, лож и т. п. Никому в голову не придет давать на сцене Но пьесу Кабуки. Да это немыслимо и по существу: в Но и Кабуки мы имеем совершенно различные требования как к зданию, так и зрителю. Если же Но иногда и можно видеть в Кабуки, то, во-первых, это — не настоящее подлинное 107 искусство этого жанра по существу (другие актеры, другая постановка), а во-вторых, это — и не для настоящего зрителя Но.
Каждый жанр культивируется в своем собственном архитектурном окружении, составляющем, по слову нашего автора, «вместе с характером данного театрального искусства и его формами единый целостный комплекс».
Такими специфическими зданиями в Токио являются ныне: Кабуки-дза, Синтоми-дза и Итимура-дза — известные центры национального театрального искусства, в противовес чисто европейским: Тэйкоку-дза и Юраку-дза.
Особый театральный жанр, предусматривающий и особое театральное здание, обусловливает также и свою организационную форму. Помимо особой драматургии, актерской школы, особого стиля исполнения и даже здания, театр Кабуки имеет и свою специфическую организационную структуру.
С организационной точки зрения театральное объединение, культивирующее жанр Кабуки, возглавляется директором. Этим последним может быть и какой-нибудь театральный предприниматель-коммерсант, и главный основной актер труппы, и автор-писатель. Очень часто в одном лице соединяется и главный актер, и коммерсант, иногда же, а в прежнее время почти как правило, — актер, и автор, и коммерсант. В современной Японии хорошим примером соединения в одном лице и актера, и антрепренера является знаменитый Морита Канъя. Так или иначе, во главе всего театрального дела всегда стоит одно лицо, так сказать — главный руководитель театра «Когёси» или «Когёсю». (Иначе Дза-сю или Дайю-мото).
Все, подчиненное главному руководителю, театральное предприятие делится на два управления: хозяйственное (Омотэ-гата) и художественное (Гакуя). Одно ведает всю финансово-хозяйственную сторону, второе ведает уже самую театральную часть.
Во главе хозяйственного управления стоит свой особый заведующий — Тёмото, т. ск. главный администратор театра, работающий под указанием и контролем директора. Ему подчинены:
1) Офуда, — ближайший помощник администратора по всем отраслям хозяйственного управления театра, работающий, по японскому выражению: «на все четыре угла и на все восемь сторон», т. е. универсальный работник «на все руки» по административно-хозяйственной линии.
2) Нака-тёба, — заведующий финансовой частью.
3) Уриба, — заведующий зрительным залом, регулирующий распространение билетов, в частности — через всякие, состоящие при театре чайные домики, ведущий учет посетителям и т. п. Во время спектакля он со своими помощниками восседает на особом возвышении, как в партере, так и на балконе, и следит 108 с этой верхушки за зрительным залом. По этой причине его ходячее театральное обозначение — «Накаба» — «верхушечник». Главное его местопребывание, впрочем, все же не столько балкон, сколько наблюдательная «вышка» в партере.
4) Оириба, — заведующий фойе, главным образом, впуском и выпуском публики.
5) Кококу-гакари, — заведующий рекламой, должность, появившаяся в театре Кабуки в сравнительно недавнее время.
6) Яку-гакари, — заведующий, так сказать, внешними делами театра: проведением пьес через цензуру, получением полицейских разрешений на спектакль, наблюдением за надлежащим состоянием личных документов актеров и т. д.
Во главе художественного управления (гакуя) стоит руководитель всей зрелищной стороной предприятия. Его японское обозначение — окуяку, «заведующий внутренними делами», и он представляет собою ответственного руководителя всей постановочной частью. Иначе говоря, в его ведении находится вся группа, драматурги театра, оркестр, сцена, со всем ее оборудованием, реквизит, бутафория, гардероб, весь личный состав, специально обслуживающий актеров и т. д.
Очень часто таким главным заведующим художественным управлением и имеете с тем главным режиссером является главный актер труппы, чей авторитет во всем актерском коллективе общепризнан, и указаниям которого все естественно подчиняются.
Главными подчиненными ему элементами в театре являются:
1) Тодори, — помощник заведующего, главный исполнитель всех его распоряжений и указаний, руководящий всеми деталями постановочной части. Между прочим, в его специальном ведении находится весь младший состав труппы, так сказать — «студия театра».
2) Вайю, — актеры, делящиеся на два основных разряда: главных — «надай» и вторых — «надайсита».
3) Сакуся, — авторы-драматурги. Их в каждом театре бывает обычно три-четыре человека, из которых один обычно находится на положении главного писателя театра и, в качестве такового, именуется тогда «тати-сакуся».
Эта исторически сложившаяся организационная структура является, конечно, только основой, допускающей различные модификации и частичные отклонения в зависимости от отдельных конкретных условий данного театрального предприятия. Тем не менее, в основных чертах, она удерживается во всех театрах, культивирующих жанр Кабуки в его подлинном и чистом виде.
Если вся эта организация, в своей хозяйственной части, не представляет собою ничего особо интересного с точки зрения оригинальности и своеобразия, то в области художественного управления этого своеобразия достаточно много.
109 Прежде всего, крайне характерна структура самой группы. Своеобразным, отличным от всех других актерских коллективом признаком такой труппы является прежде всего ее происхождение. Каждый актерский коллектив японского национального театра возник и образовался не случайно. Он — порождение какой-нибудь определенной школы, какого-нибудь особого направления в области актерской игры и, отчасти, в области драматургического жанра. Каждая сложившаяся труппа представляет собою какие-нибудь театральные традиции, отличные от того, что имеется у их собратий; представляет собой какую-нибудь особую ветвь общего целого жанра Кабуки. Японская труппа — не безлична; это — не механическое объединение нанятых на артистической бирже актеров, но органическое единство определенной школы: не собрание отдельных актеров, но подлинный коллектив.
Пополнение такого коллектива происходит не извне, но изнутри. Новый актер восходит на арену из недр самой же труппы. Он — ученик какого-нибудь мастера, какого-нибудь из старших членов коллектива. Он — питомец студии данного театра, прошедший долгий и нелегкий ученический и подмастерский стаж. Новый актер — органический член группы еще и потому, что он обычно живет ее жизнью с детства, часто с младенческих лет. Очень часто это — сын какого-нибудь из старших актеров, если не родной, то усыновленный и, во всяком случае, сын по духу, по всему психическому укладу, по мастерству.
В своем первоначальном генезисе труппа органически нарождается вокруг какого-нибудь большого мастера — основателя, обновителя или блестящего представителя какого-либо жанра. В своем дальнейшем развитии она растет, питаясь теми силами, которые уже нарождаются в ней самой. Театральных школ, как таковых, для Кабуки нет. Есть труппа, актерский коллектив, включающий в себя, как членов единого семейства, и учеников, сыновей театра.
Соответственно такому особому характеру театрального коллектива, все актеры разделяются на группы, прежде всего по признаку своего положения в труппе. Этих групп две:
1) Мастера (надай) и 2) ученики (надай-сита).
Первая группа носит очень любопытное японское название: «надай», что лучше всего будет передать по-русски — актер, «имеющий особое имя». Это отнюдь не следует понимать, как нечто метафорическое, в смысле репутации, славы и т. п. «Иметь имя» — это значит иметь право называться каким-нибудь определенным, своим именем.
Актеры группы «надай» носят освященные историей и традицией специальные актерские имена, заменяющие им не только в театральном обиходе, но фактически и в жизни — обычные.
110 Нося свое «собственное» имя, эти актеры имеют, следовательно, и свой собственный, признанный и узаконенный, актерский стиль, соответствующий и находящийся в тесной связи с их именем. Словом, это — актер, с определенной художественной физиономией, самостоятельно культивирующий свой особый стиль, — конечно, в общем плане данного театра, — и, соответственно этому, носящий сценическое имя; это — мастер в полном смысле этого слова.
Любопытно отметить, что в числе прерогатив, принадлежащих этой высшей «степени» актерского посвящения, значится и такое: мастер имеет право иметь свою отдельную уборную.
«Ученики» по-японски обозначаются словом «надай-сита», что значит буквально «находящиеся под актерами с именами». Это обозначает актеров низшей степени, группирующихся вокруг отдельных мастеров данного театра и заимствующих от него школу и стиль, работающих в плане и диапазоне его амплуа. Они не самостоятельны ни в чем; они целиком входят в орбиту действия своего мастера и, как таковые, не имеют права носить собственное имя: они носят актерскую фамилию своего патрона, артистического отца и учителя. Если мастер зовется Мацумото (фамилия) Косиро (имя), — его ученики именуются Мацумото-такой-то; впрочем, и то — не обязательно. В театральном смысле они, в сущности говоря, безличны.
В чисто бытовой плоскости положение этих учеников-подмастерьев характеризуется, между прочим, и тем, что они не имеют права жить вне общежития своего театра. Они живут все время в известной степени оторванно от всего окружающего, живут в специфической театральной атмосфере, всецело пропитываются духом своего театра.
В связи со всем этим приобретает большой интерес вся постановка вопроса об актерских именах в Японии.
Существует, так сказать, некоторая «сумма» актерских имен. Ее размеры в известной степени можно назвать величиной более или менее постоянной: она не колеблется слишком Значительно.
Происхождение этих имен объясняется всецело историей Кабуки. Жанр этот существует около 300 лет. За это время он дал целый ряд великих актеров, создавших, оформивших или развивших его в целом, или его отдельные стороны; имена Этих великих деятелей Кабуки — священны в истории этого театра. Такова первая предпосылка этого явления.
Эти великие актеры работали над созданием, оформлением и развитием всего жанра Кабуки в целом. И в то же время они создавали свой собственный индивидуальный стиль, манеру, свойственную только им одним и никому другому., Эти стили отдельных знаменитых мастеров представляют собою величайшую ценность в сокровищнице искусства Кабуки. Приемы игры 111 какого-нибудь великого мастера — священны в глазах всякого актера Кабуки. Такова вторая предпосылка.
На основе этих двух предпосылок получается соответствующий результат. Кабуки блюдет строжайшую преемственность, прежде всего, конечно, школы и традиций, а потом — в соответствии с этим, и имени. Манера игры великого мастера постепенно переходит к его ученикам, прямым или косвенным; с его смертью, или с его уходом со сцены — к лучшему из них переходит и его имя.
Таким образом, великие мастера Кабуки живут как бы вечной художественной жизнью. Они постоянно художественно возрождаются в новом, лучшем носителе данной манеры игры. Получаются особые актерские династии, основанные на принципе не биологического родства, но художественно-артистического единства, Дандзюро I — умер, но после него народился Дандзюро II, III и т. д. К имени каждого из великих актеров современного театра Кабуки всегда прибавляется обозначение вроде: «кудаймэ» (IX), «годаймэ» (V) и т. п.
Однако, этого мало. Актер, получивший какое-нибудь определенное имя, не остается с ним навсегда, если только оно не является именем совершенно первоклассного мастера — представителя высшей степени актерской иерархии. Каждый актер Кабуки в продолжении своей сценической деятельности несколько раз свое имя меняет.
Перемена имени знаменует собою обычно конец одного этапа в развитии данного актера и начало другого. Каждый актер за время своей работы проходит ряд последовательных, ступеней своего развития и своей театральной деятельности. Факторы, движущие этим процессом, бывают разные, но в общем они сводятся к трем типам: известную роль играет вступление актера в определенный возраст; большое значение имеет Эволюция приемов игры, которая может становиться глубже, лучше, разработаннее, богаче по диапазону, шире по своему применению к различным амплуа; серьезную роль играет и изменение приемов, способствующее известному закреплению актера на каком-нибудь определенном амплуа. В результате — перемена имени. Новому содержанию должно отвечать и новое наименование. Актер расстается с тем именем, которое было символом прежней полосы его развития, и принимает новое, обозначающее новую его стадию. Получается, приблизительно, такая картина: первое имя — имя своего мастера, учителя, — соответствующее ученической стадии в развитии данного актера; второе имя — уже самостоятельное, означающее переход актера на свой собственный путь, с которого он начинает свою карьеру; третье имя — то, с которым зрелый актер утверждается в своем специфическом жанре и стиле; и, наконец, может существовать и четвертое имя, с которым актер заканчивает свою сценическую деятельность. Так, например, известнейший Удзаэмон, 112 актер Токиосского театра Кабуки, любимейший артист всей Японии, прошел три этапа своей самостоятельной артистической карьеры: сначала он играл молоденьких девушек и назывался тогда Такэмацу; затем он перешел на роли мужчин разных амплуа и стал носить имя Капицу; наконец, он утвердился преимущественно на ролях «героев-любовников» и получил имя Удзаэмон.
Этим своеобразным путем достигается очень многое для Кабуки. Таким способом поддерживается живая традиция этого жанра, сохраняется преемственность всей школы, целость всего театрального мастерства. Однако, не только это: этот же принцип ведет и к постепенному обогащению искусства Кабуки новым адекватным ему материалом. Каждый новый Кикугоро не только продолжает стиль своего театрального предшественника, но и вносит в него кое-что и от себя. Не выпадая из общего плана искусства этого предшественника, он, невольно, подчиняясь просто фактору времени, в известной степени это искусство трансформирует. Каждый мастер, как бы ни был он тесно связан традицией своего имени, всегда вырабатывает свой собственный стиль: хоть и тот же Кикугоро, но все-таки не IV-й, а V-й, т. е. представляющий, в сущности говоря, пятую стадию в развитии того стиля, что был установлен Кикугоро I-м. Порукой этому обновлению традиции служит не только надзор актерского коллектива, обычно всегда зорко следящего за самостоятельной работой каждого своего сочлена, но и вердикт публики, без санкции которой такое переименование никогда не происходит. Японская публика в Кабуки, чуткая, театрально воспитанная и образованная в театральном смысле, обычно превосходно разбирающаяся хоть и интуитивно в традициях этого искусства, всегда утвердит приговор только в том случае, когда, с одной стороны, она признает в данном кандидате на какое-нибудь имя наличность лучших черт искусства его предшественника по этому имени, с другой — его собственную, индивидуальную талантливость.
С точки зрения характера исполняемых ролей японские актеры делятся на четыре группы:
I. Актеры на мужские роли (Татияку).
II. Актеры на женские роли (Ояма).
III. Актеры на детские роли (Кодомояку).
IV. Актеры на роли животных.
По характеру изображаемых лиц первая группа включает в себя следующие главные амплуа:
1) Герой (Татияку).
2) Злодей (Катакияку).
3) Комик (Докэяку).
4) Молодой человек (Вакасюяку).
5) Старик (Родзинъяку).
113 Вторая группа — женские роли — распадается на три амплуа:
1) Героиня (Химэяку).
2) Молодая девушка (Мусмэяку).
3) Старуха (Родзинъяку).
Роли детей особой дифференциации не имеют; что же касается актеров, исполняющих роли животных, то здесь мы находим два главных амплуа:
1) Амплуа лошадиных ног.
2) Амплуа обезьяны.
Наиболее интересным местом во всей этой системе различных амплуа для европейца является несомненно исполнение в Кабуки всех женских ролей мужчинами. Кабуки не знает актрис: в актерский коллектив входят только одни мужчины.
Это своеобразное явление имеет, конечно, свое историческое объяснение. На самой заре существования этого жанра в состав труппы входили одинаково и мужчины и женщины. Однако, очень скоро, в силу специфических условий своего быта, а также в связи с положением актера в обществе того времени, как отверженного, эти актрисы превратились в проституток и, по причине своего большого успеха на этом поприще, оказались опасным соблазном для добропорядочности честных горожан.
В виду этого вскоре же воспоследовал полицейский эдикт, воспрещающий пускать на сцену женщин и руководителям Кабуки пришлось поневоле заменить их мужчинами.
Такова историческая сторона дела. Однако, в настоящее время никто не подходит к этому явлению строго исторически. За долгое время существования Кабуки такое положение превратилось в догму, в театральный канон, и в качестве такового обрело и свою эстетику, свое художественное оправдание.
Основным мотивом сохранения системы ояма на сцене Кабуки служит прежде всего это соображение ее каноничности. То, что возникло, в конце концов, по случайному поводу, за несколько веков существования Кабуки настолько упрочилось, что вошло органической частью в состав всего жанра. По мысли представителей такой точки зрения — «нельзя масло мешать с водою», нельзя женщину пускать на подмостки Кабуки вместе с мужчиной. История сделала театральную сцену Кабуки и женщину двумя совершенно несовместимыми и несоизмеримыми явлениями. Женщина в театре Кабуки — историко-каноническая нелепость.
Так подходят к вопросу ревнители театральных традиций, апологеты исторического канона, представители охранительных тенденций. Несколько иначе рассуждают не столько историки, сколько теоретики искусства Кабуки.
Теория театрального искусства Кабуки лучше всего воспринимается по аналогии. Писатели этого типа очень часто проводят параллель между театральным жанром Кабуки и живописным 114 жанром Укиёэ. Между этими двумя явлениями японского искусства существует, по их мнению, полнейшая аналогия. Эстетика Укиёэ есть в то же время эстетика Кабуки и наоборот.
Суть этой эстетики заключается в том, что Кабуки и Укиёэ одинаково подходят к проблеме изображения. Они никогда не стремятся изобразить действительность, внешний мир так, как он дается глазу, обычному человеческому восприятию. Повторять природу и жизнь ни Кабуки, ни Укиёэ никогда не собирались. Они хотели дать действительность и только одну действительность; в этом смысле они целиком пропитаны реалистическими и частично натуралистическими тенденциями. Однако, эта действительность дается ими своеобразно отвлеченной, так сказать, вынутой из своего реального окружения, отъединенной от своего реального содержания, показанной в каком-то другом аспекте.
И это вовсе не затем, чтобы как-то символизировать действительность, но только в целях настоящей, подлинной правды. Укиёэ, рисуя гротескную фигуру лавочника, считает, что дает настоящего лавочника, только в облике той подлинной правды, которую наш рассеянный взор обычно не замечает. Кабуки, давая образ ужасного злодея, полагает, что показывает то, что есть на самом деле, только подмеченное более острым и умеющим рассказать о своем впечатлении глазом.
При такой постановке вопроса ясно, что женщине не место на сцене театра. Женщина, по мнению сторонников этой теории, на сцене, в сущности, всегда играет самое себя. В большей или меньшей степени, но всякая актриса на сцене неотделима от себя самой, как данной, конкретной женщины. Она всегда слишком конкретна, полна определенной житейской личностью. Поэтому она по самому характеру художественного замысла Кабуки на сцене последнего — нонсенс.
Иначе подходит к вопросу третья группа апологетов системы ояма, также принадлежащих отчасти к числу теоретиков этого жанра. Их рассуждения сводятся к следующему:
Все театральное искусство Кабуки целиком зиждется на одном краеугольном камне. Единственной основой всего искусства Кабуки является — мастерство. Принцип мастерства, актерской техники доминирует над всем прочим в Кабуки, ему подчиняются все прочие составные элементы этого жанра. В соответствии с этим каждый образ, даваемый актером, должен им рассматриваться сквозь призму этого мастерства, создаваться посредством мастерства, и в аспекте мастерства же показываться другим. Сквозь эту же призму рассматривают всякое достижение актера и театрально воспитанные зрители Кабуки. И коль скоро так, женщине опять не место в труппе. Прежде всего по существу: женщина органически не может оставаться в плане одного чистого мастерства, она всегда привносит, так 115 сказать, «нутро», эмоциональную струю, может быть и вдохновение, но нечто такое, что органически несвойственно всему жанру. Давать на сцене продукты чистого мастерства, переключать вдохновение внутреннего порядка в сильнейший подъем технического мастерства может только мужчина. Это — во первых. Во вторых же — какая заманчивая задача для мастера дать на сцене женщину! Когда семидесятилетний Утаэмон играет молодых очаровательных девушек; когда театр, замирая от восторга, следит за его движениями, жестами, позами; когда молодые девушки, бывшие в зале, потом, придя домой, начинают учиться на его игре тем движениям, которые свойственны им, иначе говоря, начинают учиться, как быть настоящими девушками, — тогда старик Утаэмон может сказать себе: он мастер — в полном смысле этого слова. С точки зрения чистого, отвлеченного мастерства настоящую женщину на сцене может дать только мужчина.
И ни в коем случае не наоборот. Нельзя говорить, что подлинного мужчину на сцене может дать только женщина. По своей природной структуре она может давать только самое себя, даже в плане женских образов. Тем более же в плане мужских. Она не в состоянии прежде всего дать мужчину, как такового: для этого она не может достаточно полно и интенсивно перейти в сферу чистого мастерства. Тем более же она не может давать различных мужчин: героев, комиков и т. д. Женщина, исполняющая роли женщин на сцене Кабуки — технический нонсенс.
Так строится в настоящее время идеология театра Кабуки в области этого вопроса. И не смотря на все попытки создать актрису для этого театра, существующий канон до сих пор серьезно непоколеблен: в этом жанре продолжает царить полновластно мужчина — актер.
Следующим любопытным пунктом и структуре японской труппы является наличность особых актеров на роли животных.
Одной из главных ролей этого репертуара представляется роль обезьяны. Роль эта по своему характеру — чисто танцевальная. Все действия актера в этой роли сводятся к передаче свойственных обезьянам кривляний и прыганья в своеобразном танцевальном оформлении.
Гораздо существеннее и ответственнее роль «лошадиных ног». Именно ног, а не лошади в целом, по той причине, что Зрителю видны только две пары ног актеров, заменяющих собою ноги лошади; вся же верхняя часть их туловища скрыта в бутафорском корпусе лошади, который держится у них на плечах.
Появление такой театральной лошади на сцене Кабуки обусловлено несомненно совершенно реальными причинами и опять-таки исторического порядка. Все первоначальное устройство 116 театра Кабуки не допускало появления на сцене настоящей лошади: прежде всего под ее тяжестью мог провалиться помост. Кроме того известную роль сыграла общая непривычность японцев к лошадям и обывательском быту, неуменье с ними обращаться и приучать их к сцене. Словом, по целому ряду чисто технических соображений театр Кабуки отказался от живой лошади и прибег к бутафорской. И как водится, это-новое театральное явление получило и свою идеологию.
Прежде всего — японский зритель. Он никогда не смог бы примириться с живой лошадью на сцене. Это было бы величайшим оскорблением его человеческого достоинства. Ход его мыслей был бы приблизительно таков; театр — лучшее проявление человеческого искусства и вдруг в него вторгается «тикусе», буквально — скотина. Это все равно, что какое-нибудь животное в обществе людей, собака в жилой комнате. «В театре — и лошадь?» — такое сочетание для японского зрителя совершенно неприемлемо.
Этот протест зрителя настолько органический, что не сопровождается обычно даже никакой эстетической надстройкой. Эта же последняя, поскольку она существует, сводится в сущности к соображениям того же порядка, как и те, что были высказаны по вопросу о мужчинах на женские роли. Настоящая лошадь на сцене неприемлема потому, что она не может играть; она будет только лошадью, но не актером; ее нельзя уместить в общее русло мастерства, как такового.
Актеры, играющие роль лошадиных ног, часто специализируются на какой-нибудь одной паре: одни играют большей частью роли передних ног, другие — задних. Такая специализация имеет под собою то основание, что первому актеру приходится быть главным руководителем всего движения лошади: он идет впереди; второму же приходится только следовать за передним и согласовывать с ним свои движения.
Ответственность этой роли довольно значительна в связи с тем, что в японских пьесах нередко целые сцены героя проводятся им верхом на лошади. Актер сидя верхом обычно интенсивно играет. В виду этого чрезвычайно важно, чтобы все движения его коня были строго согласованы и послушны его собственным движениям; чтобы все вместе взятое представляло собою целостный комплекс. Поэтому очень важна взаимная сыгранность и в первую очередь полное умение лошади приспособляться к всаднику. Некоторые знаменитые японские актеры играют поэтому не иначе, как с определенными исполнителями этой лошадиной роли. Дандзюро IX, где бы он не выступал, всегда возил с собой собственных исполнителей этого амплуа.
Ко всему сказанному о составе труппы Кабуки, необходимо добавить только несколько слов еще о двух амплуа, не столь ответственных, но все же совершенно необходимых.
117 Первое — амплуа особого сигналиста. Его роль сводится к тому, что в известные, особо важные моменту пьесы, он появляется из-за боковой кулисы, приседает на корточки и ритмически ударяет особыми колотушками по звонкой деревянной доске, лежащей на полу. Получается эффект оглушительного стука, которым подчеркивается либо особый драматизм сценической ситуации, либо особенно замечательный ритмический рисунок движения актера. По миновании надобности этот сигналист скрывается в кулисах.
Вторая роль — амплуа сценических слуг. Это — люди, одетые во все черное, с опущенными на лицо черными покрывалами. Теоретически они для зрителя невидимы, что и позволяет им выполнять ряд действий, очень важных для техники действия: они убирают лишнюю бутафорию, вносят новую, помогают актерам сменять костюм, подставляют герою табуреточку, когда тому нужно сесть и т. д.
Эти черные фигуры то и дело бесшумно мелькают на сцене. Они никому не мешают, никакого впечатления не нарушают, на них никто просто не обращает внимания.
После такого краткого описания японской труппы можно перейти к следующему отделу того же художественного управления театром: отделу авторов-драматургов. Здесь мы опять наталкиваемся на ряд своеобразных подробностей самой организации дела.
С самого возникновения театра Кабуки вплоть до 80-х годов прошлого столетия вся драматургия этого жанра развивалась в совершенно особых условиях. Пьесы для театра писались определенными лицами, тесно связанными с труппой. Большею частью таким драматургом был сам актер, главным образом премьер труппы, очень часто совмещавший в своем лице автора, актера и директора театра. Таким образом получилось то положение, что каждый актерский коллектив имел в своем составе своего, специально работающего на него драматурга-писателя. У труппы был свой драматург, как был свой герой, свой злодей, свои лошадиные ноги.
Это положение, сложившееся исторически, очень скоро превратилось в правило, и, как таковое, получило и свое идеологическое оправдание. Деятели Кабуки стали рассуждать в том смысле, что каждый театр должен ставить лишь те пьесы, которые он может по совокупности всех своих условий и в связи с особенностями своего мастерства. В виду этого написать пьесу для данного театра удовлетворительно может лишь такой писатель, который очень хорошо знает этот театр, всю труппу, особенности и возможности каждого актера в отдельности, весь присущий данному коллективу стиль. Только тогда может получиться спектакль, спаянный из действительно адекватных друг другу элементов.
118 Это знание своего театра во всем его содержании — главное? условие для драматурга. Литературный талант, писательская одаренность — факторы не только второстепенные, но в глазах актеров почти несущественные. Актеру нужен только подходящий для его мастерства материал, о литературной же ценности изображаемого произведения он и не помышляет.
Так было дело до последней четверти прошлого столетия. В последние десятилетия положение значительно изменилось. Новые веяния в японском театральном мире, идущие из Европы, сказались и в области драматургии. Появились писатели вообще, независимо от какой-нибудь труппы. Они стали писать, не имея в виду какой-нибудь определенный театр. Японская драматургия разделилась на два русла: с одной стороны продолжали свою работу специально театральные драматурги, с другой — все интенсивнее и интенсивнее заявляли о себе драматурги со стороны. Появились два типа писателей для сцены: «свои» и «сторонние». «Свои» большей частью работали только над обновлением старого классического репертуара и приспособлением его к условиям своего театра, и лишь изредка рисковали созидать новые пьесы. «Сторонние» большей частью писали новые пьесы, а если и брали в обработку старые, то только в качестве материала для нового по существу произведения. Коротко говоря, драматургия стала из области чисто театральной переходить в область чисто литературную. Влияние Европы не только способствовало, но, пожалуй, и вызвало такую тенденцию в японской драматургии.
Необходимо отметить, что эта сторонняя драматургия очень туго прививается к японскому театру. Причин этому — очень много. Первая и, пожалуй, самая главная причина неуспеха новых, сторонних писателей заключается в том, что они не умеют писать для театра, особенно для какой-нибудь определенной труппы: они не имеют связи с нею, не знают деталей, самого хода постановочного процесса, не посвящены в специфические сценические требования. Второй комплекс причин их неудачи лежит в актерах: обычно эти последние очень неохотно идут на новую пьесу; они относятся принципиально недоверчиво к творчеству сторонних драматургов, а с другой стороны, при соприкосновении с материалом новой пьесы, обычно чувствуют какую-то чуждость его себе. Поэтому они часто играют неумело, не могут найти надлежащей линии и пьеса проваливается.
И наконец, третий ряд причин неуспеха новых пьес обусловлен уже отношением самой публики. Если к новой пьесе относится недоверчиво актер, то также инстинктивно недоверчиво и даже заранее враждебно относится к ней зритель. Зритель Кабуки вместе с актером ревниво оберегает свой театр от всякого вторжения со стороны, охраняет свое исконное искусство и блюдет неприкосновенность театральных традиций. Кроме того, японскому зрителю гораздо приятнее видеть своего 119 актера в знакомой, десятки раз виденной роли, чем наблюдать его в какой-то чуждой, непривычной атмосфере. В первом случае он идет в театр наверняка: он знает, что получит полное наслаждение от признанного мастерства любимого актера в такой то роли. При новой пьесе он идет в слепую, наудачу; он не знает, что ему предстоит: удовольствие от хорошей роли, или же наоборот — разочарование. В театр же японский зритель ходит не для неприятных ощущении и разочарований.
В связи со всеми этими причинами, в современной Японии положение с театральной драматургией несомненно двусмысленное. С одной стороны, мы имеем все еще сохраняющийся институт своих авторов, входящих в состав театрального коллектива. С другой стороны — работают и очень плодотворно сторонние драматурги, частично пробующие завоевать актера Кабуки новой обработкой старых, хорошо ему знакомых классических пьес, частично же смело выступающие с совершенно новыми произведениями. Идет борьба за театр. Наступает вольный драматург и его наступление поддерживается всем процессом европеизации Японии и японского театра. Однако, твердыня Кабуки пока все еще держится. Она находится под двойной защитой актеров и зрителей. Долго ли это продолжится? Это — очень большой и роковой для японского театра вопрос.
Вышеприведенная характеристика театра Кабуки может дать некоторые опорные пункты для суждений об этом жанре, и через него — в значительной мере и обо всем национальном театре Японии.
Японский театр стоит прежде всего на твердой принципиальной основе. Театральное искусство, как таковое, в Японии понятие точное и общепризнанное. Искусство театра не есть искусство слова, краски, архитектурной формы или звука, но искусство театра и ничего больше. Самодовление этого рода искусства, его самостоятельность среди всех прочих видов искусства совершенно ясны как для японского театрального деятеля, так и для зрителя. В связи с этим японский театр органически чужд всякой литературщины. Драматургия такая же часть общего целого театра, как и актер, оркестр, бутафория. В понятии театра объединены все составные элементы, они ему подчинены и организационно и по существу. Вне театра — нет драматургии. Пьеса, могущая быть просто прочитанной, — логическая несообразность для японца.
Во вторых — все искусство японского театра зиждется на мастерстве. Самое существенное в спектакле — начало мастерства, которое одинаково относится как к актерской игре, так и ко всему сценическому оформлению. При этом это мастерство не есть только одна индивидуальная техника какого-нибудь актера. Мастерство Кабуки есть мастерство прежде всего школы, особой 120 театральной культуры, особой традиции. Мастерство отдельных актеров целиком поглощается этой общей стихией. Но если существует общий канон театрального искусства Кабуки, то существуют и его отдельные модификации. Каждый данный театр имеет право на существование только в том случае, если он, во-первых, овладел всем достоянием искусства Кабуки в целом и сумел добиться в этой сфере своего определенного места, во-вторых. Мастерство Кабуки — как общее понятие, мастерство данного театра — первое уточнение этого понятия, и мастерство отдельных актеров — как окончательное оформление.
И третьих, каждый театр Кабуки представляет собою организованный и спаянный коллектив. Руководящая роль в этом коллективе принадлежит не столько его директору, сколько тому жанру, который этим театром культивируется. Этому жанру подчиняется и художественный руководитель и весь театр в целом, — вплоть до деталей архитектурного стиля. Кроме того огромную роль верховного руководителя играет школа, традиция, идти против которых не смеют и директора. Поэтому индивидуальный момент в руководстве коллективом театра сведен почти к минимуму.
Этот коллективный характер труппы носит все признаки органичности, как в своем происхождении, так и во взаимоотношениях. Новый актер создается здесь же в театре. Он — подлинное дитя этого театра. Чуть ли не с рождения он воспитывается в атмосфере данного театрального жанра. И на строгой преемственности мастерства основаны и взаимоотношения актеров: мастеров и учеников, работающих все время в теснейшем объединении.
Все эти свойства японского театра делают его особенно интересным для европейцев, особенно в тех странах, где утеряна или ослабела живая театральная культура; где театр утратил или утрачивает свое специфическое лицо особого рода искусства; где театр находится всецело в руках предпринимателей-коммерсантов и где театр не укладывается более в рамки своего социального окружения. Во всех этих областях пример японского театра может содействовать осознанию и строительству театрального искусства в Европе и, в частности, обновляющегося театра в Советской России.
121 Эрик Верней
РАБОЧИЙ ТЕАТР В АНГЛИИ
Трудно писать о Рабочем Театре в Англии по одной, очень простой причине. А именно потому, что Рабочего Театра в Англии не существует. Тем не менее, я постараюсь изложить, почему в Англии нет Рабочего Театра и какие здесь перспективы для пролетарской драмы. Но невозможно сделать этого, не описав разветвления буржуазного Театра, господство которого является одной из главных причин отсутствия в Англии Театра Рабочих.
Прежде всего, нужно принять во внимание тот факт, что массы вообще не особенно заинтересованы в театре. Это отчасти зависит от того, что средний рабочий не может позволить себе посещать театр, или, во всяком случае, может лишь очень редко. Другой фактор, который нужно учесть, это — что капиталистические театры стремятся, прежде всего, к получению прибыли. Поэтому они ставят декадентскую, буржуазную чепуху, которая обращается именно к слоям среднего и богатого классов, имеющим средства поддерживать театр. Большинство спектаклей в Лондоне имеют своей темой мелкие интриги и сомнительные любовные отношения буржуазной жизни, и декорации представляют чаще всего спальню толстой и пышной дамы общества или залу богатой гостиницы. В средней пьесе, которая ставится на сцене антрепренерами капиталистического театра, нет ничего, что показывало бы суровую действительность жизни, как ее видят и ощущают эксплуатируемые рабочие. Поэтому вполне естественно, что у этих театров нет ничего общего с рабочими массами: они не выражают ни одной стороны трудовой жизни, знакомой им.
Конечно, буржуазные театры ставят и классические пьесы, вроде Шекспира, исторические драмы и даже более или менее «передовые», интеллигентские пьесы, но эти произведения проникнуты обычно идеологией средних классов или же слишком «высоким полетом», чтобы быть понятными и оцененными рядовым, простым рабочим.
Ясно поэтому, что рабочие, неудовлетворенные единственным театром, который они когда либо знали, т. е. капиталистическим, 122 не имеют особенного интереса к театру, они не заинтересованы в создании Рабочею Театра. В тех же редкие случаях, когда рабочие проявляли интерес к созданию чего-то вроде собственного театра, они всегда встречались с неудачей по экономическим причинам. Во-первых, они никогда не могут получить зал и помещений, пригодных для спектаклей, так как таковые монополизированы правящим классом. Во-вторых, даже, если бы они могли получить такие помещения, у них нет денег для финансирования таких предприятий.
Другим фактором, который нужно иметь в виду, является то, что в свободное время рабочие в Англии больше всего интересуются спортом и атлетикой. Если спросить рабочего, предпочтет ли он пойти на футбольное состязание или в театр, то он почти неизменно выберет первое. Это очень знаменательно, так как показывает, каким могущественным орудием является вообще футбол, скачки и борьба в руках капиталистического класса, который пользуется этими средствами, чтобы отвлекать умы рабочие от суровой действительности классовой борьбы. Это было бы еще не так плохо, если бы рабочие массы сами принимали участие в спорте. Но этого нет. Только маленькое меньшинство действительно играет в футбол и выступает в боксе, на скачках и т. д. А миллионы рабочих заинтересованы в этих вещах только в качестве зрителей.
По субботам английский рабочий работает только утром, до полудня. И в этот день во всех промышленных центрах Англии происходят футбольные состязания (матчи), которые разыгрывают между официальными командами Футбольной Ассоциации, а эта последняя представляет предприятие, управляемое частными капиталистами. Часто до 300.000 рабочих присутствуют на каждом из таких футбольных состязаний, и множество подобных состязаний разыгрываются каждую неделю по всей Англии. И вместе с тем, трудно побудить горсть рабочих собраться на митинг Рабочей Партии, кроме как во время выборов или при каком-нибудь определенном промышленном конфликте!
Единственный род театра, который рабочие вообще посещают в значительном числе, это — «мюзик-холл». Здесь они несомненно находят отдых и развлечение. Но культурный и интеллектуальный уровень этих представлений очень низок. К тому же мюзик-холлы также использованы в качестве орудий капиталистической пропаганды для обработки умов рабочих в соответственном направлении. Большинство песен, пьесок и шуток комедиантов рассчитаны на то, чтобы поддерживать старый порядок вещей, обелять капиталистическое общество и поднимать «патриотизм» аудитории до требуемого уровня. Во время империалистической войны, например, мюзик-холлы, совершенно также, как и капиталистическая пресса, были использованы для внушения шовинистических 123 чувств против Германии и для поощрения набора в войска его величества, которые конечно, были необходимы «для защиты отечества».
Наиболее передовые элементы Рабочего Движения сознавали необходимость Рабочего Театра, даже если в Англии и не было запросов на него, и делали повторные героические попытки создать рабочие драматические клубы, театры и т. д. Но эти начинания почти всегда погибали в силу причин, указанных мною выше, — экономических, а если не погибали, то всегда переходили в руки буржуазных элементов рабочего движения. В результате, подобные предприятия были, может быть, способны приблизить буржуазную драму к рабочим, но редко давали пьесы, действительно отражавшие жизнь английского пролетариата, или написанные и разыгранные самими рабочими. Но даже те немногие попытки организовать Рабочий Театр, которые предпринимались, всегда имели не более, чем узко-местный и, следовательно, провинциальный характер. Национального движения в пользу Рабочего Театра в Англии не было.
Интересно отметить, что даже среди левых и более передовых элементов рабочего движения имеются товарищи, которые либо говорят, что они, передовые элементы, слишком заняты руководством текущей экономической борьбой рабочих, либо, что рабочие должны прежде научиться политическим и экономическим основам классовой борьбы и что их энергию не нужно рассеивать такими вещами, как Рабочий Театр и т. д. Другие товарищи даже говорят, что театр, искусство и т. д. буржуазны вообще! Эти товарищи, очевидно, не отдают себе отчета в том, каким могущественным орудием был бы Пролетарский Театр именно для этого воспитания рабочих к классовой борьбе.
Единственная более или менее организованная попытка создать рабочее движение в области театра была предпринята Независимой Рабочей Партией, которая является партией социальных реформ в Великобритании. Но даже это начинание весьма мало отличается от и «новой» и «современной» идеологии театра, как ее выражают различные радикальные и левобуржуазные интеллигентские движения к реформе театра. Тут обыкновенно ставятся пьесы типа Бернарда Шоу, Ибсена, Гауптмана, Брие, Роллана или, самое большое, Толлера, братьев Чапек или Кайзера.
Так как Независимая Рабочая Партия является партией пацифистской, то даже эти пьесы сводятся на нет, если они слишком обнаженно и реалистически изображают классовую борьбу. Характерным драматургом Независимой Рабочей Партии является Майльс Моллесон (Miles Malleson). Он написал несколько хороших пьес, но все они скорее сентиментального и пацифистского характера, хотя, пожалуй, и оригинальны и 124 даже реалистичны. Независимая Рабочая Партия сделала опыт и попыталась содержать собственный «Рабочий» Театр на Стрэнде (Лондон), в котором была поставлена пьеса Моллесона, «Black Ell» направленная против войны. Эта пьеса трактует о переживаниях молодого человека во время войны, который только что возвратился из окопов и внезапно очнулся с сознанием всего ужаса происходящего.
Но даже Театр Независимой Рабочей Партии (Strandtheatre) вынужден был закрыться. Это предприятие велось буржуазной интеллигенцией, которая может быть искренне заинтересована, или воображает, что заинтересована, в рабочем движении, но так как актеры — не рабочие и пьесы написаны не рабочими и даже не отражают жизни английских рабочих, то это не Рабочий Театр. Единственное, что в нем было хорошего, это то, что он давал рабочим случай посмотреть пьесы лучшего качества, чем те, которые ставятся средним капиталистическим театром. Вместе с тем это была попытка, также — хорошее намерение, создать театр, независимый от монопольного треста английского финансового капитала.
Подводя итог, мы видим, таким образом, что в Англии определенно не существует Рабочего Театра. Левое крыло Рабочего Движения и сами пролетарские массы либо не интересуются им, либо не делают попыток к его учреждению. Центр Рабочего Движения сделал такую попытку, но не освободился от мелкобуржуазного влияния как в технике, так и в идеологии театра. «Официальное», правое крыло абсолютно игнорирует этот вопрос.
Мы должны добавить к этому тот факт, что вся театральная критика и все возможности объявлений находятся под контролем капиталистической печати. Больше того, капиталистическая печать не только делает все возможное, чтобы не допускать изображения жизни пролетариата на сцене, но ничего не предпринимает, чтобы заинтересовать рабочих в том театре, какой имеется. Ведь с капиталистической точки зрения не было бы беды, если бы рабочие заинтересовались буржуазным театром, поскольку последние пропитаны буржуазной пропагандой. Но эта пропаганда главным образом направлена к мелкобуржуазным слоям населения для поддержания их верности идеалам капиталистического строя.
Правда, в восьмидесятых годах прошлого столетия различные, более или менее идеалистически и артистически настроенные радикалы и интеллигенты из среды буржуазии пытались бороться против все усиливавшейся капиталистической монополии поднятием движения «Нового Театра». Это последнее имело целью не только сделать драму «независимой», но также вывести на сцену более современные, радикальные и передовые пьесы, не столь строго придерживаясь стереотипной традиции, необходимой для театра правящего класса Англии. Целью, которую 125 ставили себе эти доброжелательные люди, было также приблизить культурные жемчужины классической драмы к «простым» и «невежественным» рабочим. Бернард Шоу был причастен к этому движению «Новаго Театра». Правда, что некоторые, более или менее «независимые» в своем репертуаре, театры были учреждены в Бирмингеме, Лондоне и т. д., но это вовсе не были театры рабочего класса ни по своей идеологии, ни по своим связям. Однако, с наступлением империалистической войны, даже это движение «Нового Театра» погибло, и фактически все театры в Англии были скуплены больший театральным трестом, известным под названием «Осьминога» (Octopus). В настоящее время в пьесы и театральные предприятия так же свободно и просто вкладываются деньги, как в паи и акции. Финансисты крупных промышленных трестов владеют театрами и арендуют землю, на которой они построены.
Вот почему театральные магнаты в состоянии ставить пышные и требующие больших затрат «Обозрения», которые привлекают публику, но не имеют художественной ценности. Шерстяные миллионеры, которым принадлежат лондонские театры, естественно предпочитают ставить порнографические пьесы, представляющие мужчин в постели со своими или чужими женами, так как это приносит больше дохода. Но для того, чтобы удовлетворить запросам небольших «передовых» групп интеллигентской буржуазии, в капиталистических театрах иногда даются и пьесы Б. Шоу, Ибсена, и даже Толлера. Но знаменательно отметить тот факт, что пьеса Толлера «Человек-Масса», поставленная на лондонской сцене, была так искажена и перетолкована, что казалась преследующей цели, явно враждебные рабочему классу. Театральные финансисты организуют даже «рабочие театры». Эти «народные» театры, правда, весьма дешевы, но и они служат капиталистической пропаганде.
Рабочих удерживает от создания собственного театра и кинематограф, который также составляет сильное оружие буржуазной пропаганды.
Трудно сказать, каковы перспективы для Рабочего Театра в Англии в настоящее время. Сама Коммунистическая Партия слишком занята организацией классово-сознательной партии пролетарской борьбы на основе фабричных и ремесленных ячеек, чтобы предпринять какие-нибудь инициативные шаги в этом направлении. Но Партия оказывает поддержку и всячески поощряет действительные попытки проложить путь к подлинному Пролетарскому Театру. Например, в газете левого крыла «Воскресный Рабочий» (Sunday Worker), которая весьма близка Коммунистической Партии по своей идеологии, ряд статей о необходимости и возможностях создания Рабочего Театра напечатан Гентли Картером, пионером этой идеи. В этих статьях Гентли Картер постоянно ссылается на достижения русского 126 Рабочего Театра и показывает, как английский Рабочий Театр должен быть создан по такому же плану.
Главной трудностью является в настоящее время то, что так мало имеется хороших действительно-пролетарских авторов. Было несколько драматургов из рабочего класса, но большинство из них находилось под покровительством буржуазии, было ею обласкано и таким образом подпало ее влиянию. Затем, имеется так мало пролетарских пьес. Америка выдвинула Элтона Синклера, Германия — Толлера, но великобританский пролетарский драматург еще должен явиться. Было много попыток «пролетарской» драмы, но в большинстве это — произведения интеллигентов и отражают буржуазное влияние или по крайней мере примыкают к буржуазной драматургической технике. Между тем, динамика классовой борьбы порождает новую технику, технику промышленного движения, машинного века, био-механики. Совершенно так же, как в России, пролетарская драма должна быть массовой драмой. По мере того, как классовая борьба развивается в Англии и становится более напряженной, она не только вызовет к жизни свой Рабочий Театр, но и собственную, Пролетарскую Драматургию. Даже ирландская революционная борьба, хотя и была преимущественно националистической, создала одного-другого революционного драматурга, которые написали пьесы, выражающие революционную борьбу масс. Не может быть сомнений, что английский Рабочий Театр будет учиться у Советского Театра, и тем лучше будет для нашего Пролетарского Театра в Англии, если он будет руководим левым фронтом.
Перевод Б. В. Казанского.
127 Вильгельм Герцог
ТЕАТР СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ
I. О БУРЖУАЗНОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ
Что представляет собою нынешний немецкий театр? — Может ли он, на седьмом году гинденбурговой республики, представлять собою что-либо иное, кроме выражения той анархии, в которой живет сейчас немецкая буржуазия? Эта анархическая система буржуазного строя, эта классовая сущность его, не проявляются, пожалуй, нигде столь ярко, как в театре. Итак, что же представляют собою нынешние немецкие, в частности — берлинские театры? — За очень немногими исключениями, это увеселительные заведения буржуазии, заправилы которых добросовестно и ревностно стремятся удовлетворить желания и вкусы платежеспособной публики. Отсюда следует: какова нынешняя публика, таков и нынешний театр. Они стоят друг друга.
Какие немецкие драматурги сейчас в наибольшей чести? — После смерти Ведекинда, можно назвать следующих серьезных писателей, работающих для театра и зарекомендовавших себя перед публикой: Штернгейм, Георг Кайзер, Эрнст Бардах, Толлер, а из более молодых — Брехт и Броннен. Эти писатели уже признаны сегодня «литераторами» среди нынешней немецкой буржуазной культуры. Они получают признание и пользуются уважением так называемой «литературной» публики постольку, поскольку им удается развлекать ее своим умом, фантазией, остроумием, карикатурой, критикой; поскольку им удается удовлетворять ее снобизм или ее стремление к иррациональному. Сфера их влияния не велика. За вычетом нескольких исключений, оно простирается на небольшую секту, состоящую из эстетически образованных и восприимчивых к литературе буржуа. Но даже самые даровитые и самые театральные из этих писателей не в силах добиться у нынешней немецкой буржуазии даже десятой доли того успеха, которого без всякого труда достигают авторы опереток и «обозрений».
Литературная критика сильно скорбит об этом. Но что же в этом удивительного? Разве противоречия хваленой буржуазной культуры могут не обнаружиться в этой области? Разве 128 случайно торжество эффектных «обозрений»? Разве не объясняется победа грандиозного хлама с выставкой множества голых женских тел наглой хваткой и грубой похотью нашего времени? Разве влияние на самый платежеспособный слой этой буржуазии, скажем, какого-нибудь Стриндберга может сравниться с успехом любого из видных авторов «обозрений».?
Наиболее серьезные и вдумчивые из буржуазных критиков очень хорошо чувствуют эту безумную и полную противоречий анархию, иногда даже до боли ее чувствуют. Они дают подчас очень острое выражение своим пессимистическим чувствованиям, но они не видят способа разрешить эту проблему. Потому их критика остается по большей части совсем субъективной; она выявляет индивидуальные вкусы самих пишущих, и потому, при всей их образованности, чуткости и умении конкретизировать свои наблюдения, остается бесплодной и нетворческой.
Этим и объясняется, что нынешнее поколение не дало Германии ни одного писателя, о котором стоило бы спорить, и победу которого хотелось бы подготовить критику — пионеру. Потому-то нередко приходится слышать споры критиков о таком необычайно важном факте: дала ли какая-нибудь темпераментная актриса в своей последней роли высшее достижение мимического искусства, или же она просто-напросто сухая и холодная вобла. Вот чем занимается критика в переживаемое нами время летаргии немецкой театральной культуры.
Но разве всякая театральная критика, всякий фельетон, претендующий на серьезное к себе отношение серьезных людей, не должны сейчас исходить из социальной структуры общества, из всей политической и экономической констелляции? Разве можно сейчас хотя бы приблизительно разобраться в надстройке этого буржуазного общества, в том, что называется его культурой, не обследовав предварительно его основания, его фундамента, — той орошенной кровью рабочих и удобренной их костями подпочвы буржуазного общества, на которой выросла и все еще вырастает эта «культура»?
Ибо откуда же проистекает противоречивость нынешнего немецкого театра, его испорченность, его надувательский и спекулятивный характер? Разве это обособленная проблема, которую можно рассматривать вне связи с другими? Разве можно вырывать ее из всего комплекса социальных проблем на том де основании, что она существует самостоятельно и независимо? Разве, живя в «социальной», «демократической», националистической, изобилующей каторжными тюрьмами республике, мы можем иметь какой-либо другой театр вместо того, который у нас есть? «Все существующее — разумно». Это изречение Гегеля, которое бывало так часто не понято или ложно истолковано, гласит в применении к современному немецкому театру. Всякое общество имеет тот театр, какого оно заслуживает.
129 Подобно тому, как эбертовская республика, можно сказать, годами стиннесировалась, так и театр роттеризировался. Кто такие эти Роттеры? — Два продувных дельца, которые смолоду, почти еще мальчишками, поняли механизм немецкого театрального производства также точно, как Базели, Барматы, Кастильони и Михаэли поняли механизм биржи, и которые всеми средствами капиталистической системы, главным образом путем пропаганды среди буржуазного класса, обосновали и расширили свое обширное, широко разросшееся предприятие.
Роттеровская система есть система чистого делового театра или, вернее, театрального дела. Все театры в большей или меньшей степени вынуждены хозяйничать по Роттеру. Исключение составляют — субсидируемые правительством государственные театры и основанные рабочими народные театры. Так только в прошлом году Берлинскому Народному Театру (Berliner Volksbühne) удалось добиться необычайно крупного успеха постановкой волнующей революционной драмы Альфонса Пакэ «Знамена» (Fahnen), смело инсценированной Пискатором; до тех пор эта пьеса отклонялась всеми другими театрами из-за ее революционного содержания.
Разумеется, некоторые берлинские театры — и в первую голову Немецкий театр (Deutsches Theater) — отклоняются от системы Роттера более тщательным подбором пьес и лучшим вкусом, подобно крупным торговым домам западной части Берлина, рассчитывающим на другую клиентуру, чем торговые заведения, расположенные на Веддинге или на Александровской площади; но самый дух предприятия остается тем же. Да и может ли это обстоять иначе в окружении капиталистического общества? Только утопист мог бы их упрекнуть за это. Зато достойно осуждения, что эти театры подчеркивают свой мнимый идеализм и претендуют на то, чтобы их считали чисто художественными учреждениями, борющимися за свободу театра. Получать дивиденды — таков их лозунг. Сегодня они используют для этой цели Шоу, завтра Зудермана, сегодня — Фульду, завтра Стриндберга. А так как выяснилось, что без этих господ писателей дело обходится гораздо лучше, а лучше всего выезжает на наглом блудомыслии и патриотическом кретинизме в тесном соединении с оголенными на семь восьмых женскими телами, — то величайшими удачниками оказались пренебрегающие литературной куафюрой владельцы публичных опереточных театров и театров «обозрений». Плевать им на патетическое слово Шиллера: «Сцена есть учреждение нравственное». Они основали другие заведения. Вы найдете там «Еще и еще» (Noch und Noch), на котором они здорово зарабатывают.
Такова в общих чертах немецкая театральная жизнь в 1925 году. Нашей задачей будет теперь осветить и пронизать рентгеновскими лучами этот тяжело больной, уже гниющий организм, этот живой труп. Можем ли мы констатировать что-либо 130 иное, кроме агонии буржуазной культуры и упадка буржуазного театра? Этот упадок во всех его проявлениях показывает всякому трезво смотрящему на вещи работнику умственного и физического труда, как отмирает эта истлевающая культура, вспыхивая в последний раз бенгальским огнем.
II. «ВЕЛИЧАЙШИЕ ОБОЗРЕНИЯ МИРА»
Чего требуют вкусы нашего времени и нынешней немецкой буржуазии, которая повелевает в современном театре? — Хламных слащаво-сентиментальных опереток и «обозрений» (revues), т. е. выставок оголенных на три четверти, а то и на сель восьмых женщин и девушек. Около дюжины больших берлинских театров ежевечерне состязаются друг с другом в этой области. Чем больше центнеров голого женского тела предлагается сидящим в партере спекулянтам, тем больше успех спектакля. Los affaires sont les affaires! Все владельцы этих театров — джентльмены, пользующиеся большим уважением буржуазного общества. Все они члены или даже председатели весьма почтенного театрального объединения — Промышленного Союза Театральных Директоров Германии. Это театральное объединение пользуется огромным уважением государства и министров германской республики. Здесь, в этих «домах искусства», которые тоже наслаждаются «свободой» театра, процветает самая обыкновенная порнография; здесь по сто раз в вечер «грубейшим образом оскорбляется стыдливость» (по выражению германского уголовного кодекса); здесь — говоря языком господствующей морали — открыто и сознательно «подстрекают к разврату», — короче говоря, здесь делаются свинства «еще и еще». Но ни один министр, будь он социал-демократом или христианином, не обуздывает и не контролирует деятельности этих учреждений, торгующих женским телом.
Большой там-там и дорогостоящие, сенсационно раскрашенные, исполинские объявления во всей буржуазной прессе до газеты «Вперед» (Vorwärts) включительно, приглашали в последнее время публику на «Комическую оперу» Джемса Клейна:
«Ничего подобного свет еще не видел».
«Величайшее и грандиознейшее обозрение всех времен».
Ни в коем случае не дешевле! Но что же он имел предложить? «Английские girls с лондонского ипподрома, парижские манекены из Folies-Bergères, камерный певец Лео Слезак, испанские танцы Казановы, красивейшей женщины Испании. Головокружительный успех каждый вечер».
Двумя домами дальше конкуренты приглашают вас на другие оргии веселья. Увы! на такие же точно торжества кретинизма и распутства. «Театр в Адмиралтейском дворце» (Das Theater im Admiralpalast) пожелал перехитрить своего конкурента. Он объявил о постановке обозрения: «Еще и еще».
131 Художественный и деловой руководитель этого театра — председатель Берлинского Театрального Союза. В сотрудничестве с одним берлинским адвокатом, который под псевдонимом Rideamus немало способствовал затемнению немецкого народа своими эротическими стишками, он сочинил это произведение, которое скромно назвал «Величайшим обозрением мира».
Это обозрение я видел. И должен сознаться, что оно обезоруживает. Испытываешь жалость к публике, которая находит в этом удовольствие.
Здесь отсутствует всякая идея, всякое вдохновение, малейший след какой-либо мозговой работы. Здесь клеят спектакль, потому что его нужно изготовить. Для этого набирают женщин, одетых, раздетых, обвешанных костюмами, патриотически наряженных в военную форму, которые насмешливо проделывают воинские упражнения и марши, без конца показывая ляжки и зады, пересыпая это стишками, омерзительными в своей пустоте, которые они исполняют тупо, похотливо, кривляясь под музыку, которая откуда-то украдена. Иногда слышится пищеварительная острота или протухшая банальностью скабрезность. И все это происходит на фоне пышных, красивых декораций, которые какой-нибудь ловкий художник позаимствовал из лондонских или парижских «храмов искусства».
Единственным привлекательным номером во всей этой длившейся около пяти часов программе были 16 английских девушек труппы Тиллера, которые с большой точностью скорее проделывают гимнастические упражнения, чем танцуют, и производят красивое, свежее и приятное впечатление своим, в общем математически точным исполнением. Все остальное кроме них — элегантно исполненный хлам, представляющий смесь порнографии с прусским патриотизмом (голые женщины изображают «прекраснейших женщин мировой истории», в заключение же появляется в апофеозе королева Луиза со своими двумя сыновьями!) и изобилующий сценками, содержащими в себе рекламу папирос, автомобильных фирм (Garbaty, Mercedes), или модных салонов, «художественные достижения» которых расхваливаются на все лады. «Видите ли, — пел в Берлине народ несколько лет тому назад, — это дело все же нам кое-что приносит».
Приходится согласиться: ничего подобного свет еще не видел!
В «Театре Лессинга» (Lessingtheater), где еще не так давно исполняли Стриндберга и Толстого, «ослепляло чувства массовое предложение отборнейших женских тел, одетых в шуршащие шелка, с благоуханными кружевами и волочащимися перьями. Видали ли вы где-либо, что-нибудь подобное?» — восхищенно констатировал «Berliner Lokalanzeiger» христиански настроенного германского националиста тайного советника Гугенбурга. Так размечтался критик газеты, насчитывающей среди 132 своих читателей 51 % всего населения Германии, по поводу обозрения, поставленного венскими евреями при участии 300 женщин. Здесь было «шикарно», здесь было «сладостно», здесь поплясывала и занималась пустяками пресловутая «венская прелесть» (Wiener Anmut). В остальном же эта «оргия» походила на другие, конкурирующие с него оргии, как одно тухлое яйцо походит на другое.
Тупоумно сидят упитанные обыватели, таращат глаза и зубоскалят. Развлекаются ли они? Что выражают их лица, которые только современный Домье мог бы зарисовать со всей их отталкивающей сытостью, низменной алчностью, плоской жаждой сенсаций и возмутительным бездушием. Чем больше обнаженных частей тела (ценою от 60 до 80 марок в месяц) предлагается его тупым чувствам, тем более радуется он «свободному искусству», тем демократичнее кажется ему эта республика, тем лучше, привольнее ему живется в ней.
Герман Валентино, один из немногих ярких индивидуальностей среди немецких актеров, недавно пел — к сожалению, только в маленьком кабаре западного Берлина — песенку, полную издевательства и желчи: «Что интересует публику?» Он спрашивал: «Репарации, санкции, инфляция? Как бы не так! Может быть, голод, нищета, нужда миллионов людей? То, что десятки тысяч рабочих издыхают за решетками в каторжных тюрьмах? Это ли интересует публику? Как бы не так! Голый зад Аниты Бербер — вот что интересует публику!»
Так выглядит мир современного немецкого буржуа. Таков тот мир, в котором он развлекается, безответственно алкая грубых наслаждений, — это облеченное в смокинг обыкновеннейшее, антиобщественное, грубейшее существо, этот кретин с капиталом. Их-то и обслуживает большинство нынешних немецких театров. Они направляют производство. И при таком положении вещей представитель господствующего класса еще осмеливается молоть вздор о свободе немецкого театра38*!
III. О БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫХ ТЕАТРАХ39*
«ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР»
Он уже мертв. Он просуществовал меньше восьми недель. Основан он был молодым актером, который выдвинулся в «Немецком Театре» благодаря хорошей игре. Находился этот театр в Берлине, на Шоссейной улице (Chausseestrasse), — следовательно, в чисто рабочем квартале.
133 Что ставили здесь? — Для открытия спектакля шла пьеса Георга Кайзера «Жиль и Жанна» (Gilles und Jeanne). У Кайзера уже имеются дюжины две драм, из коих некоторые (как, напр., «Газ», «С утра до полуночи») обратили на себя внимание своим радикальным, местами ярко революционным содержанием, и сенсационной старой формой. Эта новая драма является пьесой, состряпанной без вдохновения, запутанной уголовной повестью с историческим колоритом, кровавой мелодрамой. Ее содержание? Предок массового убийцы Хармана, рыцарь Синяя Борода Жиль де Рэ (Gilles de Rais) страстно любит девушку Жанну, история которой была разработана некогда Шиллером в «Орлеанской Деве», а затем недавно Бернаром Шоу в его «Святой Иоанне». Тот самый Георг Кайзер, который в своих более ранних драмах по крайней мере старался освещать социальные отношения и проблемы, теперь внезапно превратился в романтика и мистика.
Увидя эту драму Кайзера с бессмысленным нагромождением убийств, каждый рабочий, каждая работница могли бы резко спросить: какое нам дело до всего этого? Если бы Кайзер постарался осветить нам внутренний мир этого князька, предтечи шпиона Носке, Хармана, такой этюд мог бы нам быть интересным. Но ничего подобного он не сделал. И зритель остается холодным, как лед, во время этих искусственно возбужденных сцен. Необычайно ярким было суждение одного старого пролетария, который по окончании спектакля сказал своей жене: «Вот что интересует сейчас наших писателей».
Второй пьесой была представлена впервые (дирекция этого драматического театра претендовала представлять исключительно новые, еще неигранные пьесы) драма скучающего русского писателя — контрреволюционера Ильи Сургучева «Письма с заграничными марками». Эта история старого генерала, который не знает, является ли возвратившаяся в его дом 20-летняя девушка его дочерью или нет, сплетает из ничтожнейших происшествий бледные картины с такой пространностью и обстоятельностью, что пьеса вызвала судорожную зевоту. Эта мучительно скучная «драма настроения» беспомощно силится конкурировать с Метерлинком и Ибсеном. В результате самый снисходительный зритель сбегает после второго акта.
Третья драма «Толкенинг» (Tolkening), принадлежащая перу одного немецкого «писателя», Александра Бруста по имени, должна была явиться программной для «Драматического Театра». Ее лозунг «назад к богу» или, как выражаются эти господа, «обновление театра на христиански-национальных основах». Думали: вот это будет хорошо! Постановка трилогии Бруста (ибо этот «Толкенинг» представляет собою произвольное соединение в одну драму трех различных пьес) давала предвкушать те национальные лакомства, которые будут преподнесены нам христиански благочестивыми патриотами по случаю обновления 134 театра. Здесь христианство довольно утонченно сочетается с порнографией. Таково, невидимому, новейшее направление в области театра, которое будет развиваться параллельно христиански-национальной политике германского буржуазного блока.
БР… — ДРАМАТУРГИ
Самые молодые из писателей новой Германии, которых часть буржуазной критики уже признала гениями, это Бр… — драматурги: Бруст, Броннен и Брехт. Общее у них не только первые две буквы имени. При всем различии их темперамента и способностей, всех трех прославляют, как новых богов, ибо все они имеют склонность к иррациональному. Долой разум! Долой просвещение! Романтика, эксцентричность, мистика — вот их козыри. Долой ясность! Долой мотивировку! Все это — старая школа. Это не годится для молодежи из страны гениев. Мы, представители молодого поколения (говорят они), заявляем раз навсегда: — мы носители «новой бури и натиска» (der neue Sturm und Drang), мы динамичны, мы принципиально торгуем чужим товаром и пускаем мыльные пузыри, мы гомосексуалисты, мы акробаты чувства, мы заключаем в себе целый мир, мы пляшем, мы лепечем… и находятся критики, которые принимают нас всерьез.
Последнее произведение, вышедшее из этой группы, называется «Эксцессы». Автором его является г. Броннен, который незадолго до того сфабриковал вызывающее патриотическое произведение «Рейнские мятежники», пьесу о сепаратистах, которую легко угадывающий конъюнктуру управляющий государственными театрами Йесснер поспешил поставить сейчас же после избрания Гинденбурга.
В этих «Рейнских мятежниках», подозрительным героем которых является вождь сепаратистов, господин Броннен, спекулируя на сочувствии патриотической буржуазии, осмелился в прозрачной форме намекнуть на то, что коммунистическая партия Германии, эта единственная партия, которая на самом деле вела с чисто мученической отвагой борьбу против сепаратистов, якобы куплена ими при помощи чека на 80.000 марок. Талант этого удачливого молодого дельца равноценен его нравственному облику.
«Эксцессы» претендуют на название комедии. Эта пьеса шла особым спектаклем в театре Лессинга при участии знаменитейших актеров Берлина. Дело дошло до одного из величайших театральных скандалов, какие когда-либо происходили в столь богатом скандалами Берлине. Почему? Потому что некоторые немногочисленные зрители выражали шиканьем и свистом свой протест против наглых претензий онанирующего импотента, которого восторженно приветствовало большинство буржуазных литераторов.
135 Но почему такое волнение? Кто такой этот господин Арнольд Броннен? — Это молодой человек тридцати лет, венский уроженец, автор ряда театральных пьес сексуального или патриотического содержания, или же того и другого, искусно смешанного. Современная драматическая литература Германии так ужасающе бедна, что критики, лишенные чутья и с лупой в руках разыскивающие новых талантов, решили, что открыли в этом бездушном хвате гения, молодого Гергардта Гауптмана. Им нужен был буржуазный герой, и они нашли его, героя Этого негероического буржуазного общества, в господине Арнольде Броннене. В то время, как в течение последнего сезона ни один современный молодой писатель не смог получить право говорить с публикой со сцены, господин Броннен успел приобрести такую славу, что в истекшем сезоне имело место не менее трех первых постановок его пьес. Идеалистически настроенные директора театров, которые не желают отставать в проявлении энтузиазма к герою своего времени и которые охотно прислушиваются к мнению влиятельных критиков буржуазной прессы, вырывают друг у друга из рук пьесы г. Броннена. Таким путем, сказали им, они будут бороться за молодое поколение. Одним из его даровитейших представителей, если не самым смелым, гениальным и оригинальным, является как раз этот господин Броннен.
Что же представляет он собою на самом деле? Это скудоумный малый, пускающий мыльные пузыри. Типичное порождение нынешнего времени и нынешнего буржуазного строя. Неглубокий, невежественный и несерьезный, но зато напористый, наглый и безответственный. Он охотно и без малейшего колебания наскоро собирает сенсационные картины и идеи, и с известной театральной утонченностью перемешивает их. Все это он делает произвольно, случайно, неорганично, без всякого внутреннего побуждения. Его единственная цель — поражать во что бы то ни стало, быть смелым и добиваться славы. Для этого он пускает в ход сегодня отцеубийство, завтра — деву из Аахена, послезавтра — эксцессы, не оправдывающие своего названия.
Свет хочет быть запутанным. Значит, давайте его запутывать. Не нужно только никакой логики. Вы требуете здравого смысла и обоснования человеческих поступков! Vieux jeu! Это умели уже делать Шекспир, Бальзак и Гоголь. Это смехотворное предписание старого, давно отдающего гнилью поколения.
Быть молодым — значит не иметь традиций (ибо тогда легко становишься «революционером», мятежником, которого всюду охотно принимают и высоко ценят), любить собственное безрассудство, слоняться по белу свету, становиться вверх ногами, вопить о сексуальных нуждах, возможно резче плакатничать и ни в коем случае не интересоваться классовыми противоречиями 136 и решительными социальными боями в недрах капиталистического строя.
Теперь нужно рычать, если желаешь, чтобы тебя услышали. Ум враждебен самому себе. Не нужно никаких мыслей! Тогда почитатели будут восторгаться: «какой самобытный, природный гений!» — Драма должна вертеться волчком. Тогда поклонники запоют хором: «какой искусный театральный мастер!» — Пьеса должна быть сумбурна, пестра и запутана. Тогда (рассуждает г. Броннен) мои пионеры возликуют: «какой красочный писатель!»
Итак, инцидент с Бронненом характеризует не столько этого мало интересного господина, сколько поклоняющихся ему зрителей, которые позволяют нескольким критикам, маклерам Бармата и дюжим дельцам выдавать этого литературного плута за гения. После упомянутого театрального скандала буржуазные критики утверждали, будто он был заранее подготовлен и инсценирован коммунистами. Но г. Броннен может интересовать коммунистов лишь постольку, поскольку он является типичным образчиком нынешнего немецкого буржуазного общества. Писатель и публика, восторгающаяся таким изделием, как «Эксцессы», — стоят друг друга.
ОТКРЫТИЕ НОВОГО ТЕАТРА РЕЙНГАРДТА
«Крупнейшим общественным событием сезона» было (по крайней мере, по мнению буржуазных знатоков театра) открытие «Комедии», нового театра Макса Рейнгардта на Курфюрстендамме. Ничего подобного свет еще не видывал. Это маленький театрик для трехсот высших, знатнейших, богатейших представителей нации.
Когда-то Рейнгардт хотел создать театр на пять тысяч человек в огромном театральном здании. Было это даже не так уж давно. Теперь же он соорудил себе бонбоньерку, драгоценность — нет! безделушку, прелестнейшую безделушку для аристократов. Ведь это в порядке вещей. Разве мы не победили? Если не с Людендорфом, то во всяком случае с шахтами в рентовой маркой.
Что же выбирает он, великий театральный волшебник Рейнгардт, для того, чтобы достойно освятить свой новый театр? Арлекинаду, карнавальную шутку, которую один плодовитейший драматург, автор более 200 комедий, написал 180 лет тому назад для актеров импровизованной комедии.
Эта шутка Гольдони «Слуга двух господ» является фарсом, безобидным и устаревшим. Его шалости могут еще, пожалуй, позабавить невзыскательную компанию, веселящуюся на свадьбе. Но какое отношение имеют серьезные люди сегодняшнего дня к этому гольдониевскому миру? Но воображение Рейнгардта прельщала задача оживить этот фарс. И ему удалось, как по 137 мановению волшебного жезла, создать пестрый, веселый, шаловливый, искусственный мир, мир марионеток. При содействии в высшей степени одаренных актеров, душою и телом которых режиссер Рейнгардт управляет, как ни один другой кукольник. Они порхают, прыгают, говорят, поют и танцуют в указанном им ритме.
И все это для того лишь, чтобы эффектно раздуть пустячок? Для того, чтобы профиглярничать перед сотнею, другой снобов пустую, игривую безделицу XVIII века? Разве может такая задача увлечь серьезных художников, или хотя бы взрослых людей XX века?
Если бы не было уже давно известно, что великий художник Рейнгардт безвозвратно перешел на сторону аристократии и крупной буржуазии, то можно было бы крикнуть ему: Как вы стали скромны! Как бедны вы при всем вашем богатстве! Как скудно и низменно ваше честолюбие, если оно довольствуется тем, чтобы услаждать «сливки» разлагающейся буржуазии подобными шуточками.
Перевод М. А. Мокульской
139 И. Матейка
О ВЕНГЕРСКОМ ТЕАТРЕ
I. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Венгерский театр очень молод по сравнению с остальными европейскими театрами. «Тысячелетняя страна», бывшая в течение долгого времени как бы мячиком, летавшим от Запада к Востоку, от Немцев к Славянам; страна, являвшаяся ареной ожесточенных боев между различными «великими» державами, попала в конце концов и надолго под кнут и культурное влияние Габсбургского двора. Крупное дворянство погналось за милостями двора и в его заколдованном кругу быстро утратило почти всю свою самобытность. Оно расточало свои капиталы за границей, и вскоре разучилось даже говорить на грубом языке «вонючих мужиков» (т. е. на венгерском), на котором, по дворянскому мнению, можно только божиться и ругаться, и стало услаждать свой слух тончайшими оттенками французского и немецкого языков. Весьма характерно, например, что вождь «национального возрождения» в 20-х годах XIX века, граф Сеченьи, вынужден был написать свою первую книжку в защиту венгерского языка… по-немецки, так как ни он, ни тем более его последователи не владели в то время своим родным наречием.
Мелкое дворянство, «опора нации», как оно себя с гордостью величало, попряталось в своих поместьях и занималось главным образом местным политиканством. Петёфи блестяще изобразил этот тип ленивого, самодовольного и мелочного человечка, в своем стихотворении «Венгерский дворянин»:
Жизнь бездельнику ценнее.
Мне расстаться с ней труднее;
Смерд, трудись среди равнин:
Я — венгерский дворянин.
Мне ли на науки льститься?
Пусть бедняк идет учиться:
Книги нагоняют сплин!
Я — венгерский дворянин.
(Перевод А. В. Луначарского).
140 Единственной задачей этого класса была охрана «священных традиций», т. е. защита своих привилегий. Это поместное дворянство тоже всячески старалось даже по языку отличаться от крестьянства. Но только его разговорным и официальным языком был латинский.
В такой-то среде зародились первые ростки венгерской драмы. В противоположность всем странам Западной Европы, она возникла не из так называемых мистериальных представлений средневековой церкви: ее родителями явились ожесточенные бои между реформацией и контрреформацией, которые велись во всех областях. Иезуиты, не упускавшие ни единой возможности пропаганды, ввели в школах разыгрывание драматизованных памфлетов, написанных по большей части на латинском языке. Однако некоторые из этих памфлетов, возникшие в более позднее время, писались также и по-венгерски. Хорошие результаты, достигнутые этим путем, заставили и протестантов последовать данному примеру. Вскоре появилось множество таких школьных драм, заслуживших большую любовь населения. Драмы эти очень медленно освобождались от школы и от одностороннего церковного содержания. Исполнителями их были, само собой разумеется, не профессиональные актеры, а любители, случайно объединенные данным представлением.
В 1696 году, в Трансильвании, организовалась первая труппа венгерских актеров; однако вскоре она исчезла, не оставив после себя никаких следов. Только сто лет спустя, в 1790 году, и опять-таки в Семиградьи, образовалась новая постоянная труппа, имевшая большой успех главным образом у беднейшего населения сел и деревень. Трансильвания, отторгнутая от Венгрии со времени турецкого завоевания вплоть до 1848 г., издавна была оплотом венгерского языка; потому само собой понятно, что это движение в некотором роде национальное, должно было исходить именно из этой области.
Теперь труппы возникают одна за другой, и уже в начале XIX века, все в том же Семиградьи, сооружается первое венгерское театральное здание. Труппа, игравшая в этом театре, равно как и пользовавшиеся предпочтением крупной аристократии немецкие труппы, состояла исключительно из странствующих комедиантов, которые набирались из энтузиастов и бродяг. Эти бродячие труппы весьма характерны для первой стадии развития венгерскою театра и образуют его «героический период». Люди различных профессий, главным образом студенты, отдали себя на служение этому делу и с поистине достойным удивления идеализмом переносили все тяготы жизни «комедиантов». Немалое число из них бесспорно обладало большим талантом. Помимо преодоления хозяйственных трудностей, они должны были также бороться с предубежденностью и непониманием населения, не желавшего видеть в актере чего-либо, кроме скомороха. Наконец, несмотря на полное отсутствие 141 средств, несмотря на малое количество декораций и костюмов, несмотря на то, что выступать приходилось исключительно по харчевням и на фургонах, — этим «поденщикам нации» (как их впоследствии прозвали) удалось возбудить интерес к театру в мелкопоместном дворянстве и, в особенности, среди крепнувшей буржуазии и интеллигенции. Кроме весьма скверных переводов пьес Шекспира и Шиллера они исполняли по большей части самодельные шуточные пьески.
Параллельно с хозяйственным развитием страны и с созреванием национально настроенной буржуазии, рос и венгерский театр, так что в 1837 году в культурном центре Венгрии — Будапеште, бывшем до того под исключительным влиянием постоянных немецких трупп, возник первый венгерский театр с собственным зданием и постоянной труппой. Здесь собрались лучшие силы провинциальных театров. От этого «Национального Театра» в 1884 году отделилась опера, перешедшая в новое здание. В Пеште же была основана в 1863 году первая театральная школа.
В течение этого второго, так сказать, «классического» периода венгерского театра, можно различать два главных направления в репертуаре. С 40-х годов, т. е. со времени освобождения крестьян от крепостной зависимости, этот театр очутился в центре не только политических, но и литературных интересов. Возникла так называемая «народная драма», в которой жизнь крестьян изображалась в слащаво-романтических и идеалистических тонах. Хорошие писатели, талантливые актеры и актрисы привлекли общую любовь к этому роду драмы. С индустриализацией страны и с развитием натуралистической формы искусства этот вид драмы совершенно сошел со сцены.
Под влиянием пьес Дюма, Сарду и Пальерона венгерская сцена обогатилась высокопарными романтическими драмами. Из скрещенья шекспировской формы с духом французской романтики возникли патетические драмы, написанные ямбом, в которых историческая среда служила только декорацией для лирических излияний драматурга. Это направление не создало ничего замечательного или жизнеспособного.
В игре господствовала французская школа. Широкие жесты, трагическая мимика, героическая поза; в речевом отношении предпочитали музыкальные интонации и выдвигали на первый план декламацию. Бенгальский огонь и апофеоз неизбежно заключали каждую пьесу.
Таков был театр того времени.
II. КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Параллельно развивающейся капитализации и индустриализации Венгрии, т. е. приблизительно с последнего десятилетия прошлого века, театры тоже принимают новый, более деловой 142 и предпринимательский характер. Начиная с этого времени мы можем говорить только о столичных театрах, так как Будапештский театр собственно говоря стал общевенгерским театром. На провинциальных сценах за все это время едва ли было представлено хоть одно новое драматическое произведение (мы не принимаем в расчет местные, крайне посредственные пьесы). Для актерского искусства Венгрии эти театры играли роль резервуара и подготовительной школы для столичных театров.
Предприимчивые дельцы открывают в Будапеште частные театры. Первым из них был Театр Комедии, основанный в 1895 году. И хотя в отношении своей численности Будапештские театры в довоенное время сильно уступали театрам других культурных центров средней и западной Европы, зато в художественном отношении они являлись достойными соперниками последних. В 1910 году в Будапеште было всего 7 больших театров в то время, как в Вене, кроме казенных театров, существовало 18 театров, а в Берлине — еще в два раза больше.
Высокий художественный уровень венгерских театров был обусловлен рядом факторов. В виду того, что театральный капитал в Венгрии не был так объединен и сосредоточен, как, скажем, в Англии или в Америке (вследствие чего здесь было неизвестно также сквернейшее обыкновение театров означенных стран обмениваться труппами), — венгерский театр мог с большим успехом выполнять свои художественные задания. Кроме того, на театр повлиял также расцвет венгерской драмы, пользовавшейся большой популярностью на мировом рынке. После того, как Франц Мольнар завоевал иностранную сцену своими блестящими в техническом отношении пьесами, усилился интерес также и к произведениям других венгерских авторов. Мы назовем имена только нескольких драматургов, известных также и в России: Ленгьель, Биро, Хайош, Дрегель, композиторы Донаньи и Барток, опереточные композиторы Кальман и Сирмай. На премьерах этих авторов, к которым можно прибавить еще ряд других, всегда присутствует целая колония заграничных театральных директоров. Можно смело сказать, не преувеличивая, что после России Венгрия обладала наивысшей и наиболее развитой театральной культурой. Правда, венгерская театральная культура была не столь новаторской и плодотворной, как русская, и даже напротив — отличалась большой консервативностью и выносила на подмостки только испытанные и зрелые создания, но зато венгерский театр был гораздо глубже французского, красочнее и оживленнее германского и многостороннее венского. Если она не дала известности отдельным именам или определенным труппам, то причиной тому надо считать изолированность венгерского языка. Все же имена Иванфи, Маркуш, Хегедгош, Береги, Ясай — пользуются большой известностью и признанием в театральных кругах.
143 Какова была общая картина состояния венгерского театра до революции? Существовали два государственных драматических театра («Национальный» и «Камерной» театр), в которых царил классический репертуар. Все попадавшие на сцену новые пьесы были почти всегда крайне посредственны. Драматурги не влагали в свои произведения ничего, кроме почтения к традициям и преклонения перед «высшими кругами». Актеры, являвшиеся всего-навсего прекрасными мастерами своего ремесла, образовывали крепкое, хорошо сплоченное объединение. Они были призваны охранять старые традиции. Под влиянием преобладавшего на сцене классического репертуара, их игра приобрела патетическую окраску, и хотя в последнее время она была прикрыта натуралистическими покровами, но в основе своей осталась неизменной. В сущности, мы имеем здесь дело с пересаженной на венгерскую почву «Французской комедией» (Comédie Française).
К государственным театрам принадлежит также и опера, с ее замечательным хором и певцами, которые, в вокальном отношении не уступая солистам других оперных театров, в отношении игры обладают всеми обычными для оперных артистов недостатками.
Сверх того существовало два частных драматических театра. Кроме произведений вышепоименованных венгерских писателей, здесь ставились обычные иностранные салонные и адюльтерные драмы. Кокетничая подчас с «литературой», эти театры видели в том свою обязанность, но отнюдь не внутреннюю потребность. Их актеры были первоклассными величинами, хорошо сыгравшимися, гибкими, легко приспособляющимися. Вскоре, под влиянием освежающей школы «Свободного театра» Андрэ Антуана, а так же в связи с успехами Брама и Рейнгардта (последний, к тому же, по происхождению венгерец), они перешли к более совершенным художественным формам и прониклись принципами натуралистического театра, время от времени делая экскурсы в область стилизованных постановок.
Оперетка ставилась в «Королевском театре». Она была не хуже всемирно известной Венской оперетки, а некоторые ее актеры и актрисы даже превосходили венских артистов в художественном отношении. Главной силой этого театра была хорошо известная в Европе и в Соединенных Штатах актриса Шарлотта Федак.
Так называемая «Народная опера», называвшаяся так же «Городским театром», основанная с целью приблизить оперу к широким народным массам, вскоре тоже перешла к оперетке.
Здесь шли еще более безвкусные и тупые пьесы (если только таковые могут быть), чем в «Королевском театре», и актеры этого театра были качеством похуже, главное же — состав труппы был совершенно случайным.
144 Необходимо сказать еще несколько слов о венгерских кабаре. Это было чисто своеобразное будапештское явление, которое в течение некоторого времени, до самой мировой войны являлось «храмом» современного искусства. Репертуар их состоял из стихов новейших и талантливейших поэтов, из маленьких песенок, из коротеньких одноактных пьес и забавных пародий. Актеры были по большей части мастерами своего дела и имели колоссальный успех в ежемесячно обновлявшихся программах.
III. ТЕАТР ВРЕМЕНИ ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИКТАТУРЫ
Раньше, чем перейти к ближайшему рассмотрению этой главы истории венгерского театра, необходимо сделать несколько замечаний.
Во-первых, нужно иметь в виду, что время диктатуры (с 21 марта по 1 августа) было не таково, чтобы можно было ожидать особо ощутительных результатов в изучаемой нами области. Работа тормозилась приближением конца сезона. Оставшиеся четыре месяца были достаточны только для подготовительной работы, для разработки общего плана ее, но отнюдь не для получения каких-либо значительных результатов. Вся тогдашняя работа носила характер только улучшений и исканий, тем более, что соответственная работа русских товарищей была нам или вовсе неведома или известна только поверхностно.
Во-вторых: история венгерской диктатуры еще не написана. (Оставляю в стороне контрреволюционные книжонки, искажающие факты). Подготовительные работы, подобные разысканиям Бела Куна, Рудаша, Варги, Санто, едва только начаты, и вся эта область, особенно в ее культурной части — еще непочатая целина. Этот мой очерк должен, таким образом, явиться первой попыткой определения, изучения и оценки устремлений данного периода.
Еще до времени пролетарской диктатуры имеем попытку социал-демократической партии организовать народный театр в гигантском здании Народной оперы. За образец был принят Свободный Народный театр, основанный Бруно Виллес в Берлине в 1890 году. Во главе нового предприятия с.-д. партия поставила коммуниста И. Маца. Из этой затеи однако ничего не вышло, так как в эпоху диктатуры все театры перешли и без того в руки пролетариата.
Вскоре после победы пролетариата, товарищ Лукач, бывший наркомом просвещения, назначил комиссию для проведения социализации театров. В эту комиссию вошли два профессионала — режиссеры Национального театра и один композитор, все трое из той многочисленной породы людей, которые провозглашают себя после революции «испытанными и старыми революционерами», что доставляет им полное доверие; затем один журналист из социал-демократов и, наконец, товарищи 145 Балаш и Кашак. Последняя книга Балаша — «Культура Кино» — имеется и в русском переводе; автор ее слишком проникнут идеалистической философией и мистикой, чтобы твердо проводить чисто классовую линию: Кашак, редактор основанного в 1915 году экспрессионистского журнала «МА» (Сегодня), бывший металлист, руководитель левонастроенной художественной группы, был однако мало способен проводить ясную коммунистическую политику в искусстве. В основе его политических устремлений лежало отрицание буржуазного быта. Во время войны он был провозвестником воинствующего пацифизма; идеология его была неогуманистической, его искусство — экспрессионистическим.
Итак, эта весьма спорная с пролетарской точки зрения комиссия, приняла на себя руководство театрами.
Все директора, в том числе и бывшие владельцы театров, временно были оставлены на местах; только им давались из центра указания и распоряжения. Прежде всего был освежен и очищен репертуар. Эта работа велась общими усилиями членов комиссии вместе с директорами и главными режиссерами. При выборе пьес главным критерием являлся не классовый характер произведений, не стремление использовать театр, как трибуну, для агитации, а просто уважение к «высокому искусству». В почтительном благоговении перед искусством вытаскивали на сцену, без всякой системы и размышления, все крупные имена новейшей литературной эпохи: Шоу, Стриндберга, Метерлинка, Ибсена, кроме того культивировали и классиков; Шекспира никогда не исполняли так часто и столь любовно, как во дни диктатуры.
Некоторые из этих пьес были для Венгрии премьерами, другие являлись возобновлениями. Из оригинальных произведений отметим историческую драму т. Погань — «Наполеон» и бытовую поэму Барта.
Эта общая характеристика репертуара свидетельствует о «добрых намерениях» комиссии. Необходимо было доказать, что диктатура пролетариата представляет собой высшую ступень культурного развития человечества. И доказывалось это тем, что на сцену тащили без разбора все «величайшие сокровища» человеческой культуры. Впрочем бывали и ценные достижения. Очень остро вели, например, кампанию против легких жанров. Всякие «Орфеумы», «Бреттели», «Варьете» были закрыты; в опереточных театрах, за неимением хороших современных пьес, разрешена была только постановка оперетт, имевших хотя бы музыкальную ценность. О классовой точке зрения, о классовой культуре не говорилось ни слова. Этим добились только того, что один контрреволюционный сборник «Деятельность театра в эпоху диктатуры» вынужден был констатировать, что деятельность эта была направляема исключительно проведением принципов чистого искусства.
146 Спектакли давались для организованного пролетариата; между ними распределялось 4/5 всех билетов.
В специфических венгерских условиях, где с одной стороны профдвижение развивалось сильнейшим образом (так, в конце 1917 г. насчитывалось 215.222 члена профсоюзов, после буржуазной революции 721.437 членов, а во время диктатуры Советов — 1.422.420 членов), а с другой стороны возник ряд псевдопрофсоюзных объединений, образованных мелкой буржуазией и интеллигенцией, которые таким путем рассчитывали завоевать политическую власть, — под словом профорганизации следует понимать еще и организации мелкой буржуазии.
Что касается до актерской игры и режиссуры, то здесь все в общем осталось без изменений. Не заметно было ни новых искании, ни нового духа. Оберегали добрый старый стиль, и Это вполне понятно, так как ведь фактическую работу продолжали вести те же самые люди. Правда, к Национальному театру был прикомандирован в качестве режиссера тов. Мача, но он был уже не в силах что-либо там провести.
Спектаклям обычно предпосылались короткие доклады о пьесе или об ее авторе. Очень часто руководящие товарищи использовали сцену для произнесения агитационных или организационных докладов.
После того, как на должность наркома Просвещения был назначен тов. Погань, он стал проводить более выдержанную линию. Он удалил из четырех театров прежних директоров и пытался сильнее выявить классовую линию театра.
Удачнейшим из его новшеств явилась организация гигантского коллектива. Этот коллектив насчитывал несколько сот членов, исключительно молодых актеров. Этим объединением были выделены различные агитационные передвижные и армейские труппы. Не найти пожалуй ни одного села, в котором не побывала бы та или иная из этих трупп. Организованы были так называемые «Поезда Луначарского» и различные концертные группы, капеллы, хоры и т. д. Репертуар их состоял главным образом из маленьких агитационных фарсов, рабочих песен, сатир на прошлый буржуазный быт и тому подобного.
Из планов, которых уже не успели осуществить, назовем здесь только три. Прежде всего — объединение всех Будапештских театров в единый большой коллектив, который дал бы возможность выбирать наиболее подходящих актеров для исполнения отдельных пьес и ролей; затем — основание большого экспериментального театра, и, наконец, учреждение театрального университета с педагогическим персоналом в 40 человек.
Надо сказать еще несколько слов о профессиональном союзе актеров. Основанный после буржуазной революции, он был цитаделью контрреволюционной пропаганды, карьеризма и словоблудия. Подчиненный коммунисту, он выполнил совместно 147 с Наркомпросом, только одну более или менее крупную работу: распределил актеров на о категорий.
В заключение нашего очерка небезынтересно будет, пожалуй, сказать несколько слов относительно провинции. Пишущий эти строки был Председателем Совета по Народному Образованию в одном маленьком провинциальном городе. Город этот находится всего лишь на расстоянии 20 километров от Будапешта; он был резиденцией епископа и имел население с большим процентом индустриальных рабочих. Собственного театра у нас не было. Но зато из столицы приезжали еженедельно (а иногда даже чаще) разнообразные мелкие труппы, устраивались также концерты, так что мы ни в каком случае не испытывали культурного голода.
Несмотря на это, рабочие по собственной инициативе сделали попытку образовать маленькие труппы, подобные вашей «Синей Блузе», при том главным образом на фабриках и в мастерских, что особенно интересно, так как и Венгрии все было организовано на принципе места жительства. Эти маленькие труппы, были, по-моему, наряду с фабричными полками Красной Армии, единственными учреждениями, где производство являлось основным и связующим принципом организации. Эти труппы ревностно сохраняли свой чисто-пролетарский характер, и репертуар их тоже был строго классовым и боевым. Так, например, в день первомайских празднеств они декламировали стихи, соответствующие характеру праздника, исполняли массовые инсценировки и т. п. Они могли бы быть, конечно, началом нового могучего пролетарского культурного движения тем более, что это явление было далеко не единичным или случайным, а наоборот — типичным для всей провинции.
Каковы же вкратце, наиболее замечательные моменты и театральной политике эпохи советской диктатуры в Венгрии? Это: 1) Упорная инертность всего старого аппарата от директоров до последнего солиста, вызванная поведением плохо организованных руководящих инстанций. Объяснить это можно только беспочвенностью венгерской буржуазии и ее стремлением проникать в правительственный аппарат, чтобы получить возможность взорвать диктатуру изнутри. 2) Отсутствие чистой, сознательной в классовом отношении идеологии, строго продуманного пролетарского боевого воодушевления, способного выковать из театров подлинные агитационные орудия. Это явилось результатом отсутствия настоящей Коммунистической Партии и чрезмерной доверчивости наших товарищей к выбранным ими сотрудникам. Искусное поддержание искусства на прежнем уровне, а во многих отношениях даже значительное его возвышение, упорная борьба с порнографическим театром. С другой же стороны чрезмерное благоговение перед «чистым искусством» буржуазно-индивидуалистической литературы. 4) Первые зародыши большого, пролетарского, массового культурного движения снизу.
148 IV. КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТЕАТР
После падения диктатуры в Венгрии воцарился «новый дух» — национальное и христианское обновление должно было исцелить страну от всех испытанных ею мук и повести ее в рай человеческого счастья и всепримиряющей справедливости. Тот факт, что дорога в этот рай вела через бедствия и гибель многих тысяч рабочих, в расчет не принимался: христианское милосердие, как известно, не обращает внимания на подобные пустяки.
В театре, равно как и во всех прочих областях, начали с устройства генеральной чистки. Реставрацией этого назвать нельзя, потому что диктатура, как мы видели выше, слишком мало затронула старое здание, а новая власть разогнала не только коммунистов или заподозренных в коммунизме, но решительно всех повинных в старом либерализме, «оруженосцев еврейского капитализма, франкмасонства и космополитического мировоззрения». Практически это означало преследование всех, кто занимал какое-либо сносное положение и не пытался завязать сношения с представителями новой власти. Само собой разумеется, что при этом карьеристы и бездарности расправились с талантливыми людьми. Многие сотрудники государственных и частных театров вынуждены были спасаться бегством только потому, что они были евреями, либералами или просто талантливыми людьми.
После этой основательной «подготовки» стали ожидать нового Ренессанса. Но он не наступил. Именно потому, что старая писательская гвардия работала на потребу мирового рынка, ее произведения заключали в себе очень мало национальных, и тем менее ура-патриотических элементов. Ее прогнали или признали недостойной поощрения, а новые таланты, несмотря на все вопли и резолюции министров, упорно не желали обнаруживаться. Вместо этого наступил так называемый «немой год», когда на столь оживленной дотоле Будапештской сцене за весь сезон не было поставлено ни единой новинки. Этот неприятный и знаменательный провал заставил представителей власти мало-помалу изменить свою крупную линию. Старые имена стали постепенно возвращаться. Было даже снято запрещение ставить пьесы эмигрантов. И все же следует констатировать, что даже сейчас, после шести лет господства белых, все еще не появилось ни одного нового имени, ни одного представителя христиански-национального возрождения. Величайшая гордость венгерских националистов, Франц Херцег, является уже старым и закоснелым бытописателем местного юнкерства не особенно вредным, потому что заданные здесь темы (старый «национальный блеск», ирредентизм и т. п.) очень заманчивы и внешне эффектны.
149 Мы не имели возможности ознакомиться ни с одной из вновь вышедших пьес и вынуждены судить о ходе дела по отзывам газет. По-видимому, и старая гвардия (о которой мы говорили во II главе) в большей или меньшей степени утеряла свою былую мощь. «Красная Мельница» Мольнара, «Антония» Ленгьеля и др. пьесы еще больше прежних произведений этих авторов строятся на внешней сценичности, на погоне за эффектами. Но в этом нет ничего специфически-венгерского, и обусловлено это двумя основными причинами: первая — органическая, и вытекающая из подавленности физических потребностей; вторая — социологическая, вытекающая из отмирания капиталистического хозяйства.
Несмотря на слабость репертуара, интерес публики к театру не только не упал, но еще более усилился. Это опять-таки не специфически-венгерское явление; его экономические и массово-психологические корни — те же, что и в других странах. В результате в Будапеште было основано 5 новых театров. Из Этих новых предприятий следует упомянуть прежде всего об одном маленьком театрике, руководимом талантливым актером Рожи Форгачем. Этот театр культивирует «современное» (в дореволюционном смысле) искусство, некоторыми нитями связан с социал-демократической партией, а через нее слегка соприкасается и с рабочим классом.
Остальные театры (один опереточный и три драматических), судя по газетным отзывам, не имеют никакого лица, никакой художественной программы и служат исключительно удовлетворению коммерческих интересов своих хозяев.
Самым примечательным явлением в жизни венгерского послереволюционного театра является проникновение в него американского капитала и обусловленное им трестирование венгерских театров. Акц. О-во «Union» владело четырьмя крупнейшими частными театрами Будапешта. Большие постановочные затраты (67 %), все более возрастающая пролетаризация посещающей театры мелкой буржуазии, крупные хозяйственные кризисы и крахи — все это вызвало падение упомянутого акционерного общества. Когда же американцы попробовали отвести кризисы путем применения собственных методов, вспыхнула подлинная ярость и раздались призывы к «национальному негодованию». Писали о «вырождении» и «изнасиловании» искусства. Очень характерен и многозначителен тот способ, которым сражались против действительно вредного и пагубного для искусства плана, и на какие стороны его нападали с особенным ожесточением. Цитируем по статьям «Союза венгерских драматургов» и «Объединения Будапештских актеров» (от 26 июня 1925 г.). Обе эти организации имеют скорее клубный, чем производственно-боевой характер. «То обстоятельство, что имеется намерение снизить оклады так называемых “Звезд”, и принуждать даже лучших актеров играть любые, назначенные 150 им роли; наконец то, что хотят установить максимум тантьемы всего в 7 % — мы считаем неудачным планом, покушением на венгерскую литературу, на венгерское сценическое искусство… Это уже последнее дело, если человек, не имеющий никакого понятия о нашей театральной жизни и художественной культуре, сует свой нос туда, где он ничего не понимает».
Какова нынешняя картина Будапештских театром? В частных театрах царит полнейший хаос, вызванный распадением Акц. Об-ва «Union». Неизвестно, к кому его перейдут театры; неизвестно даже, смогут ли они вообще дальше существовать? Разумеется, такое положение отражается и на прочих театрах, преимущественно в области актерских ангажементов. Сейчас уже начало августа, сезон открывается 1 сентября, а до сих пор ни один частный театр еще не подписал договора с актерами. Если первый натиск иностранного капитала в целях трестирования театров и был отбит, все же ближайший путь ведет, конечно, к такому же разрешению вопроса. Это означает в конечном счете полный упадок венгерского театрального искусства и исчезновение одной из последних цитаделей «благородного буржуазного театрального мира».
Столь же мрачна картина и в государственных театрах. В министерстве весьма серьезно обсуждается вопрос о закрытии Оперного Театра, в виду его огромного дефицита. И если пока еще от этого отказались из соображений внешнеполитического престижа, то все является еще большим вопросом — сможет ли государство, которое после своего «оздоровления» еле сводит концы с концами, изыскать средства на дальнейшее содержание столь дорогостоящего «культурного документа». Кроме того за все шесть лет «Национального Ренессанса» Опера дала только две новые постановки: венгерскую новинку в 1921 году и вагнеровского «Парсифаля» прошлой зимой. Последняя постановка была встречена всеобщим осуждением.
Национальному Театру тоже пришлось пережить тяжелое время. Старая гвардия вымирает (за самое последнее время умерло четверо лучших ее представителей), а молодая гвардия состоит, мягко выражаясь, из посредственностей. Старый, классический репертуар сборов не делает, венгерские классики, пыльные, безжизненные литературные документы, осмеивались и освистывались даже учащимися средней школы, которые посещали театр в порядке принуждения.
Как видно, нынешний венгерский театр находится в тупике. Огромный кризис — культурный и материальный, художественный и хозяйственный — вот все, чем мог наделить его режим белых, режим национального «воодушевления».
Остается ответить еще на один вопрос: как реагируют в Венгрии на русскую театральную культуру, на громадные достижения 151 советского театра. В течение ряда лет об этом не говорилось ни слова. Теперь, когда молчать уже стало невозможно, стали собирать немецкие, французские и английские отзывы о русском театре и соответственным образом обрабатывать их. Бедный Таиров оказался вынужденным проживать в Париже эмигрантом, чтобы дать возможность, объяснения его германских успехов. Товарищ Мейерхольд изображается то коммунистическим разрушителем, большевистским Петрушкой, то величайшим гением театрального мира, которого, однако, преследуют в СССР за его антикоммунистические убеждения. О здоровом восприятии, о действительном и плодотворном исследовании говорить не приходится. Да это и невозможно при нынешнем безнадежном и обреченном на гибель состоянии венгерского театра.
Перевод И. А. Аксенова
153 Н. Мологин
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
I. О ДВУХ НЕЛЕПОСТЯХ
«Театр РСФСР Первый». Пафос революции. Монументальные постановки. Гигантские шаги мастера: от «Зорь» к «Мистерии Буфф». И к монументальнейшему «Риенци».
Кто раз побывал на репетиции в зеркальном зале, тот знает, что «Риенци» звучал всей силой вагнеровской музыки; впервые мы слышали подлинного Вагнера; впервые «вампука» сметалась героической драмой…
Но в самый расцвет «Театра РСФСР Первого», в тот момент, когда больной мастер поехал набраться сил для завершения постановки грандиозной вагнеровской трагедии, помещение театра передается «Маскодрам’у». Это — мастерская коммунистической драматургии с весьма широкими целями и весьма хлестаковскими делами.
Свершилось непоправимое: «Театр РСФСР Первый» был проглочен товарищем Хлестаковым. Историк театра оценит Это, как позорнейший факт.
В середине сезона 1921 – 1922 г. Хлестаков умер. «Театр Актера» — заменил его.
И тут произошла вторая нелепость:
Рассудку вопреки, дряхлый незлобинский конь был впряжен вместе с трепетной ланью:
Незлобин и Мейерхольд.
Возрадовались стены «Зона», ибо наконец-то запахло старинкой. «Зори», «Мистерия-буфф» вытеснены — «Двумя сиротками», «Орленком»… Уютная мебель, сладенькие декорации, милая публика…
«Театр Актера». Тихая пристань. Но не для корабля мейерхольдовцев: пока незлобинские «матерые» актеры и режиссеры пробавляются мутной похлебкой из провинциального репертуара, а зоновские стены этому радуются своим лепным кабацким «модерном», — на Новинском бульваре, в Гвырм’е (Гос. Высшие реж. маст.) Мейерхольд готовится в новое, бурное плаванье: там, на Новинке, уже приступают к репетициям «Великодушного 154 Рогоносца». А между учебой и репетициями незлобинские актеры репетируют — под режиссерством Мейерхольда — «Нору» Ибсена.
Эти репетиции — между прочим, между делом. Но все же незабываемы; молодняк видел, как крепко заострял мастер трагедию женщины в окружении буржуазной семьи и как беспомощны и жалки были незлобинцы с их системой переживаний.
II. ВЫЗОВ
День спектакля «Норы». Забираюсь в театр с утра: нужно готовить сцену. Как — никто не знает.
— Алло! Всеволод Эмильевич? Что нужно на сцене? —
— Приду, скажу…
День сменяется вечером. Волнение перед премьерой. И беспокойство: как же будет обставлена «Нора»? Ведь, я, заведующий монтировочной частью, и — ничего не знаю. Невольно опасаешься: не забыл ли мастер о премьере? Это немыслимо: значит, он что-то надумал. Но что?
Шесть часов вечера… Приехал: обычный армяк, пестрый шарф, невероятно громадные бурки, фуражка с пятиконечной звездочкой — вид не праздничный.
Серый, усталый взгляд. Ежится, хотя и тепло.
— Сегодня премьера «Норы». Что нужно на сцену? Как она пойдет? — спрашиваю.
— Сейчас скажу. Не беспокойтесь. —
Бродит по длинным коридорам, заходит на сцену, мрачно смотрит на колосники, на незлобинские декорации и мебель, кучами наваленные всюду.
— Хлам! — мрачно говорит мастер.
Семь часов. Через час начало. И за этот час совершается чудо первое: незлобинский хлам переворачивается на изнанку и устанавливается в непривычном для «чинных» декораций положении: параллели, ромбы, острые углы… Все перевернуто, все кажется хаосом. Актеры растеряны:
— Как же играть в такой обстановке?
Но когда зажглись огни и лиловый луч осветил этот кавардак — на сцене зажили очертания… не красивенькие, не сахарно-сусальные, а те, что определили жизнь «Кукольного домика».
Здесь затрепещет трагедия. Трагедия о «Норе», трагедия О женщине, которая свободу предпочла яду буржуазной среды.
Некоторые критики были особенно озлоблены, не тем, что им показали изнанку декорации, но тем, что на самом видном месте (в «Норе» — то, вместо пейзажика в золотенькой рамочке) они увидели: «Незлобин № 291» (метка монтировочной части).
— Что это? Издевательство? Небрежность? — вопили блюмы.
Они не поняли, какой удар наносился этой постановкой всему театральному хламу. Они не поняли, какой вызов был 155 в этом «Незлобине № 291», вызов театральному «Кукольному домику»…
Да. «Нора» — это артиллерийская подготовка перед боем. Это — вызов.
III. ПЕРЕД БОЕМ
Розовые афишки на заборах Москвы неуверенно и негромко оповещали: в «Театре Актера», что на Б. Садовой д. 20 (трамвай 6, 25, Б), — Вольные Мастерские Всеволода Мейерхольда ставят спектакль, посвященный Мольеру: Кроммелинк — Аксенов: «“Великодушный Рогоносец”, фарс в 3 д. Конструкции Л. Поповой. Постановка мастера Вс. Мейерхольда».
Никто и не подозревал, что эти скромные афишки, терявшиеся среди громадных плакатов кино, коршей и оперетт, открывали собой новую — и такую блестящую! — страницу в истории театра.
Театральная жизнь текла, пробавляясь мутной водицей: гордо пыжились аки своими вековыми «Аидами», «Снегурочками». «Дитя» незлобинцев конкурировало с «Дитятей» Дома Щепкина, традиционный Островский шел в ногу с Ростаном.
А на задворках дома № 32 по Новинскому бульвару — Вольные Мастерские. (Ход через двор, налево за дом, лестница темная — не стукнитесь лбом! На дворе темно и грязно — не ходите без галош!).
В хорошую погоду, днем можно прочесть на двери надпись, заботливо выведенную мелом:
— В. Э. Мейерхольд, кв. № 45.
Вольные мастерские лихорадочно работают. Репетиции днем и ночью. Репетиционный зал с остатками паркетного пола сотрясается от топота ног, а когда дело доходит до беготни и биомеханических упражнений, пол колеблется, а жильцы нижнего этажа крепко ругаются, творя молитвы:
— Пронеси, господи! Чтобы черт забрал окаянных: потолок вот-вот рухнет!
На заднем плане зала высится станок «Рогоносца», чуть-чуть не доставая до потолка. Зайчиков сгибается в три погибели, чтобы не треснуться о потолок. Серебром разливается голос Стеллы. Мастер — в углу, серый, заспанный, смотрит на репетицию гуманно-невидящим взором и попыхивает трубкой, заражая воздух невероятно горлодеристым табаком.
… Сижу, как зачарованный. И, не отрываясь, слежу, за репетицией. Какая бодрость, какая сила несется с этих станков! И это здесь, в тесноте, на дряхлом полу! Что же будет на просторной сцене?
— Ну, как? Нравится? — спрашивает Мейерхольд, набивая трубку. А в глазах — опасливый огонек, во всей фигуре — 156 болезненно-острое напряжение, как будто от ответа моего зависит судьба.
Я, кажется, не ответил; ибо не мог ничего ответить. Я лишь посмотрел восторженно-признательно и чуть кивнул головой.
Он понял: опасливый огонек исчез; глаза подернулись ласковой дымкой, улыбка чуть искривила рот…
— Спасибо! — пробурчал он. И крепко пожал мою руку.
В другом конце зала, на полу, разместилась Л. С. Попова и выводит на колесе буквы: Cromlng. А переводчик И. А. Аксенов красит маленькое колесо, за неимением красной краски и денег, — чернилами…
Все для «Рогоносца». Последняя репетиция здесь. Завтра — на сцену. Через два дня — спектакль.
IV. БОЙ НАЧАЛСЯ
Легко сказать: на сцену, когда она, сердешная, сплошь забита незлобинской декоративной рухлядью. Да что сцена — весь театр, начиная с вестибюля и кончая чердаком, наполнен вставками, «сукнами», садами, павильонами, задниками, мебелью и бутафорией… Лестницы, коридоры, люк, колосники — буквально непроходимы.
Надо убирать сцену — готовить место «Рогоносцу». Кончается незлобинский спектакль. Рабочие свое отработали и уходят из театра. Удрученный, я стою на сцене, как заблудившийся в дебрях Австралии.
— Всеволод Эмильевич! Убирать сцену некому. Рабочие ушли. Да это и немыслимо: здесь черт ногу сломит. Рабочие отказываются…
— Ничего! уберем. Мобилизуем наших.
Через несколько минут молодежь мастерских «мобилизована». Мастер сам тоже «мобилизуется».
Люк сцены уже открыт. И надо видеть, с каким энтузиазмом ликвидируются незлобинские павильоны.
— Это что? Кабинет под бархат? Катай его вниз!
Хохот, беготня — и «кабинет» из горьковских «Врагов» обретает место в люке.
— А это что? Ампир из «Псиши»? Давай его сюда! Ну, веселей, веселей! — молодо и бойко звучит голос команды.
Каждый работает за десятерых.
И все же нет конца бесчисленным павильонам. Реже раздается смех. Меньше шуток. Тяжелей дыхание. Но работа идет…
Только утром расчищается достаточная для конструкций «Рогоносца» площадь.
— Дурачье! Сколько хламу валят они на сцену! Как гадят такую прекрасную площадку…
— А как с акустикой теперь будет? — спрашивает кто-то.
157 — Это дурачье думает, что если убрать со сцены все эти «сукна», задники и павильоны, то акустика испортится… Ничего подобного! Наоборот…
— О-го-го-го!
— Слышите, как звучит? Ведь, воздуху больше. Дышать легче, легкие не засоряются… А главное — есть, где двигаться! —
… Незлобинские боги погребены в люке: вечная память бесславно умершим!
Путь «Рогоносцу» открыт.
V. ПРАЗДНИК ИСКУССТВА
Тот, кто был на первых спектаклях «Великодушного Рогоносца», присоединится к моему утверждению:
— Праздник искусства!
В мою задачу не входят ни анализ спектакля, ни учет настроения публики, ни даже восторженные словоизлияния по поводу «Рогоносца»: слишком много и слишком часто об этом в свое время писалось и слишком нелепо здесь что-нибудь доказывать…
Но почему на этих первых спектаклях вы не видели в публике виновника торжества — самого мастера. Он только выходил на вызовы публики и куда-то скрывался.
Куда?
Сейчас, по-моему, своевременно открыть маленький секрет, имеющий, правда, трогательное бытовое начало:
Вы знаете, что в «Рогоносце» 3 колеса и «ветрянка», вы Знаете, что все они вертятся в определенные моменты. Вы Знаете также, что эти колеса служили поводом для многих споров, предположений и глупых умозаключений. Какой-то философствующий дурак нашел в них даже символику: красное — страсть, черное — ревность, белое — злоба, ветрянка — эротика… Но вы не знаете, что, вследствие недостатка в людях, вертеть их было некому. Поэтому этот почтенный труд был поручен мастеру, старательно вертевшему ветрянку, переводчику Аксенову, храбро справлявшемуся с громадным колесом, З. Н. Райх и мне. Я должен отметить, что все старались. Мастер, правда, в одном месте запоздал с вступлением ветрянки, но за то он извинялся тысячу раз.
— Засмотрелся на играющих. Вы уж меня простите! — говорил он.
А в антракте он подходил к рабочим сцены и пытливо интервьюировал их:
— Ну, как? Понравилось?
— Здорово! — ответил один.
Старый рабочий, знающий не один театр, многозначительно сплюнул и торжественно заявил:
158 — Ежели в отношении декорации, то наши деревянные не в пример лучше наших: никаких тебе, собственно, перемен, никакой, так сказать, пыли. Опять же и мебель не требуется. А что касательно игры, то нашим (он говорил о незлобинцах) ни в жисть так не сыграть!.. —
Звонок.
— В. Э. Пожалуйте на место!.. «Рогоносец» идет.
Колеса вертятся более или менее правильно. Не шалит и ветрянка.
VI. ГИТИС
Нас признали, в этом не было никакого сомнения. Признали до такой степени, что, не колеблясь, попытались влить новое вино в весьма подозрительные меха дряхлой филармонии, переименованное учреждение в:
— Государственный Институт Театрального Искусства.
А на фронтоне зоновского театра прибили такую туманно-звучную надпись-шараду:
— Театр «Гитис».
Сделали это быстро, решительно и, как всегда, в отсутствие Мейерхольда, лечившегося в Крыму. Он приехал, чтобы встать перед совершившимся фактом: «Театр Актера» с незлобинцами был упразднен, а, вместо незлобинцев, под крылышко Мейерхольда, въехали:
Мастерские Опытно-Героического Театра.
Еще один конь, впряженный вместе с ланью!
Еще одна нелепость: рядом с бодрым «Рогоносцем» — театральная икота, камерно-завывающий «Эдип» нелепо-ритмизованная — «Гроза». Какая-то «Дама в черной перчатке».
Какая смесь имен и лиц!
В добавление к незлобинскому хламу, который все еще не был вывезен из театра, Героические мастерские навезли горы «установок», целесообразность которых была обратно-пропорциональна занимаемому ими месту…
Незлобинские физиономии матерых актеров сменились «лошадьим ржанием» бестолковой метро-ритмической молодежи О. Г. Т., явно замученной и метром и ритмом.
Театр провинциальных павильонов сменился метро-ритмической сушильней. Что хуже… трудно сказать. Вероятно, оба хуже.
По мере того, как «Рогоносец» шумел и гремел, делая полные сборы, героические «Дамы», «Эдипы» и «Грозы» неизменно и верно отталкивали от себя публику. Отталкивали до такой степени, что даже бесплатно на них никто не шел… Играли при пустом зале. Даже в праздники набиралось лишь несколько человек.
159 Все экономические предпосылки говорили за то, что театр «Гитис» должен лопнуть, ибо один «Рогоносец» не мог вынести на своих плечах и Вольные Мастерские Мейерхольда, и громадную, сложную ораву опытно-героического театра.
Выступление на одной и той же сцене мейерхольдовцев и фердинандовцев явно вредило нам: публика, побывавшая хоть раз на спектаклях ОГТ, говорила:
— Этот Гитис — ужас! Больше ни за что не пойду.
Только в половине сезона удалось нам расстаться с О. Г. Т. И только тогда началась новая, большая и все так же бурная работа:
— Театра имени Всеволода Мейерхольда.
VII. О МУКАХ РОЖДЕНИЯ СМЕРТИ ТАРЕЛКИНА
О смертных грехах «Смерти Тарелкина».
Грех первый: художник мешал режиссеру. Грех второй: благим намерениям мешал пустой карман. Грех третий: американизму мешала… Расея.
Повторилась старая, старая история: пришел художник, театра не понимающий, нарисовал блестящий план постановки:
— Механическая мебель, помогающая игре актера, строгие прямоугольники, квадраты и ромбы прозодежды… Все живет, все помогает эксцентрике!.. Ах, как хорошо!
— Делайте! — сказал Мейерхольд.
Начали делать. И с первых же шагов натолкнулись на тысячи препятствий, подтверждающих с несомненностью аксиому:
— Не зная броду, не суйся в воду.
В самом деле: разве можно сделать механическую установку, не зная законов механики? Разве можно сшить штаны, не Зная законов… костюма? Разве можно строить мебель и костюмы для театра, не зная законов театра?
Но все же… начали делать. В то время, как мастер разрабатывал mise-en scêne и проводил читки «Смерти Тарелкина», монтировочная часть театра мучилась над разрешением задач и — как сделать мебель механической? Как сшить «эксцентрическую прозодежду» по таким рисункам?
Пригласили инженера:
— Нельзя ли сделать так, чтобы этот стол прыгал и сам вставал, а этот превращался бы и в гроб, и в стол, и во что угодно?
Просмотрев чертежи механической мебели, инженер сказал:
— Можно. Только в Америке. Надо заказать на специальном заводе особые пружины, а мебель сделать из особого состава вроде папье-маше… Это будет стоить несколько тысяч…
Утешил: Америка! Несколько тысяч! Когда у нас и сотен нет! Когда всю постановку надо сделать, максимум, на три сотни рублей.
160 Америка отпала. Механика тоже. Мебель сделали «своими средствами», т. е. без средств, с кустарной механикой. И когда она сверкая белой эмалью краски, размещена была на сцене, — мастер встал перед сложной дилеммой: или бросить постановку, или заставить играть не только актеров, но и эти — с позволения сказать — механические вещи.
Мастер не убежал от всей этой доморощенной механики, а храбро взялся за оживление вещей и — о, чудо! — … стол, с трудом, но запрыгал, ящик заиграл, стул завертелся — все вещи ожили, заиграли.
Правда, эта игра была непрочная (после каждого спектакля починка); правда, все эти вещи, вместо того, чтобы помогать актеру, мешали ему.
А костюмы — эксцентрическая прозодежда — до такой степени затемняли смысл пьесы, что накануне спектакля Мейерхольд хотел отказаться от них.
Но… финансовые затруднения заставили махнуть рукой…
… Генеральная репетиция. Актеры с недоверием осматривают себя:
— На что я похож в этой дряни? (Это они о костюмах). Мастер, хмурый, сердито ежится в дальнем конце зрительного зала, как бы спрашивая:
— Чем еще удивит меня художник?
Вот Расплюев с автомобильной камерой вместо живота.
От камеры идет длинная трубка к насосу. Расплюев с трудом садится за стол; начинается потрясающая сцена еды: художник, видите ли, решил, что эта сцена выиграет, если живот будет надуваться. Начали надувать. Помреж, весь красный, из кожи лезет, чтобы накачать воздух. Живот, действительно, увеличивается, но вся беда в том, что публика этого не видит… Зато шина мешает актеру: он не может ни встать, ни пройти…
Мы смотрим на эту мучительную операцию с хохотом. Помреж подходит к Расплюеву совсем близко и все качает, качает…
— Убрать эту дрянь! Это черт знает что! — раздается голос мастера.
Актеры облегченно вздохнули. Шину выкинули. Репетиция пошла дальше.
… Сказать по правде, мы все — и актеры и рабочие — были очень плохого мнения о конструктивной — мебели «Смерти Тарелкина», прежде всего потому, что художница, их выдумавшая, абсолютно ничего не смыслила в театре.
Естественно, поэтому, что, когда самая солидная и самая ненавистная часть конструкции — знаменитая «темная» — мясорубка — была готова, а художница с восторгом на нее взирала, я поставил вопрос ребром:
— Не угодно ли вам, как автору, испробовать ее в действии?..
161 — Хорошо. Пусть кто-нибудь в нее влезет. А вы вертите, — обратилась она к рабочим.
— Нет, уж извините! У нас такой, порядок: действие всякой конструкции первым долгом пробует сам конструктор.
— Верно! Верно! — подтвердили рабочие.
Художница опешила и заметно струхнула.
— Я не могу… Пусть кто-нибудь…
Мы настаивали. Наконец, бледная и дрожащая художница влезла внутрь «мясорубки», но когда мы хотели завертеть колесо, раздался испуганный визг…
— Нет! Выпустите меня! Боюсь…
— Ничего, попробуйте, каково будет актерам работать в этой штуке! — успокоил я. — Ничего. Это вам не бутафория, а конструктивная, черт возьми, вещь!
Все злорадствовали. Все хохотали. И когда сцена у мясорубки была окончена, художница вышла бледная и испуганная.
— Но так уж страшно, — заикаясь произнесла она. Мы хохотали.
… Так, с многими препятствиями и многими неудачами строилась «Смерть Тарелкина».
VIII. БАЛАГАН
Брань на вороту не виснет.
(Народная пословица).
О, как они ругались, эти критики. Один, скрывшийся под псевдонимом «С», так и озаглавил свой поток ругани: «Балаган»:
— «Левый фронт, сколько безобразии совершено, совершается и будет совершаться во имя твое, — так хочется воскликнуть при виде того балаганного шутовства, которое вчера преподнесено нам В. Мейерхольдом своей постановкой “Смерти Тарелкина”. Что Мейерхольд ничего другого дать не может — в этом мы никогда не сомневались. Но вчера он воочию доказал это даже тем неврастеникам, которые считали себя последователями “революционного новатора” в области сцены».
Так ругался «С». Покорно вторил ему в «Известиях» Уриэль:
«Несмотря ни на что, “Смерть Тарелкина” в постановке Мейерхольда смотрится с неослабевающим, огромным интересом и тогда, когда она захватывает я тогда, когда против нее хочется возражать, кричать, вопить, бунтовать и всячески (слева и справа) возмущаться».
Так резюмировал свою статью Садко в «Правде».
Но все поздравляли с провалом. И ругались.
И, странно, — нам не было стыдно. Мы не чувствовали провала. Более того: по мере того, как рос и креп спектакль, мы убеждались, что «Смерть Тарелкина» — ценнейший вклад в историю русского театра.
162 Балаган? Именно он самый. Забытый, затерянный, во тьме веков. Бичующий, острый, смелый народный балаган.
Критики обиделись. Они оскорблены в лучших своих чувствах. А вот в провинции (Харьков, Киев), куда мы ездили летом 1923 г., «Смерть Тарелкина» имела у рабочей аудитории наибольший успех. Рабочие поняли.
Критики сделали свое дело: посмотрели первое представление (наименее удачное), выругались, испортили молодому театру сборы и умыли руки.
А спектакль шел еще целый год и, несмотря на неудачные костюмы, был доведен до такого совершенства, что целый ряд сцен (в середине акта) вызывал восторженные овации.
Это провал? Да, провал… нашей близорукой критики. Провал кабинетных «писателей», говорящих о театре, но ни черта в нем не смыслящих…
Впрочем, мы не сердимся: пусть ругаются: брань на вороту не виснет.
Вперед, в путь. ТИМ — не сдается!
IX. PRO DOMO SUA
Надо сознаться: нам жилось не легко. В то время, как аки и иже с ними не тужили, забаррикадировавшись от режиссеров-новаторов, жили припеваючи, театр дерзаний голодал.
Может быть, т. С., возмущенный «балаганом», покраснеет, если узнает, что в то самое время, как он поливал «революционного новатора» помоями — театр и сам «новатор» пребывали в муках голода, холода, долгов…
Сборы еле-еле покрывали расходы по освещению и содержанию технического персонала. Актеры и студенты в 1923 г. не получали ничего. В сезон 1923 – 1924 г. выдачи были такие: за 25 спектаклей актер первого положения в ноябре 1923 г. получал… 12 руб. 50 коп. А большую часть месяцев не получали ничего.
В таких условиях строился молодой театр. В таких условиях шагал молодняк вперед.
А как ставились новые пьесы?
Вот — новая постановка, готовящаяся в срочном порядке к годовщине Красной Армии, — «Земля дыбом». Грандиозные планы. Конструкции на всю сцену. Прожектора. Масса действующих лиц. Автомобили… И ни копейки на постановку!
К счастью нам помог т. Троцкий. По его распоряжению были отпущены нам многие предметы и обмундирование для «Земли дыбом». Оставалось только взять это со складов. Но… не было денег для найма 2 – 3 подвод. После многих мытарств, с трудом достали несколько «миллионов» на перевозку. С таким же трудом, в долг, достали несколько десятков лампочек для 163 сцены, которая погибала во тьме. Также в долг, раздобыли сельскохозяйственную машину для «Земли дыбом»…
Нечего было тратить, и по сему на постановку «Земли дыбом» почти ничего не истратили.
А, между тем, никто этого не знал. Никто этого не заметил.
X. «ЗЕМЛЯ ДЫБОМ»
Я помню, как на читке «Земли дыбом», Мейерхольд, прослушав несколько картин, сказал:
— Какая слабая пьеса!
А когда была готова конструкция к ней (громадный станок — мост с краном), он долго смотрел на них и развел руками:
— Ведь, на этакую махину надо целую дивизию! А у нас и ста человек нет.
— Что же делать? — спросил я.
— Убрать эту громаду на задний план; к стеночке ее, совсем к стеночке.
— А где будет действие?
— Здесь, впереди конструкции.
Так и сделали: конструкцию отодвинули к стенке, а главное действие планировалось на свободной от вещей сценической площадке.
… Чем больше мы читали пьесу, тем правильней казался диагноз мастера:
— Пьеса слабая.
Длинные, скучные диалоги, митинги, трескучие речи, нытье и полное отсутствие действия. Но когда, после многих читок, мастер приступил к планировке, — «Земля дыбом» сделалась неузнаваемой. Как остро зазвучали слова, как крепко и язвительно ударила по зрителю скучнейшая у автора сцена с императором!..
Проходная сцена — скучная и никчемная (прием крестьян у Бордье-дю-Патуа) — казалась всем лишней. Мы до такой степени были уверены, что мастер ее вымарает, что почти не читали. Но… случилось иное:
— Прочтите эту сцену, — сказал Всеволод Эмильевич.
Прочитали.
— Еще раз прочитайте.
Прочитали.
— Еще раз.
Пока читали третий раз, Мейерхольд забрался на сцену и зашагал по ней невероятными зигзагами. Мы переглянулись: уже не свихнулся ли он от нашей читки?
— Мелу! — вдруг закричал он. Принесли мел. В. Э. начал что-то чертить на полу.
— Вот так. Гирляндами. Пожалуйте! — объяснил он.
164 И через несколько минут никчемная проходная сцена, согретая приемами подлинного театра (пробег крестьян гирляндами, уход Бордье-де-Патуа в луче прожектора) стала блестящим эпизодом.
… Так, шутками, свойственными театру, шутками, вздернутыми остротой агитационного зрелища, слабая пьеса становилась нужной.
Так родилась «Земля дыбом», ставшая гвоздем двух сезонов и победившая многие и многие скептические сердца.
XI. ВПЕРЕД
«Куда ты ведешь нас, безумец?»
От «Земли дыбом» к «Лесу», от «Леса» к «Д. Е.», от «Д. Е.» к «Бубусу»… Еще шаг — и вот уже «Мандат» загремел на весь СССР. Еще шаг и воскресает великий Гоголь. И каждый шаг вызывает бурю восторгов и негодований. Каждый шаг — историческое явление.
«Правые» скептически, но боязливо отмахиваются. «Левые» недоуменно вопрошают:
— Куда ты ведешь нас, безумец? Уж не поправел ли старик? Уж не сдача ли это позиций?
«Левые» всегда — plus roylistes que le roi même…
Но мы знаем, что эти шаги мастера — незабываемые этапы истории театра.
Зачавшись на задворках дома № 32 по Новинскому бульвару, в атмосфере голода, холода, беспросветной нужды — этот театр растет не по дням, а по часам. Работники его, прошедшие суровую школу и вынесшие на своих плечах всю тяжесть борьбы за Октябрь театра, неустанно и бодро прокладывают путь новому театру и новому актеру.
Путь от агитационных «Зорь» к биомеханическому «Рогоносцу», от плакатной «Земли дыбом» и обозрения («Д. Е.») к новому реализму («Мандат») и новому классицизму («Ревизор») — это великолепная школа для актера и режиссера.
… Недавно, на диспуте о театре в провинции (в Ярославской губернии) местный любитель, ненавидящий Мейерхольда и всякие новшества в театре, сказал:
— Мейерхольдовский театр — это хлеб с мякиной, выдававшийся когда-то по карточкам. Нам он теперь не нужен.
— Нет, извините, — сказал другой. — Я видел лет 12 тому назад «Балаганчик» и «Маскарад» у Мейерхольда. По-моему, это конфетка…
— А я видел «Лес» и «Мандат» — сказал комсомолец. — И думаю, что это просто великолепный театр.
— Революционный и нужный, — вставил член Укома.
165 Диспут продолжался долго. Резолюции никакой не вынесли: потухло электричество. Но видно было, что провинциальная аудитория заинтересовала новым театром.
… Вы, сердитые кабинетные критики «с задами, крепкими, как умывальники»; вы, скептики, справа и слева, всегда и везде что-нибудь «усматривающие», — последуйте примеру глухой провинции, никогда не видавшей хорошего театра — и заинтересуйтесь новым крупным явлением, которое никакими силами нельзя вычеркнуть из истории театра:
— Театром имени Мейерхольда.
И если вы заинтересуетесь, то поймете нас, когда мы, радостные и бодрые, восклицаем:
— Какое счастье, что мы работаем в театре имени Вс. Мейерхольда.
Вы улыбаетесь?
Мы не спрашиваем Мейерхольда: «Куда ты ведешь нас, безумец?» — Мы знаем:
— Наш путь — вперед.
В мои задачи не входило разводить полемику. Это вышло само собой. Читатель имеет право недоумевать.
— Ишь, как разошелся! — скажет скептик.
— Самохвальство… пробурчит мрачная личность.
— Штрихи, необходимые для завершения набросков — отвечу я. Ибо нельзя же, в самом деле, не констатировать такого хорошего, такого радостного явления, как рост нового театра и актера и этого сплоченного устремления — вперед!
167 Н. Иванов
ОПЫТ СОЗДАНИЯ «ТЕАТРАЛЬНОЙ СЕМЕЙОГРАФИИ»
Настоящий опыт театральной семейографии или режиссерской записи мизансцен вызван следующими соображениями:
1) Необходимость такой записи уже давно чувствовалась режиссерами и историками театра, когда перед ними вставал вопрос, как сохранить созданное произведение театрального искусства — спектакль, его зрелищную сторону, для последующих поколений. Особенно остро чувствовалась необходимость записи движения в балете. Нам известно, что попытки создания такой записи были. Так мы знаем систему Владимира Ивановича Степанова (ум. 16 янв. 1896 г.), который составил азбуку движения, основанную на анатомических данных, и разработал ее под руководством проф. Лесгафта и по указаниям проф. Шарко. Подобно звукам музыки, он записывает движения человеческого тела музыкальными знаками на линейной системе, при помощи немногих дополнительных знаков, ритмуя движение так же, как мы ритмуем звуки. Линейная система состоит из четырех нижних, трех средних и двух верхних линий.

Рис. 1
Система, довольно сложная, пытается нотами и различными дополнительными знаками записать все возможные сгибания и разгибания наших членов в суставах, беря обозначения для 168 углов кратных 45°; но ею никак не разрешается запись движения в пространстве, т. е. это не есть запись мизансцен.
Существовали и режиссерские попытки создания записи движения по сцене: 1) Запись Арбатовская — практиковалась в Московском Художественном театре — основана на том, что все предметы на сцене обозначаются арабскими цифрами, выхода же и кулисы — римскими. Движение обозначается стрелкой, таким образом: 1→2, т. е. движение актера направлено из 1 (кулисы или выхода) к 2 (стулу, столу и т. п.), стоящему на сцене предмету. Стремясь к большей точности записи актер А. Я. Верин усложнил ее, введя новые знаки для обозначения местоположения актера на сцене, относительно того предмета, вблизи которого он находится. Запись его очень проста, и, если мы имеем перед собой пьесу натуралистического театра, с массой мебели на сцене, она вполне пригодна для практического ведения спектакля помощником режиссера. Но как только мы захотим воспользоваться ею, чтоб записать спектакль, идущий на просцениуме, лишенном всякой мебели, запись становится бессильной нам помочь. Нужно вводить либо условные точки и знаки для них (напр. f1 и f2 — фокусные расстояния площадки, термин, очень неопределенный, с — центр и т. д.), либо отказаться от такого способа записи совсем.
2) Запись монтировочная, при всей своей наглядности, дает возможность записать не больше десятка переходов и не больше трех-четырех персонажей сразу. При большем числе переходов и персонажей запись становится до того запутанной, что только в увеличительное стекло мы сможем разобраться в этом клубке линий. Запись делается прямо на плане сценической площадки и изображает линией возможно точно путь актера по этой площадке. И вот, когда актер проходит по одному и тому же пути не один, а несколько раз, когда по тому же пути проходит затем другой персонаж, запись уже нельзя осуществить, вся наглядность ее теряется.
3) Запись шахматистов дает нам только конечные пункты движения, не записывая всего движения во всей его последовательности, что составляет также недостаток Арбатовской записи.
Недостатки всех этих записей побудили нас создать запись, которая возможно точно, хотя бы с точностью до одного шага актера, передавала каждое его перемещение по сцене независимо от того заполнена площадка какими-либо предметами или нет.
Другим нашим соображением было следующее. Каждый раз, когда мы пытаемся создать элементарную теорию сценического движения, т. е. учения об основных началах сценического движения, на которых основываются все дальнейшие театрально-теоретические отделы, как композиция, учение о формах театральных произведений и т. д., мы наталкиваемся на такое препятствие — 169 сценической системы, т. е. системы, которая вносила бы порядок в пользование актером всеми свойствами сценического движения (устойчивость, четкость, точность, напряженность, длительность, сила и характерность) в зависимости от местоположения актера на сцене, не существует и это вносит хаос в движение актера. Театральная запись вплотную подходит к этому вопросу и, только решив его и установив какие-то законы для движения актера, имеет право на существование.
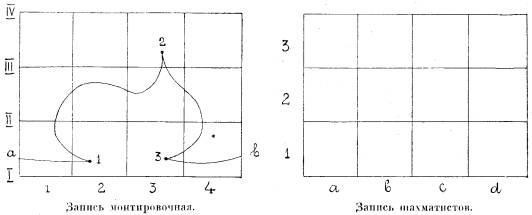
Рис. 2
Если мы обратимся к технике движения кинематографического актера, то одним из основных правил этой техники будет: нельзя делать очень быстрых движений на авансцене, таких, какие возможны (допустимы) в глубине сцены. Это правило 170 продиктовано тем, что перед киноактером находится фотографический аппарат со свойствами которого ему приходится считаться. У драматического актера роль аппарата будет играть зритель, обладающий иными свойствами. Соответственно этому и законы движения драматического актера будут иные. Чем глубже, чем дальше от зрителя помещаем мы актера, тем напряженнее должен двигаться он, чтобы сосредоточить на себе внимание зрителя. Это свойство сценического движения — напряженность не надо смешивать с тем творческим напряжением актера, от которого тоже зависит внимание зрителя к нему. Это свойство — напряженность движения — соответствует тому, что в музыке называется — высотой звука. Если высота есть большая или меньшая степень пронзительности звука (А. Пузыревский. Учебник элементарной теории музыки), то напряженность — есть большая или меньшая степень пронзительности движения. Это не есть сила, потому что сила зависит не только от степени возбуждения наших двигательных нервов, но также и от фактической величины наших мускулов и от того размаха (отказа), с которого мы начинаем наше движение, а часто и от многих других причин (напр., сила прыжка зависит от угла, под которым мы согнули ноги во время трамплина, и носком или всей ступней ноги коснулись пола). Это не есть большая быстрота, большая сила движения, это есть степень возбуждения наших двигательных нервов.
Итак «напряженность» есть одно из свойств сценического движения, которое меняется в зависимости от местоположения актера на сцене; но этого еще не достаточно, чтобы построить на нем сценическую систему. Мы не умеем еще измерять степени напряженности, не знаем и того, возможно ли установить определенные «ступени» этой напряженности, которые соответствовали бы той или иной удаленности актера от зрителя.
Но вот, что мы можем предположить заранее, и в чем состоит моя глубокая уверенность: если сценическая система будет создана, если ее можно создать, — а я уверен, что можно, — то она будет построена по степеням напряженности движения и ничто другое не может быть положено в ее основу. А раз это так, то запись, созданная мною, найдет себе применение и в сценической практике, а не явится только рефлекторной записью уже созданного спектакля.
Теперь перейдем к самой записи. В отличие от других назовем ее нотолинейной, ибо она пользуется пятилинейной бумагой, которая употребляется для записи музыкальных произведений. Линейки, начиная с первой, изображают собою ряд параллельных рампе линий на сценической площадке, составляющих границы между планами. Так, если первая линейка — рампа, то вторая — граница первого плана, третья — граница второго, четвертая — граница третьего плана и т. д. Ширина плана устанавливается мною в 1 метр. Почему? Будет сказано 171 ниже. Итак, промежутки между линейками обозначают самые планы.

Рис 3
Если актер расположен в границах первого плана, запись его движения будет обозначена простыми нотами между первой и второй линейками. Если он перейдет на второй план — запись его движения будет вестись уже между второй и третьей линейками и т. д., пока он не дойдет до пятого плана, после которого нам придется вводить либо добавочные линейки, либо систему ключей. Тоже придется делать и тогда, когда актер выплеснется за линию порталов на просцениум.

Рис. 4
Теперь мы умеем записывать движение «от» и «на» зрителя. Чтобы записать движения актера вправо и влево от зрителя параллельно линии порталов (рампе), мы разбиваем сценическую площадку на ряд квадратов (равных 1 кв. метру) линиями перпендикулярными к линиям планов. Теперь, на полученной таким образом сетке, нумеруем уходящие в глубину сцены полосы квадратов слева направо (от зрителя) арабскими цифрами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и т. д., в зависимости от ширины сцены.
Если мы, к имеющейся у нас на пятилинейной системе ноте, прибавим снизу или сверху цифру того квадрата, в котором находится актер, то запись будет достаточно точно обозначать местоположение актера на сцене.
Так, первая нота рис. 6 означает, что актер находится на втором квадрате второго плана, а следующая нота — на третьем квадрате первого. Если движение актера на плане обозначить прямой Линней, то оно будет приблизительно таким, как показано на рис. 5.
172 Но движение на сцене происходит не только по прямым. Как быть в этом случае? Как записать все разнообразие движения актера по сцене, не усложняя очень нашей записи?
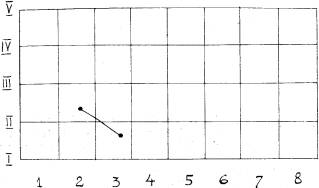
Рис. 5
Не случайно была выбрана нами величина = 1 метру для обозначения границ планов. Занимаясь в Первой Петроградской Профессиональной Студии (в б. доме Кшесинской), я заставил своих учеников среди других вопросов анкеты, дать мне сведения о величине шага каждого в сантиметрах. Средняя цифра, полученная мною на основании этих данных была: для мужчин — 55 см.; для женщин — 45,5 с./м. Беря среднюю для тех и других, я принял величину шага актера = 50 с. м.

Рис. 6
Теперь, чтобы записать движение актера в квадрате со сторонами, равными 1 метру, разделим его на четыре равных квадрата со сторонами в 50 с./м. В полученных таким образом квадратах будем записывать движение знаками, несколько напоминающими музыкальную четверть, в таком порядке.
Любое движение актера может, быть записано теперь с точностью до одного шага, вернее с точностью до 50 с./м. — это 173 вполне достаточная точность. Любой момент перехода актера может быть фиксирован нами нотами. В этом преимущество Этой записи перед другими.
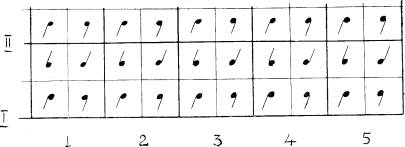
Рис. 7
Скажем несколько слов о самих нотах. В музыке нота, в зависимости от вида ее начертания, условно обозначает длительность звука. В театре мы обозначаем нотами место актера в каждый отдельный момент его движения; но, если мы захотим записывать и длительность движения, нам достаточно воспользоваться услугами музыкальных обозначений, применяя их к нашим нотам, напоминающим музыкальную четверть. Для Этого нам придется здесь только наделять наши ноты соответствующими хвостиками. Чертеж № 8.

Рис. 8
Выбор четверти для обозначения шага был опять хаки не случаен. Я следовал за Ж. Далькрозом, который четвертью изображает ритм шага спокойно идущего человека, восьмушкой быстрый шаг, полубег; на шестнадцатой — мы переходим в бег. Чтобы записать более медленное движение в одну половину, мы еще можем воспользоваться услугами музыкальных знаков. Но для обозначения ритма в одну целую нам придется ввести 174 свое обозначение, изменив самую форму ноты и оставив при ней хвостики, так:
![]()
Рис. 9
Взаимное соотношение длительностей, обозначаемых нотами такое же, как в музыке. Длительность нот устанавливается не каким-нибудь точно определенным временем, например, числом секунд каждой из них, а ее сравнительным отношением к длительности какой-нибудь одной доли, которая и принимается в данном случае за единицу времени, т. е. за величину для измерения длительностей всех остальных нот.
Когда мы научимся определять напряженность сценического движения и различать одну напряженность от другой, запись ее нужно будет построить по тому же принципу, что и запись длительности в музыке.
Следуя за Жаком Далькрозом, изображающим ритм шага спокойно идущего человека четвертью, мы тем самым, не нарушая музыкального закона о взаимоотношении длительностей, вводим пространственный предел для величины шага, равный диагонали малого квадрата со сторонами в 50 с. м.
Легко проследить, что полубег уменьшает длину шага (расстояние от ступни до ступни), бог еще больше сокращает длину шага, а быстрый бег переходит уже в форменное семенение ногами. Еще большая быстрота приводит к топтанию на месте. Либо нам придется просто скакать, а не перебирать ногами. Но если мы, наоборот, будем уменьшать скорость движения, то заметим, что это не влечет за собой увеличения длины шага. Собственно, уже при быстроте в одну четверть мы можем как угодно распоряжаться величиной своего шага, делать его больше или меньше. При большей быстроте мы невольно приходим к какому-то конечному пределу.
Теперь может возникнуть вопрос, как быть в тех случаях, когда движение актера придется как раз на границах двух больших квадратов? Это, конечно, такая точность, какой можно было бы и пренебречь, но я считаю нужным в этих случаях воспользоваться музыкальными знаками диеза и бемоля. Если движение актера идет из глубины сцены и останавливается как раз на границе одного из планов, мы ставим ноту между линейками, но со знаком бемоля. Если, наоборот, движение направлено от зрителя в глубину, то нота опять-таки ставится между линейками, но уже со знаками диеза.
175 Почему мы не пользуемся просто линейками? А вот почему. Если в театре большое значение имеет глубина, на которую актер удален от публики, то не меньшее значение имеет и высота, на которую он будет поднят режиссером-художником. И вот, чтобы записать движение актера в этом направлении, мы и воспользуемся одними линейками, которые пока остались непримененными. Запись строится по тем же законам, что и запись мизансцен (по глубине). При чем надо заметить: как в том, так и в другом случае записывается движение ступней актера или вообще точки его опоры (напр., если актер стоит вверх ногами).
Теперь, когда главное уже сказано, нам остается дать образцы нашей записи, разрешив попутно все остальные вопросы условных обозначений — каковы обозначения: пауз, лиг, темпа, силы и ритма.
Надо еще заметить, что в тех случаях, когда мы записываем движение не одного актера, а нескольких, наша запись имеет вид настоящей партитуры, ибо движение актеров, как в оркестре партии инструментов, подписывается одно под другим; вводятся временные черты, позволяющие наглядно представлять себе одновременное движение нескольких персонажей и пауз других; если под движением актера будет подписана музыка — мы имеем вид пантомимной записи; здесь же мы можем вести и запись световых сигналов, и тогда нами будет создана режиссерская партитура.
177 А. Нестеров
КЛУБНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ТЕАТРЕ И МАСТЕРСКИХ
ИМ. ВС. МЕЙЕРХОЛЬДА
Клубно-Методологическая Лаборатория организована 2 января 1924 года.
ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРИИ
А) Выработка методов и форм художественной работы в клубах на основах марксистского понимания клубной работы при учете опыта практической работы в рабочих, красноармейских, крестьянских и ВУЗ’овских клубах с использованием технических достижений Театра им. Вс. Мейерхольда в области оформления и системы агиттеатра.
Б) Воспитание нового клубного инструктора, отвечающего требованиям клубной работы.
В) Практическое руководство и помощь работающим на местах.
СОСТАВ ЛАБОРАТОРИИ
Основным ядром Клубно-Методологической Лаборатории является кадр работников Театра им. Мейерхольда, находившихся в предшествовавшие созданию Лаборатории годы на практической работе в рабочих, красноармейских, крестьянских и ВУЗ’овских клубах (преимущественно в качестве руководителей драмкружков).
К работам допускаются клубники, ведущие практическую работу в московских клубах и деятельностью своей способные принести КМЛ пользу. (Положение это распространяется и на кружковцев).
Для связи с провинцией устанавливается Институт членов-корреспондентов.
Членом-корреспондентом КМЛ может быть каждый работник клубно-зрелищного дела, работающий в принципах театральной теории и практики Клубно-Методологической Лаборатории Театра им. Вс. Мейерхольда и находящийся в регулярной письменной связи с Клубно-Методологической Лабораторией.
К 1 октября 1925 г. — основное ядро КМЛ — 40 ч. Допущено к занятиям руководителей — 5 ч. Членов-корреспондентов — 7 ч.
СВЯЗЬ ЛАБОРАТОРИИ
Лабораторией установлена идеологическая и практическая связь с Главполитпросветом, Культотделом ВЦСПС, Коминтерном, КИМ’ом. ЦК и МК ВКП (б) и МК РЛКСМ, Культотделом МГСПС, Губполитпросветом, Губрабисом, Горкомом кружководов, Культотделами Профсоюзов, Политсекретариатом ОСНАЗ’а, с Обществом Строителей Международного Красного Стадиона, с Райкомами ВКП (б) и РЛКСМ и др.
Связь устанавливается посылкой представителей в указанные учреждения и организации или путем выполнения по их заданиям ряда ответственных работ работниками Лаборатории.
178 В 1924 – 1925 Г. РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ ПРОХОДИЛИ:
I. В клубах (практическая работа),
II. на пленумах,
III. в клубно-методологическом кабинете
IV. и в иных местах по поручению парт- и профорганизаций.
В 1924 – 25 г. инструкторами КМЛ обслуживались следующие 40 клубов г. Москвы:
1) Второго дома Реввоенсовета и ПУР’а, 2) ВЦСПС имени Догадова, 3) Коммунистического университета трудящ. Востока, 4) РЛКСМ Красно-Пресненского района, 5) РЛКСМ Замоскворецкого района, 6) РЛКСМ Баумановского района, 7) РЛКСМ Рогожко-Симоновского района, 8) ТОО ГПУ, 9) Наро-фоминской мануфактуры, 10) Высшей Погр. Школы ОГПУ. 11) Первой школы швейников, 12) Второй школы швейников, 13) 36-й фабрики Москвошвея, 14) 6-й фабрики Москвошвея, 15) Клуб имени т. Жилина, 16) Объединенный клуб «Октябрьской Революции», 17) Центр. клуб им. Свердлова, 18) Красный Маяк, 19) Военно-химич. курсы усоверш. комсостава, 20) Узбекского Института, 21) Губсовпартшколы, 22) 31-й школы швейников, 23) 23-й школы швейников, 24) Центр, клуб Строит, рабочих, 25) Ф-ки «Дукат», 26) Ф-ки «Красный Октябрь», 27) 16-й ф-ки Швейников, 28) 3-й ф-ки Швейников, 29) Трехгорной мануфактуры, 30) имени Дзержинского, 31) 1-го Коммунист, интерната, 32) Свердловского университета, 33) «Выстрел», 34) Гарнизон, клуб Сокольнич. казарм, 35) Клуб имени Ивана Федорова, 36) Клуб имени Баскакова, 37) 1-го Моск. Гос. университета, 38) АОН (Артилл. Особ. Назнач.). 39) Циндель. 40) Объединен. клуб Бутырского района.
Посылка инструкторов на места производилась по запросам парт- и профорганизаций с последующей регистрацией Горкома кружководов.
Работа на местах контролировалась Лабораторией.
Правления клубов находятся в постоянной связи с Бюро Лаборатории и дают характеристику каждой проведенной членом КМЛ кампании.
В своей работе с кружками члены КМЛ пользуются:
а) Художественной литературой, выпускаемой парт- и проф-издательствами к Кампаниям.
б) Инсценировками, обозрениями, живыми газетами, политсудами и отчетами, жив. кино, составленными самодеятельным порядком, или по заданию кружка и правления клуба.
в) Монтажами членов КМЛ.
NB. Пьеса выдвигалась лишь в безвыходных случаях.
Только тогда, когда нет иного материала и нет времени для его подготовки, в работу кружка берется пьеса. Обязательным условием при выборе пьесы для члена КЛМ является полное соответствие ее содержания с проводимой Кампанией, агит-пропагандистская ее значимость и ярко выраженное развитие сюжета в драматургическом отношении.
РАБОТА ПЛЕНУМОВ КМЛ
(Доклады, дискуссии, демонстрации опытов, обсуждение планов).
Пленумом в 1924 – 23 г. рассмотрены следующие темы: 1) Результаты Всероссийского Клубного Совещания. 2) Комплексный метод в работе клуба. 3) Анализ тезисов, выдвигаемых различными группировками клубных работников. 4) Формы художественной работы в клубе. 5) Самодеятельность в драмкружке. 6) Тренаж в драмкружке 7) Задачи руководителя драмкружка. 8) Методика живой газеты. 9) Учет влияния революционных театров на работу драмкружков. 10) Работа в Красноармейских драмкружках. 11) Спектакль «Д. Е.», как метод построения клубного спектакля. 12) Экскурсионно-лекционная работа драмкружка. 13) Проз- и проф-пропаганда в клубе. 14) Работа со зрителем. 15) Клубная работа в деревне. 16) Изучение клубной литературы. 17) Методика массового действа и массовых постановок.
179 Проработка указанных тем поручалась группе методистов Лаборатории, пользовавшей для своей работы методическую литературу и свои личные опыт и наблюдения. Иногда в качестве докладчиков Лабораторией привлекались ответственные парт- и проф-методисты. В данных случаях Лабораторией выставлялись содокладчики или оппоненты, судя по представленным тезисам доклада.
Кроме обсуждения тем, указанных выше, имеющих целью повышение общей квалификации работников Лаборатории, на пленумах регулярно проводились обсуждения планов празднования Календарных дней, имеющих целью установление единого плана работ членов КМЛ на местах. В этих случаях докладчик выставлялся группой работников КМ Кабинета своевременно ознакомившейся с намеченными парт- и профорганизациями, планами проведения празднества и проработавшей выпущенную к Кампании литературу.
На пленумах же заслушивались отчеты работников с мест о проведенной кампании и принимались соответствующие решения.
Средняя посещаемость пленумов — 25 чел.
Пленумы созывались 1 раз в месяц.
В КЛУБНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ
В задачи К. М. Кабинета входят:
Составление клубной библиотеки.
Рецензирование и подбор по Кампаниям клубной худ. литературы.
Учет опыта чл. К. М. Л., работающих на местах и ведение их «личных дел»40*.
Проработка инсценировок, живых газет, отчетов, пьес, сценариев массовых зрелищ.
Составление планов празднеств.
Разработка вопросов худож. работы в клубах.
Создание наглядных пособий по худож. работе.
Составление методических сборников по отдельным видам худож. работы, библиографических списков и худож. указателей литературы, пригодной к проработке в клубе.
Постоянный инструктаж работающих на местах.
Контроль над работающими в клубах чл. К. М. Л.
Переписка с членами-корреспондентами и клубами СССР и др.
К работам в кабинете привлечено большинство членов Лаборатории.
Производительности работ Кабинета мешало отсутствие материальных средств в Лаборатории. Этим объясняется то обстоятельство, что большая часть работ Кабинета остается до сих пор не опубликованной и общая бедность Кабинета, в силу которой он не может еще быть использован, как показательный, для всех работников, руководящих художественной жизнью клубов.
РАБОТА, ВЫПОЛНЕННАЯ В 1924 – 25 ГОДУ ПО ПОРУЧЕНИЮ ПАРТ. — ПРОФ. ОРГАНИЗАЦИЙ:
а) Организованы массовые зрелища:
1924 г.: 15 июня, в день встречи делегатов V Конгресса Коминтерна на Ленинских горах, по поручению Общества Строителей Международного Красного Стадиона организовано массовое зрелище (1.500 участник.). «Разгром торгового представительства СССР в Берлине» (чл. КМЛ Люце, Нестеров, Изаксон).
29-го июня там же, по поручению ОСМКС и Коминтерна, организовано массовое зрелище: «Земля Дыбом». (Члены КМЛ Люце, Коренев, Нестеров).
180 29-го июня в Рязанском лагерном сборе поставлена массовая инсценировка (1.000 уч.) «Пролетарии всех стран соединяйтесь». (Чл. КМЛ Боголюбов).
20-го июля на спорт-арене Сел.-Хоз. Выставки, по поручению Замоскворецкого райкома, поставлена массовая инсценировка (1.500 уч.) «Июльские дни, Ленин и партия». (Чл. КМЛ Исполнев).
1925 г.: По поручению Болгарской секции Коминтерна в Кускове организовано массовое зрелище «Взрыв Софийского собора» (чл. КМЛ Буторин и Половцев).
5-го ноября, по поручению Сокольнического райкома РКП (б), поставлен инсценированный отчет райкома «1917 – 1925» (чл. КМЛ Экк, Березовский, Местечкин).
б) По заданию МК ВКП (б) К. М. Лабораторией разработан план проведения Октябрьских торжеств в клубе в 1924 г.
в) К 1-му мая и к Октябрьской годовщине 1925 г. группой работников вещественного оформления по заданию Районных Комитетов ВКП (б) представлен целый ряд эскизов для изготовления эмблем предприятиями Красно-Пресненского, Сокольнического и Баумановского районов. Этой же группой работников КМЛ проработан ряд портативных передвижных установок для клубной сцены по заказу клубов (Кр.-Преснен. Центр. клуб РЛКСМ, Ленинградский Агиттеатр и др.).
г) Литературная работа КМЛ:
1) По заданию ЦК ВКП (б) к 1-му мая 1925 г. написана брошюра «О массовом зрелище».
2) По поручению Московского Театрального Издательства даны отзывы о 30 готовящихся к изданию пьесах и научно-методических сборниках.
3) По заданиям районных комитетов РЛКСМ составлены инсценировки: «Империалистическая бойня» (1924 г. Баумановский район), «1905» и «Комсомол на Западе» (1924 г. Красно-Пресненский район).
4) По поручению Харьковского Губполитпросвета составлена инсценировка «Горе от рабкора» (1925 г.).
5) По поручению правлений клубов составлен: «Годовой отчет клуба». (1925 г.).
6) По заданию Сокольнического райкома ВКП (б) инсценирован отчет райкома: «1917 – 1925».
7) В клубах членами КМЛ, вместе с кружковцами, сработан ряд инсценировок, живых газет и сценариев живого кино: «Октябрь близко», «Красная Пресня», «Ленин жив в массах», «7-я годовщина Красной Армии», «Про задачи кружковские», «Десять дней», «Борьба за мост», «Памяти Ленина», «За учебу и дисциплину», «Мятежники», «Ленин и ВКП (б)», «Юлиан Брайт», «Знакомый Ильича», «Доброхим», «Восстание», «Религиозный диспут», «Даешь новый быт», «Химизатор».
«ДЕНЬ КОММУНЫ», «ЗА ЧУЖИЕ ИНТЕРЕСЫ» И ДР.
Некоторые из перечисленных работ опубликованы, остальные готовятся к изданию.
8) Силами членов КМЛ организовано 10 бесплатных художественных вечеров (на Ходынке, в Октябрьских казармах, в Быковской волости Московского уезда, во Вхутемас’е, Военно-Педагогической школе, во 2-м доме РВСР и др. местах).
ЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА
Группа лекторов-методистов КМЛ вела работу:
1) В Государственных Экспериментальных Театральных мастерских им. Вс. Мейерхольда (периодические лекции о методике и формах клубной работы).
2) В институте им. Карла Либкнехта (живая газета, живое кино).
181 3) В Мастерских Пролеткульта в 1924 г. (методика и практика живой газеты).
4) В едином Художественном Рабфаке Вхутемас (даны руководители и лектора в театральном отделении Рабфака).
5) Отдельные лекции в производственных союзах (коммунальников, печатников, текстильщиков, кожевенников, швейников и др.), участие в диспутах по вопросам художественной работы в клубах (в ПУР’е, в Свердловском университете, в Химшколе, в МГСПС, в КУТВ’е и др.).
ИНОГОРОДНЯЯ РАБОТА КМЛ
1) По запросу Правления клуба им. Радченко был послан руководитель в Шатурку (1925 год).
2) По предложению «Рабочей Газеты», в подшефную Издешковскую волость Смоленской губ. был послан организатор на средства КМЛ. Организовано два драмкружка, связь с которыми до сих пор поддерживалась путем письменных отчетов кружков перед КМЛ и посылкой инструктивных писем и пособий.
3) Три месяца КМЛ велась культурно-просветительная работа в Быковской волости Московского уезда (организованы художественные вечера и спектакли, показаны работы рабочих драмкружков).
4) Летом 1924 – 25 гг. организовано 30 художественных выступлений для рабочих гг. Грозного, Пятигорска, Ленинграда, Минеральных Вод. станиц — Прохладной и Константиновской и др.
5) Ведется инструктивная переписка с членами-корреспондентами и клубными работниками ряда городов (Ростов-на-Дону, Казань, Самара, Одесса, Березов, Харьков, Владивосток, Харбин и др.).
НА 1926 г.
Лаборатория, помимо основной работы, какую она берет на себя по примеру прошлого сезона, поставила перед собой следующие задачи:
1) Полное оборудование К. М. Кабинета, как показательного в целях предоставления его в пользование всех клубных работников г. Москвы.
2) Издание работ Лаборатории, представляющих научно-методическую или художественную ценность.
3) Учет работ всех клубных драмкружков и кружков живых газет г. Москвы, классификация их по производственному признаку (кружки рабочие, Вузовские, красноармейские, комсомольские и др.).
4) Установление более прочной связи с клубами, путем привлечения к участию в практических работах КМЛ возможно большего количества активных клубных работников (кружковцев и руководителей).
5) Увеличение количества членов-корреспондентов в целях использования в работах Лаборатории опыта провинциальных клубов.
6) Усиление практической связи с парт- и профорганизациями, Главполитпросветом и Губполитпросветами путем направления представителен в их Художествснно-Методические Советы и привлечения их представителей к широкому участию в практических работах Лаборатории.
7) Установление планового обмена спектаклями и выступлениями в отношении клубов, имеющих руководителями членов К. М. Лаборатории.
8) Организация показательных клубно-художественных вечеров, состязательных выступлений драмкружков, кружков живых газет и устройство товарищеских дискуссий по поводу работ отдельных клубов.
9) Разработка плана празднования 1-го Мая 1926 года и плана проведения Десятой Годовщины Октябрьской Революции.
Работами Клубно-Методологической Лаборатории руководят: Вс. Мейерхольд и Бюро в составе: А. Е. Нестеров (Ответственный Секретарь), Н. Н. Буторин — (Зам. Ответственного Секретаря) и К. М. Михайлов (Заведующий К.-М. кабинетом).
ПОСТРАНИЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
1* Вс. Мейерхольд. J’accuse! — «Вестник Театра» 1920, № 70 – 77.
2* К. С. Станиславский. О ремесле. — «Культура Театра», 1921, № 3 – 7. Здесь — описание главнейших актерских штампов.
3* Вс. Мейерхольд. К возобновлению «Грозы» А. Н. Островского на сцене Александринского театра. — «Любовь к трем апельсинам», 1916, кн. 2 – 3, стр. 111.
4* Очерк истории «Театра-Студия» и характеристику его работ см. в статье В. Э. Мейерхольда. К истории и технике театра, напечатанной впервые в сборнике статей: Театр. Книга о новом театре (изд. «Шиповник». СПБ. 1910) и перепечатанной в книге Вс. Мейерхольда О театре (изд. «Просвещение». СПБ. 1913).
5* Об этих промаха см. статью Вс. Э. Мейерхольда — Старинный театр в С.-Петербурге — в книге О театре, стр. 117 – 120. Очерк истории Старинного Театра дал Э. А. Старк в книге Старинный театр (изд. 2-е. ПБ. 1922).
6* «Любовь к трем апельсинам», 1915, кн. 1 – 2 – 3, стр. 139 – 140. [Разрядка моя. — С. М.]
7* Ср. замечания В. Н. Соловьева по поводу мольеровской бутафории в статье Театр Мольера (Очерки по истории европейского театра, изд. «Academia», ПБ. 1923, стр. 303).
8* Ср. сходным рассказ Мейерхольда об игре его ученика Ал. Грипича (ныне гл. режиссер Театра Революции) «Любовь к трем апельсинам», 1914, кн. 4 – 5, стр. 78.
9* Хорошую характеристику гротеска, как чисто театрального метода, дает Вс. Мейерхольд и статье Балаган (О театре, стр. 167 – 173). Высказываемые здесь мысли тесно связаны с изучением творчества величайших мастеров гротеска — художника Жака Калло и поэта-романтика Э.-Т.-А. Гофмана.
10* Извлечено из программы класса В. Э. Мейерхольда в Студии в 1914 г. «Любовь к трем апельсинам», 1914, 4 – 5, стр. 96. [Разрядка моя. — С. М.]
11* Уже в течение верного периода своей деятельности, Мейерхольд неоднократно выступал в качестве драматурги. Отметим следующие его работы: переделка «Крика жизни» А. Шницлера (поставлена в Полтаве в 1906 г.); пантомимическая транскрипция «Шарфа Коломбины» А. Шницлера (Дом Интермедии. 1910 – 11); пантомима «Влюбленные» (1911 – 12); пьеса «Огонь» (в сотрудничестве с Ю. Бонди и Вл. Соловьевым. 1914); дивертисмент «Любовь к трем апельсинам» по сценарию К. Гоцци (в сотрудничестве с К. Вогаком и Вл. Соловьевым, 1914); пьеса «Алинур» (в сотрудничестве с Ю. Бонди) и др.
12* Глоссы Доктора Дапертутто к «Отрицанию театра» Ю. Айхенвальда «Любовь к трем апельсинам», 1914, 4 – 5, стр. 75.
13* О театре, стр. 149.
14* Впрочем, Ильинский сейчас перешел в Ленинградскою Акдраму и… сразу стал штамповать (уж очень там воздух заразительный!), утеряв 75 % того мастерства, которое сумел в нем развить Мейерхольд.
15* О театре, стр. 147.
16* Бутафория фигурирует только в постановке «Смерти Тарелкина», но здесь она имеет чистый условно-сценический характер (напр., гроб — ряд сложенных окрашенных реек), подчас переходя в примитивное обозначение предмета путем надписи, вместо подделки его бутафорским способом (таковы — куски картона с подписанными на них названиями разных сортов тухлой рыбы). Это тоже традиционный прием, мотивированный нарочито примитивным, балаганным разрешением всего спектакля.
17* См. об этом у К. Гагемана, Игры народов, вып. II. Япония. Пер. С. С. Мокульского под ред. А. Гвоздева. Л. 1925. Стр. 50.
18* Конечно, и «Бубусе» отмеченный традиционный прием имеет совеем иную целевую установку, чем в указанных жанрах старинного театра. Но различие установки не изменяет существа приема и его генеалогии.
19* Сейчас на этот лютик поется песенка «Кирпичики».
20* Указано Вл. Соловьевым. Тезисы к постановке «Леса» («Жизнь Искусства», 1941, № 22).
21* Цитирую по письму из Москвы. «Жизнь Искусства», 1924, № 10. [Разрядка моя. — С. М.]
22* Брошюра Учитель Бубус. Изд. Театра имени Вс. Мейерхольда. Москва. 1925. Стр. 14.
23* Описание и анализ ее см. в статье А. Гвоздева. Концовки и пантомима. «Жизнь Искусства». 1925. Л. № 35.
24* Описана в «Русских Ведомостях» 1908, № 241.
25* Филиппов, Беседы о театре. М. 1924, стр. 53 – 53.
26* Хронометраж везде точен.
27* См. напр., в воспоминаниях Теляковского (Вечерняя Красная Газета, 28 сентября 1925 г.).
28* М. Н. Покровский, Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX века. М. 1924, стр. 72.
29* Некоторым несоответствием с общим планом роли является только комическое снижение Петра в эпизоде Пеньки дыбом. То, что Счастливцев садится на него верхом, плохо вяжется с его взлетами на гигантских шагах и лиризмом финального ухода.
30* Дробление на «эпизоды» (возникшее отчасти под влиянием техники кино) основано на структуре общего диалогического движения, складывающегося из отдельных диалогических движений — диалогических ходов. Завершением диалогического хода является резкая перемена в соотношении реплик и в их интонационной окраске (так, напр., когда реплики, идущие в порядке спора, принимают параллельное течение — смыкаются). Каждый персонаж в течение пьесы совершает определенный интонационный путь (так Лир у Шекспира от властных интонаций переходит в финале к кротким и скорбным: «Пожалуйста, вот пуговицу эту мне отстегните — благодарю вас, сэр!»). Это же интонационное движение осуществляется в пределах одной сцены. Если отдельная сцена, при сильном интонационном размахе, исчерпывает тему и дает значительный, крепкий финал, то получается подобие «маленькой драмы», включенной в общий сюжет. Примером может служить сцена Брут — Кассий в «Юлии Цезаре» Шекспира или сцена Дмитрии — Марина в «Борисе Годунове» Пушкина. Движение Брута — от гневных интонаций (конфликт с Кассием) к нежному заключительному аккорду (обращение к спящему Люцию «Спокойной ночи, добрый мой слуга!»). Путь Дмитрия — от любовной экзальтации («Любовь мутит мое воображение…») до равнодушного финала — «Черт с ними…, Змея, змея!..» И тут же переход к новой теме: «Заутра: двину рать». Любовная тема закончена, и Марина выбывает из пьесы.
31* Публика инстинктивно реагирует на эти взлеты аплодисментами — к сожалению, в исполнении т. Савельева теряется их точное соответствие с интонацией.
32* Постановки лабораторные (разрешающие общие проблемы театрального движения) чередуются у Мейерхольда с постановками бытовыми, где законы движения демонстрируются на бытовом материале. После «Леса» следуют «Бубус» и «Д. Е.» — постановки, построенные на чистом движении. «Мандат» — новое торжество натуралистического метода. Тут использованы достижения «лабораторных» постановок (так вертящаяся сцена и поразительная игра вещами — связаны с murs mobiles из «Д. Е.»).
33* В статье «Норма Театра» («Борозды и Межи», М. 1916, стр. 260 – 278). где намечаемая бегло схема отношений между хором и героем развита с надлежащею полнотой.
34* Там же, стр. 262.
35* Там же стр. 266.
36* Формулировка, подсказанная мне проф. А. А. Гвоздевым.
37* Эдо — прежнее название Токио.
38* Это намек на статью «За свободу театра», напечатанную «Berliner Tageblatt» и принадлежащую перу социал-демократа Леопольда Йесснера, управляющего берлинскими государственными театрами (прим. пер.).
39* Опускаем здесь мало интересные для наших читателей отчеты о возобновлении «Михаэля Крамера» Гауптмана в Deutsches Theater и Шиллеровского «Валенштейна» в Staatstheater (прим. пер.).
40* Личное дело — папка, в которой собраны все сведения по клубной работе, проделанной членом К. М. Лаборатории.

