4 От авторов
Европейские аналоги русского слова «театроведение» все обозначают одно — науку о театре, научное изучение театра. Но русский язык, допуская «… знание» (искусствознание, музыкознание), пока упорно не желает отказаться от старинного «… ведения». Конечно, ведать — значит знать. Знать и понимать. Но, в отличие от «знания», «ведение» крепко помнит о таких своих ненаучных родственниках, как, например, ведуны и ведьмы. Логика и ведовство оказываются границами, может быть, и одного, но весьма широкого диапазона значений, входящих в понятие «театроведение». Во времена, когда наука еще не отделилась от философского, мистического и других знаний, подобного диапазона не было. Если наступит эпоха, когда наука откажется от своих логических оснований, его опять не будет. Но сейчас он есть, полюса его отнюдь не лингвистические, и в течение всего XX века между этими полюсами держалось нешуточное напряжение.
Уже тогда, когда замысел этой книги начал реализовываться, мы отчетливо представляли себе, что каждую из двух главных ее частей — о театроведении и о театре — придется строить по-разному. Мировое театроведческое сообщество, полагали мы, сегодня достигло своеобразного консенсуса: все или почти все, кто думает о театре, признали, что общего ответа на вопрос «Что такое театр?» у нас нет. Конечно, мы обязаны были предложить и предложили свои ответы, но читатель по крайней мере должен понимать, что есть и другие и что мы об этом тоже осведомлены.
На таком фоне все касающееся театроведения выглядело гораздо оптимистичней. Да, театр понимается по-разному. Следует ли из этого, что и театроведение тоже есть неизвестно что? Скорее всего, нет, не следует; по крайней мере не следует автоматически. Но, с другой стороны, 5 прямо у входа в театроведение, у самого его порога нас встречает простой и неизбежный вопрос: цели и способы, с какими мы подходим к выбранному нами для рассмотрения феномену, не зависят ли от свойств самого этого феномена? Молнию и спектакль изучают по-разному, скорее всего, не по прихоти исследователей, а главным образом потому, что молния, как им кажется, сама по себе заметно отличается от спектакля.
Если так, мы впервые (но не в последний раз) попадаем в классический заколдованный круг, в обиходе именуемый ситуацией курицы и яйца. В самом деле, чтобы понять театр, требуется какое-нибудь театро-ведение; театроведение же может начаться только тогда, когда у него есть хотя бы одна правдоподобная гипотеза о том, что такое театр. Однажды, правда, на этот проклятый вопрос ответили: для античных римлян «ab ovo», то есть «от яйца», и значило — с начала. Но нам в XXI веке их решительности недостает. Зато у нас много того, чего у них было гораздо меньше, — истории. У нас есть долгая и прихотливая история театра; большая история мысли о театре тоже есть. Правда, здесь мы снова впадаем в знакомый замкнутый круг: хорошо бы, чтоб историк театра был уверен в том, что изучает историю театра, а не чего-нибудь другого; на вопрос о том, что же такое тот театр, который изучает историк, должна ответить теория, но ей свои ответы взять неоткуда, кроме как из той же истории.
Опыт — в первую очередь опыт соседних ветвей искусствоведения — показывает, что это все же не тупик. Сама история и позволяет из него выйти. Точнее, постоянно выходить. Знание накапливается, до поры ему хватает тех представлений о своем предмете и о себе самом, какие у него есть, но всегда наступает момент, когда чаша переполняется новыми сведениями и фактами, которые не удается освоить и согласовать с другими, прежде известными, наступают сумерки — час, когда вылетает сова Минервы, — и является новое понимание обновленного целого.
Двадцатое столетие, с которым мы недавно простились, такими сдвигами впечатляюще богато. Знание о театре и о том, как театр изведать, не было исключением. Но была одна интересная особенность: о театре знали около двадцати четырех веков, а наукой это знание всерьез попыталось стать только в двадцать пятом. Театроведение как наука только начинается. Так что всякий, кто вознамерился ввести в него читателя, вынужден сам в него входить; не вести начинающего коллегу за собой проторенными дорогами, а вместе с ним эти дороги нащупывать.
6 Поистине «Введение в театроведение» оказывается странным или, если угодно, экспериментальным предприятием. Многочисленные «Введения в литературоведение» естественным образом следуют за бесчисленными трудами по истории и теории литературы и литературоведения. Наше «Введение в театроведение», не имея за собой такой традиции, чуть что не притворяется «введением»: его авторы и рады бы следовать за фундаментальными «Театроведениями», но их у нас просто нет. Может быть, здесь очередной замкнутый круг, но в работе, за которую мы взялись, уже давно ощущается настоятельная потребность. Выходит, кто-то должен эту работу начать.
Авторы отдают себе отчет в том, что их труд и есть одно из таких возможных начал. Значит, почти не скрывая этого, мы рассчитываем на весьма широкий круг читателей: книга предназначена не только тем исследователям театра, режиссерам, актерам, художникам, которые лишь готовятся к театральному и театроведческому творчеству, но и тем, кто в своем деле уже укоренился, кто уже выработал свою точку зрения и на театр, и на то, как его следует изучать, и кто готов эти свои представления сопоставить с нашими.
Статус науки во многом определяется тем, насколько и как именно она себя осознает. Театроведение, с нашей точки зрения, достаточно созрело для такой саморефлексии, поэтому первая часть книги, в которой мы пытались собрать то, что театроведение знает и думает о себе самом, — больше чем дань академической традиции.
Дальше, по естественной логике, следовало понять, что сегодняшнее театроведение знает и думает о театре, в частности и главным образом о театральном искусстве. Но этот материал, особенно когда речь об истории театра, необозрим. С другой стороны, подавляющая часть нашей научной литературы — историко-театральная и есть, так что повторять или конспектировать этот массив не было ни возможности, ни смысла. Поэтому во второй части книги излагаются по преимуществу театрально-теоретические представления, она посвящена основным театральным понятиям. Главная проблема состояла, конечно, в том, чтобы определить, какие именно понятия следует считать «основными», каков их оптимальный набор и как они связаны между собой. Иначе говоря, вторая часть «Введения в театроведение» вынужденно оказалась своего рода наброском теории театра. Поскольку эта ветвь нашего знания, по всей видимости, наименее развита, читателя тут ждет наиболее широкое поле для дискуссий. Но ведь и здесь мы только в начале.
7 Часть первая
МЫСЛЬ О ТЕАТРЕ: ИСТОРИЯ, СОСТАВ, ПОДХОДЫ
Глава 1.
ТЕАТРОВЕДЕНИЕ И НАУКА
НАУКА: СУЩНОСТЬ, МЕТОДЫ, СТРУКТУРА
Выработать определение, раскрывающее сущность науки не только в ее необходимых, но и достаточных характеристиках, нелегко: представление о самой науке исторически менялось, а на нынешнем этапе ее развития, с отчетливо выраженной тенденцией к самопознанию, в еще большей степени, чем прежде, выявилась неоднозначность истолкования самой научности. Тем не менее и сегодня общепризнанно, что наука — это выработка знаний, их совокупность, а также обозначение предметной области знания (науки — физика, химия, филология и др.). Однако не всякое знание есть признак науки. Научное знание — новое (вновь открытое) знание, являющееся результатом, порой непредсказуемым, целенаправленной исследовательской работы.
Важнейшая характеристика этого знания — его объективность. В самом строгом, оснащенном точнейшими приборами эксперименте есть элемент субъективности, опосредованной обстоятельствами разного уровня — от индивидуальных особенностей ученого до исторически обусловленного социо- и этнокультурного контекста. Мы всегда будем знать о мире только то, что мы о нем знаем, но само научное знание все-таки интерсубъективно, оно воспроизводит реальность, не зависящую от субъекта познания, от его воли и желаний.
Смысловая установка науки — познание мира «как он есть», «мира без меня», мира как объекта безотносительно к разным возможностям познаваемого явить себя объектно (наблюдаемые физические явления и микромир, открываемый только в «мысленном эксперименте», архитектурное сооружение и подвижный неуловимый поэтический образ). Наука исходит из допущения, что существует упорядоченный, внутренне гармоничный единый мир, подчиненный определенным закономерностям, которые можно рационально познать. Г. В. Лейбниц говорил 8 о «предустановленной гармонии» между физической реальностью и математическими структурами. Наука невозможна без уверенности в том, что такое понимание мира правильно, — тут именно уверенность, предмет веры, близкой к религиозному чувству. (К. Ясперс пользовался понятием «философская вера», а А. Эйнштейн говорил: «Я верю, что Бог не играет в кости».) Базисное знание не нуждается в обосновании, ему не надо оправдывать себя. А вот объективность конкретного научного знания должна быть рационально обоснована.
Аргументация достоверности полученных знаний подтверждает не только соответствие конкретного знания объективному миру, но истинность самой базисной установки науки. Вот почему эксперимент и математическое измерение стали важнейшими характеристиками научности и в качестве таковых существенным образом определили мышление европейца Нового Времени и европейскую культуру в целом. Но именно этот классический образ науки так затрудняет понимание гуманитарного знания как знания научного и порождает натужные попытки «онаучить» искусствознание, превратив его в «искусствометрию». Очевидно, что такие понятия, как рациональное обоснование, доказательность, истина, в их естественнонаучном понимании в этой сфере не исчезают, но нуждаются в серьезных оговорках.
Однако и объективность не в полной мере характеризует специфику научного знания (эмпирическое знание может быть столь же объективным и аргументированным). Наука не только открывает и описывает предмет, но и объясняет его, «вопрошает об основах и причинах вещей» (Аристотель), устанавливает законы, выявляет и выделяет существенное, устойчивое, повторяющееся, тождественное, отвлекаясь от частного, случайного, единичного. Важнейшая, сущностная характеристика закона — универсальность: он распространяется на все предметы и явления данной сферы, его действие не зависит от времени и пространства, закон объективен, общезначим, его восприятие и понимание однозначны. Факты и феноменальная чувственная данность мира лишь основания для рационально-инструментального постижения предмета: следуя определенным целям, установкам, решаемым проблемам, исследование абстрагируется, отвлекается от многих характеристик целого.
Неизбежным следствием этих умозрительных операций является схематизация и систематизация реальности, начало которой уже в предметной определенности, а значит, отграниченности знания от целостной реальности, где все взаимосвязано и взаимообусловлено. Предмет знания не другой объект, но содержание, выделенное из неисчерпаемого 9 и бесконечного целого в связи с необходимыми установками, целями, задачами. Система — это моделирование реальности, ее конструктивизация для решения соответствующих задач исследования.
Система и модель — взаимонеобходимые специальные научные понятия, описывающие содержание знания, адекватно не передаваемые обыденным языком. До какого-то предела физику можно излагать без использования математического аппарата, но на определенном уровне познания обращение к математике неизбежно. Эта необходимость связана не только со стремлением к точности и строгости, но и к простоте. Особый, отличный от обыденного, язык науки формируется, уточняется, совершенствуется как один из важнейших элементов научного познания.
Постижение существенных связей элементов, их отношений с целым дает возможность перейти от познания отдельных закономерностей на уровень теории. Теория в общенаучном понимании этого понятия — основная структурная единица науки, высший уровень научного знания. Создание теории обусловлено внутренним стремлением науки, поскольку на основе отдельных законов и простой их совокупности невозможно объяснить и понять явление. Поэтому развитие науки достигается не через отдельные открытия, вновь добытые факты или формулирование законов, а путем построения новых целостных теоретических систем.
Теория обладает значительным эвристическим потенциалом и может рассматриваться с ценностной стороны как лучший способ организации знания и его исследовательского и практического применения. Именно с возможностями теории связано прогнозирование в самых разных сферах — располагая знаниями о явлениях, отсутствующих в эмпирическом опыте, теория санкционирует научное предвидение. Один из ведущих российских философов-методологов науки академик В. С. Стёпин рассматривает этот потенциал науки как одну из фундаментальных установок, реализация которой и позволяет «науке стать наукой». В практику будущего включаются объекты, работа с которыми возможна «только после их теоретического освоения»1*.
Одна из острых проблем теории науки — отношение эмпирического и теоретического познания. Эмпирическая наука имеет дело с чувственным миром, по своему многообразию и сложности значительно 10 превосходящим любые теоретические построения. Эмпирические исследования непосредственно связаны с объектом, они дают достоверное позитивное знание и уже поэтому занимают в общем корпусе науки важнейшее место. Эти исследования не только «коллекционируют» факты, но и осуществляют собственные построения. В свою очередь, вновь открытые данные и эмпирические обобщения провоцируют теоретическую мысль на решение новых задач. Опытное позитивное эмпирическое знание не тождественно эмпиризму, абсолютизирующему чувственный опыт как единственный достоверный источник и способ познания мира.
Строго говоря, непосредственного, то есть не связанного с теоретическими основаниями научного знания нет. Позитивистская идея «беспредпосылочной» науки — в значительной степени иллюзия: устоявшиеся представления кажутся нам естественной самоочевидностью, потому что мы не всегда осознаем их давнюю теоретическую предопределенность. «… Наука вообще не знает “голых фактов”, а те “факты”, которые включены в наше познание, уже рассмотрены определенным образом и, следовательно, существенно концептуализированы»2*. С другой стороны, нет и не может быть теории, унифицирующей все факты. Любая теория имеет гипотетический характер — ей на смену приходит другая, более совершенная, и процесс этот бесконечен. Если предшествующая теория не является ложной, она продолжает существовать как истинное знание в рамках другой, более общей концепции, причем ее бытие в новом теоретическом пространстве обнаруживает не выявленные ранее смыслы: «Понимание — это всегда перепонимание»3*.
Вместе с тем системно упорядоченная теория обладает достаточной жесткостью. Английский ученый Г. Бонди определил это свойство так: «… Теория недостаточно жесткая для того, чтобы быть опровергнутой, представляет собой всего лишь жалкую игру в слова»4*. В известном смысле схема «работает» против себя самой: рационально-логическая формализация сложного целого обнаруживает, выявляет значимое неформализованное содержание, отсутствующее и необъяснимое в рамках существующей теории. Переход в другую концепцию возможен только «скачком», позволяющим пренебречь наличным знанием. 11 Требование науки предполагает нарушение научности. Процессы анализирования, синтезирования, обобщения неотделимы от эмоциональных оценок, невербализованных смыслов, ученый переживает состояния вдохновения, озарения. Теории предшествует «чувство теории»5*.
Отсюда возникает важнейшее следствие, очень часто остающееся за скобками понимания науки: объективное содержание теории, конечно, определяется действительностью, отражает реальность, но в той же мере теория является предикатом творческой активности ученого, результатом преобразующей конструктивной деятельности его ума и воображения.
Научное знание не возникает из прямого наблюдения эмпирии в ответ на диктат ее отражаемости. Воображение формирует некую идеальную модель, сопоставляемую и сличаемую с реальностью на предмет ее соответствия этой реальности. По-видимому, в работе научного ума отражаются и выражаются также и индивидуально-личностные особенности ученого, но, в отличие от искусства, они не фиксируются в результате. Во всяком случае, мы изначально представляем их как нечто внеиндивидуальное, надындивидуальное. В обычной познавательной ситуации уточняются понятия, совершенствуются методики, тематизируется и проблематизируется предметная область. Но могут быть перемены иного рода: возникает некая базовая идея, в смысловом контексте которой отдельные элементы знания выстраиваются в целостную систему, меняющую общую научную картину, стиль мышления. Такие перемены имеют революционный и явно выраженный творческий характер.
С именем американского ученого Т. Куна связано понятие «парадигмы», которым обозначается вновь возникающая фундаментальная теоретическая целостность как модель постановки проблем и их решений. Эйнштейновская физика — новая парадигма по отношению к Ньютоновой физике, равно как геометрия Лобачевского, отличная от Эвклидовой, — другая парадигма геометрии.
Переход к новой парадигме возникает в результате кризиса «нормальной науки», которая не в состоянии его разрешить в рамках сложившихся теоретических установок, норм, принципов, ценностей. Образование новой парадигмы определяется не только и не столько обнаружением внутринаучных несоответствий, сколько общекультурной 12 ситуацией, целостным бытием научного сообщества в его неотделимости от общечеловеческого существования.
Парадигма — это не рядоположенное теории понятие. Она и есть теория, но теория предельно общая, устойчивая, принятая научным сообществом в качестве стандарта, совокупности предпосылок для теоретических построений отдельных дисциплин. Парадигма обеспечивает функционирование нормальной науки в повседневном режиме.
Содержание научной теории образует метод (по-русски «способ») — совокупность приемов, правил, операций, с помощью которых наука осуществляет себя, реализует свои цели, решает поставленные задачи. Метод складывается как теоретический результат научной деятельности и устанавливает принципы дальнейших исследований. Наиболее общими приемами научного исследования являются анализ и синтез, аналогия и сравнение, наблюдение и эксперимент, формализация, идеализация и обобщение, дедукция (заключение от общего к частному) и индукция (движение мысли от частного к общему). Классический научный метод реализуется в следующих фазах: наблюдение — гипотеза — наблюдение. Выбор метода определяется предметом, целью и условиями исследования.
Наряду с общенаучными установками научного метода есть методические ориентации, характерные для различных сфер познания. Это отношение общенаучных представлений и специфики методов частно-научных — одна из наиболее острых, больных проблем. Представления о гуманитарных науках как об «интеллектуальном мусоре» есть рудимент позитивистской убежденности в том, что естественные науки — прообраз научного познания в целом, его идеал и стандарт.
Дифференциация естественных и гуманитарных наук, отчетливо обозначившаяся на рубеже XIX – XX веков, в значительной степени была определена (в прямом смысле этого слова) работами немецкого историка культуры и философа В. Дильтея, резко отделившего «науки о духе» от «наук о природе».
Основным методом естествознания является объяснение — подведение объясняемого явления под общий закон. Сама возможность этой операции демонстрирует объективно необходимый характер явления. Гуманитарная же наука преимущественно связана с пониманием — постижением смысла и значения. Это специфически человеческое отношение неотделимо от человеческого бытия как «бытия понимающего» (М. Хайдеггер). Поэтому понимание одновременно и способ познания, и способ бытия. Понимание естественным образом включает в себя самопонимание, 13 здесь познавательная ситуация с несравнимо большей очевидностью, нежели объяснение, погружена в социально-исторический и культурный контекст. Предметом понимания становятся уникальные явления (в искусстве же мы имеем дело даже не с единичным — с единственным), включенные в «мир человека», а потому обладающие смыслом и значением. Понимание есть интерпретация (истолкование смысла).
Противопоставленность объяснения и понимания, конечно, относительна. Объясненные явления становятся понятными, а понимание единичного обусловлено предпосылками теоретического знания, неким изначальным, имеющимся у нас смыслом, который и определяет смысл отдельных частей, и, в свою очередь, уточняется обратным движением от частей к целому (так называемый «герменевтический круг»). Методы взаимодействуют и взаимопроникают, но не отождествляются.
Самое строгое следование логике, например, не является гарантией достоверного знания в искусствоведении, потому что строгость науки определяется не использованием математического аппарата, а адекватностью метода своему предмету. Научность гуманитарного знания в «глубине проникновения» (М. М. Бахтин), в принципиальном следовании концепции, верном (выверенном) ее изложении. Точность является критерием не для всех наук; научной науку делает строгость.
В научной деятельности участвует весь человек, в том числе и такие его психические качества и процессы, как бессознательное, интуиция, фантазия, эмоциональная напряженность. Метод же характеризуется осознанным применением тех или иных установок, программ и операций, последовательно логическим осуществлением познавательного процесса. В методе с наибольшей полнотой и очевидностью реализуется рациональность — одна из существеннейших характеристик научной деятельности. Собственно, рациональность можно понимать как совокупность методов научного исследования. Довольно часто рациональность отождествляется с законами логики. Логичность любого исследования самоценна. Вместе с тем современное понимание рациональности отнюдь не ограничивается ее логической формой. Наука прощается с убеждением, что существуют единые универсальные стандарты рациональности. Суть научной рациональности не в следовании логическим канонам, а в способности найти адекватный предмету исследования метод и изменить его в случае необходимости. Рациональность науки — в ее способности к самокоррекции, предполагающей 14 в необходимых ситуациях отказ от привычных рациональных форм научной деятельности.
Научный метод становится предметом специализированной рефлексии — методологии. Эта теоретическая дисциплина не занимается изобретением и разработкой новых методов, но она, описывая и анализируя уже существующие методы, формирует способы организации и построения научной деятельности и разрабатывает проблемы развития науки. Методология — одна из форм самосознания и самопознания науки, исследующая ее на разных уровнях реализации познавательной деятельности: общенаучная методология (предметно ориентированная теория должна обладать признаками любой теории); методология основных сфер научного знания (естествознание, гуманитария, социальные науки, искусствоведение); методология предметно-специальных наук (методология физики, биологии, философии, социологии, музыковедения, театроведения).
Дифференциация наук осуществляется по разным параметрам. Основанием для классификации выступают: объективное многообразие мира, специфические способы его познания, соответственно, различные методологические принципы, познавательные операции, а также спектр функций. В системе наук чаще всего выделяют три группы: 1) исследующие природные явления и процессы — естественные науки; 2) технические науки, объектом познания которых являются свойства искусственных объектов; 3) науки, изучающие человека, общество и различные формы из отношений, — общественные. Нередко, и с полным основанием, третью из этих групп делят на две самостоятельные части — социальными именуют те науки, что исследуют общество, включая его институты (например, театр), а гуманитарными — те, что объектом своим сделали человека, который не общество и не природа. Для некоторых наук, в частности для театроведения, такое уточнение может оказаться во многом определяющим: если театральное искусство сосредоточено на исследовании человека, знание о нем — гуманитарное, если его художественный предмет — отношения, в которые человек включен и в которых он интересен лишь постольку, поскольку в таких отношениях участвует, — театроведение должно искать свое место в ряду социальных наук.
Науки, исследующие глубинные процессы бытия, занятые сущностным познанием мира, выявлением определяющих законов реальности, называются фундаментальными науками, в отличие от них прикладные науки направлены на решение практических задач в разных 15 сферах социального бытия. Фундаментальные науки не имеют обусловленных практических целей, их выводы имеют предельно общий характер, связанный с пониманием и объяснением принципов строения и развития мира. Однако и прикладные науки исследуют, а не отрабатывают новые технологические решения, в то время как именно с фундаментальной наукой, постигающей общие закономерности, связано предвидение6*, а значит, возможность целенаправленных действий в желаемом направлении — конструирование будущего. Противопоставление фундаментальных и прикладных наук относительно; тем не менее оно необходимо. В фильме М. И. Ромма «Девять дней одного года» есть эпизод в физической лаборатории, где на стене висит шутливый призыв: «Откроем в следующем квартале новую элементарную частицу». В фундаментальной науке невозможно планировать результат, а когда он есть, далеко не сразу ясна перспектива его практического применения. Однако в конечном счете фундаментальная наука может привести к революции в сфере производства, а технические изобретения его только реформируют.
Условность разделения наук еще и в том, что конечной целью науки является целостное познание мира, и это познание направлено на совершенствование человеческой жизни — решение глобальных проблем современности, оптимизация образования, понятого, прежде всего, как человекообразование. По-прежнему проблемой проблем остается безопасность мира, в котором мы живем, а это тоже цель развития всех наук, гуманитарных в широком понимании термина — возможно, в первую очередь. «Продукт нашего труда, — писал А. Эйнштейн, — не является конечной целью»7*, имея в виду не только частичность любого научного знания, даже самых великих открытий, но и полагая науку в целом частью чего-то большего и значительного.
В специальных науковедческих исследованиях выявлены десятки разноуровневых признаков научного знания, касающихся его объекта, предмета, субъекта, операциональных программ, способов экспериментирования, форм объективации результатов и т. д. Основные признаки науки можно выявить в следующих заключениях:
— наука — сфера исследовательской деятельности, направленной на открытие нового объективного, рационально обоснованного, схематизированного и систематизированного знания;
16 — это знание открывает не отдельные факты, их совокупности, а закономерности мира, а потому, не ограничиваясь описаниями и эмпирическими обобщениями, выходит на уровень теории;
— наука предполагает использование специальных мыслительных операций, особого языка и выработку научного метода как условия адекватного постижения и воспроизведения исследуемого объекта;
— конечной целью науки является не познание отдельных сторон разъятого мыслью мира, а постижение его как целостности, единства;
— наука неотделима от ценностей и идеалов человеческой жизни и направлена на совершенствование (это сверхзадача этоса науки, не ограниченного такими важнейшими его составляющими, как честность, беспристрастность, независимость), сохранение и развитие человеческого мира.
НОВЫЙ ОБРАЗ НАУКИ: ЦЕЛОСТНОЕ ВИДЕНИЕ МИРА
Потребность в аналитическом расчленении мира на элементы неотменима и незаменима. Но целостность жизни во всех ее формах не воссоздается синтезированием отдельных элементов, так что исследование элементарных объектов не только не исключает — оно предполагает необходимость подхода, основанного на понимании целостности как смысловой установки познания.
Мир специальных теорий, концепций, формул, схем, моделей далек не только от чувственной реальности, но и от теоретической целостности знания. В Античности и раннем Средневековье конкретные области науки еще сохраняли связь с единой картиной мира, и лишь в эпоху позднего Средневековья, когда наука, по сути, стала отождествляться с понятием «естествознание», она распалась на сотни специальных частных дисциплин, осваивающих мир в предельно возможной широте. Однако постепенно становилось ясно, что такая дифференциация знания серьезно грозит утратой целого, ведет к дезинтеграции не только знания, но и человеческого мира.
Целостность — неотъемлемый признак живого, с его неповторимостью, уникальностью бытия. Ориентация науки исключительно на общее естественным образом вывела за пределы научного познания индивидуальное, единичное.
Невоспроизводимые отдельные события «не имеют значения для науки»8* — такие представления на правах нормы вошли и в гуманитарное 17 знание, в той или иной мере повлияли и на методологию искусствознания. Но в современном мире эти, казалось бы, самоочевидные установления корректируются. Определяющей характеристикой этого процесса является создание (обретение) целостной картины мира, собирание его разбегающихся характеристик на единой концептуальной основе. Речь идет о разноуровневом содержательном единстве: отдельных дисциплин; научных комплексов; научной картины в целом; наконец, общей картины мира, создаваемой и познаваемой не только наукой. У нас пока нет такой цельной картины человеческого мира, но тенденция к его постижению очевидна9*. Не случайно возникла не тождественная науковедению дисциплина «философия науки». Наука интересует философию не со стороны содержательных характеристик той или иной научной предметности и методов научной деятельности, а как важнейшая составляющая человеческой культуры, как способ и форма человеческого бытия в мире.
Неизбежный выход науки за свои предметные границы определяется онтологическим (бытийным) единством мира. Как говорил академик Н. Н. Семенов, природа вообще ничего не знает о физике или химии — она едина. Нет обособленных территорий и в человеке, в его душе и духе. Пограничье не только разъединяет, оно и соединяет сопредельные области, и тогда появляется химическая физика или физическая химия. Или кибернетика, объединяющая все, что связано с управлением. Или синергетика — вообще не наука и даже не научное направление, а стиль мышления, целостное мировоззрение, направленное на построение механизмов спонтанной самоорганизации в природе, культуре, человеке (в его индивидуальном и коллективном бытии), охватывающее область естествознания и гуманитарную сферу, систематизирующее элементы научного и обыденного знания, соединяющее древность и современность, Запад и Восток.
При этом идеал объективности знания, сформированный в классической науке (до начала XX века), где субъект дистанцирован от объекта, не мог быть отменен в современной неклассической науке с важнейшим для нее принципом соотнесенности объекта с познающим субъектом и операциями познавательной деятельности. Ясно осознаваемая субъектность знания ни в малой степени не перекрывает научной ценности 18 его истинной объективности. Однако радикальные перемены в естествознании XX века (прежде всего теория относительности и квантовая механика), социальные потрясения, пережитые человечеством в минувшем веке, создали социокультурный контекст, где общие условия реализации научной деятельности, как методологического, так и нравственно-экзистенциального характера, оказались не менее значимы, чем отличия гуманитарного знания от естествознания. Современная наука ориентирована не только на внутринаучные цели, но и на ценностные смыслы социального целого. Сегодня ясно: в самоценном поиске истины «научная рациональность может оказаться худшей разновидностью иррациональности»10*.
Исследования сложных систем (человек — машина, биотехнологии, экосистемы), включающих в себя человека в качестве компонента, не могут долго замыкаться рамками объектно-вещного естественнонаучного подхода, но непременно должны включать в себя гуманитарную составляющую. Выход на смысловые основания деятельности исключает возможность ее самодостаточного истолкования и предполагает обращенность в предельно широкий контекст человеческого бытия. Науку, технику, искусство, спорт невозможно сколько-нибудь глубоко объяснить ни в прямом наблюдении, ни в анализе их имманентных характеристик.
Н. Бор, будучи гостем Дубны, в книге почетных посетителей сделал запись: «Противоположности не противоречивы, а дополнительны»11*. Понятие дополнительности, введенное в докладе Н. Бора «Квантовый постулат и новейшее развитие атомистики» в 1927 году, и в самом деле далеко вышло за границы физики, обретя не только методологический, но и культурологический смысл: описание и истолкование сложных целостных объектов не может быть абсолютно корректным в границах одного сколь угодно совершенного подхода.
Понимание мира, включающее в него нас самих и наше познание, смещение интереса с объекта на субъект ни в коем случае не отменяют того, что наше научное знание — знание о мире. Однако при этом принципиально неустранима множественность воззрений, поскольку невозможно существование «божественной точки зрения, с которой открывается вид на всю реальность» (И. Р. Пригожин)12*. Тем более что реальностей 19 этих тоже множество: материальная и идеальная, научная и художественная, нравственная и эстетическая. И они постигаются по-разному. Редуцирование сознания к мышлению, мышления к познанию, познания к научному знанию — пройденный этап науки. Есть знание чувственное и рациональное, эмпирическое и теоретическое, логическое и интуитивное, врожденное и приобретенное, безличное и личностное13*.
Современное искусствоведение активно вписывается в развивающееся знание о человеке и мире. Функционирование искусства — сложная динамическая система разнообразных его назначений, координационно и субординационно между собой связанных. В реальной жизни одни функции произведения (а также искусства в целом или отдельных его видов) усиливаются, другие ослабевают и вновь оживляются в иной ситуации. К отдельным свойствам и функциям вообще несводима никакая целостность, тем более такая сложная, как искусство. Вместе с тем, очевидно, существует некая сила, не позволяющая этой целостности распасться. Иначе говоря, есть (очень трудно постижимые теоретически) свойства, определяющие самое целостность.
Познание этих свойств, выявление закономерностей существования искусства, его реального бытия — задача искусствоведения во всем его объеме, структурной дифференциации и смысловом единстве.
ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ, КРИТИКА — КОМПЛЕКСНОЕ ЕДИНСТВО НАУЧНО-РАЦИОНАЛЬНОГО И ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО ОСВОЕНИЯ ИСКУССТВА
Искусство — традиционно интересный объект для философии, эстетики, психологии, истории, социологии, педагогики. Активно обращаются к нему развивающиеся современные дисциплины: культурология, семиотика, теория информации, теория творчества.
Эти науки выявляют в художественной сфере предметно интересующие их характеристики: законы познания психической деятельности, коммуникации, информации, управления. Получаемое здесь знание небезразлично и в толковании искусства, однако на уровне понимания, игнорирующего качество художественности. Математический анализ соотношения мужских и женских рифм в стихах, лингвистическое 20 исследование фонетического строя поэтического текста, возможно, что-то откроют пушкиноведу, но величие и очарование пушкинской поэзии этими методами не постигается. Прием звукописи в стихе К. Д. Бальмонта «Чуждый чарам черный челн» совпадает с инструментовкой на шипящие и свистящие в строках из пушкинского «Медного всадника»:
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.
Но ведь художественный результат совершенно разный: пушкинские стихи вызывают восторг, а строка Бальмонта — навязчива и претенциозна.
Собственно искусствоведческое знание тоже далеко не всегда в состоянии раскрыть нам тайну художественности, но оно единственное направлено к этой цели: открыть, выявить в своем предмете искусство.
Вопрос о наименовании этой области знания не имеет принципиального значения. Термин «литературоведение», например, очень не нравился Бахтину, а О. Э. Мандельштам полагал, что никакой критики вообще не должно быть; по его мнению, возможна только наука о литературе. Порой же в состав «литературной критики» включают и теорию литературы. Дело не в терминах: предметное своеобразие разных искусствоведческих подходов и методов очевидно. Вопрос в ином — важно понять характер и тип «искусствоведческой научности». Много лет назад С. С. Аверинцев, говоря о специфике такого рода знаний, нашел удачное слово, не претендующее на строгость теоретического понятия, но вместе с тем вполне определенное. Рассуждая о символологии, использующей математические методы в описании метрико-ритмической реальности стиха, но не способной в границах этих методов истолковать поэтический смысл, исследователь говорит, что если точность систематических наук «принять за образец научной точности, то надо будет признать символологию не “ненаучной”, а инонаучной формой знания, имеющей свои внутренние законы и критерии точности»14*.
Искусствоведение как единый комплекс дисциплин, исследующих и оценивающих искусство, включает в себя три предметные области (субдисциплины): теорию (постижение наиболее общих закономерностей 21 искусства в целом и отдельных его видов), историю (познание фактов художественного развития и общих закономерностей этого процесса) и художественную критику (анализ и оценка текущего состояния искусства).
Теория искусства — фундамент, базис, смысловое основание искусствознания. Теория в понятиях, терминах, принципах, концепциях формулирует представление о сущностных началах искусства, непосредственно переживаемых нами на уровне чувственных обобщений, в творчестве, критике и в обычном акте художественного восприятия. Раздраженный зритель говорит: «Это не искусство!» Такая оценка имплицитно содержит в себе аргументирующее продолжение — «а искусство — это…». Совсем необязательно должна последовать теоретическая формула, вполне возможна простая констатация: «А вот Шишкин — это искусство», может быть, «Пикассо — это искусство» либо вариант, полагающий в качестве искусства одно и другое, но исключающий нечто третье. Конкретные художественные феномены, не утрачивая своей единичности, дают образное представление о неких общих признаках, отвечающих понятию «искусство».
Теория — это, по определению Гегеля, «развернутое» понятие. Если в уникальных явлениях можно выявить некие устойчивые признаки, если можно мысленно соединить чувственную конкретность и всеобщность, значит, теория возможна. Художественное произведение, пульсирующее и едва уловимое в своей осязаемой конкретности, возникающее порой почти непредсказуемо для самого автора, тем не менее не произвольно и не беспорядочно.
Ныне теория искусства «стягивает» три блока значительных по объему проблем: 1) искусство в его специфическом отношении к миру, к жизни человека; 2) художественное произведение, условия его возникновения и бытия; 3) процесс исторического развития искусства в его основных закономерностях. Среди них, строго говоря, лишь срединный находится в исключительном ведении теории искусства; первый разделяет и вместе с тем роднит искусствознание с философией и эстетикой, третий очевидно соединяет теорию искусства с его историей. Именно здесь, на этой условной границе, теоретико-исторический взгляд на искусство переходит, порой неразличимо, в историко-теоретический.
В любом подходе к искусству (теоретическом, историческом, критическом) необходимым основанием и условием анализа и оценки является идентификация предмета как факта искусства. Разумеется, речь 22 не идет о непременных теоретических построениях, предшествующих историческому описанию или критическому суждению, но логически этот момент присутствует всегда: в изобразительном искусстве, художественной фотографии, кино, архитектуре с особенной очевидностью. Яблоки в ботаническом атласе и яблоки в натюрморте Сезанна, движущаяся визуальная картина на киноленте документального и художественного фильмов, строительство как необходимая составляющая архитектуры и строительство, не ставшее архитектурой, — неразличимые по внешним характеристикам, но разные явления, и только на уровне общетеоретического понимания эстетической сущности театра, музыки, кино «ведающие ими» дисциплины конституируются как искусствоведение. По-видимому, нет ни одной формы культуры, кроме искусства, которая бы так «ускользала» от определения. Историческая сменяемость дефиниций искусства понятна без пространных комментариев, но проблема в том, что совершенно разные толкования природы искусства существуют одновременно. Искусство определяют как особую форму познания, игры, эстетической деятельности, общения, социальной организации, духовного производства, самовыражения художника, сублимации и др. И каждое из этих понятий связано с действительно присущими искусству признаками. А если это так, то ни один из них не может претендовать на генерализующую роль. Автор многих книг по истории искусства В. М. Полевой приходит к неутешительному выводу: «Сочинить истинное абсолютное понимание искусства — безнадежная затея»15*.
Невозможно создать теорию, согласующуюся со всеми фактами. Мир искусств вполне сопоставим с бесконечным многообразием природы. И вместе с тем есть некие духовные аргументы, позволяющие нам узнавать искусство «в лицо». В привычных словах: «Это настоящее искусство», «Вот это — театр», «Это — не литература» — устанавливается соответствие или несоответствие предмета понятию о нем. Теория — это попытка логического обоснования, способ рациональной идентификации неких объектов как фактов искусства и аналитическое познание этого факта.
Отличие произведения в ряде отношений от реальности — не единственно искусству присущий признак, но непременное свойство любого искусственного явления. Всякий искусственный объект организуется, конструируется на основе определенных целей, функций с учетом 23 его соответствия требованиям среды. Идет двунаправленное упорядочивание системы: относительно самой себя (внутреннее функционирование) и по отношению к внешней среде (внешнее функционирование). Внутренняя организация обеспечивает внешнее функционирование. Эти характеристики равно приложимы к автомобилю, симфонии, стихотворению. Но это системы совершенно разного уровня сложности.
Театральный образ — одно из самых сложных явлений в мире искусства. И не только потому, что он многосоставен. Конструкция спектакля, существующего от открытия до закрытия занавеса, — неотделима от энергии самоорганизации, источником которой является общение сцены и зала. По-видимому, нет более совершенной модели уникального (единственного) явления жизни. При всем при этом театральный образ — не только образ этой сверхсложной реальности, но всегда новая, упорядоченная и завершенная в себе художественная структура.
С. М. Эйзенштейн определял режиссуру как организацию зрителя организованным материалом. Этот аспект художественно-творческой деятельности есть в каждом виде искусства, поскольку любое (музыкальное, живописное, литературное и т. д.) произведение — это содержание, явленное направленной на воздействие формой. Любое произведение реалистического или нереалистического искусства — это всегда другой мир: бесконечное в конечном, макрокосм в микрокосме. Отношение искусства и жизни адекватно передает не привычное сравнение «как в жизни» (жизнеподобие лишь одна из возможных моделей), но «как жизнь».
Произведение несет в себе установку на отношение к себе как к факту искусства, отличному от реальности. По остроумному замечанию Г. Честертона, сущность картины принадлежит ее раме. Знаменитое «театр начинается с вешалки» — о том же: войдя в театр, человек оказывается в другом контексте бытия.
Художественное произведение есть сложное диалектическое образование, наиболее точным определением которого будет слово, удачно найденное Д. Дидро для разговора об актере, — парадокс. В театральном искусстве эта парадоксальность явлена с наибольшей очевидностью. Здесь творчество и восприятие совпадают во времени, целостность спектакля исчезает с его окончанием, чтобы завтра возродиться, но в другом качестве — перейти в «свое иное» (Гегель). Исследуя природу театрального искусства, его теория может оказаться интересной 24 далеко за пределами театроведения, везде, где предметом анализа оказывается сверхсложная динамическая система.
Один из основателей европейского теоретического искусствознания австриец Г. Зедльмайр в знаменитой работе «Искусство и истина» формулирует основные вопросы, стоящие перед историком искусства: «Какая сила меняет формы? Что меняется в основании, когда на поверхности меняются формы?»16*. История не сводится к протокольным свидетельствам: именам, фактам, стилям, школам, тому, что доступно сравнительно-эмпирическому познанию, хотя место таких исследований в искусствознании не может заменить никакая теория.
Утверждающийся в современной науке целостный анализ сложных систем существенным образом отражается и в искусствознании. История искусства (как и любая история) не подводит многообразный мир фактов под общий закон. Отдельное произведение со всеми его индивидуальными особенностями, в его уникальности, единственности занимает в общем историческом потоке двойственное положение. Оно отражает в себе (не только на уровне теоретического и социокультурного анализа, но и во всей чувственно воспринимаемой ткани) общие закономерности художественного процесса — принадлежность эпохе, стилю, методу, направлению, школе. Но оно же является активизирующим механизмом историко-культурного процесса, порой играющим подлинно революционную, «поворотную» роль. Причем не только в художественной практике, но и в теории.
Не увидев и не пережив уникальность художественного явления, историк искусства в оценке художественного процесса остается на уровне абстракций. Он должен обладать способностью непосредственного восприятия произведения. Иначе говоря, ему необходимо одновременно быть критиком.
Здесь возникает еще одна проблема, быть может, самая важная и самая трудная для историка — понимание уникальности исторического факта. Герменевтика как способ адекватного истолкования текста, первоначальный смысл которого не совсем ясен или многозначен (там, где есть ясность, вообще нет проблемы), не случайно ныне стала одним из важных инструментов гуманитарного знания. «Мой Пушкин», «Мой Чехов» — вполне возможный подход на уровне эссе, импрессионистического литературного этюда, где автор не менее интересен, чем герой. 25 Но в истории должен быть «Пушкин», «Чехов», «Станиславский», «Брехт». Здесь возникают почти непреодолимые препятствия, суть которых замечательный филолог М. Л. Гаспаров выразил одной фразой: «Прочитать все книги, которые читал Пушкин, трудно, но возможно. А вот забыть (хотя бы на время) все книги, которых Пушкин не читал, а мы читали, гораздо труднее»17*. Мы не можем оставить «за скобками» наш опыт, но вопрос в направленности наших усилий, в том, насколько мы владеем историческим контекстом исследуемого предмета, в какой мере этот контекст стал личным, экзистенциальным опытом исследователя.
По своим внешним характеристикам (композиция, локальный цвет, простота линии) полотно Матисса напоминает русскую средневековую икону или рисунок средневекового китайского художника. И в нашем общении с иконой или китайским рисунком (смысл которого тоже ближе всего к иконе) мы это знание о художнике XX века не в состоянии «исключить», но если наш объект не открывается в своей «самости», к историческому познанию наш подход имеет мало отношения.
С. С. Аверинцев называл филологию «школой понимания», а другой замечательный российский гуманитарий А. В. Михайлов нашел очень точные слова, характеризуя историко-гуманитарную деятельность, — «обратный перевод»18*. Задача и цель историка учиться «переводить назад», ставить вещи на первоначальные места, а не переосмысливать их, используя более поздние языки. Лишь обладая художественным воображением, можно быть ученым, исследующим историю искусства. Лишь та история искусства, где вещи «стоят на своих местах», представляет мировую культуру во всем ее богатстве и многообразии.
Художественная критика — уникальное явление культуры. При всех методологических разногласиях относительно природы теории и истории искусства, есть безусловная определенность в понимании этих искусствоведческих дисциплин. Она обусловлена очевидным фактом, что история искусства — это история, теория искусства — теория, то есть это предметно конкретизированные науки. Художественная критика — спутник искусства, элемент художественной и только художественной культуры.
Есть важнейшая особенность критики, по поводу которой никаких сомнений не возникает: критика — органическая часть современного 26 художественного процесса. Критик не только его анализирует и оценивает, но является участником этого процесса, влияющим, иногда очень заметно, на художников, публику, на общую духовную картину времени.
Вместе с тем преимущественная связь критики именно с современным искусством есть одна из важнейших сущностных характеристик критики, отличающая ее от науки: критика — это оценивающая деятельность. Там, где есть устоявшееся суждение о художественном явлении, критическая оценка не нужна, поэтому прошлое не является объектом критики. Но это опять-таки только на уровне общих характеристик. В принципе оценочное отношение возможно к любому объекту истории (вспомним отношение Льва Толстого к Шекспиру). Ценность, в отличие от знания, — это значение объекта для субъекта. Ценность не является объективно постигаемым свойством, она неотделима от эмоционально-чувственного переживания произведения. Переживание — наиболее адекватный способ постижения бесконечности, неисчерпаемости художественного смысла.
Г. Зедльмайр говорил о двух науках об искусстве, а точнее, о двух самостоятельных ипостасях научного целого. «Первая наука» опирается на документы, факты, устанавливает авторство, реконструирует объективную форму произведений, используя для этого строгие методы. Однако существенная черта этой науки в том, что она делает выводы о целом произведении, его содержании и строении с опорой на такие свойства, «которые можно установить без понимания произведений как произведений художественных»19*. «Вторая наука» — понимание искусства как искусства. Здесь определяющую роль играет способность исследователя эстетически переживать произведение, созданное вчера или несколько тысяч лет назад. И здесь историк искусства ничем не отличается от критика, разумеется, если ему эта способность дана. Анэстетическое исследование возможно, но, строго говоря, оно имеет дело не с тем предметом, который искусствознание должно постичь в его сущностных качествах. Эстетическое переживание прозревает в материальном, техническом, технологическом — духовное, душевное, человеческое, значимое, воплотившееся в вещественных качествах произведения, то есть устанавливает факт искусства. Теория и история классифицируют явления искусства, критика — квалифицирует их.
27 Вместе с тем и здесь необходимо осознавать условность расчленения единого. Теория искусства — это теория искусства, и ее предметная данность имеет историческое бытие. История же состоит из конкретных произведений, каждое из которых может радикально повлиять на художественное развитие и существенным образом скорректировать теоретические представления. Теоретические построения, связанные с современным искусством, непременно предполагают необходимость их эстетического конституирования. А критика — осознает она это или не осознает — участвует в творении художественной истории современности и готовит исходный материл для исторического взгляда из будущего. Материал не на уровне сырья, но в относительной целостности, устойчивости и завершенности. Историк будущего может иметь другое понимание, но оно сформируется небезотносительно к предшествующим критическим оценкам.
Таким образом, одни элементы знания об искусстве имеют научно-теоретический характер, другие представляют собой синтез сравнительно-эмпирического описания и теоретического анализа, третьи имеют форму эмоционально-чувственных высказываний и суждений, но искусствоведение как целое представляет собой не конгломерат дисциплин, а системный комплекс знания об искусстве.
Глава 2.
ЭВОЛЮЦИЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ ИДЕЙ
Театроведение формируется и развивается на основе и в контексте театральной мысли, существующей с момента возникновения театра. Эта мысль включает разнообразные суждения о театре, принадлежащие театральным практикам, писателям, философам, политикам и просто зрителям. Само собой разумеется, что чрезвычайно разнообразны и жанры этих высказываний, так что охватить всю эту палитру, как-либо систематизировать ее в этой книге невозможно. Но понять логику движения мысли о театре, ее основные мотивы и этапы развития было бы полезно.
Очевидно, что в начале этого пути наибольшую ценность представляют суждения философов, которые осмысливают сам институт театра, его место в обществе и в жизни человека. Но тут же становится ясно, что и в пределах философской мысли о театре разнообразны и субъективны не только оценки, но и ракурс рассмотрения: одни 28 философы анализируют театр как вид искусства, другие вовсе не касаются этого, ограничиваясь социальным или воспитательным его значением.
Однако даже и не эта трудность самая большая: едва ли не с самого начала мысли о театре главной проблемой оказывается понятие «театр», его объем, границы и смысл.
Европейская мысль о театре в течение многих веков зиждется на идеях «Поэтики» Аристотеля, и, несмотря на то, что, например, Аристотелева трактовка происхождения театра нередко вызывает аргументированные протесты историков античной культуры, основной комплекс наших представлений о театре содержится именно в знаменитой «Поэтике». Нам, однако, известно, что европейская мысль знала и иные трактовки. И хотя полностью другие поэтики не сохранились, имеющиеся фрагменты позволяют думать, что для европейской античности театр — более широкое явление, чем аттическая трагедия. Этот вопрос обсуждался мыслителями, начиная с Платона, ссылавшегося на Сократа. Тем не менее, рассуждая, например, о «мистериальном театре», мы не можем опираться на античных авторов (здесь трагический театр имеет явное преимущество).
Но рядом существует совсем другая, восточная традиция. Здесь понятие театра мало в чем совпадает с европейским. (Вдобавок приходится учитывать, что, в отличие от театра европейского, «западного», восточный театр сам по себе, может быть, не составляет единства.) Индия сохранила для нас древнюю «Натьяшастру» — Священную книгу о театре, где сформулированы законы театрального, танцевального, музыкального искусства. Основные тексты этой книги создавались во времена греческой античности, в период примерно между I веком до н. э. и IV веком н. э., а авторство приписывается богу Брахме. Записаны наставления Брахмы не менее легендарной личностью — Бхаратой. Создание драмы (Natya) приравнивается к созданию священного текста (Веды):
… Блаженный
Вспомнил одну за другой все Веды
И затем сотворил «Натьяведу»
Из четырех частей сообразно Ведам.
Взял декламацию из Ригведы,
Из саманов [песни жертвоприношений] взял пение,
Из Яджурведы — абхинаи [сценические изображения],
Из Атхарваведы взял расы [сценические эмоции].
29 Так, связанная с Ведами и Упаведами,
Создана была «Натьяведа»
Великим духом, блаженным,
Всеведущим Брахмой20*.
Далее Брахма говорит, что в натье отражаются все состояния богов и людей и соединяются все явления мира:
Сделал я эту натью
Опирающейся на деяния
Лучших, худших и средних мужей,
Дающей полезные наставления,
Рождающей радость, веселье и легкость.
<…>
Несущей дхарму, долголетие, славу,
Полезной, расширяющей понимание,
Источником наставлений миру
Будет эта натья.
Нет такого знания, нет такого умения,
Нет такой науки, нет такого искусства,
Нет такой сноровки, нет такого деяния,
Которого не было бы в этой натье21*.
Театральное зрелище неотделимо здесь от ритуала и, как во многих театрах Востока, тесно связано с определенной религиозно-философской системой, даже является ее частью. Так, «Натьяшастра» входит в ритуально-мифологическую и философскую систему буддизма, свои театральные концепции выдвигают конфуцианство, даосизм, дзен-буддизм. И во всех этих вариантах «театр» приходится трактовать не как искусство, а как особую форму воплощения человеческих взаимоотношений и отношений человека с миром.
Нельзя не понимать, что наше знание о театральной мысли Востока еще бедней, чем знание о самих восточных театрах. И совсем слабо представляем мы себе эволюцию этой мысли. Между тем она, несомненно, развивалась, и известные звенья этой цепи представляют огромную ценность. Таковы, например, идеи, сформулированные крупнейшим актером и драматургом японского театра Но Дзэами Мотокиё, который 30 является автором двадцати четырех трактатов о театре. Самый известный среди них — «Предание о цветке стиля» (1400 – 1402). В основе театральной эстетики здесь — подражание (мономанэ). Европейская мысль о театре восприняла близкое понятие гораздо раньше, со времен древнегреческой античности. Но концепция Дзэами Мотокиё создана не только независимо от западной — она вполне оригинальна: речь идет о «подражании природе вещей» — прежде всего о внутреннем, а не о внешнем подражании. Целью искусства провозглашается красота (югэн). В Японии существует несколько градаций красоты. Югэн — «сокровенная красота», она постигается через эстетическое и религиозное воздействие. Непосредственно актерское искусство обозначено Дзэами понятием «цветок» (хана) — это идеальный образ актера, который достигается созерцанием и размышлением, погружением в сущность искусства, бесконечным совершенствованием мастерства, выработкой манеры и развитием таланта.
Очевидно, что такие суждения о театре отличаются от древнеиндийских хотя бы тем, что здесь речь идет уже о театральном искусстве в строгом, тесном его понимании.
Европейская мысль встретилась с восточной по существу лишь в XX веке, в связи с собственным опытом и потребностями, но современное представление о том, как развивалась театральная мысль, без полноценного знания о разнообразных идеях, рожденных на Востоке, обойтись уже не может и не должно. Эти задачи предстоит решать сегодняшнему и завтрашнему театроведению.
«ПОЭТИКА» АРИСТОТЕЛЯ
Аристотель, как и философы многих последующих столетий, не слишком жестко выделяет предмет театра из всего комплекса смежных с ним художественных предметов. Точно так же и сам театр не отделен и неотделим от драмы. Но Аристотель первый аргументировано отделил искусство от неискусства и определил то, что потом станут называть отношениями искусства к действительности. Им сформулирована идея мимесиса — подражания, так же как сама идея художественного предмета, которому искусство «подражает». Согласно Стагириту, в жизни (в данном случае в мифе) есть какие-то стороны или свойства, которым искусство подражает. Но это сразу означает, что искусство есть «вторая действительность». Сравнивая художественное произведение с историческим (которое тоже подражает), Аристотель отдал предпочтение первому: 31 «Поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия больше говорит об общем, история — о единичном»22*.
Аристотель предложил критерии, в соответствии с которыми искусства можно делить по видам и жанрам. У них — в общих художественных пределах — не только разные предметы подражания, но всякое из них подражает своему предмету особым способом и собственными средствами. Разные виды искусства пользуются различными «средствами» — ритмом, напевом (словом), метром (гармонией), «но есть и такие, которые пользуются всеми названными <средствами>, то есть ритмом, напевом и метром, — таковы сочинения дифирамбов и номов, трагедия и комедия, а различаются они тем, что одни <пользуются> всем сразу, а другие в <отдельных> частях»23*. Сопоставляя трагедию с эпопеей, философ констатирует: «Что есть в эпопее, то <все> есть и в трагедии, но что есть в трагедии, то не все есть в эпопее»24*. И такое предпочтение театра объясняется в первую очередь тем способом, каким театр подражает общему для них предмету: драматическая поэзия — наиболее действенный вид искусства. Трагедия, которая, несомненно, является для него представительной формой этого искусства, есть «подражание действию», но в отличие от других, «<производимое> в действии, а не в повествовании, и совершающее посредством сострадания и страха очищение подобных страстей»25*.
Открытие этой в каждом случае неповторимой комбинации предмета, способа и средств позволило Аристотелю назвать шесть частей, образующих трагедию. Первая — «убранство зрелища»; по-видимому, она включает актеров вместе со сценическим оформлением. Вторая — музыкальная часть. Третья — речь, то есть определенный метро-ритмический склад драматургического текста. Четвертая — характер: он делает действующее лицо «каким-нибудь». Пятая часть — мысль. Мысль — то, в чем персонаж выражает «общее суждение» или высказывает конкретную идею. Наконец, шестая — сказание, склад событий, мифос (если использовать латинский термин, фабула). Для Аристотеля эта часть безоговорочно решающая. Тем самым подчеркивается первостепенность действия — оно в трагедии важней, чем характеры (качества) и все остальное.
32 Формулировка сущности трагедии, данная Аристотелем, характеризует также и конкретный объем спектакля: действие должно быть едино, то есть говорить об одном событии, от начала до конца, непрерывно и при этом ориентировано на то, чтобы человеческое сознание смогло охватить всю композицию в целом.
Огромное значение для философии и будущей теории театра имела мысль Аристотеля о внутреннем членении сказания. Содержательными частями трагедии стали перипетия, узнавание и страсть (патос). Перипетия — перемена «делаемого в противоположность» (в наиболее известном переводе — от счастья к несчастью или от несчастья к счастью). Узнавание — перемена от незнания к знанию. Страсть — действие, причиняющее гибель или боль.
Одной из самых загадочных среди идей «Поэтики» оказалась идея катарсиса, душевного очищения зрителей путем страха и сострадания, которое представляется едва ли не главной целью трагедии. Катарсис до сего дня вызывает яростные споры и противоположные трактовки. Среди них и точка зрения, согласно которой за катарсисом следует оставить лишь историческое значение. Однако история театра прошедшего века и в особенности опыт паратеатральных форм заставляют по-прежнему пристально вглядываться в этот феномен.
Провозглашенные Аристотелем законы, разумеется, трансформировались во времени и по-разному интерпретировались и даже оспаривались в иные эпохи, в том числе и особенно в XX веке. Но в любом виде — как непререкаемая база или как точка отталкивания — эти идеи остаются для театральной мысли фундаментальными.
РАЗВИТИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ МЫСЛИ ПОСЛЕ АРИСТОТЕЛЯ
Между тем европейская культура развивала античную модель театра даже тогда, когда формально отрицала ее. Ранние христианские философы, например, признавали значительную роль театра в обществе и размышляли о способах воздействия на зрителя. Тертуллиан («О зрелищах»), Аврелий Августин Блаженный («О Граде Божием») уделили театру немалое внимание. Они оценили его исключительно негативно — поменялась вся система координат. Но чем ближе к эпохе Ренессанса, тем заметней становился интерес к «Поэтике» Аристотеля. Еще в XII веке великим арабским философом из Кордовы Аверроэсом был написан комментарий к «Поэтике». С XIII века этот комментарий переводился на европейские языки, а с XV века многократно издавался 33 в Италии. В начале XVI века появился перевод «Поэтики» на латынь, выполненный Д. Балла, в 1536 году — А. Пацци, в 1549-м — Б. Сеньи (первый перевод на итальянский), в 1572-м — А. Пикколомини, в 1576-м — Л. Кастельветро. Большинство переводов имели комментарии и толкования, ориентированные уже на современную театральную ситуацию; одновременно появляются оригинальные итальянские «Поэтики».
В 1548 году Ф. Робортелло опубликовал комментарий к «Поэтике» Аристотеля («Utinantis in Librum Aristotelis De Arte Poetica Explicationes»). Автор развивает положения Аристотеля, говоря не только о скорби и сострадании к персонажам трагедии, но и о «восхищении зрителя» тем, как они воплощены поэтом. Таким образом, эстетический элемент существует самостоятельно наряду с содержательным и сюжетным. Страх и сострадание зрителя приходят в противоречие с эстетическим наслаждением, доставляемым художественным произведением. Противоречие разрешается тем, что «ужасные вещи» выражены здесь не буквально, а посредством подражания, то есть художественного преображения.
Робортелло первым уделяет существенное внимание теории катарсиса. Он придает очищению психологический и нравственный аспекты. Кроме того, катарсис неотделим от сценического воплощения трагедии. Литературная основа трагедии ориентирована на создание характера (здесь Робортелло, естественно, отступает от Аристотеля), а сценическое воплощение делает главным — действие.
В 1561 году появился один из наиболее значительных трактатов, переосмысляющих «Поэтику» Аристотеля, — «Семь книг поэтики» Юлия Цезаря Скалигера. Скалигер по-новому трактует принцип мимесиса, выступая против «идеализации» действительности в художественных произведениях и призывая отображать «не видимость действительности, а саму действительность». Вместе с тем Скалигер создал четкую жанровую классификацию в театре. Считая высшим образом трагедии произведения Сенеки, а не греков, он очертил круг проблематики трагедии рамками сенековских трагедий. Становится обязательной необходимость «несчастья» в развязке. Каждому жанру соответствует определенное социальное положение героев, характер действия.
Таким образом, началось формирование классицистской театральной эстетики, которое было продолжено в трудах Л. Кастельветро и французских идеологов театра.
В 1586 году вышла «Поэтика» Ф. Патрици, в которой сформулировано критическое отношение к учению Аристотеля. Вместо всеобъемлющей 34 концепции мимесиса выдвинуты нравоучительные и воспитательные критерии искусства. Сами границы искусства расширяются, включая в себя религиозные и исторические произведения. Именно в то время в театре на первый план выдвигается изображение характеров и страстей, а не «склад событий». Подобный подход развивается и в «Поэтике» Т. Кампанеллы (ок. 1596).
Если итальянские авторы позднего Ренессанса переосмысляют и критикуют правила Аристотеля, то французские теоретики раннего классицизма формально следуют его заветам, но на деле представляют жесткий набор морализаторских и поэтических правил. Таковы сочинения Ж. Шаплена, одного из идеологов Французской Академии, написанные в 1630-е годы. Таковы «Практика театра» аббата Д’Обиньяка (1657) и знаменитая стихотворная теория зрелого классицизма — «Поэтическое искусство» Н. Буало (1674). Но здесь театральная мысль выходит за рамки философии как таковой в литературные сферы.
Особый интерес в связи с классицистской теорией и сценической практикой представляют труды аббата Д’Обиньяка (Ф. Геделена, 1604 – 1676). Около 1640 года по заданию Ришелье он написал «Проект преобразования французского театра», в котором театр рассматривался как государственная структура и детально регламентировался его статус. В «Диссертации об осуждении театра» (1640) Д’Обиньяк защищал театр от тех, кто добивался искоренения самого института театра. Аббат придавал ему качества государственности и христианской нравственности. Позднее он написал два трактата о Теренции, доказывая, что его комедии соответствуют правилам классицизма.
В главном своем сочинении «Практика театра» Д’Обиньяк рассматривает все стороны сценического искусства. Четко регламентируя сюжеты, жанры, поведение персонажей, связь между сценами, количество актов и т. д., автор исходит из задач художественного воздействия на зрителя и соблюдения сценической правды. Отсюда следует четкая регламентация в чтении стихов, выразительных средствах актера, использовании технических средств сцены.
Если классицистская теория драмы разрабатывалась во множестве сочинений, классицистская теория сценического искусства, сформулированная Д’Обиньяком, является практически уникальной до времен Дидро.
Подобная же четкая регламентация свойственна трактату немецкого отца-иезуита Ф. Ланга «Рассуждения о сценической игре с пояснительными рисунками и некоторыми наблюдениями над драматическим 35 искусством» (Мюнхен, 1727). Явно отталкиваясь от классицистских норм сцены, Ланг создает оригинальную теорию сценического искусства, выходящую за рамки классицизма. Именно Ланг ставит задачу создания сценического образа на основе внутреннего состояния актера, выраженного с помощью внешних приемов: «Сценическая игра должна быть как можно более искусной, так как, по существу, она есть подражание, которое вне искусства с совершенством исполнено быть не может. А действующее лицо есть одушевленное существо, выведенное на сцену фантазией, в подражание истинному»26*.
Одновременно с философским осмыслением театра с самого момента его зарождения происходило осмысление его литераторами. Комедии Аристофана, как известно, содержат подробную оценку театральных принципов Еврипида. Первая значительная литературная поэтика — «Искусство поэзии» («Послание к Пизонам») Квинта Горация Флакка. Поэт пишет и о происхождении театра, и о задачах драмы, но предмет театра не вычленяется из общего литературного контекста. Принципиальным отличием «литературного» подхода от философского является не стремление к отстраненному объективному описанию, а выдвижение некой программы, манифеста.
Сочинение Горация, как и Аристотеля, активизировало театральную мысль эпохи Возрождения. Тогда же появляются и оригинальные концепции театра, созданные писателями и драматургами Италии, Испании (Лопе де Вега), Англии.
В эпоху классицизма развернутые театральные концепции формулируют Мольер и Расин, Драйден и Мильтон, Вольтер и Ла Гарп. А за пределами классицизма — Гольдони и Гоцци, Лессинг и Гердер, Гете и Шиллер. Все они, прежде всего, драматурги, но при этом в той или иной степени связаны с реальным театральным процессом и опираются на законы сцены. Вместе с тем их взгляды на театр часто формулируются в контексте литературной полемики и имеют практическую цель. Театральная мысль такого рода благополучно развивается до сегодняшнего дня.
Особое место занимает театральная мысль самих практиков театра. Она появляется значительно позже творений философов и писателей. Практики театра если и брались за перо, так преимущественно для того, чтобы сформулировать конкретные задачи своей труппы. Драматург 36 и актер Мольер в своих театральных манифестах очевидно возрождал и развивал традицию, заложенную в трудах актеров и других практиков-интеллектуалов эпохи Ренессанса. Еще в 1551 году С. Серлио в трактате «Семь книг об архитектуре» не только разработал типы театральной архитектуры с применением новых научных достижений, но и с опорой на Аристотеля рассмотрел законы театральных жанров. В это же время появился трактат «Четыре диалога о сценических представлениях» (1565 – 1566), созданный Л. де Сомми, капокомико (главой театральной труппы), работавшим в Мантуе. Де Сомми рассуждает о работе актера с текстом роли, об отношении зрителя к спектаклю, определяет границы и возможности амплуа. Помимо практических вопросов де Сомми выдвигает критерии актерского искусства и размышляет о природе создания персонажа.
В XVI – XVII веках теоретические работы актеров и постановщиков появлялись регулярно. В XVIII веке актеры-теоретики откликаются на общие задачи эстетики Просвещения (например, Л. Раккобони). В это время складываются основные актерские национальные школы; полемика о природе актерской игры приобретает общеевропейский масштаб. Характерно «обсуждение» таланта Д. Гаррика с различных эстетических позиций. В этой полемике принял участие и Дидро.
В XVII веке созданы выдающиеся теоретические сочинения, написанные в поэтической форме. Лопе де Вега в «Новом руководстве к сочинению комедий» (1609) осмыслил законы ренессансной поэтики, обозначил связь с античной традицией, наметил пути сценического воплощения драматургии. Мольер свои требования к сценическому искусству дал в форме пьес, персонажами которых стали реальные актеры. Таков «Версальский экспромт» (1663).
Постепенно, но неуклонно мысль о театре поворачивается к театральной специфике, что для Возрождения и начала Нового времени значит — к искусству актера. Именно тогда впервые были заданы такие решающие для этого искусства вопросы, как «быть или казаться?», именно тогда шекспировский Гамлет, восхищенный тем, как воображение меняет весь облик актера, повествующего о страданиях чужой ему Гекубы, советовал артисту все же соблюдать художественную меру. А упомянутый де Сомми дипломатично, но уверенно заявлял, что хорошо сыгранная плохая пьеса предпочтительнее, чем плохо сыгранная хорошая. Произведение сцены устами практиков стало утверждать свой суверенитет. Однако до выявления критериев, определяющих уникальную природу театра, было еще далеко.
37 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ И ИДЕИ XIX СТОЛЕТИЯ
Принципиально иное качество театральная мысль обрела в XVIII веке, когда наряду с высказываниями философов и эстетиков, наряду с осмыслением театрального процесса актерами и драматургами, наряду с суждениями просвещенных зрителей возникает собственно искусствоведение. Это именно общее искусствоведение, и, когда оно толкует о театре, оно еще не озабочено уникальностью именно театральных форм и театрального языка, но при этом искусствоведение как наука уже предлагает осмысленную систему суждений, выдвигает те или иные универсальные критерии при оценке произведения искусства.
Центральное место в этом процессе становления искусствоведения принадлежит Д. Дидро, написавшему девять обзоров экспозиций Салонов Каре (выставки Королевской академии живописи и скульптуры) и публиковавшему их в рукописной газете Мельхиора Грима «Correspondance littéraire» с 1759 по 1781 год. Дидро сравнивает художественное изображение с натурой и выдвигает критерий «правды жизни». Здесь же сформулированы задачи художественной критики: «воспитывать и художников, и профанов», совершенствовать нравы общества, рассказать о произведении тому, кто его не видел, суметь обобщить свои впечатления.
Несмотря на то, что «Салоны» Дидро никак не предназначались для широкой (и даже не «широкой») публики, влияние их, так же как и влияние знаменитой Энциклопедии, оказалось поворотным. Отчасти потому, что Дидро обобщил многое, что уже вызревало в эстетике XVIII века. Закрепленная им система критериев разрабатывалась еще в начале века в сочинении Ж. Б. Дюбо «Критические размышления о поэзии и живописи» (1719), где была систематизирована вся жанровая палитра искусств, прослежена эволюция каждого жанра от античности к современности, сформулирована просветительская концепция искусства. Правда, книга Дюбо была произведением философского характера, но именно она оказала огромное влияние на становление искусствоведения. В 1747 году Л. де Сент-Йенн опубликовал «Размышления о нескольких основаниях современного искусства во Франции», в которых, возможно, впервые была предпринята попытка применить универсальные художественные критерии к современным произведениям.
В том же году, когда появилась книга Л. де Сент-Йенна, в Париже вышло в свет еще одно важное сочинение — книга Р. де Сент-Альбина 38 «Le Comédien». В 1755 году ее пересказ был опубликован на английском языке под названием «Актер. Трактат об искусстве игры». Книга была издана анонимно. Она, в свою очередь, послужила основой другого анонимного издания, вышедшего в Париже в 1769 году, — «Гаррик, или Английские актеры». Автором этого сочинения был А. Ф. Стикотти. И именно в полемике со Стикотти Дидро создал в 1773 – 1778 годах знаменитый «Парадокс об актере», где впервые сформулированы требования к актерской профессии и систематизированы различные методы создания актерского художественного образа.
Именно Дидро поставил проблему актерской профессии так, как ее будут рассматривать вплоть до наступления эпохи режиссерского театра: актер выражает на сцене свои страсти или создает «идеальный» образ, заданный драматургом? Дидро проецирует на актерскую профессию аристотелевский принцип мимесиса: «Дрожь в голосе, прерывистые фразы, глухие или протяжные стоны, трепещущие руки, подкашивающиеся колени, обмороки, неистовства — все это чистое подражание, заранее выученный урок, патетическая гримаса, искуснейшее кривляние»27*.
Наилучшим воплощением актерского профессионализма Дидро считал мастерство Д. Гаррика. Малейшие изменения душевного состояния персонажа актер демонстрирует посредством отточенной мимики, пластики, звука, взгляда. «Неужели душа его могла пережить все эти чувства и, в согласии с лицом, исполнить эту своеобразную гамму? Никогда не поверю, да и вы тоже!»28* — восклицает Дидро. Концепция Дидро развернута вокруг принципа актерского мимесиса, передачи образа, созданного драматургом. Гаррик играет не самого себя, а показывает в спектакле существо, созданное его воображением. Он играет страсть персонажа, которая не является его страстью. В этом профессионализм актера.
Исходя из сформулированных критериев, Дидро строит сравнение актерских методов Мари Дюмениль и Ипполиты Клерон. Дюмениль «поднимается на подмостки, не зная еще, что скажет. Половину спектакля она не знает, что говорит, но бывают у нее моменты высшего подъема»29*. Она создает роли, опираясь на собственные чувства, которые, по мнению Дидро, не способствуют возникновению полноценного 39 художественного образа. Манера Клерон принципиально иная: она фиксирует каждую деталь в репетиционном процессе, а потом совершенствует роль от спектакля к спектаклю. Только к шестому представлению возникает законченный образ. «Образ этот — взятый ли из истории, или, подобно видению, порожденный ее фантазией, — не она сама. Будь он лишь равен ей, какой слабой и жалкой была бы ее игра!»30*
«Парадокс об актере» Дидро стал отправной точкой для театральной мысли последующих столетий. Новый этап развития философии театра связан с просветительской теорией Г. Э. Лессинга. В его работах «Театральная библиотека» (1754 – 1758), «Лаокоон» (1766), «Гамбургская драматургия» (1767 – 1768) эстетике классицизма противопоставляются законы античного театра и шекспировской драмы. Театру в разработанной им системе искусств отводится важнейшее место. И это во многом связано как раз с тем, что театр, по мысли Лессинга, не отображает нормальные жизненные ситуации, а обращается к явлениям, выходящим за границы реальности либо в область смешного, либо в область ужасного.
Ставя вопрос о том, «может ли актер представить так верно крик и болезненные конвульсии, чтобы у зрителя создалась полная иллюзия реальности», Лессинг дает неоднозначный ответ. Он признает: даже великий артист Гаррик не в состоянии выполнить такую задачу. Но есть иные средства достижения подлинных чувств и страстей в театре: «Искусство изготовления масок и декламация достигали в древнем мире такого совершенства, какое мы в настоящее время не можем себе даже представить»31*. Лессинг переносит акцент с правдоподобия на динамику образа. Актер станет «таким Протеем своего искусства, каким общая молва давно признала Гаррика»32*, в том случае, если сумеет продемонстрировать оправданное развитие образа, если его сценическое создание воплотит авторскую идею, мысль, смысл.
Особое место в истории театральных идей занимает Г. В. Гегель. Сцена не была в центре его интересов, и театру в семье искусств он предназначал важную, но скромную, скорее всего несамостоятельную роль: по мысли Гегеля, содержание спектаклю дает пьеса и только пьеса, 40 но об этом содержании «трудно составить ясное представление помимо театрального спектакля и при простом чтении»33*.
При этом, однако, Гегель на деле решительно воздействовал на театр — только не своими театральными идеями, а созданной им теорией драмы, действительно новаторской для послепросветительской эпохи. Его представления о драме как борьбе индивидуальных воль, центральное место, которое он отвел драматическому конфликту, — на протяжении следующих двух веков оказались, бесспорно, самыми авторитетными не только в драматической литературе, но и там, где речь шла о драматургии спектакля, включая спектакль режиссерской эпохи. В этой связи достаточно вспомнить такую пару терминов К. С. Станиславского, как «сквозное действие» и «контрсквозное действие».
Куда менее опосредованным и при этом вполне осознанным современниками было влияние, которое оказала на театральную мысль романтическая эстетика. Ее идейные основы были разработаны усилиями выдающихся умов, среди которых философ Ф. Шеллинг, филологи и критики братья А. и Ф. Шлегели соседствуют с такими писателями, как Л. Тик, Э. Т. А. Гофман или В. Гюго. Не случайно романтическая модель театра отличается впечатляющим разнообразием.
Показательными и, может быть, более всего ориентированными именно на театр представляются идеи Тика. В отличие от предшественников и большинства современников, он, например, сосредоточил внимание не только на драмах Шекспира, но и на традициях елизаветинской сцены. В этой связи Тик прямо ставил задачу «найти средства для переустройства сцены так, чтобы приблизить ее по своей архитектонике к староанглийской сцене»34*. Среди произведений Тика, в которых рождалась его театральная концепция, — исследование «Бен Джонсон и его время», новелла «Молодой столяр» (оба — 1836 год), несколько сборников статей «Заметки драматурга», в которых елизаветинская сцена описывается и приспосабливается к целям, одушевлявшим романтиков. Тик вводит принцип театра в театре, обдумывает проблемы театрального жанра (жанр спектакля должен соединять контрастные приемы), разрабатывает «барельефную мизансцену» (этот термин не случайно возникнет у Мейерхольда, опиравшегося на идеи Тика). Позднее Тик и сам сумел проверить свою теорию при постановке «Сна в летнюю ночь» (1845) в Потсдаме.
41 Размышления Тика повлияли на становление театральной концепции Р. Вагнера. В своих теоретических сочинениях он интерпретирует идеи Тика: «Сцена должна, прежде всего, соответствовать всем пространственным требованиям совершающегося на ней общего драматического действия; затем она должна таким образом соответствовать этим требованиям, чтобы драматическое действие было доступно слуху и зрению зрителей. <…>
Зритель целиком прикован к сцене; актер становится художником лишь полностью растворяясь в публике»35*.
Идея синтеза искусств — одна из основополагающих в романтическом мировоззрении. Именно эту идею в первую очередь подхватил и разработал Вагнер, теория и практика которого стала шагом к теоретическому обоснованию режиссерского театра. Он заимствовал у романтиков идею синтеза искусств для осуществления некоего сверхискусства. Это универсальное произведение («Гезамткунстверк») обосновано Вагнером в теоретических работах «Искусство и революция» (1849), «Произведение искусства будущего» (1850), «Опера и драма» (1851). Синтез всех возможных искусств осуществляется на основе трех равноправных — музыки, поэзии, танца. Продуктивная практическая деятельность Вагнера привела к рождению «музыкальной драмы» и реформе оперного искусства. Однако идея «Гезамткунстверк» имела гораздо более широкую сферу влияния.
В это же время получает самостоятельное развитие театральная критика, отделившаяся от литературной. Ее начала — в хронике XVIII века, когда англичане Р. Стил и Д. Аддисон стали публиковать театральные материалы в своих просветительских журналах «Тэтлер» («Болтун») (1709 – 1711), «Спектэйтор» («Зритель») (1711 – 1714). Стилу принадлежит первая попытка создания театральной газеты «Театр», выходившей в 1719 – 1720-х годах. К концу этого столетия сложилась достаточно стабильная система журналов и газет, что позволило поддерживать постоянную и оперативную хроникальную рубрику.
В 1800 году Ж. Л. Жоффруа (1743 – 1814) создает ежедневную рубрику литературной хроники в газете «Журналь де деба». Жоффруа выступает также в качестве театрального критика, он убежденный сторонник традиционного классицизма и негативно оценивает новаторство Ф. Ж. Тальма. Возникновение подобных литературным театральных 42 хроник в парижских газетах не заставило себя ждать. Постепенно хроникер превращался в собственно критика, и постоянные театральные обозреватели стали сотрудничать с авторитетными изданиями общего характера. Ясность их художественных вкусов, с одной стороны, способствовала выработке профессиональных критериев оценки, но с другой стороны, особенно с середины XIX века, искусству вновь навязывался некий канон, опровергнутый искусствоведами XVIII столетия.
Наиболее характерный представитель западноевропейской профессиональной театральной критики — Ф. Сарсе (1827 – 1899). С 1867 года он публиковал театральные рецензии в газете «Тан» («Время»). Сарсе оказался лидером целой группы театральных критиков, общие принципы которых ориентировались на актерские каноны Комеди Франсез, на репертуар академических театров и театров бульваров, где господствовала «хорошо сделанная пьеса» с ее ясной интригой и прямолинейной моралью.
Сарсе стремился охватить всю театральную жизнь Парижа второй половины XIX века. Возникала возможность широкого обобщения, рассмотрения общего театрального контекста. Формулирование критериев «охранительной» критики только способствовало сплочению сил театральных новаторов — натуралистов и символистов — в борьбе с театральной рутиной.
Традиции школы Сарсе развивали критики Э. Ноэль и Э. Стулли, выпускавшие с 1875 по 1899 год ежегодные сборники «Анналов театра и музыки». На символистские позиции постепенно перешел театральный критик газеты «Журналь де деба» Ж. Лёметр (1853 – 1914). С 1888 года он публиковал ежегодные сборники рецензий «Театральные впечатления». Принципы объективной критики сформулировал в 1890-е годы Ф. Брюнетьер (1849 – 1906), критик «Ревю де дё монд» («Журнал двух миров»), а с 1894 года директор этого журнала. Брюнетьер в своей теории и критике театра развивал эстетические позиции И. Тэна, стремился к научности и объективности оценки, опираясь при этом, как и его предшественники, на анализ драматургической структуры. Символистская театральная критика представлена во Франции прежде всего К. Моклером (1872 – 1945), возглавившим критический отдел в журнале «Меркюр де Франс», и Ф. Фенеоном (1863 – 1944), выдвинувшим концепцию «лапидарной критики» (анализ не сюжета, а формы спектакля, краткость и поэтичность оценки, передача сути произведения, а не частностей).
43 ТЕАТРАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ НИЦШЕ
В эпоху культурного перелома конца XIX — рубежа XI – XX веков проблемы театра вновь привлекли пристальное внимание философов. Наиболее ярко кризисное мировоззрение рубежа веков сформулировано в философии Ф. Ницше. Театральная концепция Ницше разработана в таких сочинениях, как «Рождение трагедии из духа музыки», «Рихард Вагнер в Байрейте» («Несвоевременные размышления»), отчасти в «Утренней заре», отчасти в «По ту сторону добра и зла», и особенно в последних сочинениях «Казус Вагнер» и «Nietzsche contra Wagner». Ницше оказал огромное влияние на театральную мысль, а его книга «Рождение трагедии из духа музыки» стала отправной точкой для создания ряда новаторских театральных концепций.
Согласно Ницше, человек рожден художником и только как художник он реализуется. Закон существования один: «Бытие и мир получают оправдание только как эстетический феномен»36*. Существование реализуется по законам эстетики, конкретно — театра. Механизм, о котором говорит Ницше, — это композиция трагедии, завершающаяся разрешением борьбы Аполлона и Диониса, т. е. катарсисом (хотя и понятым не по-аристотелевски). При этом решающим и для жизни и для искусства оказывается трагическое. Трагический взгляд на мир он противопоставляет «двум другим взглядам: диалектическому и христианскому»37*. Взаимодействие Аполлона и Диониса выглядит как общемировой конфликт, а Дионис «возвращает к изначальному единству, он сокрушает индивида, влечет его за собой к великой катастрофе и погружает в изначальное бытие»38*.
Философские идеи Ницше стремительно развивались на протяжении пятнадцати лет — от решительного нигилизма к провозглашению жизнеутверждающего начала. Но театральная концепция Ницше осталась без изменений. В итоговом варианте она выглядит следующим образом: «Как неприятно звучит для нашего слуха театральный крик человеческих страстей! Как чуждо нам стало все романтическое беспокойство и сумятица чувств, которые любит образованная чернь, и все ее тяготения к возвышенному, приподнятому, взвинченному! Нет, если нам, выздоровевшим, еще нужно какое-нибудь искусство, 44 то оно должно быть другим — насмешливое, легкое, неуловимое, божественно-спокойное и божественно-искусственное искусство, которое подобно чистому пламени вздымалось бы к безоблачному небу!»39*. Так говорил Ницше в «Nietzsche contra Wagner». Обращает на себя внимание тот факт, что в этой книге «искусство» и «театр» отождествляются для Ницше (так же как и для Вагнера, но современный театр не приемлем для обоих). Задача театра, по Ницше, — преодоление страстей, романтизма, человеческого. «Драма требует суровой логики»40*, — писал Ницше в туринском письме «Казус Вагнер». Художественная реальность противопоставляется красочности и суете жизни. Истинно искусство, а не жизнь. И воплощается оно прежде всего в театре.
Влияние Ницше самым непосредственным образом сказалось в том, что его трагическое стало неким универсумом модернизма: от символистского «трагического повседневного» до экзистенциального «трагического чувства жизни». На этом «трагическом» основываются и философские, и собственно театральные концепции модернизма (а в определенном смысле и постмодернизма, хоть и через отрицание его). Это трагическое связывает модернизм с античной традицией и дает новое понимание трагического, но уже разное в каждом художественном направлении модернизма, в каждой новой концепции.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЖИССУРЫ И ТЕАТРАЛЬНАЯ МЫСЛЬ
В начале XX века особое значение для развития театральной мысли приобрели теоретические статьи и манифесты режиссеров. В России, например, авторы крупнейших теоретических работ о театре до 1920 года — режиссеры: Вс. Э. Мейерхольд («Театр. К истории и технике», 1907), Н. Н. Евреинов («Введение в монодраму», 1909, «Испанский театр XVI – XVII веков», 1911), снова Мейерхольд («О театре», 1912), снова Евреинов («Театр как таковой», 1912; «Pro scena sua», 1915), Ф. Ф. Комиссаржевский («Творчество актера и теория Станиславского» и «Театральные прелюдии», 1916), А. Я. Таиров («Прокламации художника», 1917).
Сформировавшийся в середине XIX века позитивизм (О. Конт «Курс позитивной философии», 1842; Г. Спенсер «Социальная статистика», 45 1850; И. Тэн «Критические опыты», 1858; Ч. Дарвин «Происхождение видов», 1859) применил научный метод ко всем областям духовной культуры. Художественный натурализм, сформировавшийся на основе позитивистского мировоззрения, также применял научные методы для создания произведений искусства: поступки персонажей литературных и театральных произведений определялись фактором среды и наследственным детерминизмом. Так или иначе, этот комплекс идей отразился не только в практической деятельности первой режиссерской волны, но и во взглядах основателей всех Свободных и Независимых театров, родившихся в конце XIX века, начиная с А. Антуана (Театр Либр), О. Брама (Фрайе Бюне), К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (Московский Художественный театр). Именно поиск объективных научных законов актерского творчества и цель сознательно овладеть подсознательными творческими процессами несомненно одушевляли К. С. Станиславского в первые десятилетия XX века, когда закладывались основы фундаментальной постройки, получившей название системы Станиславского.
Творческий процесс основывается — по Станиславскому — на живых человеческих чувствах, реально испытываемых актером. Переживание возникает на каждом спектакле заново, и оно должно быть реальным. Станиславский разрабатывает метод овладения ролью, основанный на «действенном анализе пьесы», единство роли выстраивается с помощью «сквозного действия», которое, в свою очередь, определяется «сверхзадачей» — сущностью, зерном роли. Таким образом, режиссерский замысел — это не указание режиссера, не идея, спущенная сверху, а объективность, выведенная из научного анализа текста и психологии поведения. Таково место творчества актера в режиссерском театре.
Центральным в системе Станиславского является принцип «Я в предлагаемых обстоятельствах»: чтобы на сцене возникали реальные человеческие чувства, актер должен увидеть себя в обстоятельствах персонажа или, иначе, наполнить персонаж своими личными чувствами.
Цель театра, приверженцем и теоретиком которого был Станиславский, — «в создании на сцене живой жизни человеческого духа и в отражении этой жизни в художественной сценической форме»41*. При таком понимании театрального искусства творческий процесс не рассматривается как «игра», «искусственность», «виртуозность техники». 46 Творчество актера Станиславский определяет как «созидательный процесс духовной и физической природы»42*.
Несовершенность терминологии, предложенной Станиславским, осознавалась даже в рамках так называемого психологического театра. Усложненность театральных концепций в режиссерском театре требовала более универсальной систематики средств создания роли. Такие попытки осуществлялись неоднократно. Так, последователь Станиславского Н. В. Демидов разработал актерскую теорию, опирающуюся не на оппозицию искусства переживания и искусства представления, восходящую к Дидро; он предложил четыре типа актера: имитатор, эмоциональный, аффективный, рационалист43*. Близкую по смыслу типологизацию создал еще в 1923 году философ Ф. А. Степун. Он делил актеров на имитаторов, изобразителей, воплотителей и импровизаторов. Искусство актера-воплотителя здесь отвечает высшим критериям, сформулированным Станиславским. Но есть еще актер-импровизатор — «мистик и пророк, окончательно порвавший с исполнительством и изобразительностью»44*. Такое искусство возвещает будущее, но скорее всего это уже не театральное будущее.
С точки зрения достижений современной психологии подошел к проблеме актера Л. С. Выготский, написавший в 1932 году статью «К вопросу о психологии творчества актера». Рассматривая внутреннее состояние актера во время сценической игры, Выготский обратил внимание на слабую совместимость театральных теорий и психологической науки (например, системы Станиславского и системы Т. Рибо). Выготский пришел к выводу, что «актерская психология» имеет свою специфику. «Это идеализированные страсти и движения души, они не натуральные, жизненные чувствования того или иного актера, они искусственны, они созданы творческой силой человека и в такой же мере должны рассматриваться в качестве искусственных созданий, как роман, соната или статуя»45*. Мысль Выготского о том, что не только созданный актером образ, но и сами чувства актера отличаются от реальных жизненных чувств, во многом опровергала первоначальную концепцию «психологического театра». При этом Выготский одновременно и подтвердил парадокс Дидро, и усложнил проблему, исходя из открытий 47 режиссерского театра: «Нужно выявить функцию сценической игры в данную эпоху для данного класса, основные тенденции, от которых зависит воздействие актера на зрителя, и, следовательно, определить социальную природу той театральной формы, в составе которой данные сценические переживания получают конкретное объяснение»46*.
Выясняется, что в каждой театральной системе «внутреннее оправдание» будет другое. Переживание актера определяется не житейским переживанием, а той художественной системой, в которой он существует. Конечно, в результате использования «метода Станиславского» актер добивается органичного существования на сцене. Другое дело, что возникают объективные ограничения и в смысле репертуара, и в смысле жанров, и в использовании возможностей театрального языка. Воплощение собственной личности в спектакле имеет и обратную сторону: образ ограничен возможностями личности. В то время как пафос других режиссерских систем, «непсихологической» драматургии — именно в преодолении личности, выведении актера и зрителя либо на сверхчеловеческий метафизический уровень (например, в символизме), либо на уровень коллективного бессознательного, восприятие мифа, структуры, а не личности (сюрреализм, абсурдизм, постмодернизм).
Так или иначе, интеллектуальное наследие К. С. Станиславского оказалось в существенной мере базой для той мощной ветви театральной мысли, которая связана с идеями главных авторов театра XX века — режиссеров.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ СИМВОЛИЗМ
Сценический символизм, прежде всего французский, его практика и его идеи рождались в полемике с натурализмом. Уже в натурализме режиссура использовала модель традиционного театра XIX века и стремительно разрушала эту модель; символисты сделали следующий шаг. Они опирались на принципиально иное понимание театра.
Быть может, наиболее выразительно новая тенденция воплотилась в идеях Г. Крэга. Начало его теоретических разработок приходится на 1905 год, когда в Германии был опубликован первый диалог «Искусство театра». Это по сути не только манифест театрального символизма, но и первое осмысленное провозглашение эпохи режиссерского театра. 48 Следующее пятилетие — дальнейшее развитие теории, создание журнала. Сборник статей «Об искусстве театра» (1911) стал итогом этого периода исканий.
Театральная концепция Крэга — символистская по своей сути. В частности, это относится к крэговскому пониманию актера будущего, который «устремит свой мысленный взор в сокровенные глубины, изучит все, что там таится, и, перенесясь затем в иную сферу, сферу воображения, создаст некие символы, которые, не прибегая к изображению голых страстей, тем не менее ясно расскажут нам о них. Со временем идеальный актер, который будет поступать таким образом, обнаружит, что эти символы создаются преимущественно из материала, лежащего вне его личности»47*.
Это сказано в статье «Артисты театра будущего» (1907). Задачей здесь провозглашается проникновение в «сферу воображения» и отказ от изображения. Мы имеем дело с традиционным символистским мировоззрением, но принципиальным новаторством Крэга является перенесение акцента на актера: не только зрителя нужно вести в глубины сокровенного, но прежде всего актер должен, подобно мисту в Элевсиниях, проникнуть в иную реальность. Именно Крэг доводит до конца формирование символистской концепции театра, разработав новые задачи актерского искусства.
Созданная Крэгом теория сверхмарионетки не универсальна для режиссерского театра: актерские принципы Станиславского, Брехта или М. Чехова законам режиссерского театра тоже никак не противоречат. Общее здесь одно — подчинение актера режиссерскому замыслу (не режиссеру!), в остальном же сверхмарионетка воплощает символистскую концепцию театра и актера. Крэг писал в «Артистах театра будущего»: «Актер — такой, каким мы его знаем сегодня, — в конечном счете должен будет исчезнуть, превратившись во что-то другое. Только при этом условии в нашем театральном царстве можно будет увидеть подлинные произведения искусства»48*. Актер-личность должен разрушаться, он — переходное звено к «произведению искусства будущего», так же как человек — по Ницше — переходное звено к сверхчеловеку. Идея сверхмарионетки равна здесь идее сверхчеловека.
Не менее значительно в символистском мировоззрении Крэга единство режиссуры и сценографии (опять-таки общий принцип режиссерского 49 театра). Решение сценического пространства в замыслах Крэга отражает трагическое мироощущение в современном символистском понимании многозначности реальности. Принцип «трагической геометрии» по сути завершает формирование символистской театральной концепции.
В России теория символистского театра, представленная, например, работами В. Я. Брюсова «Реализм и условность на сцене» (1908), Г. И. Чулкова «Театр будущего» (1908), А. Белого «Театр и современная драма» (1908), М. А. Волошина «Театр как сновидение» (1912), ориентировалась не столько на тот опыт, которым обладал уже европейский символизм, сколько непосредственно на теории Р. Вагнера и Ф. Ницше.
Предваряя книгу «Дионис и прадионисийство», Вяч. И. Иванов прямо подчеркнул связь своих идей с сочинением Ницше: «Гениальный автор “Рождения трагедии” показал в нем современности вневременное начало духа, животворящее жизнь, и как бы его первого двигателя. В его пробуждении видел он залог всеобщего обновления»49*. Таким образом, возвращение к самым истокам театра направлено на преобразование сегодняшней жизни и обновление человека. Такова же цель и символизма Вяч. И. Иванова. Метод Иванова, использованный при обращении к античности, глубоко научен. Разбирая основные понятия трагедии на основе античных текстов, автор приходит к «кафарсису» (катарсису) как такому состоянию сознания, при котором разрешается пафос и преодолевается противоречие подземных страстей и надземного строя. «Во всяком случае, завершительный и разрешительный момент энтусиастического пафоса всегда, без сомнения, ощущался как восстановление единства в душе разделившейся. <…> Спасающий целостность личности кафарсис есть примирительное упразднение зияющей в душе диады, переживание которой породило в эллинстве экстатические безумия и трагические вдохновения»50*.
Вяч. И. Иванов признает основательность и конкретность театральной концепции Ницше, возвратившей миру Диониса. Причем «воскресение» Диониса Иванов открыто связывает с рождением сверхчеловека. Связь — в трагическом начале обоих, и это начало присуще каждому человеку. «Спящие в нас возможности человеческой божественности заставили нас вздохнуть о трагическом образе сверхчеловека — 50 о воплощении в нас воскресшего Диониса»51*. Получается классическая символистская трактовка философии Ницше. Пафос разрушения «индивидуализации» для Иванова первостепенен, так же как предчувствие преображения человека в сверхчеловека, ужас и ликование от открывшихся безграничных возможностей.
Однако бросается в глаза одно существенное отличие: у Ницше главная черта театра — равноправие дионисийского и аполлоновского; Иванов называет трагедию (театр) Дионисовым искусством. Соответственно, катарсис у Ницше — уравновешение воли к смерти (прикосновение к космической объективности, исчерпывание личности) и воли к жизни (возвращение в повседневность) через аполлоновскую образность, визуальность, у Иванова — преодоление внутреннего духовного противоречия.
Вяч. И. Иванов распространяет изначальное понимание театра на театр будущего. Тут-то и становится понятно, почему ницшеанская концепция трагического преломляется в его сознании как бы однобоко: ему недостаточно трагедии. Трагедия — лишь часть театра будущего, который по сути не трагичен. Он мистериален. Самое дионисийство русский мыслитель воспринимает религиозно. В работе «Ницше и Дионис» Иванов пишет: «Дионис есть божественное всеединство Сущего в его жертвенном разлучении и страдальном пресуществлении во вселикое, призрачно колеблющееся между возникновением и исчезновением, Ничто мира, Бога страдающего — извечная жертва и восстание вечное — такова религиозная идея Дионисова оргиазма»52*. Ницшеанскую идею освобождения Вяч. И. Иванов здесь очевидно увязывает с религиозной традицией.
Вслед за Ницше Иванов отрицает театр как «зрелище». Так же, как Ницше, он видит уже в поздней античной трагедии черты кризиса. Он писал в 1906 году: «“Маска” актера уплотняется так, что через нее уже и не сквозит лик бога оргий, ипостасью которого был некогда трагический герой: “маска” сгущается в “характер”»53*. Маска отождествляется со зрелищностью, а театр будущего должен стать преодолением повседневной жизни художественными средствами ради прикосновения к сущностной реальности. Другое дело, что при этом ставится задача преодоления не вообще и не просто театра, а как раз «нового театра». 51 При этом, однако, не только терминология, но и идеология здесь символистские: язык искусства и театра — символ, задача — преодоление индивидуального, форма выражения — молчание. «Символ сверхиндивидуален по своей природе, почему и имеет силу превращать интимнейшее молчание индивидуальной мистической души в орган вселенского единомыслия и единочувствия, подобно слову и могущественнее обычного слова»54*.
Своеобразный итог символистским разработкам идеи театра, но уже в условиях, когда катастрофическое предчувствие сменилось катастрофой, подвел в книге 1923 года «Основные проблемы театра» Ф. А. Степун. Он утверждает, что учение Ницше о смерти, выведенное из античной трагедии, чуждо самой «нашей жизни». Но из этого вытекает лишь то, что «нашу жизнь» надо менять. Иначе говоря, главная идея Ницше о жизни как эстетическом феномене не отброшена: «подлинная жизнь» достигается лишь изживанием обычной.
МЕЙЕРХОЛЬД
Книга Вс. Э. Мейерхольда «О театре», выпущенная в 1912 году и собранная из статей, опубликованных в предыдущие годы, развивает идеи о театре, высказанные В. Я. Брюсовым и Вяч. И. Ивановым. Однако в еще большей степени здесь чувствуется влияние театральной концепции Вагнера и Ницше. Ценность книги Мейерхольда прежде всего в органичном соединении теории театра как специфического вида искусства, истории театра от античности до современности с устремленностью в будущее, с постановкой задач для театра нового типа. В «потоке театральных реформ» Мейерхольд различает три элемента, имеющие самостоятельное развитие: «носители прошлого», современники и «Театр Будущего»55*.
Первую, «историческую» часть книги Мейерхольд начинает с рассказа о Театре-студии на Поварской и через этот рассказ формулирует задачи нового этапа развития театра. То есть работа так и не открывшейся студии определяется как поворотный пункт в эволюции театрального искусства.
Далее автор подробно описывает две художественные тенденции в современном режиссерском театре. Первая — натурализм. Но и здесь — 52 на примере деятельности Московского Художественного театра — выявляются «два лица». Одно — театр натуралистический, «заимствованный у мейнингенцев», направленный на точность «воссоздания натуры»56*. Другое — театр настроения, представленный спектаклями по Чехову. Общая оценка этой тенденции — негативная: натуралистический театр убивает фантазию: «Натуралистический театр, очевидно, отрицает в зрителе способность дорисовывать и грезить, как при слушании музыки»57*.
Противоположная художественная тенденция — Условный театр. Обосновать его принципы, установить традицию, сформулировать дальнейшие задачи стремится Мейерхольд в своей книге. Здесь поворотным пунктом стал Неподвижный театр Метерлинка, т. е. символизм. Но Мейерхольд, вслед за Метерлинком, провозглашает постоянное существование Неподвижного театра. Это Эсхил и Софокл. Таким образом, в теории Мейерхольда закономерно соединяются театральные концепции Ницше и Метерлинка.
Опять-таки отталкиваясь от конкретной современной постановки («Тристан и Изольда» в Мариинском театре), Мейерхольд прослеживает этапы развития Условного театра — Л. Тик, Вагнер, Фукс, Рейнхардт, Крэг, далее — Студия на Поварской, Станиславский начиная с «Драмы жизни» и сам Мейерхольд.
Важно отметить, что автор, разрабатывая свою театральную концепцию, опирается на наиболее глубокие современные труды по теории театра, такие, как «Душа театра. Эстетика сценического искусства» (1907) немецкого философа, театроведа и критика Т. Лессинга (1872 – 1933).
В 1920-е годы Мейерхольд, оставаясь по своему мировоззрению символистом, создает и теоретически обосновывает новейший метод актерского искусства — биомеханику, опираясь на передовые учения по психологии.
МУЗЫКАЛЬНО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Если Вяч. Иванов развивает символистскую концепцию театра на основе трагического, то А. Белый отталкивается прямо от мистерии. В статье «Формы искусства» (1902) Белый отдает должное «Рождению трагедии» 53 Ницше, выделяя музыкальное начало искусства и особо подчеркивая связь трагедии с мистериальной природой. «Музыкальность современных драм, их символизм не указывают ли на стремление драмы стать мистерией? Драма вышла из мистерии. Ей суждено вернуться к ней. Раз драма приблизится к мистерии, вернется к ней, она неминуемо сходит с подмостков сцены и распространяется на жизнь. Не имеем ли мы здесь намек на превращение жизни в мистерию?»58*. В 1908 году Белый опубликовал программную статью «Театр и современная драма», в которой провозгласил: «Пусть театр останется театром, а мистерия — мистерией». Театру вообще нет места между монстрами прошлого и будущего: «Современный театр разобьется о Сциллу шекспировского театра или о Харибду синематографа»59*, но что бы с ним ни случилось, мистерией ему не стать.
С 1910 года А. Белый (как позднее Мих. Чехов) находился под влиянием антропософского учения Р. Штайнера. В деятельности Р. Штайнера большое место занимают мистериальный театр и эвритмическая система, построенная на ритме, объединяющем все «актерские» выразительные средства. В 1910 – 1913 годах он написал четыре драмы-мистерии, занимался режиссурой. В 1915 году в Гетеануме (в Дорнахе) были поставлены сцены из «Фауста». Мистериальный эффект перерождения, судя по описанию А. Белого, здесь был вполне достигнут.
В театральных экспериментах Р. Штайнера, в соборных исканиях младших русских символистов предугаданы представления, ставшие важными на следующих этапах развития мысли, связанной с театром. Например, об иероглифичности языка и форм и одновременно не условной, а подлинной, «первой» реальности происходящего на сцене.
Была осмыслена и «обратная» сторона соборности, мистериальности. В статье 1918 года «Храмовое действо как синтез искусств» П. А. Флоренский показал, как храмовое действо — литургия — соединяет в себе изобразительное и вокальное искусство, поэзию, архитектуру, искусство огня, искусство дыма и прочее, «являясь в плоскости эстетики — музыкальною драмой. Тут все подчинено единой цели, верховному эффекту катарсиса этой музыкальной драмы, и потому все, соподчиненное тут друг другу, не существует или по крайней мере ложно существует взятое порознь»60*. Флоренский сравнивает храмовое действо 54 с трагедиями Эллады и делает оптимистический прогноз, отсылающий к Мистерии А. Н. Скрябина: «Не к искусствам, а к Искусству, вглубь до самого средоточия Искусства, как первоединой деятельности, стремится наше время. И от него не скрыто, где — не только текст, но и все художественное воплощение “Предварительного действа”»61*.
Отсылка к последнему произведению Скрябина не случайна: именно в творчестве этого композитора теория синтеза искусств обрела, пожалуй, высшее воплощение. Причем специфическим моментом является действительная музыкальная первооснова. Истоки концепции, конечно же, в творчестве Р. Вагнера. Скрябин сам разработал философскую базу своей Мистерии, синтезируя различные философские учения62*. Для него Вселенная — творческий акт, тождественный абсолютному процессу и абсолютному Я. Скрябин не сомневался в том, что этот сверхиндивидуализм и есть соборность. Общечеловеческая Мистерия его мечты, в которой синтезировались музыка, поэзия, драма, танец, свет, запах и осязание, должна была стереть границу между залом и сценой, между искусством и жизнью, между жизнью и смертью.
Идеи синтеза искусств — и, прежде всего, на основе всепроницающего «духа музыки» — становятся основополагающими в системах Ф. Дельсарта и Э. Жак-Далькроза, а также их последователей (в частности, С. М. Волконского). Но наибольшее значение имеют теория и практика А. Аппиа. Швейцарский художник и музыкант в 1880-е годы под впечатлением спектаклей в Байрейтском театре проникается идеей адекватного выражения вагнеровских идей на сцене. Речь идет о принципиально новой сценографии и режиссуре, являющей синтез искусств в соответствии с музыкальной формой, найденной самим Вагнером. Музыка выступает как отправная точка итоговой театральной формы. Естественно, в реальных условиях немецкого театра конца века А. Аппиа не мог реализовать свои замыслы. Он сосредотачивается на создании теории театра и театральных проектов, запечатленных в эскизах и режиссерских разработках.
В основной его работе («Музыка и режиссура», 1899) синтетическая концепция («закон нерасторжимости») сформулирована следующим образом: «Драматической концепции, для того чтобы выразиться, необходим музыкальный язык, повествующий о сокровенном мире нашей 55 внутренней жизни; только музыка может выразить эту жизнь, и эта жизнь в свою очередь выражена только музыкой»63*. Музыка была провозглашена основой синтеза. Тем самым вагнеровское равенство искусств было переосмыслено, вводилась определенная иерархия, а воплощение синтеза виделось только в актере.
В практических работах Аппиа (совместных с Э. Жак-Далькрозом) эта концепция углубляется и конкретизируется: принцип соединения различных искусств найден в ритме. А. Аппиа воплощает свои идеи в театральной архитектуре, в пространственном решении спектаклей, в декорационно-световом оформлении. Не менее важно, что сами основополагающие понятия «музыка» и «синтез» существенно преобразовываются. Вагнеровский синтез зрелый А. Аппиа называет «предварительным определением», а музыка рассматривается не столько как искусство, сколько как культурный принцип, «интимным образом связанный с нами самими, происходящий из нас и нас дисциплинирующий»64*. Музыка приобретает широкое значение, а синтез выглядит как органическое соединение «визуально-иллюзорного» и «музыкально-сущностного».
В этой по-своему итоговой формуле по-прежнему жив ницшевский синтез аполлоновского и дионисийского. Этот или подобный идейный комплекс проглядывает сквозь все сколько-нибудь значительные концепции, связанные с искусством рубежа XIX – XX и первых десятилетий XX века. Но в это же время новая театральная мысль как бы раздваивается, и сразу в нескольких отношениях. С одной стороны, становится очевидно, что часть теоретиков и склонных к саморефлексии практиков все более смело и сознательно становится на сторону театра, берущего начало в XIX столетии. Один из самых ярких примеров — К. С. Станиславский, начавший свой творческий путь с противостояния театральному академизму, а в зрелости присягнувший на верность заветам Щепкина, потому что четко осознал себя реалистом.
Но одновременно начинают заметно расходиться между собой и приверженцы модернизма. Ни Крэг, ни Мейерхольд, при всем радикализме их художественных воззрений, никогда не отказывались от того, что искусство есть искусство, театр есть театр, а жизнь есть жизнь. Более того, на этом настаивали. Но заметна и другая тенденция, в которой само понятие о театре выходит за границы искусства и приобретает общечеловеческое 56 значение. Мысль о возвращении к мистерии, стремление заменить «театр» соборным действом приобретает в начале XX века самые причудливые формы и по-разному обосновывается, но это не случайное «декадентское» отклонение от здоровой нормы, а стремление преобразовать общество. Манящая многих новаторов идея синтеза имеет свою собственную логику: синтез искусств все чаще оборачивается еще более революционной идеей — речь идет о «синтезе» искусства и жизни.
ЕВРЕИНОВ И ИДЕЯ ТЕАТРАЛЬНОСТИ
Бурная событиями и богатая мыслью эпоха 1910 – 1920-х годов предложила театру ряд идей, которые резко расширили самое поле приложения сил и возможностей театра. Среди них одно из важнейших мест занимает концепция Н. Н. Евреинова. Драматург и режиссер, историк театра и активный театральный деятель, культуролог и философ, Евреинов оказал прямое или косвенное влияние на самые неожиданные области культуры, включая, например, психиатрию. Но и на фоне этого впечатляющего многообразия идея театральности занимает особое место.
Понятие «театральность», которое в первые десятилетия XX века весьма активно использовалось, всегда при этом оставалось во владении театра, было его атрибутом и чаще всего связывалось с теми театральными формами, в которых игровое и зрелищное начала, искусственность, «условность», нежизнеподобие не только не скрывались, но программно демонстрировались.
Евреинов предложил другое понимание театральности. Он утверждал, что театральность — свойство жизни, точнее, свойство человека. Это доэстетический, докультурный, природный инстинкт преображения в другое существо. Согласно Евреинову, потребность в театре заложена в человеке, как любая инстинктивная потребность, и «наряду с инстинктами самосохранения, половыми и прочими, в нас живет столь же могучий инстинкт театральности»65*. «Театральностью жизни» Евреинов объясняет все жизненные процессы (рождение ребенка, свадьба, война, государство, суд, казнь, религия, похороны). Все это театрализуется (украшается, усложняется, ритуализируется) фантазией человека. Разумеется, во всех этих процессах, кроме театральности, есть и утилитарность, 57 подсказанная инстинктивной борьбой за существование. Так понятый «театр» по-своему тотален: есть в самом деле Театр животных, есть Театр эшафота, есть Театр для себя, и среди этих многочисленных театров то, что в обществе принято считать театром, то есть театральное искусство, — лишь одна, и притом не самая представительная и даже не самая совершенная форма.
Среди пороков существующего театра один из самых тяжких — попытка скрыть его искусственность. Характерно отношение Н. Н. Евреинова к Московскому Художественному театру: «Когда я вижу чеховские пьесы в исполнении артистов школы К. С. Станиславского, мне всегда хочется крикнуть всем этим до кошмара жизненно представленным героям: пойдемте в театр! <…> Вы освежитесь! Вы станете другими. Вам откроется иная возможность бытия, иные сферы! Иные горизонты!»66*. Театральное искусство следует противопоставить обыденной жизни: «Может быть, вся задача сцены как раз сводится к тому, чтобы дать нечто как можно более далекое от прискучившей и тягостной нам жизненной правды…»67*. Евреинов оказался только последователен, когда утверждал, что высшим проявлением открытого им феномена является не собственно театр, а «личная театральность».
Концепция Евреинова была отрицанием театра лишь в одном, зато важнейшем смысле: она намечает прямую дорогу к уничтожению сакраментальной границы между театром и жизнью, «первой» и «второй» действительностью. Современные Евреинову и будущие теоретики и практики могли и не знать, кому обязаны важнейшими основаниями своих опытов, но на всем пространстве от экспериментов по «театрализации жизни» первых советских лет до хэппенинга, который в 1950-е годы ставил своей задачей изгнать из театра театр, следы Евреинова не теряются.
ЧЕЛОВЕК ИГРАЮЩИЙ
Созданную Н. Н. Евреиновым концепцию театральности нередко сближают с идеями Й. Хейзинги, изложенными в знаменитой книге «Homo Ludens. Опыт определения игрового элемента культуры» (1938). Для таких сближений есть как минимум одно объективное основание: выход на проблемы игры, подобно евреиновскому выходу к театральности 58 жизни, расширил круг обсуждаемых театроведением XX века вопросов во много раз. Хейзинга исходил из того, что в основе игры ребенка и действий животного — природный инстинкт. В игре проявляется свобода и человека и животного. Но Хейзинга настаивает, что игра построена на совершенно иных законах, нежели другие проявления жизни: «Игра не есть “обыденная” жизнь и жизнь как таковая. Она скорее выход из рамок этой жизни во временную сферу деятельности, имеющую собственную направленность»68*. Игра и не обыденная жизнь, и не искусство. В этом отношении концепция Хейзинги скорее противоположна евреиновской идее театральности, чем близка ей. Но общая тенденция, которую уловила связанная с театром мысль, — возможность расширить «театральное поле» и отыскать новые источники театра — должна быть отмечена.
ЧИСТАЯ ФОРМА
В театральной мысли первой половины XX века эта же тенденция представлена еще одной значительной фигурой — С. Виткевичем, который, с одной стороны, располагается как бы между Евреиновым и Хейзингой, а с другой, в некоторых отношениях предшествует А. Арто. Действительность для С. Виткевича сюрреалистична и театральна, но законы действительности и законы искусства в его концепции противопоставлены.
Критерием подлинного искусства, полагал Виткевич, является «Чистая Форма». Уже в 1920 году он пишет работу «Введение в теорию Чистой Формы в театре». Чистая Форма строится по законам, не подчиненным бытовой логике и воплощающим метафизическое чувство. «Метафизические чувства» — так называется опубликованное в 1931 году философское сочинение С. Виткевича, в котором сформулировано единство философии и искусства.
Виткевич не считал слово «метафизическое» удачным определением того, о чем он размышлял. Но здесь важней другое: его Чистая Форма — явление не внутритеатральное или внутрихудожественное. Ее смысл и цель не в том, чтобы замкнуться на себе, а, напротив, в том, чтобы вывести творческую личность в заведомо более широкий план, соединить ее с утерянной ею мифологической основой жизни и сознания. С. Виткевич при этом вполне скептически оценивал возможности 59 современного человека и поэтому считал, что только в будущем может возникнуть такая форма, «в которой современный человек мог бы, независимо от угасших мифов и верований, так переживать метафизические чувства, как человек прошлого переживал их в связи с этими мифами и верованиями»69*.
В отличие от евреиновского, мировоззрение Виткевича трагично: он наблюдал процесс исчезновения личности, которую он и мечтал с помощью театра приобщить к нерасчленимой мифологической основе жизни.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФУТУРИЗМ
Принято считать, и с полным основанием, что культура рубежа веков определяется борьбой и взаимодействием двух основных художественных направлений — натурализма и символизма. Однако не меньшее значение в эту эпоху имела эстетика модерна. В силу разнообразной специфики этого направления в разных странах и хронологических несовпадений, модерн получил различные наименования (сецессион, югендстиль, ар нуво) и часто воспринимается не как направление, а как стиль. Имеются в виду прежде всего установка на соединение эстетизма и практицизма, использование стилизации, орнаментализм, смещение планов, прием «театра в театре» и другие. Однако различные течения модерна имеют общую художественную идеологию. Так, в отличие от символизма, он осознанно отказывается от принципа двойственной реальности, перенося акцент на игровое пространство, не предусматривающее невыразимой сущности. В театральном искусстве модерн воплотился в спектаклях «Русских сезонов» С. П. Дягилева, парижском Театре дез Ар Ж. Руше, в «Пизанелле» В. Э. Мейерхольда, некоторых спектаклях М. Рейнхардта.
На почве, взрыхленной натурализмом, символизмом, модерном, возникают и другие художественные идеи, которые серьезно повлияли на театральную культуру и театральную мысль первой половины XX века. Это прежде всего футуризм, экспрессионизм, позднее — сюрреализм.
Итальянский футуризм с момента своего рождения активно решал вопросы театра, вырабатывал свою театральную концепцию. Отчасти 60 причина этого в театрализованной манере художественной жизни футуристов. При этом очевидно стремление переиначить и собственно театральные формы. Еще за несколько лет до рождения театрального футуризма пьеса Ф. Т. Маринетти «Король Кутёж» была поставлена на сцене парижского Эвр. В ней чувствуется влияние «Короля Убю» А. Жарри. Среди множества футуристических манифестов Ф. Т. Маринетти появляются театральные: «Прославление театра Варьете» (1913), «Наслаждение быть освистанным» (1910), «Манифест футуристического синтетического театра» (1915) и другие. Основные положения футуристической концепции сформулированы уже в этих манифестах.
Идея синтеза искусств, а также соединения искусств с внехудожественными явлениями используется футуристами не столько для укрепления театра как вида искусства, сколько как раз для разрушения его как вида в привычном понимании. Срывание романтических покровов, обесценивание повседневности, разрушение художественной иллюзии, торжественности, возвышенности — все это эпатажная сторона футуризма, призванная передать динамику подлинной жизни, возникновение новых ценностей (механизма электричества). «Убьем лунный свет!» — то есть психологический, жизнеподобный, иллюзионистский театр — один из основных лозунгов. Общепринятый театр (и новый режиссерский театр в том числе) направлен, по мнению Маринетти, на отображение внутренней жизни человека. Взамен этого футуризм предлагает внешнее действие. Футуризм работает только с формой, потому что «мозг» и «мускулы» фактически отождествляются в программе футуристов. И нет противопоставления внутреннего мира и внешнего. Психологизму противопоставляется «физическое безумие»70*.
Театр, согласно театральной концепции футуризма, не должен давать фотографию жизни. Цель искусства — оторваться от реальности, создать форму абсолютно самодостаточную (т. е. абстрактную). Как связана эта форма с той новой реальностью, с тем будущим, которое так восхищает футуристов? Маринетти говорит: театр должен передать синтез жизни. То есть не отобразить реальность, а передать синтез. Театр сам — реальность71*.
61 Самый важный позитивный момент театральной программы Маринетти — создание особой театральной атмосферы. Ясно, что он, хочет того или нет, опирается на достижения режиссерского театра. Однако нельзя не видеть, что футуризм через эти достижения пытается перешагнуть.
Маринетти утверждает, что зритель должен активно участвовать в действии, а не «глазеть на сцену». Зритель может аккомпанировать оркестру, бурно реагировать на игру актеров, вступать в диалоги. Атмосфера — наподобие старинных представлений commedia dell’arte. Но только там главное — то, что происходит на сцене, здесь важнее всего спровоцировать зал. Основное действие разворачивается в зале и даже вокруг спектакля. «При таком сотрудничестве публики с фантазией актеров, — пишет Маринетти, — действие происходит одновременно на сцене, в ложах и в партере. Оно продолжается даже по окончании спектакля, среди батальонов поклонников в смокингах и моноклях, которые толпятся вокруг этуали, оспаривая друг у друга двойную конечную победу: шикарный ужин и постель»72*. Кажется, что мы имеем дело с «разоблачением» спектакля, он уже не важен, если даже развязка происходит за его пределами. На самом деле роль театра, по мысли Маринетти, чрезвычайно повышается. Спектакль, живущий по своим законам, задает условия игры «реальной» жизни — выплескивается в зал, на улицы. То, что всегда мешало театру, отвлекало от искусства, должно стать его материалом.
В «Наслаждении быть освистанным» автор провозглашает презрение к публике и оторванность от реальности, но при этом желание «быть освистанным» не менее программно: свист, согласно Маринетти, — единственно возможная живая форма, подлинное включение в действие сцены, в отличие от дистанцирующих аплодисментов.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЮРРЕАЛИЗМ
Принципы сюрреалистического движения окончательно оформились к 1924 году, когда А. Бретон, глава новой школы, опубликовал первый «Манифест сюрреализма». Основной прием сюрреализма — в литературе, в живописи, в театре, в кино — создание «ошеломляющего образа» путем соединения несоединимого, выстраивание единого событийного ряда разноплановых явлений. Предмет лишается своего обычного 62 контекста, помещается в чужеродную среду, представая таким, каков он есть (известный сюрреалистический пример: туфелька, чтобы быть увиденной, должна находиться на рояле, а не на ноге девушки). Задачей художника провозглашалась материализация подсознания в формах «автоматического письма» или «эстетики сна». Бретон писал в «Манифесте сюрреализма»: «Меня всегда поражало, сколь различную роль и значение придает наблюдатель событиям, случившимся с ним в состоянии бодрствования, и событиям, пережитым во сне»73*. Логика сна воспринимается сюрреалистами как реальная, даже сверхреальная. Основное качество, приписываемое ими сну, — непрерывность. В этой непрерывности полностью удовлетворяются сознание и потребности спящего, связывается прошлое и будущее. Таким образом, философской основой сюрреализма явился психоанализ Зигмунда Фрейда.
Театральный сюрреализм развивался сразу в нескольких направлениях, отчасти из-за вражды между группами, работавшими в общей эстетике. Наиболее значительным оказался вклад А. Арто. Особенно перспективным стал этап его деятельности, начавшийся после знакомства Арто с представлениями танцоров острова Бали на Колониальной выставке, которые в корне изменили его театральную программу. Начинается формирование теории крюотического театра («театра Жестокости»), в котором уже не будет жизненных реалий, где целью станет преодоление личностного начала и поиск общечеловеческого архетипа, а формообразующим принципом — структура мифа.
АРТО
Сценический язык, как понимал его сюрреализм, должен материализовать подсознательный мир личности, реалии сновидений, которые воплощаются не в слове, а в «актах», конкретных действиях, лишенных бытовых связей. Подсознание противопоставляется психологии, логическое действие — самостоятельному жизненному акту. Художественная конструкция отражает прежде всего жизненный хаос или, опять-таки, логику сна, построенную вокруг одного персонажа. Именно эта личностная основа сюрреалистического спектакля показывает принципиальное 63 различие между сюрреалистическим и крюотическим театром: у Арто актер утрачивает личность, самоотреченно сжигает ее, становясь Двойником самого себя. Недаром в книге «Театр и его Двойник» (1938), перечисляя все языки, какими может овладеть театр, Арто упоминает язык огня. Двойник театра, двойник актера рождается при наличии источника света.
Прозревая театр будущего, Арто видел в основе его действие. Именно с его помощью театр способен открыть смысл жизни, самое жизнь. «Надо верить, что Театр может вернуть нам смысл жизни, преобразив его; тогда человек станет бесстрашным владыкой того, что еще не существует, и поможет ему обрести существование»74*. И это в самом деле «жестокое» действие: язык театра должен быть иероглифичен, но действие-то, свершаемое с помощью этого языка, как раз реально в самом что ни на есть жизненном смысле слова: актер действует на зрителя не ролью, а самим собой. И только тогда человек в идеальном театре Арто преодолевает свое «я», по обе стороны рампы переходя на архетипический уровень: именно на таком уровне зритель тоже может соотнести себя с общечеловеческим.
Для концепции Арто чрезвычайно показательна идея «активной культуры». Когда он ищет способы реализовать скрытые доселе энергетические силы, Арто использует противопоставление заинтересованной и незаинтересованной (désintéressée) культур: «Подлинная культура противопоставляет нашей пассивной и незаинтересованной концепции искусства свою концепцию, магическую и безудержно эгоистическую, то есть заинтересованную»75*.
Подобно Н. Н. Евреинову, Арто видел театральное начало в различных жизненных проявлениях. Но для него «театрализация жизни» открывается в исключительных ситуациях, наподобие тех, которые он описывает в «Театре и Чуме» (1934). Жизнь превращается в подлинный театр, когда между людьми устанавливаются внелогические связи. И тогда театр способен преобразовать мир, реализовать в человеке творческое начало.
Значимость идей Арто невозможно преувеличить. Они оказали прямое влияние на рождение и развитие так называемого тотального театра (в этой связи достаточно вспомнить такие фигуры, как П. Брук или Ж.-Л. Барро), эти идеи впрямую развивались Е. Гротовским: актер 64 Гротовского бросает «вызов» зрителю, чтобы тот тоже раскрепостился и произошло исчезновение рампы. Актер открывает различные грани своей личности — вплоть до интуитивного слоя, где и происходит выход на архетипический уровень воздействия. Вслед за Арто Е. Гротовский призвал вырваться из тесных рамок «Я», преодолев индивидуальное начало.
БРЕХТ
Одной из наиболее глубоко разработанных театральных теорий XX века стал «эпический театр» Б. Брехта — система, не только теоретически обоснованная, но и реализованная в режиссуре и драматургии. В 1920 – 1930-е годы публикуется множество статей Брехта по теории эпического театра, а в 1948 году появляется наиболее полное изложение этой теории — «Малый органон для театра».
Брехт театроцентричен. У него нет желания уйти из театра в метафизические выси. Но современный театр его, как и всех новаторов того времени, решительно не устраивал. Однако он предпочел не разрушать, а реформировать театр. И начал свою реформу с того, что демонстративно объявил театр общественным инструментом, с помощью которого можно и должно изменить социальный мир. При всей условности театральных форм брехтовского театра одна из его главных художественных целей — отражение жизненных проблем и даже разрешение их. Роль театра актуализируется не за счет его самодостаточности, а за счет полной ориентированности на реальность обыденную.
Брехт стремится перенести на театр законы других искусств, что характерно для XX века в целом. «Различие между драматической и эпической формой, — писал Брехт, — уже со времен Аристотеля видели в различии структуры, в различии построения, закономерности которого изучаются в двух разных областях эстетики»76*. В эпическом театре действие уступает место повествованию, то есть рассказу о действии. От зрителя требуется не сопереживание герою, а размышление над его судьбой. Брехт считает, что человек перестал быть центром событий, его действие определяется внешними глобальными силами. Вскрыть эти объективные механизмы невозможно через частную судьбу, необходим широкий исторический и социальный срез. Поэтому используются 65 различные художественные структуры, не только сугубо театральные. Соответственно, и предмет театрального представления максимально расширяется.
Брехт строит свою теорию на полемике с Аристотелем. Однако его драмы не противоречат законам «Поэтики». Наиболее радикальные идеи относятся к концепции актера. «Контакт между публикой и сценой обычно устанавливается на почве перевоплощения»77*, — констатирует он и тут же решительно отказывается от этого обычая, предлагая взамен «эффект очуждения»: «Техника, которая вызывает “очуждение”, диаметрально противоположна технике, обусловливающей перевоплощение. Техника “очуждения” дает актеру возможность не допустить акта перевоплощения»78*. Техника перевоплощения возможна только в репетиционной работе. На сцене Брехта актер никогда не отождествляется с ролью, выражает отношение к своему персонажу и тем самым преодолевает индивидуальное начало в роли. «Целью “эффекта очуждения” является: представить в “очужденном” виде “социальный жест”, лежащий в основе всех событий. Под “социальным жестом” мы разумеем выражение в мимике и жесте социальных отношений, которые существуют между людьми определенной эпохи»79*.
Теория эпического театра оказала колоссальное воздействие на режиссеров-новаторов 1940 – 1970-х годов (Д. Стрелер, П. Брук, Ю. П. Любимов и др.). Долгое время в сознании театральных практиков существовало противопоставление двух театральных теорий и режиссерских систем середины XX века: «Брехтовская идея “дистанцирования” долгое время противопоставлялась театральной концепции Арто — его театру непосредственного жестокого и субъективного опыта»80*, — писал в 1960 годы П. Брук. Однако в практике последователей постепенно происходит некоторое сближение противоположных концепций театра. Непреходящая актуальность Брехта связана с его пониманием специфики современного зрительского восприятия и с возможностью обращения театра к насущным жизненным вопросам.
66 ГРОТОВСКИЙ
Одно из самых значительных и влиятельных направлений театральной мысли второй половины XX века связано с Е. Гротовским. В последний период работы в Польше и особенно в годы экспериментов в Италии Гротовский создал самобытную и вполне законченную театральную концепцию. Сразу же стоит отметить, что, в отличие от предшественников, Гротовский трактовал термин «театр» вполне традиционно и сам ясно формулировал, от чего отказывается: по его мнению, он отказался именно от театра в пользу иного, истинного, то есть не театрального действия. С начала XX века многих и разных новаторов мучил вопрос о том, как преодолеть (и следует ли вообще преодолевать) непреодолимую «неподлинность» театра, как избегнуть лжи, коренящейся в том, что на всякой театральной сцене один притворяется другим. Гротовский по-своему и бескомпромиссно ответил на этот вопрос: ложь связана с воспроизведением, то есть в конце концов с подражанием, ее можно преодолеть, но для этого необходимо ликвидировать то, что стоит между зрителями и артистом, — роль. Лишь тогда актер сумеет стать Искренним.
Модернизм во всех своих проявлениях настаивает на том, что искусство есть вторая действительность. Гротовский принадлежит другой, авангардистской ветви художников и театральных мыслителей, которая объединяет всех, кто желает вернуть искусству статус первой действительности, а может быть, сделать и больше — превратить искусство в квинтэссенцию жизни.
Размышляя в работе «Театр и ритуал» (1968) об опасности «подражания мифу», Е. Гротовский предложил отказаться от «концепции ритуального театра», которая понуждает скатываться к религиозным аллюзиям, к воспроизведению образов и цитат. «То, что актер рассказывает какую-то историю или что-то обыгрывает, нельзя признать действием, совершающимся в настоящем времени: это не “здесь и сейчас”»81*, — говорит Гротовский.
«Безусловно, какое-то действие, какой-то акт актер должен совершить. <…> Я бы прибег здесь к старомодному, но зато точному определению: акт исповеди. <…> Он должен отыскивать в себе импульсы, всплывающие из глубины его тела, и с полной ясностью сознания направлять их к тому необходимому моменту, когда он должен совершить в спектакле эту исповедь»82*.
67 АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Эпоха режиссерского театра выдвинула несколько театральных систем, каждая из которых по-разному определяет задачи театра и место актера в структуре спектакля. Их характеризует и объединяет то, что все они возникли не из внутренних театральных проблем — они следствие изменения общего мировоззрения.
Особое место в этом ряду получила концепция так называемого «антропологического театра», развивающего, с одной стороны, эстетические принципы, подготовленные Евреиновым — Виткевичем — Арто — Гротовским, а с другой — воплощающего представление о человеке, выдвинутое аналитической антропологией. Речь идет о том, что сформулировал, в частности, М. Шелер в работе 1929 года «Философское мировоззрение». В ней обозначены три вида знания, на которые способен человек. Первое — знание специальных позитивных наук, дающее власть над природой, обществом и историей. Второе — противоположное первому, сущностное знание, выходящее за пределы реального мира и чувственного опыта. Оно дает возможность созерцать абсолютно сущее, существующее посредством самого себя. Третьим знанием М. Шелер называет «метафизическое и священное знание». Он дает этому знанию такую характеристику: «Мы вынуждены отнести сферы бытия, существующие независимо от кратковременно живущего человека, к актам единого надындивидуального духа, который должен быть атрибутом первосущего, который деятельно проявляет себя в человеке и посредством него растет»83*. Эти слова можно считать одним из очевидных определений «философской антропологии».
М. Шелер резко модернизирует и Платона, и аристотелевское понимание мимесиса: человек, с его точки зрения, «не копирует некий существующий или имеющийся готовым в наличии еще до сотворения Богом “мир идей” или “провидение” — он со-зидатель, со-основатель и со-вершитель идеальной последовательности становления, становящейся в мировом процессе и в нем самом»84*.
На язык театра такую концепцию человека переводит Ж. Делёз, пользуясь при этом словарем Арто. Делез говорит об отказе от воспроизведения, подражания, представления — не только в произведении, но даже в мышлении. Более того — происходит отказ от любого 68 «опосредования», от готовой формы вообще. «Речь, напротив, идет о том, чтобы вызвать в произведении движение, способное привести в движение рассудок вне всякого представления; без опосредования превращать самое движение в произведение; заменить опосредующие представления непосредственными знаками; изобрести вибрации, вращения, кружения, тяготения, танцы и прыжки, достигающие рассудок непосредственно. Какова идея театрального деятеля, режиссера, опередившего свое время? В этом смысле с Кьеркегора и Ницше начинается нечто совершенно новое. Они уже не думают о театре по-человечески»85*.
Тексты Ницше Делёз рассматривает как «замечания постановщика, указывающего, как нужно играть сверхчеловека»86*. Вот о таком новом «персонаже» идет речь у Ницше, Шелера, Арто. Новый театр, сверхчеловеческий — это театр «реального движения», «непосредственного знака», а не опосредованного, это театр повторения, а не воспроизведения. Только в этом смысле можно говорить о ритуале театра: повторение реального действия, а не воспроизведение «идеи» или уже случившегося акта.
На протяжении XX века философская антропология стремительно эволюционировала. В 1980-е годы центром антропологических исследований становится человеческое тело. Структура человеческого тела понимается антропологами как соответствие трем уровням Вселенной: «мира внешнего», «мира внутреннего» и «совместного». Современный немецкий антрополог К. Вульф пишет: «В человеческом теле внешний мир преобразуется во внутренний, материальность — в воображение, воображение — в материальность. Несмотря на коллективный историко-культурный опыт, каждое человеческое тело уникально»87*.
Но человеческое тело не просто «носитель информации». Человек воплощает «миметическое отношение к миру», то есть переводит внешний мир в образы, переводит во внутренний образный мир. Это значит, что каждый человек способен формировать новые культурные реалии. Современная антропология представляет актера идеальным воплощением принципа мимезиса: «Мимезис никак особенно не связан с музыкой и танцем, скорее он связан с “мимосом”, с лицедейством»88*. Актер не 69 «подражает» жизни, он выражает реалии, которые являются одновременно и актуальными для сиюминутного момента, и содержащими мифологическую основу.
Философская антропология делает упор на освоение «сфер человеческого опыта, в которых речь идет о выходе за границы субъективности и индивидуальности в направлении инаковости»89*. Тело актера с этой точки зрения — идеальный инструмент выхода на внеидивидуальный общечеловеческий язык. И если Арто исходил в своей актерской концепции из общей идеи театра, как он его понимал, если Гротовский реализовал концепцию Арто, используя частную практическую методику, то Э. Барба, с чьим именем связывается Антропологический театр, опирается на практические действия актеров, разработанный тренинг, поставленные спектакли. И делает теоретические обобщения. Считая тексты Гротовского слишком метафоричными, Барба создал вместе с Н. Саварезе «Словарь театральной антропологии»90*, в котором подробно разработал всего несколько ключевых понятий, таких, как «анатомия», «баланс», «драматургия», «энергия», «лицо и глаза», «стопы», «руки», «монтаж», «преэкпрессивность», «ритм», «декорации и костюмы», «техника», «текст и сцена», «тренинг». Барба и Саварезе стремятся дать исчерпывающие определения, включающие универсальные свойства всех возможных театральных концепций.
Универсальный театральный язык представляется Барбе больше чем языком — это всеобъемлющая система существования, не менее наполненная и разнообразная, чем обыденная реальность. Но в этой системе действуют гораздо более жесткие, чем в жизни, обусловленные космическим смыслом правила: «Актеры, которые работают внутри системы определенных правил, имеют большую свободу, чем те, которые… являются узниками… отсутствия правил»91*. Барба стремится сформулировать именно универсальную систему знаков, которая органично может быть использована для любой художественной концепции: Антропологический театр может «найти общие базовые принципы и передать эти принципы через собственный опыт. <…> Театральная антропология стремится заниматься изучением этих принципов. Ее интересует их возможное применение… и гипотетические причины, 70 которые должны объяснить, почему эти принципы похожи друг на друга»92*.
Новая реальность в сегодняшнем ее воплощении — это у Барбы даже не реальность спектакля, а реальность тренинга. Отсюда закономерная закрытость, иератичность нынешнего этапа развития этой традиции. Это, бесспорно, традиция катакомбной культуры (не случайно и А. А. Васильев, и Э. Барба декларируют необязательность зрителя). Настоящий этап — разработка языка, основных принципов универсальной архетипической сверхреальности, — но именно в условиях театра.
Глава 3.
МЕТОДЫ ТЕАТРОВЕДЕНИЯ И ТЕАТРОВЕДЧЕСКИЕ ШКОЛЫ
Наука о театре — специфическая область знания: такой живой объект, как театральное произведение, кажется, еще меньше поддается строгому описанию и исследованию, чем живописный холст, музыкальная партитура или книга стихов. Но особенности любого научного объекта и предмета, в том числе театра и театрального искусства, не отменяют основных общих принципов логики и объективности научного знания. Например, любое обобщение основывается на конкретных фактах; интерпретация выборочных фактов не ведет к объективному суждению; для исследователя театра одинаково важны погружение в детали материала и его обобщение.
В течение XVIII и XIX столетий театрально-исторические исследования и газетно-журнальная критика новых спектаклей развивались изолированно, по разным законам, но современное театроведение едино. При этом границы знания о театральном искусстве подвижны и открыты, ракурсы и масштабы, которыми можно пользоваться в изучении театра, многообразны. За то столетие, в течение которого театроведение развивалось как самостоятельная область знания, постепенно накапливались базисные, фундаментальные принципы подхода к изучению этого искусства. Сегодня можно говорить о собирательном характере театрального знания. Генеалогия профессии по-прежнему продуктивна для ее прогресса.
71 Самоопределение науки о театре произошло на рубеже XIX и XX столетий. В Германии в 1890-е годы были созданы театроведческие исследовательские институты (Киль, Кёльн), в университетах была введена театроведческая специализация (Бонн, Лейпциг), с 1902 года в Берлине работало Общество по изучению истории театра. Тогда же возник и самый термин Theaterwissenschaft (театроведение). В России исследовательская группа, систематически изучавшая театр, была впервые создана в 1920 году в Петрограде в Институте истории искусств.
Как стало ясно поздней, именно к этому времени накопился солидный объем знаний о театре, были нащупаны специфические подходы к нему, написаны многочисленные статьи и книги, раскрывающие предмет «по-театроведчески», но до поры остававшиеся все же отдельными, исключительными, разрозненными явлениями. XX век положил начало обобщению, систематизации знаний о театре и формированию общих принципов этой науки.
Конечно, даты не являются точными границами гуманитарных процессов. Но все же начало XX столетия можно считать действительно принципиальным, «исходным» в истории нашей профессии хотя бы по трем причинам. Во-первых, изучение театра стало вестись группами коллег-единомышленников последовательно и систематически, планомерно, в полном спектре материала — отечественного и зарубежного, исторического и современного. Раньше такого осознанного сосредоточения интеллектуальных сил не было — в нем не было потребности. Во-вторых, исследователи формировали самосознание профессии, ее методологию не просто для развития своей области знания в целом, но буквально для самих себя. В-третьих, началась подготовка специалистов, которые должны были не просто обладать набором сведений, но уметь их добывать и понимать, как анализировать заново обретаемый объект.
Многовековое знание оборачивалось наукой, рожденной в двадцатом веке. И как всем ее ровесникам, этой науке почти немедленно потребовался современный развитый методологический арсенал. Он возникал быстро, но этот процесс был противоречив. На протяжении одного столетия театроведение успело по очереди или одновременно увлечься позитивистской «точностью» и однозначностью, технологическим «объективизмом», поверхностной интерпретацией художественных явлений в духе политических аналогий или прямолинейным выстраиванием исторических связей. Ситуация стала еще острей, когда во второй половине XX века в театроведческий арсенал внедрились, 72 вместе с новыми (или обновленными) философскими концепциями, такие научные методы, как, например, структуралистские или постструктуралистские, общие для гуманитарных наук методы, связанные с культурологией, теорией коммуникации, психоанализом, антропологией и пр.
Происхождение этих методов было очевидно: они стали «применением» к одной науке (театроведению) содержания других наук: социология предложила искусствознанию социологизм, культурология обернулась культурологическими методами, учение о знаковых системах дало семиотические методы исследования искусства и так далее. Сложней обстояло дело с другого рода «применением». Когда началось сближение и отталкивание разнообразных типов исследования с новым для них объектом, стало ясно, что специфика объекта, предмета и театрального материала отнюдь не второстепенна, что театр не «прилагается» к методам, так же как метод не автоматически прилагается к театральному материалу. Открылись новые стороны феномена театра, подтверждалось, что специфика театра не выдумка и исследователь театра принужден всякий раз заново иметь дело с замкнутым кругом, на этот раз методологическим: метод имеет смысл, если в театре есть те стороны или свойства, которые именно этим методом открываются, но есть ли такие стороны или свойства — можно определить, только пытаясь этот метод использовать.
К концу XX века основное методологическое поле театроведения обрело определенную конфигурацию. Театроведение сегодня исходит из того, что и театральное искусство в целом, и всякое произведение этого искусства принципиально объемны, так что никакой метод не может и не должен претендовать на универсальность. С другой стороны, сегодня можно утверждать, что методологический арсенал науки о театральном искусстве не простой, механический или эклектический набор инструментов. Современное театроведение, в частности, знает, что оперирует двумя своеобразными мегаметодами, учитывает одновременно два плана гуманитарного и искусствоведческого знания — методы исторические и логические, то есть теоретические.
Один мегаметод основывается на поиске связей между произведениями, художественными системами и эпохами. Здесь возможны разные философии искусства, разные подходы. Во-первых, это мифологическая школа, связанная с концепциями метафизических истоков культуры. Во-вторых, подходы к театру, тяготеющие к группе собственно исторических, куда следует отнести в существенных отношениях близкие 73 между собой культурно-историческую и сравнительно-историческую школы («школами», как и в других случаях, именуемые именно по признаку единства методологической установки).
К другому мегаметоду, изучающему театральную ткань в ее собственной логике, как данность, тяготеют или являются строго теоретическими такие школы, как социологическая, структуралистская, семиотическая, формальная, герменевтическая.
Никакой из методов нельзя назвать завершенным. Даже так называемые традиционные методы, которые до времени выглядят устаревшими, оказываются неожиданно востребованными, и тогда открываются их прежде не использованные ресурсы. С другой стороны, и такие рожденные началом XX века методы, как формальный, в последней четверти века были переосмыслены; существенно модифицировался и семиотический подход к художественному тексту. К тому же методы взаимодействуют; помимо эклектических вариантов, существуют и продуктивные взаимовлияния. Способность развиваться в реальном контексте косвенно подтверждает жизнеспособность метода.
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Методы мифологической школы родились в середине XIX века на базе романтической философии. Согласно идеям, восходящим к братьям Гримм93*, у каждой национальной культуры есть боговдохновенная мифическая основа, мифологией обусловлен и тип человеческого сознания. Мифологическая концепция, по-своему возродившая философию древнегреческой и средневековой культур, признает, что внешний план произведения отражает историческую реальность. Но внутренние мотивы, формы и законы строения являются своеобразной проекцией вечного мифического комплекса.
Созданные мифологической школой подходы к художественному произведению почти сразу же оказались в оппозиции к другим методам и именно с этого момента стали выглядеть как воинственно антиисторические. Н. А. Добролюбов видел в образе Катерины из «Грозы» А. Н. Островского тип социально угнетенного человека, а А. А. Григорьев — «тайный мистицизм русской души». Образовалось два театроведческих пути: от историзма или от мифа. К рубежу XIX – XX веков 74 установка на мифологическую природу искусства получила развитие в эстетических концепциях Ф. Ницше, К.-Г. Юнга, в теориях символизма, футуризма и многих направлений авангарда. Так, Юнг рассматривал искусство как одну из форм обращения «исторического» человека к своей подлинной, архетипической сущности. С этой точки зрения спектакль нельзя анализировать, минуя тот факт, что архетипическое (хотя бы и в социальных и индивидуальных обличиях) возвращается на сцену любой эпохи, в частности, в авангардное искусство, преодолевшее обязательства коммуникации со зрителем на сознательных, социально комфортных уровнях. Анализ произведения искусства, учитывающий символическую природу воплощения бессознательного, предполагает свои концепции интерпретации, свое понимание творческого процесса создания и восприятия художественного произведения, свои представления о языке искусства. Юнговский психоанализ рассматривает искусство как форму существования, в которой мифическое пробуждается и формализуется, символы открывают человеку священное и одновременно предохраняют его от непосредственного столкновения с колоссальной психической энергией архетипов.
В XX веке мифологическая школа осознанно ставила задачу проникновения за поверхность артефакта и исследования скрытых мотивов творчества. Существо нерепрезентативных художественных течений предполагает соответствующее постижение, понимание, отражение. Соответствие мифологическому подходу к театру определенно проявилось в теориях театрального символизма (В. Я. Брюсов, Г. И. Чулков, Андрей Белый), Э. Г. Крэга, Вс. Э. Мейерхольда, М. А. Чехова, А. Арто, Е. Гротовского, Т. Кантора, Э. Барбы, П. Брука, А. А. Васильева, паратеатра, авангарда. Примером методологии такого подхода можно считать книгу М. А. Волошина «Лики творчества» (в частности, раздел «Театр и сновидение»)94*. Во второй половине XX века в эстетике возникла ритуально-мифологическая школа95* (считается, что аналогичные этой школе подходы к изучению традиции имеются в трудах отечественных ученых В. Я. Проппа, О. М. Фрейденберг, М. М. Бахтина). Мифологический подход направлен к идеальной сущности искусства, к постижению и отражению феномена сверхсознания как природы искусства.
75 ИСТОРИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ
Исторические методы создают основу восприятия спектакля как части процесса эволюции театрального искусства. И в историческом исследовании, и в портрете, и в рецензии на отдельную постановку специалист анализирует свой объект в ряду других произведений, ищет его принадлежность определенной линии, традиции искусства, следование известным закономерностям и отход от них, фиксирует то новое, оригинальное, чем спектакль (или его элементы) отличается от других, предыдущих и окружающих художественных явлений. Исторический фундамент — основа мышления теоретика театра и театрального критика, хотя исторический генезис анализируемого явления не обязательно становится частью статьи, книги, выступления театроведа.
XIX век был отмечен в основном позитивистским взглядом на гуманитарные вопросы. Исследователи пытались найти точную фактическую основу для любых аспектов знания о культуре. Одним из традиционных и общепринятых методов, заимствованных театроведением из литературоведения, является культурно-исторический метод. В России он был разработан школой филологов во второй половине XIX века96*. Этот метод отверг метафизические концепции культуры, феномен вне-временности искусства и его боговдохновенности. Он позиционировал себя как строго исторический. Метод учил непосредственно связывать особенности содержания произведения с проблематикой и атмосферой эпохи, в которую оно было создано, так что на первый план в понимании произведения выходили идеи этой эпохи. История литературы (и любого искусства, в том числе театра) представляла собой в значительной степени историю философских и общественных идей, преображенных в художественной форме, персонифицированных в героях художественных произведений.
Разнообразие тенденций, эволюция художественной формы при таком подходе нередко нивелировались и приводили к односторонности. В историю театра, например, вошла стойкая схема противопоставления петербургской и московской актерских школ XIX века, Каратыгина — Мочалова, династий Самойловых — династии Садовских, аристократов 76 «формалистов» — демократов «реалистов». Одни, находившиеся на службе у двора, якобы пропагандировали монархические идеи в устарелой, приятной для дворянской публики форме изысканного внешнего правдоподобия и искусственных сценических эффектов, другие, дружившие с демократами, стремились играть современных свободолюбивых людей, и способ их игры был основан на правде человеческой души.
В то же время заслуги культурно-исторической школы неоспоримы. Ее подходы по-прежнему плодотворны в исследовании фона, на котором существует объект исследования. Более того, школа внедрила в гуманитарные исследования некоторые обязательные принципы научного подхода, в первую очередь (не называя еще это так) — источниковедение и текстологическое исследование как основания анализа художественных процессов. В базе исследования — внимательное изучение фактической канвы, истории создания произведения, исторический контекст, который может быть прямо или косвенно представлен в произведении, понимание сопутствующих произведению полемик в разных областях истории идей, включая обсуждение самого произведения, а также такой важный методологический принцип, как документирование фактического материала и любых высказываний. Вопрос о Том, нужно ли впрямую связывать все эти реалии с художественной спецификой произведения или, тем более, ограничивать связями с этими реалиями художественный анализ, остается открытым и в каждом случае решается по-разному. Но самостоятельно или в сочетании с другими исследовательскими подходами, культурно-исторический метод успешно применяется и в историко-театральной работе, и в исследованиях современной сцены.
Сравнительно-исторический метод унаследовал и значительно обогатил идеи культурно-исторической школы. Глава школы Александр Николаевич Веселовский впервые изложил новую программу исследований в своей вступительной лекции «О методе и задачах истории литературы как науки» в Санкт-Петербургском университете в 1870 году. Цель Веселовского была «всегда одна и та же, как тогда, когда он занимался сравнительно-историческим анализом разнообразнейших текстов мировой поэзии, так и тогда, когда изучал творчество поэта, рассматриваемого как общественно-психологический тип определенной группы, среды, или наконец тогда, когда строил обобщения чисто теоретического характера. Открыть точным “естественнонаучным” методом, посредством “микроскопа и лупы в руках”, на точно установленных 77 массовых литературных фактах основные социально-исторические законы поэтической продукции и всю закономерность международного литературного процесса, — вот чего так упорно добивался всю свою жизнь великий литературовед. И все дело было в том, что “тайных пружин” историко-литературного процесса Веселовский доискивался не столько в творчестве гениальных поэтов, этих редких “избранников неба”, сколько в их литературной и социально-культурной среде. А т. к. всякий поэт по существу — групповой, то его изучение должно начинаться не сверху, а снизу, на тех массовых литературных и культурно-социальных явлениях, которые непосредственно определяют данную группу и среду»97*.
По сравнению с культурно-исторической школой, исследователи, придерживавшиеся сравнительно-исторического метода, программно включили в пространство своих работ поэтику произведений. Показательно, что признанный глава школы А. Н. Веселовский был «собирателем» идей науки о литературе. Он по-своему учитывал и концепции «мифологической» школы, правда, ограничивая ее компетенцию пракультурой. Упрощенный позитивизм и прямолинейная социологичность культурно-исторической школы в теории Веселовского преодолевались. Он объяснял происхождение искусств, их путь от синкретизма к самоопределению — материалистически, и начальным пунктом его теории был первобытный обряд. Особенно подробно занималось сравнительно-историческое литературоведение параллелизмом и родством элементов мировой поэзии: бродячих сюжетов, мотивов, поэтических схем-формул, образов-символов и т. д. Полемика шла о том, есть ли у всех индоевропейских культур один корень, один праязык; заимствовались ли и мигрировали из одной культуры в другую элементы культуры, или, по мысли Веселовского, происходило самозарождение встречных культурных процессов вследствие единства процессов психических, предопределенных аналогичными общественно-бытовыми условиями, порождающими соответственные качества среды, в связи с единством законов человеческой эволюции и цивилизации.
С развитием сравнительно-исторического метода литературоведения можно связывать появление основной проблематики истории и теории литературы. Для последующих этапов развития наук об искусстве 78 сравнительно-исторический метод открыл категории сюжета, мотива (как простейшей повествовательной единицы). А. Н. Веселовский изучал соотношение языка прозы и поэзии (и в этом стал предшественником ОПОЯЗа и формальной школы). Был поставлен вопрос о соотношении и взаимодействии феноменов формы и содержания. Веселовский, в частности, утверждал историческую неизменность (точнее, относительно большую устойчивость) форм, перешедших в современную культуру из древности. Все эти концепции и подходы искусствоведением следующих эпох были, конечно, существенно дополнены, но в основе своей — не пересмотрены поныне.
В исследования театра сравнительно-исторический метод был введен Алексеем Николаевичем Веселовским. Ему принадлежит работа «Старинный театр в Европе» (1870), труд с характерным для компаративистского подхода названием «Deutsche Einflüss auf das alte Russiche Theater» («Немецкие влияния в старинном русском театре», Прага, 1876), «Этюды о Мольере» (М., 1879 и 1881), очерк о Бомарше и др. Веселовский сотрудничал с театральной периодикой, в частности журналом «Артист». Так идеи сравнительной филологии готовили рождение театроведения.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Социологический подход к произведению искусства вскрывает связи искусства с социумом, отражение общественных реалий в произведении искусства, рассматривает само произведение как социальный феномен, связывает творческий процесс создания артефакта с жизнью автора в конкретном историческом контексте, исследует воздействие произведения искусства на реальность, выводит к культурологическим обобщениям. Особой областью науки можно считать прикладную социологию искусства, изучение связей искусства и зрителей, фиксацию реакции зрителя на произведение (эта область знаний — пограничная, находится между собственно искусствознанием и общей социологией, нацелена не столько на эстетическую проблематику, сколько на выяснение социальных потребностей и ориентиров определенных групп людей).
Такой подход к театру существует по крайней мере с 1840-х годов. Его элементы, наряду с другими исследовательскими и критическими аспектами, можно найти у В. Г. Белинского. Например, сравнивая Мочалова и Каратыгина, критик замечает, в частности, что эти артисты 79 «представляют собою две противоположные стороны, две крайности искусства, и оба они — представители наших столиц, со стороны вкуса и направления публики. Оба они достойны того уважения и той любви, которыми пользуются каждый на своей родной сцене»98*.
Социологический метод актуален, когда художественный текст очевидно разомкнут в реальность (например, в политическом театре). Б. Брехт утверждал (тезис 35 из «Малого органона для театра»): «Нам нужен театр, не только позволяющий испытывать такие ощущения и возбуждать такие мысли, которые допустимы при данных человеческих отношениях, в данных исторических условиях, но также использующий и порождающий такие мысли и ощущения, которые необходимы для изменения исторических условий»99*. Ясно, что исследование спектакля, созданного по этим законам, должно включать связи, ведущие от спектакля к общественным реалиям, находящимся вне театра.
Социологический подход перспективен, когда он применяется адекватно. Однако он ведет к вульгаризации, когда с его помощью пытаются раскрыть внеположные ему стороны произведений. А такие теории провозглашались. Автор книги «Социология искусства» В. М. Фриче утверждал, что основная задача исследователя «состоит в том, чтобы установить закономерное соответствие известных поэтических стилей определенным экономическим стилям»100*. Но и в не вульгарных вариантах социологизм не склонен учитывать, что связи искусства и социума принципиально сложнее прямых аналогий. Игровая природа театра сопротивляется переводу на язык социальных реалий.
Тем не менее сегодня социологическая проблематика разрабатывается исследователями театра во многих странах, но не ради обнажения политической идеологии, а в целях познания феномена театра. Изучается театр как своеобразный социум, находящийся с окружающим социальным и культурным пространством в сложных коммуникативных, психологических, технологических отношениях. Эти отношения получают особую интерпретацию в контексте теории игровых структур, в сдвигах информационного пространства, в системе многоуровневых 80 связей субкультур101*. Спектакль воспринимается как многосоставное событие в жизни его создателей и зрителей. Взгляд театроведа обращается в зрительный зал и вовне театра, где может распространяться энергия сценического события.
ФОРМАЛЬНЫЙ МЕТОД
Формалистская теория появилась незадолго до утверждения русской театроведческой школы и развивалась в одном научном пространстве с ней (в Институте истории искусств в Петрограде разряд (отдел) словесных искусств был образован в 1919 году, разряд театра — в 1920-м)102*. Формалисты почти не занимались исследованиями театра. Однако их идеи оказались для науки о театре перспективными и были развиты ленинградской театроведческой школой.
Формальный подход радикально расходится с традиционным подходом критики XIX века, интерпретирующим в первую очередь идейное содержание произведения, извлеченное критиком из логической, сюжетной его стороны. Такое извлечение всегда чрезвычайно произвольно, были убеждены формалисты. «Содержательность» художественного произведения заключена в его форме, там исследователю и надо ее найти и описать. Произведение, по словам В. Б. Шкловского, это «не мысли, облеченные в художественную форму, — это художественная форма, построенная из мыслей как материала»103*. Подтверждая этот тезис, Шкловский ссылается на такого идеологичного, казалось бы, автора, как Лев Толстой. Толстой считал невозможным изложить содержание своего произведения и мотивировал это тем, что в произведении важны не мысли сами по себе, а «сцепление слов». 81 «Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя, а можно только посредственно — словами описывая образы, действия, положения… Теперь… для критики искусства нужны люди, которые бы показывали бессмыслицу отыскивания мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства»104*. Формалисты это толстовское «сцепление» остроумно и толкуют как форму произведения. В программной для всего направления статье «Как сделана “Шинель” Гоголя» (1919) Б. М. Эйхенбаум выявил те литературные аспекты, которые создают уникальность повести Гоголя (ритм, смена сказов и т. п.) и вне которых ее художественное «содержание» было бы совсем иным. Формалисты были убеждены в невозможности использовать элементы и приемы одного искусства в другом, повторять сюжет в другой технике. То есть все это возможно, но создается совершенно новый художественный феномен, поскольку никакой уровень произведения не существует вне той формы, частью которой он является. Толстовское «сцепление» можно понимать как закономерность художественных приемов, специфичных в каждом искусстве, — например, сцепление театральных приемов.
Жизненные наблюдения, слова, звуки, мысли представляют собой многочисленные материалы для создания произведения. Сперва они находятся в «предхудожественном» состоянии, сами по себе. В составе произведения эти части материала связываются определенными приемами. «Прием» — важнейшая категория формального анализа. Одна из первых теоретических статей школы называется «Искусство как прием». В синтезе художественных приемов формалисты видели стиль произведения. Стиль имеет совсем не «декоративную», но конструктивную роль в художественной вещи, он семантически насыщен. Примерами такого синтеза приемов можно считать в литературе — определенный вид повествования, предполагающий ритмические, звуковые, 82 структурные и иные закономерности; в живописи — закономерности цветового решения, рисунка, техники мазка, фактуры холста.
Чтобы охарактеризовать произведение, исследователь определяет виды материала, на котором произведение основано, описывает художественные (а именно литературные, музыкальные или театральные) приемы, с помощью которых материал выстроен в художественную систему. Понятно, есть и «обратное» влияние — материала на форму. На примере поэзии это означает, в частности, что английские слова иначе складываются в стихотворение, чем русские. Поэтому важно и пристальное исследование фактуры материала, для словесных искусств в этом смысле многое дает лингвистика.
Идею художественной формы этот метод увязывает с феноменом живого восприятия элементов художественной ткани. Формалистская теория выдвинула стройную методику восприятия и описания художественного текста. Одно из ключевых понятий формального метода — «остраннение»105*. Как на один из примеров остраннения, формальная школа указывает на метафору, которая не облегчает, а затрудняет восприятие предмета, продлевая (как саспенс в современном кино) наслаждение его неизвестностью. Шкловский приводит пример: у Тютчева зарницы, «как демоны глухонемые, ведут беседу меж собой». Что такое зарницы, общеизвестно, но глухонемых демонов представить себе трудно. Искусство сравнивает известное с неизвестным, чтобы затруднить и продлить восприятие своего предмета, обнаружить в нем нечто удивительное, препятствующее мгновенному, автоматическому узнаванию-усвоению и таким образом заново прочувствовать. Таково формалистическое понимание образа как единицы художественного текста — текста, строящегося на ощутимой новизне связей. Именно эти связи и подлежат описанию в исследовании спектакля, которое проводится формальным методом.
Вопреки мнению, устойчиво бытовавшему в течение нескольких десятилетий, формализм не противоречит категориям осмысленности произведения искусства, он заставил усомниться лишь в том «содержании» художественного произведения, которое излагается в понятиях 83 жизненной реальности, независимо от того, в каком искусстве создано произведение. Иначе говоря, формальный метод исходит из того, что существо произведения определяется особенными характеристиками каждого искусства, зависит от его природы, от языка, которым это искусство пользуется, и тех специфических средств, которые составляют художественное существо — в театральном случае — спектакля. На большом количестве примеров из разных искусств формалисты доказывали, что полноценное искусство есть и тогда, когда нет привычного «идейного содержания». Например, орнамент (узор, ничего не изображающий), рисунок на ковре, поэзия в древних культах, музыка. Даже в поэзии слова — «не способ выразить мысль, они сами себя выражают и сами своей сущностью определяют ход произведения»106*. Формалисты открывают законы искусствознания, соответствующие историческому движению искусства, которое в XX столетии снова научилось быть беспредметным. Формальный метод ставит задачу анализировать художественное произведение как «узор», а не излагать его как «надпись». Это должно точнее приводить нас к цели описания свойств конкретного явления в искусстве.
Пример формалистского анализа спектакля — рецензия В. Б. Шкловского на спектакль Вс. Э. Мейерхольда «Ревизор»107*. Несмотря на саркастическую интонацию, Шкловский определил основные элементы театральной конструкции и образности постановки: сцены на «блюдечках» (фурках) и на всей сцене; вещи и костюмы; звуковая и словесная ткань, отличающаяся от канонического варианта пьесы; театральные приемы строения роли (Анны Андреевны); разрушение традиционных комических конструкций (молодой Хлестаков — старый Осип; ухаживание Хлестакова за двумя женщинами, предложение взяток чиновниками, перебиваемое отсутствием денег у Добчинского и Бобчинского, и т. п.), уничтожение традиционного комизма. «Каждое положение, каждая фраза может быть путем режиссерской обработки разным образом семантизирована»108*, — констатировал Шкловский в другой рецензии на этот же спектакль. Подводя итоги анализу формы спектакля, Шкловский заметил, что радикализм режиссера 84 заключается в восприятии пьесы не как законченной конструкции, а как материала для спектакля. Если оставить в стороне оценки, нетрудно заметить, что, пользуясь формалистским способом анализа, Шкловский определил принципы театрального решения спектакля объективно.
Идеи футуристического ОПОЯЗа и формальной школы генетически предшествовали всем отраслевым искусствознаниям двадцатого столетия. Но особенно актуальными, а порой незаменимыми становились эти подходы в таких ситуациях, когда искусство живописи отказывалось от предметности, а театр от сюжетности и анализ формы не только теоретически, но и в самой что ни на есть критической практике оставался единственной возможностью проникнуть в смысл происходящего.
СТРУКТУРАЛИЗМ. ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ
Хотя структурализм был осознан как самостоятельный метод гуманитарных наук в 1960-е годы, характерные для него способы изучения искусства использовались, в сущности, еще с 1920-х годов. Видимо, они объективно востребуются искусствознанием. Ученые последней трети XX века признавали свое генетическое родство с основоположником современной лингвистики Ф. де Соссюром, работавшим на прошлом рубеже столетий. Первой центральной фигурой движения являлся русский лингвист Р. О. Якобсон, сотрудничавший с формальной школой. Считается, что начало структурному анализу текстов положила «Морфология сказки» В. Я. Проппа, опубликованная в 1928 году (исследователь сводил весь корпус текстов сказки к «первичным элементам», называемым функциями, число которых оказалось строго ограниченным). Можно обнаружить в работах ленинградской театроведческой школы 1920-х годов серьезное углубление в театр как функциональную систему. Лишь через несколько десятилетий теоретическое обоснование структурному подходу дали антрополог К. Леви-Стросс и литературовед Р. Барт.
Художественный текст ценится за то, что он испытывает те структурирующие процедуры, посредством которых мы упорядочиваем и понимаем мир. При этом структура видится как бессознательный, «надличный» механизм, порождающий все продукты социально-символической деятельности, в частности театрального творчества. Каждой маске традиционной итальянской комедии дель арте предписаны 85 и характер, и внешность, и походка, и сюжетная функция — этому театральному языку будет подчинена любая произнесенная на нем «речь», любым артистом, на любом сюжете, эту «речь» воспримет зритель, владеющий языком этого вида театра.
Все это может происходить только благодаря взаимосвязи каждого элемента с другими, включенности элементов в определенную систему отношений. Можно заметить, что и театр на любом уровне демонстрирует системность отношений: например, драматический конфликт основан на взаимодействии противопоставленных начал; для действия содержательно разделение на эпизоды, на акты, переходы от завязки к кульминации, от кульминации к развязке; определенную систему представляют собой маски или характеры; актерские амплуа — не простой набор, а именно система; классической «бинарной оппозицией» является дуализм актера и роли. Свои системные отношения есть между литературным и театральным уровнями существования драмы, между режиссурой и актерским искусством, между сценической и зрительской реальностью, между сюжетным и сценическим временем, между театральным временем и пространством и так далее. Структурное оформление конкретной ткани придает ей смысл, и структура в смыслообразовании всегда сильнее ткани. Зрительское восприятие требует структурности зрелища и, не обнаруживая ее, не охватывает спектакль как целое.
Структурализм утверждает понятие инварианта, то есть устойчивой связи элементов, выступающей глубинной основой произведений. Инвариантность есть на разных уровнях системы спектакля: существуют архетипические модели типов театра, творческих методов, жанров и т. д. Можно заметить, как при устранении (замещении) одного из элементов названных выше театральных систем обязательно произойдут изменения связанных с ним элементов. Не случайно «нарушения» в организации инварианта так часто привлекают внимание театроведов (разные актеры в одной роли, разные режиссерские интерпретации одной модели драмы). Театр предлагает парадоксальный случай «игры» инвариантом — режиссерское новаторство почти всегда основано на нарушении установившегося понимания системы связей внутри известной театральной модели.
Для этого аналитического метода значимы только отношения между элементами, а сами элементы (действенные и образные) — лишь точки пересечения этих отношений. Мы исследуем систему, «структурное целое», код, а не феномены речи. Уже в 1920-е годы ленинградские 86 исследователи акцентировали внимание на таких организационных кодах в театре Мейерхольда: «концовки и пантомимы», «музыкальный реализм», «Иль-ба-зай», «кинофикация театра»; кстати, была и статья «Система Мейерхольда».
Театр (наравне с другими искусствами) реализует принцип системности в его чистом виде. Целое произведения обладает природой особого качества, не сводясь к сумме частей и не растворяясь в ней. В спектакле нет случайного, все семантично, каждая деталь имеет значение. Мы можем изучать спектакль как упорядоченность особого типа, свойственную только данному явлению и приводящую в соответствие его внутреннюю и внешнюю меру. Театроведческий структурализм занимается построением «алгебры» языка своего искусства.
Сегодня структурализм рассматривает все разнообразие культурных феноменов сквозь призму языка как формообразующего принципа и ориентируется на семиотику, изучающую внутреннее строение знака и механизмы означения. Знак в театре, как и в любом тексте, не является знаком для чего-то, лежащего вне его; он лишь связывает между собой две стороны: выражение и содержание. Структурализм рассматривает текст как «замкнутую систему», в которой главным становится не отражение внешнего мира, а взаимные отношения внутренних структур, и это глубоко соответствует условной природе театрального искусства, подчеркивает эту природу как принципиальную для процесса смыслообразования, уберегает театр от подхода к нему как к вторичной, отраженной, несамостоятельной реальности, репродукции жизни или иллюстрации литературы.
Для структуралистов исходным является убеждение в том, что сознание человека изначально структурировано; мир, как афористично выразился Р. Барт, «всегда является уже написанным». На сцене не может возникнуть «реальности», которая не была бы освоена без языка. Любые сценические феномены приобретают свое значение благодаря языковому выражению как части сценической системы.
Сегодня очевидно, что театроведению нужна категориальная сетка, упорядочивающая любое художественное содержание. Р. О. Якобсон видел основную задачу исследователя «в выявлении внутренних законов системы», в нашем случае — театральной системы. Развитие структурализма по времени совпадает с появлением режиссерского театра и рождением различных театральных систем. На теоретическом уровне понятие системности театра было изначальным для театроведения как самостоятельной области знания. А. А. Гвоздев опубликовал 87 в 1926 году программную работу «О смене театральных систем», в которой обнаружил обязательные связи социальной формы театра определенного типа — с пространством, в котором разыгрывается представление, пространства — со способом актерской игры, способа игры — с репертуаром, подходящим такому способу игры. Особенности жизненного материала, осваиваемого театром, особенности интерпретации литературного текста очевидно подчиняются логике системы.
Структуралистский подход ставит на первый план в феномене театра объективное, подчиняет ему субъективное и единичное. Текст в этом ракурсе можно представить как продукт работы эстетической системы, господствующей как над автором (режиссером, актерами), так и над зрителями. Биография, психология, убеждения, творческие установки и заявленные концепции в действительности могут вовсе не отразиться в произведении или ввести в заблуждение исследователя. Они выводятся за пределы структурного исследования. Чего нет в структуре текста, то не должно приниматься во внимание исследователем.
Структурализм учитывает исключительно собственные категории произведения, его внутреннее строение. Анализ текста производится без учета его исторического генезиса и его восприятия. «Цель имманентного, внутреннего исследования заключается в установлении в объекте системных связей и отношений и построении его структуры, благодаря чему оно предстает как целостное, системное образование»109*.
Чем дальше развивался структурализм, тем более он отмежевывался от любой интерпретации, от всякого субъективизма. Теория должна быть максимально абстрактной и оцениваться лишь в соответствии с критериями внутренней непротиворечивости, простоты и полноты.
Реакцией на объективизм структурализма уже в 1970-е годы стал другой научный подход, постструктурализм, сохранивший отношение к культурным феноменам как к текстам, но занявшийся объяснением того, что осталось за пределами структурного осмысления: контекст, совокупность индивидуальных явлений и черт, которая стоит за текстом, динамика текста, несистемные, уникальные, нерасчленяемые уровни текста, а также то в нем, что выходит за рамки упорядоченности, 88 предстает как случайное, воплощает свободу, волюнтаризм, иррациональность в творчестве.
Соответствия театроведческой проблематике можно найти в постструктуралистской теории, которая ставит под сомнение возможность существования закрытости, центрованности и завершенности «структуры». Более правдоподобной, чем так понимаемая «структура», кажется игра взаимозависимостей или открытость, неизбежная незавершенность, разомкнутость структуры. Актуальным для театроведения может стать различие между структурированной поверхностью текста, которую можно исследовать эмпирическими методами, и его глубинной структурой, где собственно и производятся значения110*. Сам феномен «произведения» приобретает в теории постструктурализма (Барт) по крайней мере одного двойника — текст, который представляет собой неструктурированное означающее, процесс бесконечного становления произведения.
Прямые следствия для науки о театре имеет и постструктуралистское сомнение в различии между реальностью и ее представлением, когда твердо можно говорить только о наличии «симуляции» и «репрезентации», когда репрезентации не копируют реальность, они сами ее моделируют. В таком случае «целью анализа текста будет установление игры множества смыслов»111*.
Сегодняшнее театроведение использует и структуралистский, и постструктуралистский подходы. Мы обнаруживаем внутри конкретного явления определенную модель (метод, жанр, композиционный принцип). В то же время мы понимаем, что не менее специфичны для театрального искусства нарушения правил, отступления от известной модели.
СЕМИОТИКА
Семиотический подход к искусству вовсе не относится к новым изобретениям. Задолго до того, как сформировалось самосознание этого направления в науке, можно было прочитать, например, в трактате создателя теории сценического движения середины XIX века Ф. Дельсарта 89 идеально грамотную семиотическую формулировку (в изложении С. М. Волконского): «Искусство — это знание тех внешних приемов, которыми раскрываются человеку жизнь, душа и разум, умение владеть ими и свободно направлять их. Искусство есть нахождение знака, соответствующего сущности»112*. Осмысление театра с точки зрения специфики языков, которыми он пользуется, является неотъемлемой стороной как науки о театре, так и самосознания режиссуры. В «Истории русской семиотики» Г. Г. Почепцова есть глава «В. Э. Мейерхольд о семиотике театра». Речь идет об осознании языка (или языков) театрального искусства, присущих именно ему, а не другим коммуникативным системам. Само «многоязычие» театрального искусства вело к формулированию в его самосознании тезауруса (словарного запаса) и особенностей каждого языка. Создавая теорию Условного театра, Мейерхольд, например, разделяет выразительные языки словесные и бессловесные. Языки маски, жеста, ритма режиссер воспринимает в их собственных, отдельных семантиках, которые, скажем, в литературе не реализуются. Г. Г. Почепцов находит у В. Э. Мейерхольда, наряду с идеями будущего формального метода, такие вещи, как «знаковый характер героя», «сведение разных семиотических языков в единую структуру», «двойственный, амбивалентный характер художественного знака», «множественность семиотических языков» в рамках нескольких возможных каналов и, «в целом, знаковый характер театра»113*. Безусловно семиотически ориентированным можно считать взгляд на средства театра некоторых теоретиков начала XX века. Например, С. М. Волконский рассуждал о языке тела; такими «языковыми» терминами, как пластическое косноязычие, пластическая скороговорка, он пользовался отнюдь не метафорически: «Заставить молчать свое тело — такое же искусство, как и заставить говорить, иногда даже более трудное. <…> Язык словесный состоит из чередований слова и молчания, язык телесный — из чередований движения и позы. Но мы не только не умеем владеть этим телесным языком, — мы даже не умеем его читать»114*. И современный историк семиотики комментирует подход Волконского так: «Здесь перед нами встают в достаточной степени 90 разработанными как многоканальность — зрение / слух, так и многоязычие — язык телесный / словесный»115*.
Сопоставляя театр и семиотику, историк даже приходит к неожиданному выводу: принципиальный шаг вперед в практической и теоретической реализации семиотических идей произошел именно в рамках театрального искусства. По крайней мере, для семиотических исследований театр действительно оказался одним из самых интересных объектов: театр многоязык и насквозь коммуникативен, все участники театральной коммуникации (режиссер, актер, зритель) более активны, чем в случае литературной коммуникации; коммуникация в театре вдобавок заведомо интенсивней, поскольку при чтении возможно постоянное отвлечение, а в театре убраны даже внешние раздражители (типа света), интенсивность резко усиливает воздействие.
Семиотика научилась различать в художественном тексте видимое и невидимое, означающее и означаемое. Для театра это вполне актуально, ведь в театральном действии часто изображается то, что предметно показать совершенно невозможно. Можно привести театральные примеры. «Ревизор» Мейерхольда заканчивался немой сценой, в которой застывали манекены «одеревенелых» персонажей-чиновников, и этот «означающий» образ мог отослать мысль зрителя к означаемому апокалиптическому откровению (которое никак нельзя показать без дистанции между означающим и означаемым); и к этой точке вело — пластически, ритмически, музыкально, помимо словесного текста комедии, — все действие, так что семантическая сложность составляла принцип драматургии спектакля. В спектакле Ю. П. Любимова «Гамлет» тяжелый тканый занавес, активно участвовавший в действии, сам по себе мог быть только «означающим», подвижным элементом декорации, но вместе с другими элементами спектакля он создавал «означаемый» план, и зритель, в культурной памяти которого было понятие фатума тоталитарной реальности, мог игру занавеса отсылать к тому означаемому. В спектакле Э. Някрошюса «Отелло» во все события активно вторгался рев моря, тут конкретное «природное» означающее отсылало к другой природе, к стихии внутри человека. Механизм понимания всех этих уподоблений — семиотический. «Любая реальность, вовлекаемая в сферу культуры, начинает функционировать как знаковая»116*. «Само отношение 91 к знаку и знаковости составляет одну из основных типологических характеристик культуры», — утверждал Ю. М. Лотман117*.
С точки зрения семиотики означающие в художественном тексте не нейтральны — они подталкивают нас к пониманию означаемых. В театре никогда не показывают в полном материальном выражении того, что является существом действия. «Произведение искусства может влиять только посредством фантазии. Поэтому оно должно постоянно будить ее. <…> Художественное произведение должно не все давать нашим чувствам, но как раз столько, чтобы направить фантазию на истинный путь, предоставив ей последнее слово», — цитировал Мейерхольд Шопенгауэра118*. Сигналы, посылаемые театральным текстом фантазии, и будут активными частями знаковой системы спектакля.
На фоне других методов, актуальных для науки XX века, семиотический отличается, в частности, своим особым отношением к категории «смысла». Формализм по существу своему материалистичен: художественное произведение есть объективно существующая вещь, которая определенным образом и из определенного материала сделана.
Содержание есть, поскольку есть форма. Семиотика, когда она последовательна, готова утверждать, что вещество, из которого сделан мир, — это язык и сам мир есть не более (и не менее) чем текст. Это своеобразное философское основание всех семиотических подходов не может быть произвольно вынесено за скобки, опущено.
Семиотика выдвигает идею многочисленных кодов, при помощи которых можно обнаружить в тексте значимые элементы. Р. Барт предлагает читателю литературного текста проделать особого рода самоанализ: что в тексте заставило меня испытать то ощущение, которое я испытываю, что натолкнуло на определенную мысль? Это своеобразная грамота профессионального чтения текста. В книге Барта «S/Z» к тексту новеллы Бальзака «Сарразин», занимающей 25 книжных страниц, сделан 561 комментарий — исследователь выявляет смысловую активность текста на разных его уровнях, параллельно, для разных дискурсов чтения. Такая работа несомненно продуктивна для реконструкции (фиксации, описания) театрального текста. Театральные решения не обязательно организованы создателями спектакля намеренно, но движение действия в спектакле, наполненном непроизвольной художественной 92 жизнью, всегда содержательно на всех уровнях. Из чего рождается образ, к какому уровню смысловых планов и ассоциаций отсылает определенный элемент художественного решения? Ответ может быть суммарно-импрессионистический. А может быть дополнен свидетельствами. В спектакле и отдельной роли можно обнаружить множество «означающих» элементов, которые ведут к многообразным «означаемым» планам, имеющим значение для описания и анализа спектакля. Скажем, роль Мышкина в исполнении И. М. Смоктуновского («Идиот», поставленный Г. А. Товстоноговым в Большом драматическом театре, 1958) может быть семиотически проанализирована на многих уровнях и в развитии от сцены к сцене. Все наполнено смыслом: как он носит костюм, шляпу; как в первой сцене протирает запотевшее окно вагона; как живут его руки; как живет лицо (а также как загримировано, как подчеркнут шляпой взгляд и какой взгляд); какое особенное у Мышкина движение головы; какая походка; какие интонации голоса; как он присаживается на край стула или как стоит в присутствии других людей; как звучит голос, какой голос, какие ему свойственны интонации, мелодика, ритм речи; как строится общение с партнерами-актерами (с собеседниками-персонажами); по каким поводам Мышкин гневается, печалится, сокрушается, как это выражается; как он постоянно мерзнет, как согревается, как меняются все измерения человеческой (психологической, философской, интеллектуальной, медицинской) характеристики образа в зависимости от каждого происходящего события, знакомства и так далее… Чтение деталей дает отсылки к разным сторонам смысла образа, к социальной характеристике персонажа, к психологической концепции роли, к проблематике интерпретации романа в контексте особенностей метода Достоевского, к феномену режиссуры вообще, к феномену режиссуры Товстоногова, к методу актера, к эпохе советских 1950-х годов, когда вышел спектакль, и так далее. Если в течение спектакля для нас накапливается на разных уровнях смысл, значит, есть определенные носители, которые нам этот смысл передали.
Попытки отразить специфику театрального искусства в категориях семиотики предпринимались неоднократно. Немецкая исследовательница Э. Фишер-Лихте предложила перечень знаков, которыми пользуется театр119*:
|
93 Шумы |
Акустические |
Преходящие |
|
Относящиеся к пространству |
|
Музыка |
||||
|
Лингвистические знаки |
||||
|
Паралингвистические знаки |
Относящиеся к пьесе |
|||
|
Мимические знаки |
Визуальные |
|||
|
Жестикуляционные знаки |
||||
|
Проксемические знаки |
||||
|
Грим |
Длительные |
|||
|
Прическа |
||||
|
Костюм |
||||
|
Пространственное решение |
Относящиеся к пространству |
|||
|
Декорации |
||||
|
Реквизит |
||||
|
Освещение |
||||
Свои версии репрезентации спектакля как знаковой системы предлагали другие европейские театроведы120*. Проблема многих аналитических моделей театроведческой семиотики заключается в том, насколько удается уложить в таблицу элементов и отдельных выразительных средств специфичный для театра феномен действия, целостный по природе. Часто подтверждалось сомнение, возникшее в свое время и у филологов: «… не превратит ли строго проведенный семиотический анализ процесс понимания или, используя более чем продуктивный для школьной методики термин М. М. Бахтина, “вживания” читателя в текст, в процесс “разгадывания кроссворда”, увлекательный, может быть, но не эстетический?»121*
Современная семиотика как наука (развившаяся в 1960-е годы) генетически восходит к языкознанию. Она пытается описать любой объект или процесс как языковую фактуру, как текст. Это и подходит театру, и нет. Не все в спектакле укладывается в измерения «текста», и не все в нем описывается в категориях семиотики. Для системы ценностей нашего театроведения традиционно важна живая природа сценического действия, его процессуальность, сиюминутность и непредсказуемость осуществления. Можно ли это уложить в категории «текста», будет ли семиотически отличимо зафиксированное механичное выполнение мизансцен и сценического сюжета от спонтанного театрального действия 94 (имеющего внутреннюю организацию)? Возможно, спонтанность действия можно представить как особый код (в каком-то смысле аналогичный кардиограмме, энцефалограмме), который будет описывать непредумышленные детали течения действия. Тогда это будет еще один, специфичный для театра семиотический код — код жизни театральной ткани.
Однако обычная практика подхода к семиотическим категориям заключается в том, что они абсолютны. «Знак наделяется значением в культуре априори, то есть до того, как он вступил в смысловые синтагматические, коммуникативные и любые другие отношения в художественном тексте, возможность понимания знака оказывается предопределена способностью читателя опознавать контекст происхождения воспринимаемого знака»122*. Возвращаясь к примеру с образом Мышкина, можно заметить, что роль «разговаривает» в каких-то своих проявлениях на языке нам понятном до того, как начался спектакль, поэтому мы ее и читаем содержательно. Так одеваются бедные люди (и значит, мы понимаем, как одет Мышкин), такие лица бывают у проповедников или отшельников (и значит, мы узнаем в Мышкине человека от мира иноков); такие движения рук мы называем нежными, осторожными, и их мы связываем с душевной организацией робкого человека; такие интонации говорят об умственной слабости, так человек выражает болезненную преданность, так Товстоногов привычно строил мизансцену, так выглядела сценография 1950-х годов; такие купюры и такие акценты должны были делаться в тексте Достоевского в советское время, чтобы лишить его религиозного содержания; так природа актера формирует такой его метод в отсутствие общепринятого актерского образования… Опасные последствия абсолютизации подобного способа чтения для адекватного исследования спектакля заключаются в том, что художественно полноценный текст как будто представляет собой комбинацию «штампов», подлежащих определенному пониманию.
Как всякий иной, семиотический метод не может претендовать на универсальность. Но он помогает открыть определенные стороны и качества бесконечно богатого художественного целого. Семиотика учит театроведа тому, что в ткани спектакля он может достаточно строго установить определенные художественные средства, которые ведут к достижению определенных художественных целей.
95 ГЕРМЕНЕВТИКА
Учение об истолковании произведения, установлении подлинного его смысла и точном понимании его содержания возникло в древности и изначально было связано с постижением человеком божественных идей; недаром понятие «герменевтика» (от греческого ερμηνευω — толкую) иногда связывают с именем бога Гермеса, передающего вести богов смертным. В XX веке герменевтика стала частью философии, а также активно осмыслялась исследователями литературы и искусства. Проблема метода прочтения, интерпретации, истолкования художественного произведения относится к важнейшим основам искусствоведческих дисциплин.
Процесс интерпретации не имеет в театроведении разработанных основ, хотя изложение, толкование, комментирование содержания театральных произведений было неотъемлемой частью любой рецензии задолго до формирования театральной критики как профессии. Если формальный анализ в театроведении находит значительный объем объективных качеств спектакля, то интерпретация остается результатом личных впечатлений исследователя и не предполагает никаких обоснований. По этой причине европейские театроведческие школы предпочитают отказаться от попыток истолковать произведение, за исключением тех случаев, когда в нем есть явно выраженный смысловой посыл (message), и заниматься анализом формы и семиотическим исследованием художественного текста. Такой подход кажется тем более основательным, что авангардное искусство уже в первой четверти XX столетия вообще отказалось передавать зрителям некое единое «содержание» или хотя бы «впечатление» — предполагается, что каждый зритель сам формирует свой личный комплекс ощущений. В последней трети XX века постмодернистская культура подробно обосновывала относительность и фрагментарность процесса зрительской (читательской) интерпретации артефакта. Семиотика появилась как более аккуратная, чем герменевтика, и значит, более адекватная техника интерпретации художественного текста: семиотика лишь определяет активные элементы художественной ткани и их цепочки, которые могут способствовать возникновению собственных размышлений и ассоциаций у читателя (зрителя). Семиотическое чтение лишь осторожно назовет векторы, но не станет формулировать «содержание», и в этом оно лучше сочетается с анализом, даваемым формальным методом123*. Герменевтика претендует 96 на большее — на формулирование в развернутом виде того сознательного и бессознательного впечатления, которое составляет традиционную цель искусства. Изначальное понимание драматического искусства дает основание для гипотезы о том, что определенное осмысленное впечатление сознательно заложено в ткань представления и, значит, может быть установлено; например, феномен «катарсиса» в трагедии в большой мере объективен. Понятно, однако, что художественное восприятие персонально, оно у каждого зрителя свое, оно основывается на особенностях личности, на багаже впечатлений и многочисленных психологических особенностях интерпретатора. Стремясь к объективности и не достигая ее, толкование остается ограниченным, одним из многих отражений предмета.
Герменевтика в искусстве — особый тип знания, синтезирующего объективное в субъективном качестве. Интерпретация художественного произведения относится к этому произведению всегда опосредованно, и именно процесс индивидуального восприятия становится границей, стеной между толкованием и объектом толкования. Здесь уместно вспомнить платоновский образ пещеры, на стенах которой наблюдателю даны отраженные образы окружающего мира. Так же и интерпретация всегда является тенью феномена.
Теолог эпохи романтизма Ф. Д. Э. Шлейермахер был первым философом, который обосновал необходимость герменевтики в иных сферах, кроме как религиозные тексты. В своем трактате «Герменевтика» (1819) Шлейермахер признавал: «истолкование есть искусство», и владение этим искусством «основывается на языковом таланте и на таланте познания отдельного человека»124*. Под языковым талантом понимается талант понимания языка толкуемого текста. Это вполне соответствует интерпретации театрального текста, которая предполагает и понимание художественных языков, на которых играются спектакли (или, для историка и теоретика, — знание театральных языков изучаемых эпох), и восприятие разнообразных планов содержания (скажем, мотивов человеческих отношений).
Важнейшая проблема герменевтики в искусствознании заключаются в том, имеет ли вообще художественный текст толкование, возможен ли его перевод на другой язык (язык словесный, рациональный — не художественный). Вспомним, что формалисты были убеждены в невозможности 97 перевода даже в пространстве естественных языков. Но и при положительном ответе на этот вопрос остается другое непереводимое: не может быть адекватно передана форма произведения, например ощущение конфликтного монтажа, перемен ритма действия, его музыкальность, особенности настроения, жанра и так далее. Многие содержательные атрибуты спектакля могут быть лишь названы.
Шлейермахер говорил о стремлении толкователя подчиниться тексту, вжиться в него или, если воспользоваться театральной терминологией, перевоплотиться в автора. Мысль сформулирована красиво: «Задачу понимания можно выразить и таким образом: понять речь сначала так же хорошо, а затем лучше, чем ее инициатор. Так как у нас нет непосредственного знания того, чем обладает инициатор речи, то мы должны попытаться осознать многое из того, что для него остается неосознанным, за исключением того случая, когда он, рефлектируя над самим собой, становится своим собственным читателем»125*. Современный исследователь так трактует этот «дивинационный» (связанный с прозрением) путь интерпретации: «Конечной целью понимания, его итогом должно стать полное слияние интерпретатора с личностью автора, который выразил себя в тексте. Такое слияние достигается на пути продвижения интерпретатора от произведения автора к первоначальному импульсу, породившему это произведение, т. е., по сути дела, интерпретатор проделывает в обратном направлении путь самого автора, полностью повторяя его творческий акт»126*. В той философской парадигме, из которой исходил Шлейермахер (в эпоху романтизма), необходимые для такого слияния «вживание» и «эмпатия» (вчувствование) возможны: и исследователь текста, и его автор суть индивидуальные выражения одной и той же сверхиндивидуальной жизни («духа»)127*. Но едва ли театроведческая интерпретация происходит на таком философском поле.
Более распространенным и более соответствующим системе «искусство — исследование» будет подход, который предполагает «активное освоение этого текста, его актуализацию за счет, во-первых, иного времени и, во-вторых, индивидуальности интерпретаторов»128*. В данном 98 случае возникает открытое авторство «толкователя», своеобразная диалогическая модель отношений исследуемого (театрального) и исследовательского текстов. Значит, в самом герменевтическом действии изначально заложена потеря объекта интерпретации как такового? «Если хотят понять, то должны стремиться несколько отдалиться от собственного мнения о предмете. Тот, кто хочет понимать, не нуждается в том, чтобы подтверждать то, что он уже понимает»129*, — утверждал Г. Гадамер, основоположник философской герменевтики XX века. Но попытка «стремиться несколько отдалиться», конечно, не полное решение проблемы.
Театроведение сегодня не сомневается в том, что художественное произведение не подлежит единственной трактовке просто потому, что, как справедливо настаивал Р. Барт, оно принципиально «многосмысленно». Современная герменевтика исходит из того же. Но если это множество смыслов бесконечно, мы вступаем в так называемый «герменевтический круг». Вынужденно воспринимая текст по частям, мы все время конструируем его как целое, хотя целое нам еще неизвестно, и возвращаемся к разрозненному постижению частей и к недостроенному единству. В интерпретации театрального текста, в отличие от книжного, проблема «герменевтического круга» обостряется. Мы пишем о спектакле по воспоминаниям о нем, реконструируя по памяти рождение своих ощущений и мыслей. Проверить себя мы не можем: воспринимая действие во времени его течения, мы не в силах вернуться назад. Второе восприятие будет опосредовано фатальным первым впечатлением от «целого» и наступившим уже переживанием развязки, причем единичным переживанием, на которое запрограммирован феномен театра, и знанием полного цикла метаморфоз художественного языка. Пойдя на спектакль вторично и нарушив «договор» с авторами спектакля, пытаясь внушить себе, что мы не знаем конца и воспринимаем действие «как в первый раз», мы все равно не повторим первоначальный герменевтический процесс: ведь каждое представление спектакля единственно, и повторения первого впечатления от каждой части действия не будет. Возвращаясь в разные моменты жизни к элементам театрального текста и к художественному целому отдельных спектаклей, к творческим идеям, к художественным языкам, на каждом новом витке мы интерпретируем свои старые впечатления и наблюдения по-новому.
99 Основной вопрос герменевтики можно сформулировать так: если зафиксированная в определенный момент интерпретация по определению не может быть объективной, можно ли говорить об «относительности» интерпретации или надо признать, что интерпретация вообще невозможна? Герменевтика как театроведческий метод побуждает нас к тому, чтобы определить возможности и границы интерпретации изучаемых художественных объектов и процессов.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТЕАТРОВЕДЧЕСКАЯ ШКОЛА
Возглавив первую в России группу исследователей сценических искусств, А. А. Гвоздев обозначил новую философию изучения театра: «Нет сомнения, что обстановка общей театральной жизни нашего времени во многом способствует установлению “чисто театральной” точки зрения научного исследования. Искания новых путей театра на исходе XIX в. и в начале ХХ в., выдвинувшие лозунг “театрализация театра” (Георг Фукс) и вскрывшие реальные возможности “чистого театра”, не только осветили историческое прошлое театра новым ярким светом, но и создали в обществе то настроение, на которое может опереться будущий историк театра»130*.
Самосознание ленинградской школы основано на том, что объектом для театроведа является театральный спектакль и надо формировать специфические (по сравнению с другими дисциплинами) категории и приемы описания и анализа этого объекта. Гвоздевская школа стремилась определить сохраняющиеся и передающиеся от эпохи к эпохе атрибуты «театральности как таковой», находила обоснования реально существующей в театральном процессе невербальной сценической драматургии, стремилась увидеть язык театра на уровне действия, материальными элементами определяемого, но к ним вовсе не сводящегося и выявляемого в первую очередь актерской игрой.
Рождение театроведения было подготовлено глубоким конфликтом театральной — в первую очередь театрально-критической — мысли с самоопределившимся режиссерским театром. Новая театральная ткань по-прежнему поверялась не соответствующими ей критериями жизненной логики, здравого смысла, идейной ясности и степенью соответствия литературному первоисточнику. «Нигде так не глубока 100 пропасть между практикой жизни и научно-эстетическим ее обоснованием, как в театре. Современный театральный деятель не раз обращался за помощью к науке о театре, и всегда пред ним открывалось грозное неведение ее — nescimus. Отсюда тот скепсис, которым окружен историк театра — в театре. Изменить это положение и является насущной необходимостью настоящего дня»131*, — писал А. А. Гвоздев в одной из программных работ, где выявлял способы изначального переосмысления подхода к пониманию театра.
Принципиально новые подходы — и к истории театра, и к главному его произведению, спектаклю — были найдены. Но гвоздевская школа базировалась на серьезной, в частности филологической основе. Не случайно именно здесь был заложен важнейший принцип театроведения как науки: теория начинается с реконструкции, с документированных фактов о конкретных сценических приемах, о пространственном строении спектакля, с понимания материальности театрального текста, структуры действия. Театроведение требовало твердых доказательных оснований, и появились вспомогательные лаборатории и дисциплины: реконструкция сценических площадок, источниковедение — специальный анализ носителей информации о художественном произведении. Именно эти разделы театроведения (его фундамент) продолжали продуктивно работать, их по привычке продолжали считать сутью «ленинградской школы» и после конца 1920-х годов, в эпоху социалистического реализма, когда ученым приходилось ими ограничиваться, не приступая к исследованию собственно теоретических и методологических проблем театра. Но в свой «классический период» гвоздевская школа занималась реконструкцией материала ради познания общей теории и философии театра.
Ленинградская школа решительно реформировала логику историографии театра. Раньше театральные методы считали производными от методов литературы, проекциями определенного периода общей истории идей, и в этом случае театр становился в полном смысле «надстройкой», вторичной структурой, одной из иллюстраций «объективной» реальности и ее идеологии. С новой, театроведческой точки зрения от эпохи к эпохе меняется собственная художественная структура сценического искусства.
Школе не был чужд и социологизм: театр с точки зрения этого направления безусловно и прямо зависит от жизни общества. Новым 101 было указание на то, что именно меняется под влиянием общественных условий: меняются едва ли не самые специфические характеристики театра — тип спектакля и его пластическая концепция. Пространство, в свою очередь, определяет способ игры актера и, следовательно, исполняемый актером репертуар132*. Драма в этой логической цепочке заняла место материала спектакля. То, что называли «идеей», «содержанием», предлагалось обнаруживать не в том, что говорят на сцене персонажи, вообще не в жизненной логике, а — в художественной, в особенностях композиции, театрального языка и формы зрелища. Гвоздевская школа исследовала формальную поэтику спектакля, начала овладевать «словарем» собственно театральных средств. Философия, которую открывает зрителю театр, заложена не в чем ином, как в технике построения спектакля, в специфической театральной форме; ее и учились адекватно описывать первые театроведы.
Создавая русское театроведение, Гвоздев стремился опереться на новейшие исследования художественной структуры в разных областях знания, включая зарубежные академические работы о театре. Основатель театроведческого института в Германии М. Герман казался ему несомненным предшественником и единомышленником133*. Гвоздев пропагандировал в России открытия немецких коллег (но сразу избежал односторонности, обращал внимание и на другие европейские школы изучения театра).
Хотя гвоздевская школа отталкивалась в своей методологии от работ немецких театроведов, прежде всего — М. Германа, между этими направлениями науки о театре были и существенные различия. В трудах Германа, к которым отсылает в своих работах Гвоздев, прежде всего реконструируются конкретные пространственные решения старинных спектаклей. По-видимому, это было неизбежно: революционная по существу смена литературоведческой оптики на театроведческую только 102 и была возможна, когда в спектакле стали интересны такие его стороны и свойства, которые были дальше всего от литературных смыслов. Гвоздевская школа сделала следующий шаг: там стремились определить сохраняющиеся и передающиеся от эпохи к эпохе атрибуты театра. Это значит, что школа по праву может быть охарактеризована как теоретико-историческая, не просто наследующая, но развивающая «чисто исторические» достижения предшественников.
Есть и другое отличие — прямо теоретическое и методологическое одновременно. В лекции М. Германа «Об искусстве театра», прочитанной между 1903 и 1919 годами шесть раз (следовательно, программной), он доказывает, что противоречие между словесным и зрелищным рядами не радикально, что оно, пусть и в редкие «золотые эпохи» литературы, когда поэт является выразителем чувств нации (то есть зрительского сообщества в целом), а актер выражает чувства и поэта, и зрительского сообщества, — исчезает. Такое, по Герману, было в античной Греции, в театрах Шекспира, Мольера, Лессинга и Шиллера134*. Этот тезис не запрещал Герману рассматривать искусство актера как воплощение чувства поэта; даже творчество, освобожденное от копирования реальности, немецкий театровед связывает с воплощениями драмы — Метерлинка и Ибсена. Вопрос о самостоятельности театрального и, в частности, актерского искусства не снят, но как будто микширован. Для школы Гвоздева такая постановка вопроса — компромиссна, непоследовательна; отчасти это связано и с разницей непосредственного объекта исследований: для ленинградской школы главным в спектакле почти сразу становится актерское творчество, а не его пространственные обстоятельства.
Гвоздевская школа исследовала способы специфической организации театра как художественной системы (точнее, нескольких разных художественных систем). Конечно, невозможно окончательно определить границы феномена театра: помимо постоянных, в спектакле есть переменные величины. «Возможности организации спектакля далеко еще не изжиты»135*, — понимал Гвоздев.
В историческом движении искусства театровед часто оказывается «сзади» спектакля, он еще не знает законов новорожденной формы и должен быть готов работать в этой ситуации. Вот поэтому первые театроведы 103 следовали правилу: театроведение едино, история зависит от критики и теории, так же как критика и теория от истории, лучшим критиком становится историк театра (оценивающий явление в общих координатах этого искусства), но историк должен быть театральным критиком (способным самостоятельно читать театральный текст)136*.
Наука о театре рождалась как область знания, глубоко связанная с театральной практикой своего времени, но вовсе не подчиненная его идеям. Здесь был собственный фундамент, намеченный глобально для теоретических сравнений: историческое изучение театральных методов от истоков до современности — русских, европейских, восточных; сопоставление с соседними видами творчества: фольклором, музыкой, кино. В изучении истории театра гвоздевская школа учитывала перспективы специфической образности театра, возможности его выразительных средств. Так, ретроспективно, как бы взглядом греков, японцев и елизаветинцев можно открывать существо современного искусства, в частности и не в последнюю очередь — искусства метафорической режиссуры.
К истокам театра ленинградская школа отнеслась как к живому эстетическому феномену. С. С. Мокульский формулировал отличительные особенности площадного театра, обобщая исторические материалы, но очевидно выходя к авангардным идеям театральности: «… независимость от литературы и тяготение к импровизации; преобладание движения и жеста над словом; отсутствие психологической мотивации действия; сочный и резкий комизм; легкий переход от возвышенного, героического к низменному и уродливо-комическому; непринужденное соединение пылкой риторики с преувеличенной буффонадой; стремление к обобщению, синтезированию изображаемых персонажей путем резкого выделения той или иной черты образа, приводящее к созданию условных театральных фигур-масок; наконец, отсутствие дифференциации актерских функций, смычка актера с акробатом, жонглером, клоуном, фокусником, шарлатаном, песельником, скоморохом, и обусловленная этим универсальная актерская техника, построенная на исключительном умении владеть своим телом, на врожденной ритмичности, на целесообразности и экономии движений. В своей совокупности все эти особенности дают чистый театр актерского мастерства, независимый от других искусств, которые привлекаются 104 только на чисто служебную роль»137*. Такая исходная театральная модель была для гвоздевской школы перспективной, потому что содержала максимальные возможности собственно театральной выразительности.
Подход ленинградской школы к театру был откровенно концепционным и по необходимости полемическим. В развернутой энциклопедической статье об истории европейского театра Гвоздев отдает 21 страницу анализу театральных методов, в которых роль литературной структуры была, с его точки зрения, незначительной (то есть театру до последней трети XVIII века), и лишь 8 страниц — периоду, начинающемуся драмой «Бури и натиска»138*.
При этом, вопреки бытующим до сих пор представлениям, идеи школы не были антилитературными — они были только нелитературными. Сам А. А. Гвоздев понимал связь между театральной игрой и словесной драматургией как процесс их двустороннего влияния: театральные модели фиксируются в литературной форме, драма как материал наполняет готовую игровую структуру; в то же время театральный метод трансформируется по законам новой драматургической формы.
Такие принципы позволяли изучать режиссерский театр, сознательно организованный по принципам симфонической композиции, как самый полный живой источник структур, элементов и закономерностей этого особого искусства. Рецензии ленинградских критиков давали принципиально новое качество анализа театрального действия — его строения, логики, языка, обоснования и взаимосвязи приемов, соотношения уровней сценического текста. Критики гвоздевской школы сделали предметом анализа не страсти, чувства, настроения, но театральные идеи. Отвергались шаблонные приемы изложения содержания спектакля в целом и актерских ролей по отдельности. Действенная ткань должна была предстать в том виде, когда ясна ее специфическая образная природа.
В методологическом плане показательно сотрудничество школы Гвоздева с соседними искусствознаниями. Например, адекватными для аналитического описания театральной ткани нередко оказывались категории 105 музыки. Б. В. Асафьев, постоянно сотрудничавший с группой Гвоздева, говорил о «симфонизации драмы», находил это в природе высокоразвитого драматического действия: «Для меня никогда не составляло сомнения, что песенная и инструментально-импровизационная полународная, полумещанская музыкально-бытовая сфера окутывает и даже многое обусловливает в композициях Островского»139*. Анализируя драматический спектакль с этой точки зрения, он обнаруживал «любопытные композиционные проблемы»140*. Театровед Гвоздев охотно использовал этот способ анализа: «Каждая новая мизансцена — новый подход мысли; каждая новая мизансцена и этот вместе с ней появляющийся подход мысли дает новую мелодию»141*. В терминах музыки или без них, подход к действенной ткани как к многосоставной художественной фактуре, скорее чисто театральной, чем аналогичной литературному повествованию, нечто впрямую означающей или изобразительной, для ленинградской школы был программным.
В ленинградской школе стремились обнаруживать, как сделан спектакль — в целом (т. е. на уровне режиссерской композиции) и в актерских работах. Очевидная трансформация «тождества» актер + роль в многосоставное образование (амплуа, индивидуальность, школа актера, литературный образ, режиссерская концепция, индивидуальная трактовка, отражение в одной роли других образов спектакля, влияние зрителей на течение спектакля, приемы игры, импровизация, взаимодействие с пространством и вещами и другие факторы) — заставляла искать адекватные способы анализа актерских работ. Если «театр типов» провоцирует на идентификацию актера и персонажа, на описание человеческих свойств и мотивов поведения действующих лиц, то в «театре синтезов»142* актерское искусство получает множество выразительных средств: участие в ансамбле действующих лиц, ассоциативный план игры, игра маской, внесюжетные моменты роли, смысловое использование предметов, участие в говорящих мизансценах, выход из роли и игра с образом, «музыкальное построение образа» из непрямо стыкующихся тем — на это обращали внимание критики гвоздевской школы, 106 убежденные в том, что чем режиссура сложнее, тем больше она обогащает актерское искусство.
В этой среде и формировалась методология школы. Она опиралась на детальную реконструкцию; вещность театра, предметность его фактуры, технологичность всех его уровней, включая актерскую игру, предопределяли своеобразный «технологизм». Но сами участники этого процесса понимали свой метод глубже. Работу «Техника комического у Гоголя» А. Л. Слонимский предварял таким, например, методологическим замечанием: «Мой метод не “формальный”, как может показаться с первого взгляда, а скорее “эстетический”. “Техника” рассматривается мной постольку, поскольку она имеет “телеологическую” ценность и обладает известной эстетической действенностью. При этом выдвигается на первый план смысловой вес отдельных приемов. <…> Я беру только те приемы, которые являются организующими — то есть имеют широкое композиционное и смысловое значение»143*. Отталкивание от «формализма» здесь не вовсе напрасно. Но как бы ни понимали в те годы формальный метод, очевидно, что по крайней мере создание научной поэтики спектакля вне методологического сотрудничества с формальной школой было бы невозможно.
ИДЕИ ФУТУРИЗМА И АВАНГАРДА В ИСКУССТВОЗНАНИИ
Из Общества по изучению поэтического языка (ОПОЯЗа) вышли и формалисты, и критики, которые в 1920-е годы объединились в «Левом фронте». Они группировались вокруг журналов, в которых интеллектуальными лидерами были В. В. Маяковский, С. М. Третьяков, О. М. Брик, И. Г. Терентьев. В их убеждениях левизна эстетическая сочеталась с левизной политической. Наиболее последовательные отвергали самостоятельность искусства по отношению к другим формам духовного существования, поэтому не говорили об «искусстве», о «произведениях», о «спектаклях». Творчество понималось как процесс, объединяющий создателей и зрителей. По существу ЛЕФ развивал идею, имевшую, как стало понятно много поздней, большое будущее: авангард не столько искусство, сколько способ существования, авангардная форма есть средство социальной революции.
Но и реальный театр рассматривали здесь особым образом. Для футуристов не важны повествовательные (литературные или производные 107 от литературы) аспекты театра. Внимание фокусируется на композиционных началах театрального зрелища, которые воздействуют на зрителей независимо от их сознания. Отвергая свойства, заимствованные театром из других форм жизни и искусства, а значит, ему чуждые, футуристы апеллировали к тому феномену, который впоследствии теоретики назовут «перформативностью». «Театр — это не синтез всех искусств. <…> Театр — не литература, не живопись, не инсценированный адюльтерный роман, не репортаж в лицах, не хроника происшествий. Театр — это театр, это трагическое, монументальное преображение ритма жизненной борьбы социального человека в праздничном, радостном, победном ритме движения человеческого тела, в его тонических и пластических формах. Из этого ритма и должен создаться новый театр с новой культурой позы, жеста, слова, костюма и грима»144*. Утверждался не просто условный, а — беспредметный театр. Ясно, что такая методология была готова принять, отражать, исследовать на достаточно глубоком уровне идеи конструктивизма и биомеханическое понимание актерской игры. Выхода к предметности, перехода от развоплощения к воплощению эта теория не предполагала.
Театральная форма, по мнению критиков «Левого фронта», непосредственно заключает в себе социальность. Этим определяется исследовательский ракурс, выдвинутый школой. Пример анализа театральной формы как идеологии — статья В. И. Блюма о «Лесе» Мейерхольда «Островский и Мейерхольд». Фиксируются важнейшие свойства спектакля: богатая гамма эмоций; эпизодная композиция; кинематизирование; использование текста пьесы как сценария самостоятельного зрелища; сотворение собственного быта спектакля, не повторяющего обыденность; принцип резко выраженного отношения к персонажам (пример — Гурмыжская); жанр лубочного плаката; развертывание деталей пьесы в эпизоды действия (пример — эпизод «Бери-бери»); отказ от конструктивистского станка и использование принципа изобразительности в балаганном стиле; смешение примитивного натурализма с абстрактной театральностью; выдвижение народных персонажей Петра и Аксюши на первый план композиции спектакля; внутренняя музыкальность (пример — сцены Петра и Аксюши); социальная трактовка; формирующий основное впечатление от спектакля новаторский подход к действенности. В. Блюм находил содержательность спектакля во внесюжетной его стороне, собственно — в чистой театральной форме. Этот 108 спектакль, таким образом, очень близко подходил к идеалу ЛЕФа: «Это не спектакль, а какое-то вулканическое извержение эмоций… Если говорить о гамме импрессий, не дающих здесь зрителю передышки, то это была не старая, темперированная гамма, а богатейшая “четвертьтонная” последовательность…»145*.
Эти аналитические техники совпадали с «формалистическими», однако при одном существенном отличии: «левые» задумывались о том, как воздействует на нового зрителя новая художественная форма. Они верили в то, что сама организация артефакта имеет не только эстетическое (в каком-то смысле гедонистическое) воздействие, но и политическое. Спектакль революционной формы влияет на зрителя — раскрепощает его, дает свободу мысли, чувству, делает его новым человеком.
Эта театральная идеология была первой из тех, что рассматривали и изучали зрителя как непосредственного участника театрального явления и театрального процесса. М. Б. Загорский и некоторые его соратники постоянно публиковали опросы зрителей, конкретно интерпретировали восприятие спектакля. Бесспорной для «левых» была идея взаимного влияния сценического действия и состояния зрительного зала.
Критики ЛЕФа исключали критерий соответствия — несоответствия литературному первоисточнику. Это отличало их и от формалистов, и от ленинградской театроведческой школы, которые все же утверждали специфические, свойственные именно театру способы выявления стиля и мироощущения писателя. Для левой критики спектакль есть феномен, полностью независимый от исходных материалов; важен неповторимый во времени момент игры с конкретным зрителем — акция, как выразились бы авангардисты рубежа XX и XXI веков.
В соответствии с философией футуристического искусства, сформулированной еще в 1910-е годы, искусство, желающее проникнуть за пределы обыденного сознания, проникает за пределы видимых реалий окружающего и родственно супрематизму (обоснованному К. Малевичем в теории живописи, В. Кандинским в теории «сценической композиции»), позднее Р. Уилсону и другим создателям немиметических театральных систем. В этом смысле футуристическая театральная мысль 109 имеет отношение к мифологической теории и предлагает по существу метафизический контекст изучения театра. Футуристы обнаружили социальную активность художественного текста, скрытую в глубине его конструкции.
НЕЗАВИСИМАЯ ЦЕНТРИСТСКАЯ КРИТИКА
Немаловажную роль в становлении современной театроведческой методологии сыграла та часть театральной критики, которая, не принадлежа ни к одной художественной группе и ни к какому научному направлению 1910 – 1920-х годов, сумела найти подходы к разным типам спектакля режиссерской эпохи. Можно говорить о принципиальном «объективизме» независимой критики, о ее своеобразном эстетическом плюрализме, но именно этой, «центристской» по отношению к полярным театральным концепциям критике впервые удалось не противопоставить, а сопоставить театральные системы и выдвинуть по отношению ко всем ним единые критерии. Самыми заметными фигурами такого плана в 1920 – 1930-е годы были П. А. Марков, Ю. Юзовский, Г. Н. Бояджиев, Ю. В. Соболев. Марков работал заведующим литературной частью Московского Художественного театра (впоследствии его должность меняла названия, он входил в режиссерско-репертуарную коллегию и т. д.)146* и в то же время ежедневно много писал о режиссерах, методах, театрах, которые были с МХТ в непростых, часто полемических отношениях. Можно назвать его «Письмо о Мейерхольде», портреты А. Я. Таирова, С. Г. Бирман, А. Г. Коонен, И. В. Ильинского.
Марков разглядел «шекспиров театр российской современности»147*, называл «счастливым» путь мейерхольдовского «Леса»148*. Особенно глубокой должна была стать работа о «Ревизоре», которая не была закончена и опубликована в наброске, в ней Марков достигает удивительной профессиональной смелости, оказывается свободен от привычных всем в этот момент истории театра представлений о закономерностях 110 построения спектакля, пытается его понять вне причинно-следственной, сюжетной, временной логики, в отрыве от пьесы, в синтезе творческого и личного мира Гоголя, самого Мейерхольда и в обратной проекции из современности149*.
Таким же был подход Маркова к театру М. А. Чехова. Этот театр сложно выразим в вербальных характеристиках: образность, передающая метафизическую реальность, и эксцентричная болезненная театральность актера по своей природе противоположны словесным категориям. А Маркову удалось, не упрощая драматических философских планов творчества М. А. Чехова, подробно зафиксировать весь русский сценический путь странного и уникального мастера (статьи «Первая студия МХТ. Сулержицкий — Вахтангов — Чехов», «Торжество победителя», «“Гамлет”. МХАТ 2-й», «“Петербург”. МХАТ 2-й», «М. А. Чехов в Деле Сухово-Кобылина»; «О книге Михаила Чехова “Путь актера”»; «Михаил Чехов»).
В обращении ко всем фигурам и темам Марков концентрировал свое внимание на закономерностях художественного мышления того, о ком писал, пытался проникнуть в собственную творческую логику и философию творцов театра разных направлений и поколений, а затем и в приемы и конкретные решения спектаклей разного типа, структуры, поэтики.
Когда Марков и другие независимые критики, анализируя разные формы режиссерского театра, обосновывали ценные качества в нетрадиционном, модернистском или авангардном театре, они узаконивали его в театральной традиции, приближали широкую публику, театральную общественность и критику к особенностям оригинальных сценических языков. У них были широкие убеждения, благодаря им, сохранены для истории многочисленные роли и спектакли, которые для прогресса театральной формы не имеют принципиального значения, но стали достойной частью театрального процесса своего времени. В этом ряду были и образцы «актерского» театра, и постановки, не отмеченные режиссерской оригинальностью, но по-своему серьезные.
Независимые критики знали о теоретических дискуссиях своего времени, о полемиках и между режиссерами, и между театроведческими школами, иногда излагали их содержание в своих публикациях, но собственные теоретические или методологические позиции обычно 111 предпочитали не декларировать. Не случайно их книги представляют собой сборники статей разных лет, сгруппированных разным образом. У Маркова — «Театральные портреты» и «Правда театра», у Юзовского — «Советские актеры в горьковских ролях», «Зачем люди ходят в театр» и «Разговор затянулся за полночь», у Бояджиева — «От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров»…
Независимая критика явилась в самый разгар теоретических и методологических баталий 1920-х годов и была их заинтересованным свидетелем. Но не исключено, что ее появление знаменовало следующий, в художественном смысле «послереволюционный» этап жизни и театра и театроведения. Критерии, опирающиеся на теоретическую ценность или генетические связи, вопросы о соответствии спектакля тому уровню развития, которого достигло мировое театральное искусство к данному историческому моменту, оказались не главными. Зато на первый план выдвинулось требование к качеству художественной ткани. Мы не найдем у центристской критики заинтересованных отзывов о гоголевских абсурдистских постановках И. Г. Терентьева, но вахтанговский «Егор Булычов» разобран с тактом и уважением. То понятие «дружественного к публике» (audience friendly) театра, которое используется теперь в европейской театральной среде, может быть отнесено к независимой критике в полной мере. По сути, здесь заново, то есть для эпохи режиссерского театра, наряду со «спектаклем» начал формироваться забытый было объект критики — текущий театральный процесс. И одновременно — неизбежно новые к нему подходы.
Глава 4.
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ СПЕКТАКЛЯ
Здание науки строится из концепций, законов, теорий. Но фундамент любого такого построения, любой научной мысли вообще — факты. Они бесконечно разные, свои для каждой отрасли науки, в каждой группе наук и отдельной науке. Среди них такие, что подлежат, кажется, простейшему наблюдению, и такие, что не наблюдаемы в принципе, не подвластны даже воображению. Их выбор связан с объектом науки, но связан и с предметом: в любом из них есть стороны, становящиеся действительным «фактом» для одной науки и опускаемые другой. Иначе 112 говоря, любое реальное явление становится фактом науки только в свете отношения к нему. И все-таки решающим для факта является самая его реальность: всего важней то, что он есть.
Факты науки о театральном искусстве также многообразны, у них разный масштаб и разные свойства. Среди наиболее заметных (и составляющих одну из главных трудностей для театроведения) — принципиальная текучесть и принципиальная нефиксируемость искусства театра. Непосредственно воспринимать произведение сценического искусства дано только театральному критику, но и он имеет дело с единственным, происходящим только здесь и сейчас, и он не может получить объект своего интереса как артефакт. У литературоведа, музыковеда, специалиста по изобразительному искусству, за редкими исключениями, есть некий художественный текст — система определенным образом организованных знаков, которую исследователь может интерпретировать. Театровед этого лишен. А историк театра, и в значительной мере театральный теоретик, лишен даже самой возможности соприкоснуться с театральным событием — ему доступны лишь отражения неповторимого события театра — спектакля, игры актера, зрительного зала.
Эти-то отражения, факты о фактах и есть материал, с которым имеет дело театровед. Они заведомо не «даны» — их надо разыскать, обнаружить и опознать. Место, где есть надежда такого рода факты найти, называется источником.
Понятно, что специфика театроведения как науки, успехи и неудачи этой науки в немалой степени определяются ее способностью работать с источниками. И не случайно ни для одного искусствоведения не имеет такого общенаучного значения, как для театроведения, наука об источниках — источниковедение.
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
Источниковедением в науке о театре называют вспомогательную театроведческую дисциплину, изучающую источники истории, теории театра и театральной критики, а также способы их разыскания, систематизации, использования и оформления.
При этом необходимо иметь в виду, что сам термин «источник» может быть трактован и подчас трактуется достаточно широко: как источник информации вообще. Действительно, для историка театра источником, к примеру, может являться память актера, режиссера, сценографа, 113 когда-то работавших над спектаклем и вспоминающих об этом в приватном разговоре. Художественная память театрального критика, анализирующего режиссерский замысел и готовящегося описать художественную материю современного сценического произведения в рецензии, — несомненный и в этом случае незаменимый театроведческий источник. С другой стороны, есть и такой общезначимый источник фактов и мыслей (которые ведь тоже факт для науки), как книга.
В научной практике, в первую очередь историко-театральной, предпочитают, однако, трактовать дефиницию в тесном, строгом смысле: говоря об источнике, чаще всего имеют в виду «документальный источник», а это понятие определяют как информацию, зафиксированную на любом материальном носителе.
Воссоздавая то или иное явление театральной действительности, театровед должен «внедриться» в эпоху, демонстрируя доскональное знание не только конкретных фактов, но и духовных, эстетических, а иногда и технических ее параметров. Не случайно работа над любой исторической темой начинается с изучения различного рода справочной литературы.
Сведения, содержащиеся в общих и отраслевых энциклопедиях, биографических и биобиблиографических словарях, общих и персональных библиографических указателях, летописях жизни и творчества деятелей театра, дают возможность не только представить в общем виде контуры того или иного театрального явления, но и оценить степень его изученности, наметить пути дальнейших поисков источников в специальной литературе, музеях и архивохранилищах.
Но уже на этом начальном этапе работы театроведу необходим критический подход к источнику, к достоверности тех сведений, которые помещены даже в авторитетных справочных изданиях. К примеру, в статье соответствующего тома «Театральной энциклопедии» о московском актере и водевилисте Д. Т. Ленском фраза: «В 1824 Л. втайне от отца дебютировал на сцене Малого театра…» содержит две фактические неточности. Во-первых, отец актера умер за десять лет до его дебюта, во-вторых, сам дебют состоялся за несколько месяцев до открытия Малого театра.
Вот почему общим правилом для исследователя должна стать не только обязательная проверка сведений, содержащихся в справочниках, но и сопоставление фактов, приведенных в различных источниках, анализ их надежности и точности.
114 РЕКОНСТРУКЦИЯ
Понятие о реконструкции спектакля в театроведческом обиходе естественно связывается с историко-театральными штудиями. В самом деле, всякое театральное явление прошлого (а историк театра занимается по преимуществу прошлым) исчезло навсегда, так что осмыслять предстоит не его самое, а его реконструкцию (как правило, проведенную самим же автором предстоящей историко-театральной работы). Следует, однако, заметить, что и здесь, как в случае с «источником», и законно и необходимо другое, принципиально широкое понимание термина. Театральный критик, ставший, как и другие зрители, реальным участником спектакля, не просто вспоминает свои впечатления о виденном и слышанном. Он из этих впечатлений создает не что иное, как реконструкцию спектакля, и понятие «реконструкция» имеет здесь не образный, «метафорический», а прямой, буквальный смысл. Другое дело, что и условия создания этой своеобразной модели реального спектакля, и тип фактов, которые в каждом таком случае должны быть правдоподобно соединены между собой, и даже число этих фактов существенно различны. Для историка самое количество отраженных в источниках фактов театрального явления всегда меньше, чем их было в театральной действительности, и он своим воображением непременно домысливает всегда недостающие звенья. У критика же впечатлений всегда больше, чем тех, что могут «поместиться» в реконструкцию, какой бы подробной она ни была. Критик знает, что воспроизвести спектакль «полностью» немыслимо, и хотя бы потому вынужден отсеивать детали, которые представляются ему случайными или менее характерными, чем другие. Но и то и другое — полноценные реконструкции.
Иное дело, что театрально-критическая реконструкция может специально не фиксироваться, что ее наличие открыто обнаруживается в тех фрагментах текста, где критик прибегает к прямому воспроизведению происходившего на сцене. Историк же в своих суждениях всегда не только опирается, но практически ссылается на созданную им реконструкцию. И, конечно, поэтому не случайно, что главная заслуга в систематизации знаний об этом виде театроведческой деятельности принадлежит историкам.
Историки определили, что основные материалы, позволяющие воссоздать театральное явление, — это литературные источники, свидетельства и постановочные документы, а также различного рода иконография.
115 Первыми среди них считаются литературные первоисточники: пьесы или сценарии. Тексты разыгрываемых пьес, дошедшие до нас, позволяют представить себе не только словесную ткань действия, интерпретируемую (посредством интонации и пластики) актерами и режиссерами, но и — нередко — заданные драматургом и реально смоделированные в спектакле пространственные параметры развертываемого на сцене действия.
Текст пьесы в разные театральные времена заключал в себе различный объем театральной информации. В первую очередь исследователю следует помнить, что литературный текст пьесы и текст, произносимый со сцены, порой существенно различаются. Речь может идти, в частности, о сокращениях и коррективах, которые вносятся при постановке по идеологическим, творческим или организационным соображениям.
Нередко пьеса создавалась в непосредственной связи с деятельностью конкретной театральной труппы, и тогда, прежде чем появиться в печати как самостоятельное литературное произведение, пьеса уже существовала как некий театральный сценарий спектакля или доходила до нас в списках ролей. Тогда же, когда самим автором, его редакторами-издателями или переписчиками текст сценический превращался в текст литературный или впоследствии печатный, он во многом оттачивался, выверялся, дополнялся, что позволяло ему существовать именно как литературному произведению. С другой стороны, уже произнесенный со сцены, развернутый в сценической обстановке, этот текст при печатном воспроизведении нередко дополнялся ремарками, характеризующими особенности его реального сценического представления. Так мы знаем, например, что тексты пьес Шекспира, являясь по существу редакторскими сводами текстов ролей, в части ремарок и иных постановочных деталей отражают типические черты театральных представлений елизаветинской эпохи. Таким образом, можно, не приписывая исключительно драматургу некоторые постановочные ходы, «вычитать» из этих текстов спектакль шекспировской поры.
Вместе с тем не нужно и слишком доверяться подробным авторским ремаркам романтической и в особенности реалистической эпохи. Именно в эти времена авторы, подробно рисуя обстановку действия, могли вовсе не рассчитывать на ее адекватное воплощение на сцене. В таком случае, безусловно, необходима была сценическая адаптация драматургических текстов. Так, пьесы того же Шекспира, попав в иную 116 систему художественных координат в XVIII – начале XIX века, требовали существенной переделки, «вписывания» в постановочные каноны театра того времени. Именно тогда они и ставились не в своем оригинальном виде, а в классицистских и романтических переделках (в Европе были весьма распространены переделки Дюси). Вдобавок разные переделки одной и той же пьесы Шекспира, сделанные тем же Дюси в разные годы, существенно отличаются одна от другой. Например, в библиотеке «Комеди Франсез» есть по крайней мере три варианта его популярного «Гамлета».
Известны случаи, когда автор, уже после представления, готовя свою пьесу для издания или переиздания, существенно дорабатывает ее, буквально переписывая ставший известным благодаря постановке сценический текст. Почти курьезным можно считать случай, когда после выхода второго издания комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», где автор существенно отредактировал текст, актеры Александринского театра вплоть до 1860-х годов продолжали играть по первоначальному сценическому экземпляру. Некоторые из вошедших уже в пословицу реплик в этом варианте отсутствовали или не были столь виртуозно отточены автором. В результате актеров обвинили в «отсебятине» и в пренебрежении к авторскому тексту. Упорствовать было уже бессмысленно, и театр прокорректировал сценический текст в соответствии с новой редакцией пьесы.
Случай с «Ревизором» заставляет вспомнить еще одну важную театральную традицию прошлых времен, позволяющую правильно воспринимать информацию, заключенную в драматургических текстах. Еще с XVIII века в Европе пьесы издавались сразу после их исполнения на сцене. В таких изданиях, которые в России, например, осуществляла большей частью театральная дирекция, есть заметные следы первых спектаклей. Помимо того, что здесь обычно указывались дата и место премьеры, состав исполнителей, в них отражены и постановочные ремарки, связанные с этими спектаклями.
Если это по большей части касается печатных изданий, то уж рукописные собрания сценических экземпляров для историка театра поистине кладезь. Однако здесь тоже есть свои особенности, связанные с тем, какую именно информацию о сценических представлениях можно вычитать из рукописей. В крупнейших театральных собраниях (например, в Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеке, библиотеке Малого театра в Москве, библиотеке «Комеди Франсез» в Париже) есть сценические экземпляры, характеризующие спектакли различных театральных эпох. Просматривая эти манускрипты, можно обратить 117 внимание на то, что слои сценических пометок в них становятся плотнее по мере того, как развивается постановочное искусство. В русских материалах XVIII века все постановочные пометки, за исключением суфлерских, связанных с сокращением текста или корректировкой отдельных реплик, вписывались в сценические экземпляры исключительно в качестве ремарок. Но уже в экземплярах конца 1820-х – начала 1830-х годов возникли специальные пометки о выходах актеров и мизансценах. Они записывались на полях или между строк и с помощью отдельных значков (чаще всего #) соотносились с репликами исполнителей. Поначалу входы, выходы и перемещения обозначались словами с указанием на полях имен героев или артистов, исполняющих роли. А во Франции, например, место того или иного героя относительно других обозначалось порядковым номером слева направо (от зрителя). Такие пометки обычно делали во время репетиций суфлеры, и, следовательно, суфлерские экземпляры концентрировали в себе максимум сценической информации. Однако во Франции еще со времен Лекена (с 1760-х годов) было принято писать подробные монтировочные листы, где был особый раздел, касавшийся изменения мизансцен и производства сценических эффектов на определенные реплики. Впоследствии, с конца 1820-х годов, во французском театре принято было записывать планировки эпизодов и мизансцен в отдельные кондуиты (conduit), которые сшивались в тетради как приложение к суфлерскому экземпляру.
В России поступали иначе. Примерно с 1860-х годов планировки (вычерченные планы той или иной сцены с расположением декораций и мебели) стали вкладывать или вклеивать в суфлерские (или ходовые, как их еще называли) экземпляры. А с конца 1880-х годов мизансцены начинают зарисовываться режиссером или его помощником прямо в ходовом экземпляре. Разделение суфлерского и режиссерского экземпляров в императорских театрах произошло в начале XX века, под явным влиянием Московского Художественного театра, где режиссерская партитура была самоценным документом.
В XX веке, когда необходимость в суфлерском экземпляре постепенно отпадала, значение приобрело соотношение двух других экземпляров — режиссерского, в котором отражено движение замысла от первоначальной интенции к воплощению, и экземпляра помощника режиссера, где фиксируется конечный «продукт», та форма спектакля, которая позволяет из вечера в вечер проводить данный спектакль.
По существу, роль и содержательное наполнение сценических экземпляров меняются по мере того, как собственно сценический текст 118 «отслаивается» от словесного, когда не только, а иногда не столько литературный ряд, сколько специфически театральные средства выразительности организуют художественное содержание действия.
В русской театральной литературе существует целый ряд изданий, посвященных либо отдельным постановкам, либо истории подготовки спектакля. Традиция была установлена еще Московским Художественным театром, который публиковал постановочные документы и серии фотографий, отражавших различные стадии работы. На рубеже XIX – XX веков, когда тенденция ставить спектакли «по мизансценам МХТ» распространилась по России, в издательстве А. Маркса предприняли попытку опубликовать пьесы А. П. Чехова с мизансценами Станиславского.
Впрочем, попытки «опубликовать» сценический текст и материалы к спектаклю возникали и ранее. Еще в 1840-х годах русский драматург и историк Ф. А. Кони, совершивший поездку в Германию, отмечал настоятельную необходимость изучения и издания объемного фолианта, представляющего собой монтировку исторического спектакля, созданного на сцене Берлинской театра режиссером Л. Шнайдером. А с 1860-х годов во Франции некий Л. Полианти стал издавать серию дешевых брошюр с мизансценами комических опер, комедий и драм, игранных в «Опера-комик», «Одеоне» и «Комеди Франсез».
При всем том, что с начала XX века стали выходить книги и альбомы, посвященные отдельным спектаклям МХТ, режиссерский экземпляр К. С. Станиславского впервые был издан С. Балухатым только в 1930-х годах150*. В 1980 – 1990-е годы усилиями В. Я. Виленкина, И. Н. Виноградской, И. Н. Соловьевой и Н. Н. Чушкина эту традицию продолжила научно-исследовательская комиссия по изучению и изданию наследия К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
Тот же Московский Художественный театр установил и еще одну важную традицию. Протоколировался репетиционный процесс, записывались беседы постановщиков с исполнителями151*, публиковались эпистолярные материалы, отражающие различные этапы формирования замысла будущего спектакля, работу режиссера с драматургом, художником и композитором152*.
119 С другой стороны, в 1920-е годы в кругу Вс. Э. Мейерхольда, где также уделяли большое внимание созданию и систематизации постановочных материалов, под влиянием профессора А. А. Гвоздева возникли первые лабораторные опыты «записи спектаклей». Материалы «театральной лаборатории» ГОСТИМа, работы аспирантов ГАИС, а также других молодых ученых и деятелей театра свидетельствуют, что «нотации» сценического текста (например, неизданная запись Г. Н. Стебницкого мизансцен мейерхольдовского «Маскарада» или подробная реконструкция музыкально-сценической партитуры спектакля ГОСТИМа «Дама с камелиями», предпринятая научным сотрудником Театра им. Мейерхольда, а впоследствии известным режиссером и педагогом Л. В. Варпаховским153*) стали бесценными документами времени. И хотя традиции и методики записи сценических текстов не получили в последующие годы должного развития, издание книг, отражающих творческое наследие практиков театра, где активно публиковались режиссерские экспликации, письма, речи и беседы, а также протоколы и записи репетиций, с 1940 – 1950-х годов можно назвать регулярным.
Однако к проблеме изучения спектакля как становящейся структуры публикаторы и исследователи обращались не часто. Долгое время одним из уникальных памятников исследовательской литературы в этом жанре оставалась книга Н. Н. Чушкина «Гамлет — Качалов»154*. И только предпринятое в 1980-е годы издание режиссерских экземпляров К. С. Станиславского155* и начало публикации театрального наследия Вс. Э. Мейерхольда, которое осуществляет группа московских ученых под руководством О. М. Фельдмана156*, не просто поддерживают, но и развивают эту важнейшую традицию историко-театральной науки.
Известно, что в разных странах в разные времена существовала театральная цензура, которая серьезно корректировала тексты пьес, допущенных на сцену. В историко-театральной науке не случайно возникло целое направление исследований, где театральная цензура рассматривается и как общественно-политическая институция, и как источник 120 для анализа цензурных вариантов литературных текстов спектаклей. В России еще в девятнадцатом веке такое исследование провел Н. В. Дризен, выпустив очерки драматической цензуры XIX века157*.
Говоря о комплексе организационно-постановочной документации, следует обратить серьезное внимание на материалы театрального законодательства, определявшегося именными распоряжениями монархов, в чьем подчинении находились многие театры, а также на государственные законы и уставы отдельных театров и театральных компаний, которые иногда позволяют представить даже такие внутритеатральные факторы, как система подготовки спектакля. Это тем более важно, что на определенных этапах театральной жизни система организации и проведения спектаклей в существенной мере обеспечивала художественную согласованность и даже целостность театрального произведения. Так, в романтическую эпоху почти синхронно в разных национальных театрах Европы были выработаны по сути дела единые организационно-постановочные принципы подготовки спектакля, которые позволяли театрам различных стран более активно корреспондировать между собой, образуя общеевропейское театральное пространство и обусловливая динамическую интенсивность театрального процесса. Постановочные реформы, проведенные графом Брюлем в Германии и бароном Тэйлором во Франции, нашли отражение и в русском театре. Формирование парка типовых декораций и костюмов, способных в разных монтировочных комбинациях создать на сцене обстановку и атмосферу любой исторической эпохи, для любых возможных драматургических произведений, подвигало театр к некоему художественному универсализму и интеграции. «Монтировочное» мышление на долгие годы, вплоть до формирования режиссуры как авторского искусства, определило развитие европейского театра.
Именно с конца 1820-х годов в европейском театре появляется система монтировок (то есть реестр необходимых для постановки той или иной пьесы декораций, костюмов, бутафории и реквизита). Подобный реестр составлялся режиссером и выписывался в отдельную ведомость, где по актам в соответствии с требованиями пьесы составлялся перечень имеющегося и вновь изготавливаемого оформления. Такие монтировочные ведомости, будучи сопоставленными с инвентарными списками декораций, костюмов и бутафории, хранящимися в архивах театров, 121 а также с эскизами декораций, дают возможность представить сценическую обстановку спектакля.
В группу иконографических материалов, наряду с эскизами декораций и костюмов, входят зарисовки и картины, воспроизводящие отдельные моменты театрального действия. Сюда же относятся портреты актеров в жизни и в ролях, которые, порой независимо от их художественного качества, помогают представить игру актера или облик того или иного момента действия. С развитием фотографии возможности достоверной фиксации театрального действия неизмеримо возросли, так что до сих пор фотографии остаются наиболее важной составной частью изобразительных материалов. Разумеется, в работе с ними исследователя подстерегает та же опасность, что поздней вновь станет актуальной при использовании видеоматериалов.
Одним из важных источников реконструкции спектакля является критическая рефлексия по его поводу современника — театральная рецензия. Однако, обращаясь к этому кругу материалов, необходимо учитывать, что отнюдь не всегда они объективно отражают сценическую реальность. Отношение к спектаклю критика может диктоваться его эстетическими предпочтениями, принадлежностью к определенному литературно-художественному лагерю, наконец, общей направленностью того или иного печатного органа. Поэтому фигура рецензента требует изучения не менее глубокого и пристального, чем его публикация. Это не составляет особого труда, если автор критического отзыва известен, но становится настоящей проблемой, если он анонимен или скрылся за псевдонимом, расшифровать который не удалось.
В XIX веке отечественные рецензенты, как правило, с той или иной степенью подробности излагали сюжет и иногда двумя-тремя словами оценивали исполнителей спектакля. Тем не менее даже из пересказа сюжета можно извлечь важные для постановки детали, ибо рецензент, зачастую незнакомый с литературной основой представления, фиксировал последовательность именно сценических событий.
Непременной составляющей в ходе театральной реконструкции становятся вещественные свидетельства, музейные раритеты, без которых бывает весьма затруднительно представить себе реальность некогда бывшего театрального действия. Театральные маски, костюмы, элементы бутафории и реквизита, дошедшие с давних времен и доступные «сенсорному» восприятию историка, зачастую дают очень много в понимании театральной природы сценического действия.
122 Конечно же, как и при любой исторической реконструкции, одним из важнейших источников театроведческого анализа являются литературные свидетельства. Здесь имеют значения материалы специальной и общей прессы, переписка, а также мемуары современников. Безусловно, именно эти источники неприкрыто субъективны, потому что каждый из них дает взгляд на происшедшее театральное событие, присущий именно этому автору. Но всякое такое восприятие безусловно и непременно является элементом тех активных взаимодействий в зрительном зале, которые только и дают образ коллективного восприятия спектакля.
Несомненным источником для изучения театра являются режиссерские записи, заметки на полях пьесы и роли, стенограммы репетиций, дневниковые записи участников и свидетелей творческого процесса, позднейшие мемуары. Режиссерские экспликации и актерские дневники, которые ведутся для себя, позволяют сопоставить режиссерский замысел со сценическим воплощением, понять творческий процесс актера, путь режиссера. Дневники наблюдателей репетиционного процесса и мемуары, с одной стороны, дают ключ к пониманию метода, с другой — являются отражением тех наблюдений, которые профессионал (театровед или режиссер) пропускает сквозь свое сознание и свою жизнь. Анализу подлежит не только текст таких записей, но и их хронология, личность автора, являющегося таким же посредником между театральным фактом и историком-исследователем, как и театральный критик, отрефлексировавший в своем тексте конечный результат — произведение театрального искусства.
Реконструируя то или иное театральное событие, историк не может не использовать свой личный театральный опыт: ощутить природу театра иначе невозможно. Но, с другой стороны, он должен обладать развитым воображением, способностью смоделировать и прочувствовать исторически детерминированную форму театрального события, включая абсолютно конкретные, характеризующие только данное представление живые детали. Здесь наиболее очевидная опасность — модернизировать реконструируемый исторический факт; так порою и происходило с историками театра, когда, например, стремились найти «признаки реализма» в произведениях театра всех эпох или пытались ассоциировать художественную целостность спектакля исключительно с фигурой и функциями режиссера, который автором спектакля до конца XIX века не был. И все-таки эмоционально-интеллектуальный аспект, двойственный и единый, — обязательное условие полноценной историко-театральной реконструкции.
123 Разумеется, сказанное ранее вовсе не исчерпывает всего многообразия необходимых для историка театра источников. Касаясь, к примеру, воссоздания отечественных спектаклей XX века, исследователь непременно обратится к стенограммам заседаний художественных советов, свидетельствующих о «вписанности» или «невписанности» театрального явления в политический и идеологический контекст эпохи.
В последние годы многим стало казаться, что спектакль наиболее объективно запечатлевается на видеоносителях. Это не так. Если камера снимает спектакль с одной точки, общим планом, теряется возможность тех смысловых и мизансценических крупных планов и акцентов, которые существуют в композиции каждого спектакля и которые, соответственно воле режиссера, отмечает сознание зрителя. Если запись производится с нескольких точек, имеет крупные актерские планы и переходы и затем монтируется, мы сталкиваемся с интерпретацией спектакля в виде монтажа. Объективированное восприятие театрального художественного текста, в том числе в процессе видеозаписи, невозможно в принципе. Только критик, сидя в зрительном зале, имеет оптику в виде «широкоугольного» объектива своего восприятия, другие источники этой оптики не имеют.
Тем не менее видеозаписи, радиозаписи, фотографические материалы являются важными источниками для изучения театра. Технический прогресс постепенно увел театральную фотосъемку от постановочных фотографий к «синхронной» съемке во время самого представления, цифровая фотография дает возможность посекундной съемки сцены со всеми ее изменениями, и часто фотоматериалы дают больше, чем видеозапись, особенно когда та «постановочная».
Используя аудиозаписи, исследователь тоже должен делать поправку на «предлагаемые обстоятельства» фиксации: время, когда спектакль записан, и техническое оснащение — студийные записи (театр у микрофона) категорически отличаются от тех, которые сделаны по ходу спектакля.
С особой осторожностью следует подходить к материалам, найденным в интернете. Анонимное авторство текстов, отсутствие научного аппарата, неряшливость оформления — все это должно вызывать сомнение в достоверности этих материалов.
И, наконец, последнее — оформление источников. Конспектируя или делая из них выписки в библиотеках, архивах, музеях, необходимо приучить себя сразу же давать полное библиографическое описание статьи, книги или легенду архивных документов в соответствии с принятыми 124 правилами. Это сэкономит время в дальнейшем и поможет создать безупречный научный аппарат при оформлении исследования.
Впрочем, об этом замечательно сказано у У. Эко: «Нормы библиографического описания составляют собой, так сказать, красу научного этикета. Их соблюдение указывает на привычку к науке, а их нарушение выявляет выскочку и неуча и нередко бросает позорящую тень на работу, казалось бы, приличную на первый взгляд»158*.
Глава 5.
ТЕАТРАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ
В общенаучном представлении «теория» завершает ряд понятий, в которых закреплены результаты исследования: концепции — законы — теории. Однако в искусствоведении, так же как во всех тех областях знания, где у объекта есть история, теорию приходится одновременно понимать и несколько иначе — не как высшую ступень знания. Подобно всякой другой, театральная теория обязана создавать и хранить знание о сущности своего объекта. Что такое театр? — вот главный вопрос, на который должна ответить эта отрасль знания. Но один из самых серьезных и неотменимых ответов будет таков: театр — это история театра. Просто говоря, театр научно может быть понят только совместными усилиями истории и теории. По-видимому, они исследуют разные стороны одного объекта; в его пределах у них разные предметы. История — главная база теории, но историк способен освоить свой предмет лишь тогда, когда естественным образом движется от начал театра, от его истоков в будущее, а теоретик начинает с каждого на данный момент «конца». Всякую сегодняшнюю стадию развития театра современный ей теоретик обязан счесть настолько развитой, что театр как театр проявил себя на этой стадии вполне. А затем теоретическая мысль начинает движение вспять, к истокам, к генезису, неумолимо отсекая при этом любое историческое своеобразие. Цель этой операции — уловить то, что объединяет театр XX века с театром XIX века, XX и XIX с XVIII и так до V века до новой эры, до тех театральных форм, которые, как кажется, не с чем уже сравнивать. «Театр» для историка — это движение во времени разнообразных и, как он предполагает, театральных форм. Для теоретика «театр» — то, что все эти формы 125 делает историческими вариантами одного. В результате первая теоретическая гипотеза вынужденно оказывается бедной и почти абстрактной схемой. Но история театра в этой схеме все-таки есть, только в свернутом, «снятом» виде.
Поскольку «театр» — явление принципиально многостороннее, его теоретическое освоение тоже многоаспектно, мысль вынуждена двигаться в нескольких направлениях: театр необходимо изучать одновременно как институт, как особого рода организацию, как специфическое производство и т. д. Теория театрального искусства в этом комплексе должна занимать место пусть важнейшей, но части. Нужна, стало быть, и общая теория театра. Но если в каждой из указанных частей гипотетической общей теории есть свои накопления, то самой этой общей теории театра сегодня еще нет. Между тем, если, например, искусство и производство в театре действительно стороны одного и того же феномена, это требует объяснения, нужны внятные представления о механизмах, позволяющих столь разным свойствам и функциям быть именно сторонами и функциями одного. Можно предполагать, что театральное искусство «производится» таким, а не другим способом не случайно, что художественная организация спектакля каким-то неявным образом корреспондирует с организацией театрального дела, что театральное искусство не зря именно так, а не иначе институциализировано. Но очевидно, что ни этих, пусть и правдоподобных, гипотез, ни эмпирических фактов, которые, может быть, и подтверждают такие догадки, для построения общей теории театра недостаточно. Это знание еще впереди.
Лишь в одной области теории театра — в теории театрального искусства — наука имеет огромный запас идей и обобщающих концепций. Но даже в этой сфере слишком мало представлений, которые можно было бы уверенно счесть хотя бы общепринятыми для театрального сообщества или для сообщества театроведов. А таких, что значат одно и то же для всех, не существует, кажется, вообще.
Тому есть несколько объяснений. Во-первых, театр относится к системам очень высокого порядка, то есть таким, которые не только творчески самоорганизуются, но и саморефлексируют; здесь процесс постоянного созидания себя неотрывен от неустанных попыток себя понять. Не случайно столь велик и незаменим вклад, который внесли в теорию театра его практики. Но нельзя не видеть, насколько эта часть теоретического знания о театре специфична: художник не обязан и просто не может быть объективен; разработанная Брехтом теория 126 эпического театра несомненно теория, но она теория театра Брехта, а не теория театрального искусства.
Во-вторых, многовековая история теории вместе со всей историей знания о театре прошла разные этапы, и по крайней мере на начальных теория принципиально невычленима из синкретического «общего» знания. В этом отношении особенно показателен самый первый этап, который по праву связывают с «Поэтикой» Аристотеля. Как известно, театр там еще не отделен от драматической поэзии, так что будь это и теория в терминологически строгом смысле, ее следовало бы называть теорией драматического искусства. Но даже этой теории в собственном виде «Поэтика» не содержит. В самом деле, учение о мимесисе и вместе с ним первые представления об отношениях искусства и действительности, об особом художественном предмете подражания стали основанием эстетики; мысли, касающиеся способов и средств подражания, — базой для разделов общего искусствознания; будущая теория театра вправе присвоить себе, может быть, только суждения о структуре и композиции трагедии.
Такой подход к театру, при котором теоретическое знание даже не часть, а сторона другого целого, стал определенной, именно философской традицией, и традиция эта вбирает в себя такие важные для теории театра идеи, как, например, те, что были сформулированы Гегелем или Ницше.
Но в Новое время стали возникать и собственно театрально-теоретические комплексы. Знаменитый «Парадокс об актере» Дидро несомненно принадлежит к их числу — это фундаментальный труд, непосредственно посвященный теории актерского искусства, то есть для того времени решающей части театральной теории. И все-таки не всей теории. Конечно, своего рода «частичность» здесь не может быть оценкой, но эту особенность театрально-теоретического знания нельзя не отметить как характерную черту теории театра, создававшейся в Новое и Новейшее время. Попытки построить общую теорию театрального искусства были тогда связаны большей частью с тем, как понимали это искусство разные художественные направления и течения, исторически сменявшиеся одно другим или соседствующие. Дискуссии о театре, таким образом, и здесь были скорей борьбой эстетических концепций, чем сопоставлением собственно театрально-теоретических идей. А в первые десятилетия XX века даже само по себе намерение построить некую всеобщую теоретико-театральную модель казалось предприятием если не вовсе схоластическим, то уж, во всяком случае, и философски и методологически 127 бесперспективным. Тем более что в ту эпоху поколебленным оказался сам художественный статус театра.
Театральная теория оставалась иногда важнейшей, но всегда стороной историко-театральной или театрально-критической мысли. Формально и тот качественный перелом в знании о театре, который был связан с рождением научного театроведения, изменил, кажется, немногое. Однако эти немногие изменения были чрезвычайно знаменательны. Режиссерская революция всерьез коснулась самих оснований театра, поэтому вопрос о том, что есть театр, в прямом или едва скрытом виде неизбежно становился одним из самых актуальных, так что не стоит удивляться тому, что едва ли не любое сколько-нибудь значимое высказывание тех лет готово было обернуться театрально-теоретическим манифестом.
Не менее знаменательна и другая сторона дела. Тогдашнее пренебрежение «чистой теорией» объясняется не столько темпами развития театра, за которым театроведению не всегда случалось угнаться, и соответственно острой потребностью хотя бы просто зафиксировать обрушившиеся на театральное сознание открытия. Вероятно, это так. Но все-таки именно в это самое время театр открылся науке не просто как череда спектаклей, но как смена театральных систем. Это сразу, резко подняло историко-театральное знание на новый уровень, но ведь точно то же произошло и с теорией: она впервые стала осознанно историчной.
Одновременно начал осознаваться еще один факт, который нельзя недооценить. Историческое тело театра уже нельзя было представлять как сумму или даже синтез всех спектаклей всех времен и народов. Понимание истории театра как истории театральных систем привело к созданию теоретической истории. Выяснилось, что различия между театральными системами не только конкретно-историчны, а еще и отчетливо теоретичны и что именно и только спектакль является полноправным и суверенным «носителем» теоретических свойств театра. В самом деле, сама системность вновь открытых образований и ее качество, особенности структур и специфика содержаний, типы композиций и пр. — все это можно было отыскивать только в спектакле. В глазах историка спектакль, для искусства театра самый революционный, самый переломный, существен постольку, поскольку в нем счастливо сошлись богатое прошлое и перспективное будущее. Великий спектакль — такой, который максимально представляет театральный процесс. Для теоретика спектакль важен как полноправный представитель 128 театра: для него в каждом спектакле должны быть все без исключения свойства театрального искусства.
Такой взгляд на вещи никак не грозил рождающейся теории театра каким бы то ни было усечением; напротив, должен был сформироваться новый, «внутренний» этаж теории театра — теория спектакля.
Кажется, общая тенденция развития театральной мысли обещала дальнейшую дифференциацию: вслед за самоопределением научного театроведения то же неизбежно должно было случиться с его частями. На деле образовался уникальный историко-теоретический синтез. Он отдаленно напоминал давний синкретизм, но он был синтезом, то есть составные его части были уже вполне развиты. Именно в эту эпоху и были заложены все решающие основания современных театральных теорий. Так, в суждениях о смене театральных систем эти образования понимались именно как театральные и именно как системы. Каждая из них состояла, во-первых, из театральных частей, и части эти были поименованы. Главными здесь были не персонажи пьесы, а актеры, которые играют роли, пространство их игры и зрители. Во-вторых, эти зрители и лицедеи, роли, сценические подмостки, вещи и прочее — были отчетливо и осознанно трактованы как связанные между собой. В-третьих, театральность, которая до этого была знаменем одного направления и врагом другого, но во всех случаях не нуждалась в том, чтобы быть внятно артикулированным понятием, — и она тоже, и тоже впервые, получила теоретическую прописку. Согласно Н. Н. Евреинову — в психике человека жизни, согласно идеям гвоздевской школы — в специфике театрального содержания, которая вытекает из системы спектакля и диктует его формы. Наконец, в-четвертых, сами театральные формы, независимо от языка описания, были поняты не как оформление, а как материализация театральных идей. Уже этого достаточно, чтобы оценить созданный в 1910 – 1920-е годы театрально-теоретический комплекс как принципиально новую фазу в развитии этой ветви научного знания о театре.
Теория естественно связана с методологией: способы исследования прямо зависят от того, как именно понимаются объект и предмет исследования. Но во второй половине XX столетия в театроведении эта связь стала особенно тесной и едва ли не демонстративной. Один из самых распространенных с середины века методов гуманитарных наук, семиотический, несомненно и прямо спровоцирован всеобщим интересом к коммуникативной функции искусства, театра в частности, попыткой понять театр как язык, а спектакль как текст. Столь же очевидны 129 связи теоретических концепций с другими методологическими подходами, бытующими в современном театроведении. Но не менее существенны и обратные связи, встречные влияния. Особенно заметны они в западноевропейском театроведении, где, в отличие от советского 1930 – 1950-х годов, теория в известном смысле и представляла академическую, так называемую университетскую науку о театре. Современная западноевропейская теория разнообразна и плюралистична. Теоретические концепции рождаются свободно, и потому их множество. Объединяет их по существу одно — самоочевидная для каждого теоретика методологическая ориентация. Это, конечно, не значит, что теорий ровно столько, сколько методов. Существенней иное: поскольку современные методы исследования большей частью не склонны агрессивно претендовать на универсальность, театрально-теоретические концепции достаточно мирно соседствуют с другими, каждая из них трактует о тех или иных сторонах и свойствах театра, по умолчанию оставляя без внимания другие стороны и свойства.
Но в этой впечатляющей пестроте есть, по-видимому, некоторые общие тенденции. Рядом с традиционной уже идеей спектакля-текста в последнее время набирает авторитет другая — идея театра-акции, театра-действования. По отношению одна к другой они выглядят чуть ли не прямыми оппозициями. В самом деле, семиотические теории, даже с многочисленными оговорками и содержательными коррективами, которые вносит время, базируются на том, что единственная театральная ценность — это совокупность знаков, составляющих сценический текст, и их значений; сцена же и диктует зрителям, как именно следует читать ее тексты. В любом случае, например, человек на сцене не должен читаться как человек, но как знак человека. Это, в сущности, и делает театр искусством. Перформативистские теории, напротив, исходят из того, что человек на сцене не «означает», а «есть». «В искусстве перфоманса, — справедливо пишет Э. Фишер-Лихте, которая в последнее время эту перформативистскую теорию представляет, — тело исполнителя… вообще перестает быть знаком для представления драматического персонажа и воспринимается прежде всего в своем феноменальном значении»159*. Решающим для актера, значит, становится не «играть роль», а «быть» — быть одним из участников события, другим и равноправным участником которого становится зритель. Есть уникальное событие их встречи, и это событие несомненно действенно. Не всякий 130 перформанс спектакль, но всякий спектакль перформанс. Это значит, что спектаклем является и такое действо, в котором актеры не играют, где они, например, наносят себе травмы, то есть где они, согласно традиционной точке зрения, просто не актеры, точно так же как зрители здесь не традиционные театральные зрители.
Э. Фишер-Лихте настороженно относится к современным попыткам погрузить театроведение в культурологию. Но, по всей видимости, и семиотический и «перформативистский» подходы как раз в этой области между собой сближаются. Театральное произведение можно и должно рассматривать как своего рода знаковую систему. Но критики семиотических теорий не случайно указывают на то, что семиотика слишком активно присоединяет театр к другим коммуникациям и театр поворачивается к науке не специфически художественной своей стороной. Когда подчеркивают общность между перформансом и театральным произведением и таким образом смело расширяют объем понятия «театр», этот самый театр снова теряет — на этот раз и «художественный образ», и вместе отличие игры от жизни.
Несомненно, новейшие теоретические модели свидетельствуют о том, что наука слышит подсказки современной театральной (и особенно «паратеатральной») действительности, желает усвоить, в частности, опыт нынешнего авангарда. В конце концов, это говорит о том, что теория жива и развивается. Но, особенно если учесть традиции российской теоретической мысли, приходится говорить о разных направлениях этого развития. Еще вчера казалось и было естественным ответ на вопрос о сущности театра искать в глубинах театральной специфики. Завтра может оказаться, что граница между театром и не театром располагается там же, где рубеж между искусством и не искусством.
Глава 6.
ИСТОРИКО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ
История театрального искусства является неотъемлемой частью науки о театре. Как всякое историческое знание, она оперирует эмпирическими фактами, связанными с некогда бывшими театральными представлениями, и имеет своей целью как описание и последовательное изложение хронологически следующих друг за другом театральных событий в определенном историко-культурном контексте, так и выявление закономерностей саморазвития театрально-художественных систем.
131 РАЗДЕЛЫ ИСТОРИКО-ТЕАТРАЛЬНОЙ НАУКИ
Одним из самых старых и традиционных направлений собственно театрального знания является изучение актерского искусства. В различных национальных школах науки о театре, в разных жанрах, начиная с информативных статей в энциклопедиях и словарях вплоть до отдельных монографий, в изобилии представлены творческие биографии актеров прошлого. Здесь эмпирический принцип, связанный со сбором и изложением фактов творческой деятельности мастеров сцены, естественно перерастает в биографический подход, где искусство актера находит свою опору и объяснение в коллизиях его жизни, в его личности и нравственно-психологической природе160*. Однако в эпоху бурного развития различных театральных систем XX века исследователи стали рассматривать искусство актера уже не изолированно, а в социально-историческом и системно-теоретическом контексте, что не могло не сказаться и на подходах к истории актерского творчества. В книге «Театр Мочалова и Щепкина» Б. В. Алперс, пытаясь определить пути изучения актерского искусства, настойчиво требовал «рассматривать творчество актера в историческом развитии, в его связи с социальным и общественным движением века»161*. Правда, на самом деле в большинстве случаев взамен легенд, которыми были окутаны имена многих актеров прошлого, в советском театроведении на первый план выдвинулись тенденциозно социологизированные подходы. Так, и в труде самого Б. В. Алперса «Актерское искусство в России»162*, изданном в 1945 году, противопоставление московской и петербургской актерских школ получило подчеркнуто социальную мотивацию, а прошлое было истолковано исключительно сквозь призму актуализированного предпочтения реализма театральной условности, что привело к известного рода искажениям достоверной исторической картины. Рассмотрение актерского творчества в социально-историческом, а по сути идеологизированном контексте на долгие годы стало ведущим направлением в отечественном театроведении. Однако вместе с тем крепло и понимание связи между индивидуальным актерским творчеством и определенными историко-театральными системами. Наряду с типологизацией творчества актера 132 в соответствии с театрально-эстетическими принципами различных художественных эпох и соответствующих им стилей и методов («классицистский актер», «романтический актер», «реалистический актер»), предметом исторического изучения становятся такие феномены, как «актер театра Станиславского», «актер Мейерхольда», «актер Таирова» или «актер вахтанговской школы». Такие понятия были вполне узаконенными и достаточно определенно характеризовали различные тенденции развития актерского искусства. Еще в 1930-е годы Б. В. Алперс предпринял попытку охарактеризовать логику театральной системы Мейерхольда через способ актерского существования. И, хотя многие из выводов и оценок исследователя сегодня кажутся спорными, нельзя не признать, что он достаточно последовательно продемонстрировал жесткую зависимость творчества актера от саморазвития режиссерской системы163*. Тенденция рассматривать актера системно — характеристическая черта нашего времени. Здесь весьма показательной является коллективная монография сотрудников Российского института истории искусств «Русское актерское искусство XX века»164*.
В современном западном театроведении можно назвать фундаментальную работу французской исследовательницы С. Пруст с выразительным название «Управление актерами», которая дает теоретическое обоснование рассмотрения актерского творчества лишь в контексте той или иной режиссерской системы165*. Наряду с этим на Западе в последние десятилетия стали популярны такие оригинальные подходы, как изучение истории актерского искусства с точки зрения тендерных проблем, сквозь призму социально-ролевых функций личности и национальных архетипических моделей, в контексте психоаналитических процессов, в историко-культурном и интеркультурном аспектах, а также в рамках театральной и общей антропологии. Возникают целые серии работ о женщинах-актрисах, о своеобразном «гендерном замещении» и «социальных переодеваниях», о феномене актеров-звезд, о черных или цветных актерах в системе европейских или интеркультурных координат166*.
133 Одним из важнейших и также традиционных направлений науки о театре является изучение репертуара, который сегодня осознанно отличают от драматургии вообще. Ведь зачастую репертуарными, важными для театрального развития становятся отнюдь не шедевры драматургии, а пьесы, обладающие скромными литературными достоинствами. Изучение не только и не столько «ключевых» названий, сколько так называемого «ходового» репертуара является насущной задачей. В этой связи нужно назвать не только работы, характеризующие общие тенденции репертуара в определенные историко-театральные периоды, но и такие исследовательские жанры, как «сценическая история пьесы», «театр отдельного драматурга» (история постановок пьес одного автора) или изучение какой-либо одной репертуарной ветви театра (например — «национальная классика», «современная пьеса», «зарубежная пьеса» и т. д.).
Во второй половине XIX века, когда идеи радикального реформирования сценического пространства начинают интенсивно развиваться в живом театре, появляются труды по истории сценического оформления и техники сцены. В самом начале XX века как в Западной Европе, так и в России проблемы сценической площадки становятся чуть ли не базисом театроведения. Одна за другой появляются истории оформления сцены в различные театральные времена. В них прослеживается теснейшая связь между изобразительной стороной дела и организацией сценического действия.
Здесь, однако, была (и осталась) своя сложность. Встречаясь, например, с эскизами художника, мы имеем дело не с самим элементом сценического произведения, а с его проектом. И как бы хороши и совершенны ни были сами по себе эти эскизы, все в конечном счете решает их реальное воплощение и функционирование в спектакле. Не случайно в театроведении наметилось два одинаково оправданных подхода к истории сценического оформления спектакля. Один связан с анализом изобразительных свойств декорации, костюма и т. д., другой — с исследованием пространственного образа спектакля. До недавнего времени сторонники первого предпочитали изучать рисованные или писаные декорации, адепты второго — конструктивные решения. Именно к конструктивным решениям поначалу применяли понятие «сценография». Сегодня подобное разделение становится все менее обоснованным: в мире рисованных декораций пространственно-планировочные и динамические характеристики так же существенны, как и цветовые, световые или фактурные характеристики для «конструктивных» решений. Специалисты 134 по изобразительным искусствам и театроведы нынче одинаково свободно ориентируются в любом типе пространственных решений сцены и все чаще склоняются к историческому подходу: «сценографией» называют «театрально-декорационное искусство» режиссерской эры — режиссуру пространства.
Весьма актуальной продолжает оставаться история театральной техники: технология сцены, строение сценической площадки, система сценического освещения помогают зримо и с максимальной долей конкретности представить себе спектакли прошедших эпох. Несмотря на то, что книг по театральной технике и технологии с каждым годом становится все больше, многие важные технические детали проведения спектаклей остаются еще не вполне проясненными. Техника «чистых перемен», строение и модификации павильонов, система функционирования занавесов, соотношение освещения в зале и на сцене, технология создания «панорам», «живых картин», отдельных световых, динамических и звуковых эффектов в театре XVIII – XIX веков по-прежнему требуют подробного описания и анализа.
Одним из важнейших разделов истории сценического искусства является история режиссуры. Здесь основная проблема связана с тем, как именно понимать режиссуру в исторической ретроспективе. Устоявшееся мнение о том, что режиссура как структурообразующее искусство возникла в конце XIX – начале XX веков, нередко ставится под сомнение в связи с тем неоспоримым фактом, что система организации театрального представления практически уже существовала на самых ранних исторических этапах развития театра. Само же слово «режиссер» получило широкое хождение в европейском театре с XVIII века. Но даже говоря об истоках и предпосылках режиссуры в узком, строгом понимании, нельзя не обращаться к деятельности, а иногда и к творчеству людей, которые формировали театральное зрелище как единое художественное целое. Опыты просветительского (Лекен) или романтического театра (Л. Тик, Ч. Кин) давали блестящие образцы вдумчивой и творческой работы в этом направлении. Так называемая «авторская режиссура» (А. Н. Островский), попытки актеров, театральных администраторов, суфлеров и режиссеров по должности взять на себя художественную организацию спектакля — темы, вполне достойные как отдельного, так и комплексного изучения в контексте развития постановочного искусства и «предрежиссуры».
И все-таки именно история театра XX века во многом видится как история развития, диалога и смены режиссерских театральных систем. 135 В этом отношении характеристика искусства того или иного режиссера может рассматриваться как индивидуально-биографически, так и с точки зрения его художественной системы, творческого метода, формирующего различные элементы в единое образно-смысловое целое. Анализ творчества режиссера в контексте театрально-эстетического движения, так же как в контексте национальной культуры или интеркультурном театральном пространстве, позволяет рассматривать движение театральных систем как некий историко-театральный процесс, что, собственно, и означает создание истории режиссуры.
Если творчество режиссера или взаимодействие нескольких индивидуализированных систем может стать объектом истории театра Новейшего времени, то историю спектакля можно и должно проследить на всем протяжении существования зрелищных искусств. В этом отношении «спектакль» как объект и предмет историко-театрального знания становится той художественной единицей, в которой фокусируются самые различные художественные взаимодействия. Здесь, как в капле воды, отражается весь театральный мир с его многослойностью и многофункциональностью. Исторически обусловленные взаимоотношения внутри системы «актер — роль — зритель», взятые в пространственно-временном континууме, практически и формируют исторический тип спектакля. Такая историко-типологическая модель, вбирая в себя обстоятельства большого культурно-исторического круга, в конечном счете и становится внутренней основой научной истории театра.
История спектакля есть одновременно и история развития его историко-типологических моделей, и анализ конкретных художественных явлений, в которых преломляются все эти генерализирующие процессы. Особый интерес в этом смысле представляет возможность реконструкции и исследования спектаклей-противоречий, спектаклей-драм, а зачастую и спектаклей-катастроф, которые позволяют проследить, как магистральные силовые линии историко-театрального развития преломляются в художественной материи конкретного сценического произведения и в его восприятии публикой и критикой.
Историко-театральное знание дифференцируется. История театра перестает быть историей театрального искусства. Уже возникла и по существу конституировалась история театрального дела или развивается так называемая историческая социология театра, которая исследует процессы функционирования сценических произведений, их восприятие публикой и критикой. Этот раздел знания позволяет, в частности, 136 осмыслить механизмы социального бытования театральных спектаклей и многое объяснить в таком феномене, как популярность тех или иных актеров, режиссеров, сценических форм, жанров и организационных моделей театра. Большие перспективы у истории организационно-финансовой деятельности театральных коллективов и т. д. В этом отношении, например, работы, посвященные театральным реформам, помогают многое понять и в художественных процессах. Это значит, что вопрос о связи между разными «историями театра» перестает быть абстрактным.
ИСТОРИКО-ХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ
И РЕГИОНАЛЬНО-НАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
Хронология является основой любой исторической модели театрального процесса. Как известно, история театра начиналась с простого фактологического описания выстроенных в хронологической последовательности театральных событий. Однако уже первые хроники имели своей целью охарактеризовать этапы историко-художественного развития, выявить между ними причинно-следственные связи. В любом историческом описании рано или поздно встает проблема периодизации.
Безусловно первой и наиболее общей, порой не учитывающей специфику развития театра как рода искусства, является периодизация в соответствии с эпохами развития общества. Принцип «укрупненной» периодизации — деление на античный, средневековый театр, театр эпохи Возрождения, сценическое искусство Нового и Новейшего времени. Более конкретная и одновременно приобретающая комплексный характер периодизация определяется сменой эпох, связанных с известными формами историко-художественного сознания. Так, совершенно закономерно возникают истории театра елизаветинской эпохи в Англии, «золотого века» в Испании, времен Людовика XIV во Франции, екатерининской эпохи в России, рубежа XIX – XX веков, до и после Первой или Второй мировой войн, до и после событий 1968 года в Европе.
Существует и другой, конечно же связанный с первым, принцип периодизации. Он опирается на движение самих художественных форм, смену эстетических парадигм. Так, закономерно говорить о театре классицизма, романтизма, реализма, натурализма, символизма, футуризма, экспрессионизма и т. д. При этом необходимо учитывать, что собственно 137 художественная периодизация может не совпадать с этапами гражданской истории. Попытки синхронизировать смену театрально-художественных систем с социально-экономическими и социально-политическими переменами в советской истории, а тем более напрямую вывести первые из вторых приводили к грубой вульгаризации. Сегодня очевидно, что смена театральных моделей имеет заведомо многоуровневый характер, а разнообразные воздействия на театральный процесс чаще всего сложно опосредованны.
Одной из существенных проблем историко-театрального знания является констатированное всеми без исключения историками театра неравномерное и качественно разнообразное развитие различных театральных культур. Так, скажем, в русском профессиональном театре, сформировавшемся лишь к середине XVIII века, эстетические признаки классицизма и барокко оказываются смешанными и формируются под знаком просветительства, которое в Западной Европе следовало за расцветом классицизма XVII столетия. Этот критерий не оценочный: конгломерат стилей, побуждающий к «экстрактному» восприятию принципов европейского театра, впоследствии придал русской культуре, в том числе и театральной, особую энергию саморазвития. Не исключено, что это было одной из причин, по которым русский театр на рубеже XIX – XX веков начал задавать тон не только в европейской, но и в мировой театральной культуре.
Неравномерность развития в пределах театра Европы и Нового Света дает возможность ясней увидеть единые типологические свойства так называемого западного или, как говорят на Востоке, диалогового театра, который в нашем сознании, к сожалению, нередко еще ассоциируется с театром вообще. На этом фоне становится особенно актуальной другая проблема — связанная с различиями в путях развития западного и восточного театров. У них общие родовые признаки, но разная история. Традиционные восточные театры (например, китайский, корейский, японский) долгое время существовали как замкнутые консервативные театральные системы; сохраняя своеобразие, они долгое время были закрыты для интеркультурных, интеграционных процессов. Именно это обстоятельство делало изучение этих театров для европейцев достаточно затрудненным, так что европейская история восточного театра писалась совершенно автономно и исключительно специалистами по восточным культурам. Значительный перелом в отношениях между театрами Востока и Запада произошел в XX веке, когда на Востоке, параллельно традиционному, родился так называемый 138 «разговорный» театр, отсылающий к европейской модели. Позднее, уже в наше время, в Японии, Корее и Китае начались гораздо более радикальные поиски творческого синтеза между традициями национального театра и европейским сценическим искусством. С другой стороны, неоспорим интерес европейского театра XX века к восточным моделям. С восточной традицией активно работали и Станиславский, и Мейерхольд, и Брехт, и Арто, и Брук. Все это создало предпосылки для того, чтобы уже с середины XX века включить восточный театр в конгломерат истории мирового театра.
Этот «интеркультурный круг» постоянно расширяется; сейчас в него включены и театр африканских народов, и театр Латинской Америки, и полинезийские театральные действа. В повестке дня оказался поиск такой универсальной модели, с помощью которой можно, не боясь асимметричного, несинхронного развития театра разных стран и регионов, создать научную историю мирового театра.
ПРЕДЫСТОРИЯ И ИСТОРИЯ
РУССКОЙ ИСТОРИКО-ТЕАТРАЛЬНОЙ НАУКИ
Историография русского театра начинается уже в XVIII веке хроникой Я. Я. Штелина, который первым попытался определить «правильные» формы спектакля (в статьях «Санкт-Петербургских ведомостей» и в «Прибавлениях» к ним в 1730 – 1740-е годы), а затем, по мере накопления театрального опыта в России, описать спектакли и составить их хронологию167*. Это был по-своему культурологический труд: Штелин рассматривал развитие театра в России в историко-культурном комплексе, выявляя типические для Европы и специфически российские черты. Эти тенденции получили развитие и в «мифической» хронике А. Л. Шлецера, затерявшейся где-то в немецких архивах. В ней, по мнению современников, были запечатлены образы виденных им спектаклей. Важным этапом в осмыслении исторического и современного театрального опыта стал в 1770-е годы «Словарь русских писателей» Н. И. Новикова168*. Здесь имена крупнейших артистов и драматургов были осмыслены в соответствии с их вкладом в сценическое искусство. В это 139 же время в разнообразных путеводителях и описаниях Санкт-Петербурга (А. И. Богданов, И. Г. Георги и др.169*) непременно рассказывалось о театральных зданиях, отдельно характеризовалась система управления, репертуар, персоналии драматургов и ведущих артистов170*. Хроника между тем оставалась, пожалуй, единственной формой, где все эти элементы могли быть сведены воедино. Именно такую попытку «смоделировать» историю театра в документах спектакля предпринял по заданию Российской Академии наук занимающий положение первого актера российской императорской труппы И. А. Дмитревский. Легенда гласит, что эта утраченная в пожаре рукопись послужила основой для опубликованной уже в середине XIX века апокрифической хроники И. Носова171*. Точны или не точны приведенные в этой хронике сведения и детали в общенаучном смысле, неясно, но в ней опосредованно присутствует восприятие спектакля как единого целого, «де факто» поднят вопрос об истоках русского театра, а русские спектакли поставлены в контекст деятельности иностранных трупп в России. Хроника П. И. Сумарокова, опубликованная в 1820-х годах, представляет собой первую попытку прочертить линии эстетического развития российского театра. Ее автор четко подразделяет спектакль на литературный, драматургический материал (с его собственной жанровой системой) и актерское искусство, которое призвано лишь «дополнять» содержательную основу пьесы172*.
В 1840-е годы к осмыслению истории сценических форм русского театра обратился А. А. Шаховской. Его восприятие было сугубо театральным, так что он говорил именно о сценическом искусстве и, в частности, составил своеобразный реестр знаменитых театральных событий173*. Несколько позже, в 1860-е годы, П. Н. Арапов создал посезонную «Летопись русского театра»174* (от истоков в XVII веке до 1825 года). Здесь возникла традиция, которая затем на долгие годы утвердилась в русской 140 театральной историографии: ведущим и определяющим в изучении театра становится «репертуар». При таком подходе, с одной стороны, фиксируется динамика театрального процесса, его историческая реальность, с другой стороны, собственно сценические свойства спектакля все-таки отступают перед тематическим принципом группировки материала. Историческую периодизацию П. Н. Арапова определяют правления российских императоров. Поскольку и стиль жизни, и характер эстетических предпочтений формировался вкусами и представлениями императора и его двора, это закономерно. Однако уже «Александровскую эпоху», которой Арапов завершает свою Летопись, охарактеризовать довольно сложно, ибо театральное движение в этот период определялось не столько волею и вкусами царя, сколько борьбой художественных группировок и вкусами публики.
Огромный период развития русского (в первую очередь петербургского) театра был осмыслен в Хронике А. И. Вольфа175*, которая первоначально охватила «Николаевскую эпоху», а затем и весь период развития императорских театров с 1825 года вплоть до начала 1880-х годов. Здесь сохранен тот же «репертуарный принцип», и статистика в основном представляет частоту проката тех или иных названий, популярность тех или иных авторов, репертуар тех или иных актеров («сюжетов») петербургской сцены. При этом, однако, Вольф ввел повествовательные, характеристические тексты, позволяющие объяснить и прокомментировать принципы актерской игры и «обстановку» спектаклей, представить вкусы публики, обозначить тенденции. Такие «контекстуальные» комментарии позволяли воспринимать театральный процесс до известной степени целостно.
Важным этапом в осмыслении истории русского театра стало введение Н. М. Тихонравовым в оборот текстов старинного русского театра начиная с допетровской эпохи176*: филологические открытия 1870 – 1880-х годов существенно расширили представления о сценических формах русского театра, а также о национальном своеобразии русского театрального искусства, и это не замедлило отразиться на обсуждении вопроса о путях и тенденциях развития театра в России. Труды по истории 141 русского театра XVII века, появившиеся в последней четверти XIX – начале XX века177*, скорректировали бытовавшее представление о том, что истинный и «правильный» театр в России появился лишь в царствование императрицы Елизаветы Петровны178*.
К последней четверти XIX века сформировалась устойчивая модель истории русского театра, где ведущую роль играла собственно история драматургии, а сценическое искусство, представленное творчеством актеров, рассматривалось как сугубо исполнительское. Именно такой взгляд и предопределил принцип раздельного и лишь взаимнодополняющего анализа «драмы и театра», который в течение долгого времени оставался базовым в любой истории театра. Б. В. Варнеке, читавший курс истории театра в Театральном училище, зафиксировал этого рода модель в своей книге179*. Здесь история театра излагается в соответствии с хронологическим принципом. В центре — драматургия, классифицированная по жанрам (трагедия, комедия, водевиль, мелодрама), а персоналии драматургов выделены, исходя из их литературной значимости, (А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь). Наряду с драматургами представлены и крупнейшие артисты (М. С. Щепкин, В. А. Каратыгин, П. С. Мочалов, М. Е. Мартынов и др.). Такая система, пусть и модифицированная, существует до сих пор в вузовских программах и заключает в себе известное противоречие. Драматургические шедевры рассматриваются в связи с периодом их создания даже в тех случаях, когда в театральной жизни этих эпох не участвуют (например, «Борис Годунов», «Маскарад» или «Месяц в деревне» были впервые поставлены спустя десятилетия после их написания). Становится вполне очевидно, что положенная в основу истории театра типология литературных жанров заставляет пренебречь типологией жанров театральных, с литературными не совпадающих. Такой подход к истории театра являлся по сути литературоцентристским.
Последняя четверть XIX века была связана и с ростом внимания к организационным проблемам русского театра и, в частности, императорской сцены. Здесь процесс изучения сценического искусства 142 подтолкнула необходимость театральной реформы. В. П. Погожев предпринимает попытку систематизировать российское театральное законодательство и издание архива императорских театров, пишет «Проект законоположений об императорских театрах»180*, а И. Н. Божерянов составляет исторический очерк, приуроченный к столетию Дирекции императорских театров181*. Здесь, пожалуй, впервые возникают предпосылки для изучения спектакля как организационной целостности. Изучение «театральных мелочей»182* (С. В. Танеев) позволяет воссоздать живую атмосферу театрального представления. Исследование театральной цензуры позволило поднять вопрос о соотношении литературного и сценического текста, о живом театральном восприятии литературного слова. Обращение к документам театрального архива позволяет реконструировать театральную ситуацию спектакля. Этим, по сути дела, занимается Н. В. Дризен, издавая материалы по истории русского театра и очерки драматической цензуры183*. Знаменательная идея представить театр как целостную, исторически развивающуюся систему одушевляла незавершенный труд В. В. Каллаша и Н. Е. Эфроса184*. Эта линия была продолжена уже в эмиграции Е. А. Зноско-Боровским: в его исследовании такие явления, как стиль и типология спектакля, уже занимают подобающее место185*. Речь идет о тенденции: Н. Н. Евреинов, как известно, склонен был стирать грань между искусством и театрализованной реальностью, а европейскую ориентацию развития русского театра отвергал как неистинную, эпигонскую, но при этом он фактически понимал историю театра как эволюцию типических форм театральности186*.
Первые попытки собрать и систематизировать документальные материалы для последующей научной реконструкции спектакля как театрального события осуществляет В. Н. Всеволодский-Гернгросс в работах, посвященных театру времен Анны Иоанновны и Елизаветы 143 Петровны, а также театру эпохи Отечественной войны 1812 года187*. В 1910 – 1920-е годы, изучая тексты русского и польского школьного и любительского театра, В. Н. Перетц открывает дорогу исследованию поэтики старинного спектакля в России188*.
Особое значение приобретает изучение театральной техники и технологии189*, а также устройства театральных зданий в России190*. С другой стороны, И. Н. Игнатов предпринимает исследование театрального зрителя191*, а Л. Я. Гуревич — «театрального быта» в XVIII веке192*. Сегодня очевидно, что все эти труды были разными подходами к созданию такой историко-теоретической концепции, которая позволила бы проследить историю театрального спектакля в России в динамике ее развития.
Эти поиски все более активно стимулировались движением самого театра. 1920-е годы дали импульс изучению формальных и языковых свойств сценического искусства. С другой стороны, нарастали тенденции сугубо социологического подхода. Оба эти обстоятельства оказали влияние на то, что на рубеже 1920 – 1930-х годов появился ряд работ, авторы которых попытались заново построить историю отечественной сцены. В. Н. Всеволодский-Гернгросс в «Истории русского театра» 1929 года объяснил смену художественных форм, исходя из категории действования193*. Но, подчеркивая действенную природу театрального представления, исследователь не учитывал фактор эстетического «опосредствования» и настаивал на слишком прямых параллелях между искусством и всяким иным «действованием». Гораздо в большей степени грубый, вульгарный социологизм был присущ книге Э. М. Бескина194* по истории русского театра. Прослеживая эволюцию театральных форм в своей книге «Эпохи александринской сцены» К. Н. Державин также 144 находил им сугубо социальные и политические объяснения195*. Привязка истории театра к периодам революционной борьбы с царизмом характерна и для коллективной монографии, посвященной столетию Ленинградского государственного академического театра драмы (б. Александринского театра)196*. Социологический подход к анализу смены театральных эпох и рождения новых театральных форм проявляется и в первых опытах создания истории советского театра197*.
Даже в таком «социологизированием» виде попытки понять историю русского театра как эволюцию сценических форм были надолго остановлены развернувшейся борьбой с «формализмом». История театра вновь возвращается к схеме «драма и театр», в которой доминируют идеологические мотивации. Однако представление о спектакле как самостоятельном произведения искусства не было уничтожено безвозвратно. В этой связи важны работы С. С. Данилова, посвященные сценической истории пьес, изучение документальных материалов — своеобразных носителей текста спектакля198*.
1930-е годы, когда начинает утверждаться приоритет сценического реализма и исключительное значение придается идейно-тематической основе театрального искусства, порождают серьезные искажения и тенденциозные оценки явлений истории русского театра. Исторические мифы проникают даже в работы серьезных ученых. Так, в работах Д. Л. Тальникова и Б. В. Алперса199*, посвященных проблемам театральной эстетики и развитию актерского искусства в России, возникает идея о преемственном развитии «школы реализма» в отечественном сценическом искусстве как генеральной и единственно прогрессивной линии театра, восходящей исключительно к традиции М. С. Щепкина.
Опираясь на эти идеи, некоторые исследователи пошли еще дальше, утверждая, что «система Щепкина» является естественной и чуть ли не единственной предтечей реалистического искусства и системы К. С. Станиславского. В 1940 – 1950-е годы в преддверии 200-летия со дня основания русского профессионального театра появляется ряд работ 145 и публикаций, где роль А. П. Сумарокова как идеолога российского театра отходит на второй план, в то время как значение ярославской труппы и лично Ф. Г. Волкова как представителя демократического начала особо подчеркивается. В этом отношении новые книги В. Н. Всеволодского-Гернгросса, посвященные театру XVIII века200*, все же удерживают науку от идеологизированного мифотворчества.
В академической сфере труд С. С. Данилова по истории русского драматического театра XIX века201* и Б. Н. Асеева по истории театра от истоков до XVIII века202* на долгие годы закрепляют схему «драматургия и театр» со всеми ее противоречиями, а программа для театральных вузов окончательно канонизирует такой литературоцентристский подход203*.
Во второй половине 1950-х и в 1960-е годы появляются работы А. Я. Альтшуллера об Александринском204* и Н. Г. Зографа о Малом театре205*, исследования Б. И. Ростоцкого и К. Л. Рудницкого о Мейерхольде206*. Это первые после долгого перерыва попытки непредвзято представить творческую историю развития той или иной театральной системы. В ряду значительных и определяющих работ, посвященных динамике развития сценических форм в России, следует назвать труды Т. М. Родиной, которая сосредоточила свое внимание на узловых и переломных периодах этого процесса, рассматривая явления сценического искусства в контексте художественных идей исследуемого времени207*.
Наконец, в 1970 – 1980-х годах вышла в свет семитомная «История русского драматического театра», созданная сотрудниками Всесоюзного научно-исследовательского института искусствознания, где была предпринята решительная попытка преодоления литературоцентристского подхода к театру208*. Труд действительно основан на движении реального репертуара русской сцены. Но в плодотворной борьбе 146 с литературоцентризмом естественно вставала новая, необычайно важная задача: найти корректное и убедительное объяснение той «вилке», которая в истории русского театра возникала между литературной драмой и репертуарной драматургией. И хотя эта задача была уже обозначена, она в полной мере не получила своего решения в рамках данного фундаментального проекта.
Еще на исходе 1960-х годов наше театроведение начинает активно обращаться к проблемам исторической поэтики театра, сосредотачивает внимание на изучении театральной образности, художественного языка, сценического стиля и творческих методов отдельных сценических деятелей. Решение этих задач протекало одновременно с первыми опытами создания истории русского режиссерского искусства. Одной из принципиальных работ в этой области стал составленный С. В. Владимировым сборник «У истоков режиссуры» с программной статьей «Исторические предпосылки возникновения режиссуры»209*, где спектакль дорежиссерской эпохи был впервые проанализирован как исторически детерминированная целостная форма. С. В. Владимиров сознательно отказывается от привычки некоторых исследователей переносить критерии, выработанные для анализа современного спектакля, на исторически предшествовавшие формы. К сожалению, грандиозный замысел С. В. Владимирова, связанный с созданием истории режиссуры в контексте исторической поэтики спектакля, не был реализован (в 1972 году ученый безвременно ушел из жизни), а выпущенная сектором театра НИО ЛГИТМиК серия книг, посвященная истории советской режиссуры210*, при всей значительности опубликованных в ней очерков, все же не могла претендовать на монографичность исследования.
Тем не менее движение историко-театральной науки в области изучения режиссерского искусства неуклонно продолжалось. В этой связи важное значение приобрело двухтомное фундаментальное исследование М. Н. Строевой «Режиссерские искания К. С. Станиславского», где теоретико-эстетический подход к материалу соединен с конкретно-реконструктивным211*.
147 В конце 1980-х – начале 1990-х годов вновь возникают попытки написать историю русской режиссуры. За решение этой задачи берется один из крупнейших отечественных исследователей К. Л. Рудницкий, который посвящает две книги режиссерскому искусству рубежа XIX – XX веков. Исследователь анализирует широкий круг явлений и подробно характеризует контекст режиссуры МХТ и творчества Вс. Э. Мейерхольда. Однако в своих оценках и характеристиках «предрежиссуры» автор не может избежать пристрастности и, невольно нарушая принцип историзма, рассматривает, например, искания императорской сцены лишь в свете последующих достижений и новаций режиссерского искусства и сформировавшихся впоследствии представлений о режиссуре как таковой. Экстраполяция художественных принципов режиссерского театра на предшествующую историю, а также известного рода абсолютизация режиссерского театра — характерное свойство этой работы, при том что она, безусловно, сохраняет свое научное значение, являясь наиболее полным предметным исследованием раннего этапа развития режиссерского искусства.
По-прежнему важнейшими для историко-театрального знания являются поиск и публикация новых документальных материалов, позволяющих не только заполнить «белые пятна» театральной истории, но и развеять многие легенды и стереотипы в восприятии исторических явлений. Здесь наряду с подробными хрониками жизни деятелей сцены212* следует назвать и публикации творческого наследия режиссеров, включающие постановочные документы, что позволяет реконструировать сценический текст спектаклей213*.
Особенный интерес представляют фундаментальные труды Л. М. Стариковой, посвященные истории русского театра XVII – XVIII веков214*. Как убедительный опыт документальной ревизии распространенного историко-театрального мифа о противопоставлении искусства выдающихся 148 актеров московской и петербургской школ — В. А. Каратыгина и П. С. Мочалова — следует назвать книгу Н. Б. Владимировой и Г. А. Романовой «Любимцы Мельпомены»215*.
Специальными направлениями в историко-театральном знании становятся изучение истории театральной критики216*, а также исследование организационно-управленческих и экономических принципов театрального дела217*.
Конец XX века в русском театроведении отмечен появлением обстоятельных работ, посвященных анализу различных театральных систем, определяющих как целое направление, так и творчество отдельных актеров или режиссеров. Именно такое, системное мышление, связывающее историческое движение с реалиями творческого поиска, характеризует фундаментальный труд Г. В. Титовой «Творческий театр и театральный конструктивизм», посвященный теории и практике Пролеткульта и театру «конструктивизма» 1920-х годов, а также коллизиям творческих отношений Вс. Э. Мейерхольда и В. Ф. Комиссаржевской218*. Органичным соединением высокой источниковедческой культуры, документальной реконструкции с историко-эстетическим анализом отличается своеобразная исследовательская дилогия В. В. Иванова, посвященная судьбам еврейских театров «Габима» и ГОСЕТ219*.
Русская школа изучения западноевропейского и восточного театра особенно тесно связана с филологией: помимо общей традиции воспринимать драму как главный источник театрального смысла, погружение в мир другой, зарубежной театральной культуры происходит в первую очередь через языковую среду. Такие отечественные историки западной драматургии и театра, как Н. И. Стороженко, С. А. Венгеров, П. И. Вейнберг, были блестящими литературоведами, текстологами, переводчиками. Одним из важнейших качеств, сформировавших отечественную традицию изучения западноевропейского театра, было тщательное исследование 149 иноязычных источников. В частности, такие зачинатели театроведения, как А. А. Гвоздев и С. С. Мокульский, создавшие уникальные книги по истории западноевропейского театра220* и хрестоматии к ним, пожалуй, единственные в таком объеме работали с первоисточниками в архивах и библиотеках Германии, Италии и Франции в 1910 – 1920-е годы. Эта тенденция вызвала к жизни деятельность группы исследователей и целой лаборатории при Институте истории искусств в Ленинграде, которая начала изучать историю сценической техники и сценической площадки со времен Древней Греции до начала XX века221*. В ходе исследовательской работы были экспериментально проверены (с помощью реальных обмеров и создания макетов старинных сцен) многие особенности построения действия в спектаклях минувших эпох, что способствовало уточнению и прояснению важных постановочных деталей.
С 1910-х годов целый ряд молодых режиссеров, имеющих глубокое историко-гуманитарное образование, проявил большой интерес к научно-практическому изучению различных исторических техник и стилей актерской игры. Этому способствовала деятельность по сценической реконструкции старинных спектаклей, которую вел в этот период «Старинный театр» Н. Н. Евреинова и Н. В. Дризена, с одной стороны, и «традиционалистские» идеи и опыты Вс. Э. Мейерхольда — с другой. В журнале доктора Дапертутто (псевдоним Мейерхольда) «Любовь к трем апельсинам», издававшемся в 1914 – 1916 годах, были опубликованы интереснейшие работы, обращенные к изучению практических и технологических деталей актерского искусства и принципов организации действия в театре различных исторических эпох. В результате появилась серия статей В. Н. Соловьева о Мольере и итальянской импровизационной комедии, С. Э. Радлова о технике античного актера и о сценических подходах к Шекспиру и, наконец, статьи К. М. Миклашевского об испанском театре и его же книга о комедии дель арте222*.
Все это способствовало тому, что исследование истории мирового театра все решительней отходило от литературоведческих основ и приобретало собственно театроведческий характер. А. А. Гвоздев, творчески воспринявший идеи зачинателя немецкого театроведения, медиевиста 150 М. Германа, увидел в изучении истории сценической площадки и действующего на ней актера перспективу построения игровой пространственно-временной модели, эволюция которой становилась предметом историко-театрального изучения. Реконструкция и осмысление исторических форм спектакля открывали новые горизонты для написания истории театра. Однако в 1930-е годы раздававшиеся в адрес историков театра тенденциозные упреки в формализме на долгие годы затормозили динамичное развитие отечественной историко-театральной науки.
Деление трудов по истории театра на разделы — «драматургия», «актерское» и «постановочное искусство», где рассмотрение драматургии зачастую сохраняло изолированный от реального театрального репертуара характер, — а также преобладание идеологической доминанты в анализе и оценках сценических явлений становились определяющими. К сожалению, эта тенденция не миновала и фундаментальную «Историю западноевропейского театра», задуманную и начатую в 1940-х – начале 1950-х годов творческим коллективом под руководством С. С. Мокульского223*.
Тем не менее в лучших работах отечественных историков зарубежного театра специфика театроведческого анализа сохранялась достаточно последовательно. Содержательные книги по истории театра Возрождения были созданы А. К. Дживелеговым и Г. Н. Бояджиевым224*. Особенности исследуемого в них материала (театр Возрождения), где доминировала игровая стихия, позволили этим исследователям противостоять проявлявшимся в советском театроведении рецидивам литературоцентризма. В деле возвращения нашей науки к исследованию истории театральных форм очень важными стали работы Е. Л. Финкельштейн и А. Г. Образцовой225*. Стремлением проанализировать и построить историко-эстетическую модель целой театрально-художественной системы проникнуты исследования Т. И. Бачелис226*. Показательны 151 работы Л. И. Гительмана и В. Ф. Колязина о межнациональных театральных связях227*. Изучению национальных театральных традиций таких крупнейших театральных культур, как немецкая, французская и итальянская, были посвящены работы Г. В. Макаровой, Т. Б. Проскурниковой, М. Г. Скорняковой228*. Глубокое объяснение исторической перспективы развития традиций commedia dell’arte в трудах М. М. Молодцовой обязано в первую очередь теоретико-историческому подходу ученого к материалу и проблеме229*. Важным шагом на пути к поиску перспективных методов изучения взаимосвязей литературных драматургических структур, театральных текстов и моделей человеческого поведения в жизни и на сцене стали работы А. В. Бартошевича об английском230* и В. Ю. Силюнаса об испанском театре231*.
Одним из важнейших направлений развития историко-театрального знания является написание новейшей театральной истории — истории театра XX века. И здесь принципиальное значение имеют две книги, вышедшие под редакцией А. В. Бартошевича, — «Театр XX века» и «Спектакли XX века», где предпринята попытка подойти к рассмотрению крупнейших явлений отечественного и зарубежного театра в контексте единого исторического процесса развития мировых театральных идей232*.
Как видно, сегодняшнюю историко-театральную науку в России характеризует весьма впечатляющее разнообразие материала, исследовательских сюжетов и подходов. Наряду с этим может быть отмечен и своеобразный плюрализм, заведомое отсутствие признанных всем 152 сообществом «магистральных» тем. Это, однако, не делает существование современной русской науки об истории театра беспроблемным. В контексте развития историко-театрального знания в мире, с одной стороны, и собственных традиций, с другой, известный круг вопросов сама же наука о театре пытается для себя наметить. Одной из самых актуальных проблем остается создание не столько общей, сколько «специальной» истории — истории спектакля233*. А это, в свою очередь, означает, что театрально-историческое знание все больше нуждается в теории, то есть все более осознанно стремится стать историко-теоретическим.
ИСТОРИКО-ТЕАТРАЛЬНАЯ НАУКА ЗА РУБЕЖОМ
Истоки многих возникших между мировыми войнами европейских идей и подходов к истории театра надо искать в немецкой философии и науке. Именно немцы в тот период сумели явственно очертить предмет театральной истории и сформулировали принципы реконструкции спектакля.
Безусловно, здесь немалую роль играл мощный теоретический вклад режиссуры, и все-таки основания новой науки заложил профессор берлинского университета М. Герман. Обратившись к изучению игровой площадки средневековых театральных действ, он впервые связал театральное содержание с пространственными категориями. Но к идеям Германа немецкая историко-театральная наука вернулась лишь спустя несколько десятилетий. Театроведение в Западной, а затем и в объединенной Германии сосредоточилось, с одной стороны, на изучении знаковых параметров сценического текста, с другой — на попытках использовать в изучении театральной истории культурологические и антропологические подходы. При этом наукой вполне отчетливо осознается опасность растворения театра в культурно-историческом контексте. Не случайно так популярны работы, авторы которых пытаются разобраться в «специфике thea» и именно в театроведческом русле анализируют разные культурные формы, использующие различные элементы театра.
С другой стороны, именно с помощью широко понятой культурологии в истории театра удавалось нащупать принципы историко-культурных 153 генерализаций. Именно в этом видится ценность работ известного немецкого ученого К. Балма234*, который находит опору в культурной антропологии. Вставшая на повестку дня задача фундаментального «переписывания» истории национальных театров и создания истории мирового театра заставляет другого немецкого театроведа Х. П. Байердорфера в своей работе задуматься о поисках теоретических и культурологических оснований для решения этих задач235*.
В 1990-е годы в мировом театроведении вновь отчетливо выявилась тяга к истории театра. Показательно, что французская исследовательница А. Юберсфельд, автор книги «Читать театр» (Lire le théâtre. Paris, 1977), ставшей своеобразной Библией театральной семиотики, с конца 1980-х годов начала реконструировать тексты спектаклей прошлых эпох. Так, в 1985 году она выпустила книгу-альбом, посвященную постановкам драмы В Гюго «Эрнани»236*. Обращаясь к знаменитой премьере 1830 года на сцене «Комеди Франсез», исследовательница дала подробный комментарий-анализ сценического экземпляра пьесы, дополняя картину документальными свидетельствами, постановочной документацией и иконографическим материалом. Практически то же она сделала и по отношению к постановке 1870 года, анализируя другой сценический экземпляр, что в итоге дало возможность сравнить сценические тексты двух театральных эпох. И хотя исследовательница не использовала многие возможности более объемной и детальной реконструкции, польза от внедрения принципов семиотического анализа в театральную историю, так же как перспектива создания «сравнительного театроведения» на основе текстологического анализа, здесь вполне очевидны.
Близкую по смыслу работу проделал другой французской ученый П. Пави, когда осуществил в 1990-е годы издание пьес А. П. Чехова с так называемыми «сценическими комментариями»237*. Пави сопроводил тексты «Чайки» и «Вишневого сада» подробным разбором наиболее репрезентативных их сценических интерпретаций (от МХТ до наших дней). 154 В традиционном для театральной истории жанре — сценической истории пьесы — используются нетрадиционные для этой сферы театроведения методы.
Интересным и плодотворным оказывается и стремление проследить на протяжении большего или меньшего отрезка исторического времени развитие элементов театра — например, игрового пространства, архитектуры зрительного зала, сценического занавеса, костюма и т. п.238*
Другой срез историко-театральных исследований представляет издаваемая под эгидой французского Национального центра научных исследований (CNRS) серия книг под названием «Пути театрального творчества» (Les voies de la création théâtrale) о творчестве крупнейших режиссеров XX века. В этих публикациях подробный научный анализ сценических текстов, осуществленный на основе постановочных документов, записей репетиций, материалов прессы и иконографии, корректно сочетается с характеристикой творческого метода постановщиков. Взятое в контексте движения и развития театральных систем XX века, это сочетание позволяет воспринимать данную серию книг в целом как своеобразные очерки о наиболее значительных явлениях режиссерского искусства прошедшего столетия.
Особый раздел исторической науки — анализ процесса создания спектакля, публикация и изучение записей репетиций спектаклей прошлого. И здесь, безусловно, в фокусе оказывается в основном театр XX века, поскольку именно с рождением режиссерского театра возникают культура и методики записи репетиционного процесса239*.
С 1990-х годов в разных странах Европы начинается активная и углубленная работа по созданию новых историй национальных театров. Э. Фишер-Лихте обращается к написанию истории театра в Германии, стремясь рассмотреть развитие художественных форм немецкого театра в свете эволюции представлений о человеке в европейской культуре240*. Профессор Хельсинкского университета П. Коски пишет историю финского национального театра, прослеживая основные этапы развития национального самосознания, а ее коллега П. Пааволайнен параллельно 155 с ней работает над историей финского сцены, рассматривая явления театральной культуры в тесной связи с их социальной мотивацией и системой зрительских предпочтений241*. Группа исследователей из Стокгольмского университета под руководством В. Саутера создает историко-театральные очерки «Театр в Швеции», охватывающие период от истоков шведского театрального искусства до современности, соединяя историко-художественный и социологический подходы. Другой же коллектив ученых из различных шведских институтов искусств выпускает трехтомную «Новую шведскую театральную историю», где предпринимается попытка комплексного исторического рассмотрения всех жанров и видов театрального искусства (драматический театр, опера и балет)242*.
«Парад национальных историй театра», написанных с новых методологических позиций, отличается одной важной общей особенностью. В центре их — проблема выявления характерологических черт и своеобразия национальных театральных культур. При этом история страны и ее культуры рассматривается как существеннейший фактор развития национального театра.
На этом фоне в работах западных историков театра заметна и другая, как будто противоположная тенденция: сегодня не вызывает сомнений всеобщая тяга к исследованию интеграционных процессов в театральной истории. В рамках организации «Nordic Council», например, долгие годы вызревает концепция создания истории театров Балтийских стран. Планируется собрать очерки о театрах Скандинавии, Прибалтики, Польши и даже России. Но, пожалуй, первой эти интеграционные токи почувствовала все та же Э. Фишер-Лихте, которая в 1990 году опубликовала на немецком языке «Историю европейской драмы и театра»243*, где сделана попытка, не рассматривая историю национальных театральных культур в отдельности, выявить общие закономерности развития европейской сцены.
Обнаруживая общие культурно-исторические закономерности, ученый последовательно выявляет пять исторических этапов развития 156 и форм европейского театра: «Ритуальный театр», «Театр гуманизма», «Подъем средних классов и театр иллюзии», «Драматизация кризиса личности» и так называемый «Театр “нового” человека». Изучение этих форм и этапов составляет содержание основных разделов исследования. Вместе с тем в подразделах, где, собственно, и развертывается анализ сценического материала, внимание фокусируется на системно-театральных аспектах. Причем исследователь в каждой конкретной модели выделяет некую образно-динамическую доминанту. Так, в разделе, посвященном античному театру, в центре оказывается становление и сценическое воплощение трагического конфликта героя с фатумом (The tragic hero), а в части, посвященной средневековому театру, рассказывается о тех парадоксальных метаморфозах, которые были связаны с отображением и художественными функциями человеческого тела в мистериальных и площадных действах (The magic body). В анализе эпохи возрожденческого и классицистского театра («Theatrum Vitae humanae») в центре анализа оказывается глобальный гуманитарный эксперимент, раскрывающий роль человека в мире («Theatre as laboratory, men as experiment»), человеческие архетипы (обольститель, мученик и шут), предопределяющие трагические и комические коллизии бытия, социальный маскарад придворного театра («Mask and Mirror») и, наконец, переход от тотальной карнавализации (commedia dell’arte) к воплощению на сцене социальных характеров.
В разделе книги, посвященном сценическому искусству XX века, Э. Фишер-Лихте ставит вопрос о так называемой «ре-театрализации» театра и связывает этот процесс с проявлением «отрицания человеческой индивидуальности». Именно в этом ключе исследователь рассматривает «театр модерна», его устремленность к актеру-сверхмарионетке, к конструктивному (инженерному) моделированию сценических (актерских и режиссерских) образов, к возвращению ритуальных основ театрального действа, превращающего актера в некий смысловой иероглиф.
Видя ключевую тенденцию театра XX века в стремлении к сверхиндивидуальному (beyond the individual) воплощению человека, живущего все время под дамокловым мечом смерти, абсурда, социального прессинга и физического уничтожения, Э. Фишер-Лихте именно с этими процессами связывает поиски политического, интеллектуального театров и «театра жестокости». Растворение человеческой индивидуальности во «множественности» проигрываемых каждым социальных ролей становится поистине тотальным, что, по мнению исследователя, и заставляло 157 «хвататься за соломинку» непредсказуемости в разрешении ситуаций и побуждало к экспериментам в области хеппенинга.
Из авторитетных обобщающих работ до конца XX века наиболее «ходовой» в академическом и университетском мире оставалась созданная много десятилетий назад книга под названием «Мировой театр» («World Drama»)244*, носящая скорее информативно-описательный характер. Традиционную линию в историографии мирового театра продолжает и много раз с 1968 года издававшаяся «История театра» американцев О. Брокетта и Ф. Хилди245*. Однако в конце XX века необходимость в обновлении подходов к изучению истории мирового театра стала ощущаться достаточно остро. Инициативу взяли на себя также американские ученые. Тому был ряд причин. В космополитических по своим научным пристрастиям американских университетах давно и довольно активно занимались историей театров различных стран, включая не только Европу, но и Японию, Индию, Китай, африканские страны, страны Восточной Европы. В американских университетах работали представители самых разных национальных искусствоведческих школ со всех концов света. В последней четверти века особую популярность в США приобрели издания документальных материалов по истории театров различных стран, которые базировались на почти сквозном «прочесывании» европейских архивов. Так, именно американскими, а не французскими исследователями были изданы материалы постановочного фонда Библиотеки «Комеди Франсез», позволяющие по-новому осветить историю романтического спектакля во Франции246* А в одном из университетов США занялись, например, подробным комментированным изданием драматургических произведений Екатерины Второй247*. Именно американский ученый Л. Сенелик создал фундаментальную историю сценических интерпретаций пьес А. П. Чехова в различных странах мира248*, под его же редакцией вышла книга, посвященная контекстуальному изучению театральных 158 культур Северной и Восточной Европы, где значительная часть посвящена изучению русского театра249*.
Одной из первых попыток написать комплексную историю мирового театра с учетом накопившихся за последние десятилетия знаний и методов была «Иллюстрированная история мирового театра», созданная группой американских исследователей под руководством Д. Р. Брауна250*. Однако получившаяся в результате сводная картина развития мирового театра оказалась по преимуществу повествовательной и эклектичной; Браун и сам признавал, что его группа не стремилась к методологическому единству. Хотя, безусловно, ориентация на бытующие в современном искусствознании социокультурные исторические модели здесь налицо, проблема синхронизации и периодизации театральной истории стояла перед авторами весьма остро, особенно потому, что они не хотели терять ни хронологический, ни социокультурный подходы. В результате в первый из четырех разделов книги — «Первые театры» — попали древнегреческий, древнеримский и средневековый театры, а также период зарождения театра в Африке и Америке. В раздел «Европейский театр со времен Ренессанса до 1700 года» включены итальянский, испанский ренессансные театры, английский театр эпохи Ренессанса и Реставрации и театр французского классицизма. Начиная с третьей части, охватывающей период с XVIII века до 1970 года, к системе европейских театров подключается еще и американское сценическое искусство. И, наконец, в четвертой части, которая называется «Мировой театр», авторы излагают историю восточного театра (театры Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии), а затем, начиная с 1970 года, обращаются к интеркультурному пространству театрального искусства. Налицо определенная концепция. В своем происхождении все театральные культуры имеют много общего, связанного с ритуальными и обрядовыми элементами. Этот пратеатр — предпосылка, потенциальная возможность развертывания, профессионализации театра и обретения им социокультурного своеобразия. Затем следует период асинхронного развития, разделение театрального мира на Запад и Восток. И, наконец, XX век, по мнению исследователей, характеризуется интеграционными процессами, ведущими к образованию в последней четверти столетия некоего интеркультурного мирового театрального пространства. 159 Стремлением подробно исследовать историю и традиции национальных театральных культур в контексте региональных и межрегиональных интеркультурных связей объясняется возникновение серии книг под названием «Театр в Европе: Документальная история» (Theatre in Europe: A Documentary History), публикуемой издательством Кембриджского университета251*.
Однако ученые Америки понимали, что задача связать историю культуры с историей театральных систем и театрального языка еще впереди. И с середины 1990-х годов над историей мирового театра начинает работать другая группа университетских исследователей, в которую входят Б. Мак Конаки, Ф. Б. Заррилли, Г. Д. Вильямс и К. Ф. Зоргенфрей252*.
Очерчивая поле предстоящего исследования, авторы в первую очередь определяют свой научный объект, выявляя границы трех взаимосвязанных зрелищных форм: «культурные представления» (cultural performances), куда относятся разного рода культовые, обрядовые, площадные и официальные манифестации, которые вместе с тем нельзя смешивать с различными формами театрализации повседневной жизни; театр, который является пространственно-временным зрелищным искусством, со своими формами и собственной выразительностью содержания (expressive content); и, наконец, драма, под которой исследователи подразумевают литературный сценарий, рассказанную с помощью действия историю, предназначенную для театрального представления.
Говоря о задачах своего исследования, авторы отвергают идущий от позитивизма фактологический способ описания, предпочитают опираться на культурологические гипотезы, которые должны привести к созданию некой единой динамической модели. Как и команда Д. Р. Брауна, эта группа склоняется к методологическому плюрализму, надеясь на то, что элементы социологического, культурологического, герменевтического, тендерного и прочих подходов вместе позволят выявить исторические взаимосвязи явлений. При этом они вполне сознают опасность поиска какой-либо «первопричины» театрального явления и пытаются 160 отыскать комплекс обстоятельств и связей, формирующих природу того или иного явления. Однако и здесь есть некий общий стержень: предлагаемая периодизация ориентирована на этапы развития коммуникативных систем. Четыре части работы последовательно посвящены истории зрелищных представлений и театра в эпоху устных и письменных культур (от истоков до 1600 года), «печатных культур» (с 1500 по 1900 год), затем в эпоху современных медиа-культур начиная с зарождения фотографии до появления персональных компьютеров (1850 – 1970 годы) и, наконец, в эпоху так называемых «глобальных коммуникаций» (с 1950-х годов по настоящее время).
Одним из ключевых концептуальных моментов этого исследования стал анализ исторически меняющихся, но всегда конфликтных отношений внутри знакомой триады «культурный перформанс — театр — драма», которые, по мнению исследователей, и ведут к модификациям театральных форм.
Осмысление спектакля как «театрального события» (theatre event) с начала 1990-х годов получает широкое распространение в различных национальных театроведческих школах253*. Такой подход позволяет ученым рассматривать театральное произведение как динамическую систему, в которой активно взаимодействуют художественные, социальные, исторические и индивидуально-личностные силы, где театральное произведение является совместным продуктом сценических деятелей и зрителей. Всестороннее исследование современных «театральных событий» порождает и стремление к историческому рассмотрению театрального процесса сквозь призму социально-эстетической, идеологической и политической событийности. Показательной в этом отношении является книга известного американского историка и теоретика театра Т. Постлуэйта «Театральная историография»254*. В ней ставится вопрос о методике научного моделирования театрального события в процессе написания истории театра, о возможности с помощью архивной документации реконструировать театральное событие как явление культурно-исторической реальности.
Безусловно, упомянутые здесь труды не могут исчерпать всего разнообразия подходов к построению театральной истории. Сохраняют свою актуальность и задачи «сравнительного театроведения», и проблемы 161 исторической поэтики. За всеми этими попытками стоит живой театр, его поиски и прозрения дают пищу театральным историкам, именно он позволяет и понуждает открывать прежде не исследованное или не замеченное в сценическом наследии прошлого, связывая тем самым прошлое, настоящее и будущее мирового театра.
Глава 7.
ТЕАТРАЛЬНАЯ КРИТИКА И ТЕАТРОВЕДЕНИЕ
В театральном искусствознании критика занимает особое место. Никакое высказывание об искусстве сцены, теоретическое ли, историческое, философское или любое другое, невозможно без того, чтоб не опереться — иногда прямо, иногда опосредованно — на разборы театральных произведений и суждения о них. Разбор же и оценка спектаклей и есть, в сущности, смысл и цель театрально-критической работы. Конечно, не всякое театральное искусствознание — критика; только такое, которое не абстрагируется от самого живого в театре — спектакля сегодняшнего дня. Театральный историк отыскивает законы, по которым развивается театр, теоретик пытается понять, что именно развивается по этим законам; критик призван определить, насколько то, что он сегодня видит и в чем участвует как зритель, — театральное искусство.
Театральная критика не была и не могла быть самой первой ступенью познания театра. Для ее рождения надо было, чтобы театр стал настолько развит, что ни изнутри, самосознанием своих творцов, ни с высот философской рефлексии он уже не мог быть понят. По-видимому, рождение критики обозначило какой-то важный рубеж и в развитии публики. Профессиональный театр стал настолько разветвлен и сложен, что сцена, которая, по словам Шекспира, держит зеркало перед природой, сама стала нуждаться в зеркале, и одновременно зрителям понадобилось понять, в чем именно они участвовали. Театр и общество вместе призвали себе на помощь посредника, и с тех пор критика стала участвовать в театральном процессе, воздействовать и на общество, и на театр.
Но и сама театральная критика испытывала и испытывает мощные влияния. В узком, непосредственном смысле обновление театрально-критической мысли стимулируется движением живого театра. Сама эстетическая база фактически находится в непрерывном становлении. Речь не идет о суетливом перетряхивании основ театральной эстетики, 162 терминологических шараханьях, подверженных той или иной моде. Но нельзя не видеть, что театральная практика, кажется, сама взывает к осмыслению, и тогда она нередко выбивает из рук критика его привычный традиционный «аппарат», так что самый словарь рецензий, портретов и прочее вдруг обнаруживает свою обветшалость. Белинский справедливо называл критику движущейся эстетикой.
В современном театре внутрисценические связи и отношения сцены с залом постоянно и порой решительно перестраиваются. Прежде всего именно критика и реагирует на этот процесс, на ходу обогащая эстетический опыт театроведения в целом. «Иль-ба-зай», крошечная рецензия А. А. Гвоздева на спектакль Вс. Э. Мейерхольда 1922 года «Великодушный рогоносец», — классический вариант такой походной, движущейся вместе с театром эстетики: новое явление названо по имени и раскрыто в своей сущности — в рамках газетного отклика на премьеру.
Можно утверждать, что и всякая профессионально-критическая статья в той или иной степени является такой «походной» эстетикой. Ведь любой художественный факт содержит в себе, выражаясь гегельянским языком, некое философское ядро. Обнаружить его в конкретной сценической ткани, проанализировать, осмыслить его потенциал — это и есть то самое, что выводит критику в ранг «движущейся эстетики». Ставя себе задачу уяснить реальную художественную значимость конкретного современного театрального явления, критик участвует в вечном обновлении философии театра и его «высокой эстетики».
Отсюда приходится сделать вывод, что театральному критику полагается быть во всеоружии не только истории и теории театра, но и культуры в широком охвате. Исторически всегда так и было: значительными критиками становились люди культуры с большим кругозором, заинтересованные проблемами развития искусства. Тогда и возникает содержательное, всякий раз индивидуальное соотношение сценической «эмпирики» и «генерализации», описания сценической фактуры и анализа структуры в тексте театрально-критической статьи. Здесь и рецепт от избыточной «оценочности», рецензентской грубости. Хорошего, то есть профессионального, театрального критика интересует движение театра; в этом смысле он эстетик-практик.
Нельзя не видеть, что в наше время, когда художественные направления и школы не только соседствуют, но нередко жестко конкурируют, от театральной критики требуются большая чуткость и мобильность в осмыслении перемен. Но осознание перемен тем более предполагает 163 особое внимание к судьбе коренных, фундаментальных параметров сценического искусства. При всех метаморфозах современной сцены критик призван именно «узнавать», например, фундаментальную для театра категорию драматического во всех ее преображениях. Внятно артикулируя свои наблюдения в сфере театрального художества, критики создают пространство мысли о театре, и это публичное обсуждение проблемных узлов в текущем театральном процессе — для движения эстетики необходимая и незаменимая база.
Вряд ли случайно, что исторический для критики момент ее рождения пришелся на XVIII век — век Разума. Но так же неслучайно это «совпадение» (пусть не сразу) обернулось для критики едва ли не трагическим противоречием. Каким бы изощренным ни было перо критика, какие бы средства, вплоть до художественных, он ни использовал, критик самой сутью своих занятий буквально приговорен к невозможному: его иногда называют переводчиком, но художественный образ на язык понятий непереводим. Поэтому вопрос о том, является ли театральная критика театроведением (а сегодня — является ли она наукой), — не праздный.
И единого ответа на этот вопрос пока нет. Есть как минимум два — по существу противоположных — ответа. Один едва ли не автоматически вписан в парную формулу «критика и театроведение», по-прежнему имеющую хождение в том числе и в официальных документах, касающихся театра. Другой можно определить так: театральная критика есть обязательная и законная часть театроведения, обращенная исключительно к современному театральному процессу и от соседних частей, то есть в первую очередь истории и теории театра, этим лишь, в сущности, и отличающаяся. До недавнего времени предполагалось, что московская ветвь русского театроведения скорей склоняется к первой из этих двух концепций, а петроградская-ленинградская-петербургская — ко второй. Будь это и правдой, сегодня такое утверждение вряд ли соответствует действительности. Ситуация, в которой существует современная критика, все настойчивей понуждает театрально-критическое самосознание сосредоточиться на общих для всего «цеха» проблемах.
Театральная критика всегда публичная деятельность. При этом ее послания одновременно адресованы современному ей театру, о котором она думает и пишет, той части общества, которая интересуется театром и из которой по преимуществу вербуются театральные зрители, и будущему — в первую очередь будущему театра, где ее, как она надеется, расслышит театральный историк.
164 Публичность критики всегда реализуется в неотлагаемом — сиюминутном и повседневном — режиме: критика живет главным образом в периодической печати, и в этом смысле она журналистика. Но для журналистики театр может быть (и чаще всего бывает) лишь информационным поводом, одним из многих объектов, о которых следует оповестить читателя. В таком реальном контексте театральной критике приходится отличать и выделять себя: не всякий журналист и даже не всякий театральный журналист — театральный критик.
Существует точка зрения, согласно которой критик отличается умением талантливо писать о театре и театральной просвещенностью. Это действительно необходимо, но все-таки ни литературная одаренность, ни театральная образованность решающими критериями для различения служить не могут. Критерием оказывается разница в предмете: театрального критика в театре интересует как раз и именно театральное искусство, а это автоматически заставляет его понимать себя как театрального искусствоведа — театроведа.
Но критик в первую очередь зритель, то есть непосредственный участник спектакля. Как бы широко ни понимать природу научных занятий, ученый стремится к объективности, то есть всегда предпочитает быть вне своего объекта, видеть его «со стороны». Объективность — один из атрибутов всякой научности. Театральному критику такая позиция не только не дана — противопоказана. Напротив: критик незаменим лишь тогда, когда отчитывается о том, что было «внутри».
Очевидно, что после рождения научного театроведения критика обрела базу, которой прежде не имела, — именно базу науки, и таким образом по существу впервые получила возможность сверять свои впечатления о произведении театра и о текущем театральном процессе с достаточно объективно установленными представлениями о целостности спектакля, театральной специфике его содержания, о композиции, стиле и т. д., так же как об общих законах развития театра, позволяющих в какой-то мере прогнозировать дальнейшие его пути. С другой стороны, так же очевидно, что критика в новых условиях не превратилась в простое «применение» данных науки о театре к художественному явлению каждого сегодняшнего дня. Критик вынужден всякий раз заново открывать законы, данные ему наукой, и проверять их надежность и достоверность. Понятие «театрально-критическое творчество» здесь приходится понимать во всей его полноте.
В XX веке, когда пресса все чаще подменяет информацию пропагандой, а наука все меньше доверяет свидетельствам непосредственного 165 опыта, это коренное и неустранимое противоречие заметно обострилось. Критике приходится и жить между этими двумя полюсами, и от обоих отталкиваться.
Таким образом, отношение, в какое становится театральная критика к театроведению, часть к целому, — как минимум, неоднозначно. Самая простая и надежная связь фиксируется тогда, когда рецензии, обзоры, репортажи театральных критиков становятся материалом для изучения истории и разработки теории театра. Но даже эта простейшая связь весьма специфична. Ведь критика не просто источник фактов. Не менее содержательны и сами по себе ее интересы, приоритеты и критерии. Что именно волнует критика, а какие явления он минует — тоже помогает понять, что собой представляет театр в тот или иной период.
Но такое богатство смыслов влечет за собой целый ряд новых вопросов. Один из главных связан с особой проблематичностью материала, который можно получить от театральной критики как специфической, динамичной профессиональной рефлексии о современном театре.
Во всяком критическом отклике на спектакль читатель встречается с индивидуальным восприятием автора, а через него с культурными приметами, в том числе вкусами и предубеждениями эпохи. Эти переменные величины сказываются даже и на том, как критик воспроизводит, казалось бы, объективные параметры спектакля. Следует понимать, что спектр разных оценок и аспектов — результат не столько критического произвола, сколько реальной сложности, подлинной многосмысленности театральных явлений, которые надо научно освоить.
Другая сторона этого же вопроса — неравномерное развитие театра и театрально-критической мысли о нем. Здесь рождается важное представление о том, что в движении театра «новое» не отменяет «старого», что одно просвечивает сквозь другое и с ним не непременно конфликтно совмещается. В таких случаях объемность, многофокусность взгляда на театральное явление может дать именно совокупность источников, освещающих это явление в театральной критике.
Плодотворный драматизм этой ситуации вполне адекватно демонстрирует, например, двухтомник «Мейерхольд в русской театральной критике» (М., 1997; М., 2000). Сам этот тип издания — характерный пример ступенчатой связи театральной критики с фундаментальными исследованиями о театре.
Возникает объективная картина восприятия театра Мейерхольда современниками; очевидно отставание критической мысли от динамичного развития собственной эстетики мейерхольдовского театра, так 166 же как неоспоримо наличие пристрастий и грубого непонимания. Но и в таком виде этот богатый материал для истории и теории театра трудно переоценить. Само разнообразие подходов к одному и тому же явлению связывает театральное событие множеством нитей с контекстом театрального сознания эпохи, дает необходимую стереоскопию, труднодостижимую в ином случае. Тексты корректируют друг друга в плане представления о композиции, ритмической организации, самой фактуре спектакля. Даже столь тонкая и эфемерная материя, как актерская работа в спектакле, может быть уловлена в позднейшем исследовании именно с учетом разных идеологических и художественных платформ. При этом иногда принципиальное неприятие того или иного явления конкретным автором парадоксально ведет к обостренному вскрытию существенных моментов в «чуждом», отторгаемом объекте. Так А. Р. Кугель, не принимавший авторской режиссуры, порой дает более содержательное описание мейерхольдовских постановок, чем иные из адептов, а неприязненно описывающие очередную актерскую работу С. Г. Бирман как состоящую из взаимно чужеродных кусков прямо наталкивают внимание позднейшего исследователя на такую существенную для ее актерского метода особенность, как монтаж противоречивых планов, гротесковый по сути.
Даже при таком содержательном, объемном понимании «материала» отношения между театральной критикой и собственно научными ветвями театроведения принципиально не сводятся к ситуации «материал — наука». Строго говоря, театральная критика именно подразумевает открытые связи с историей и теорией театра. Речь идет не о тех упоминаниях историко-теоретического контекста, что вызваны просветительскими и популяризаторскими задачами, хотя это объективные и достойные условия театрально-критических публикаций. Профессиональная состоятельность театрально-критического высказывания — это, по-видимому, не что иное, как умение воспринять сценическую «сию минуту» в ее художественной конкретности и в связях с целым спектаклем, и далее с современной проблематикой театрального искусства. В конце концов, отношение конкретного театрального явления к ключевым параметрам искусства сцены и есть достойная объективная платформа критика. Умение увидеть и показать единство индивидуального и фундаментального в явлении театра — вот критерий качества театрально-критической работы.
Случай, когда театрально-критические выступления естественно перерастают свои рамки и переходят в собственно теоретическую сферу, 167 нередки. Показательный пример — «мейерхольдовские» рецензии А. А. Гвоздева. Можно указать также на известную статью П. П. Громова «Ансамбль и стиль спектакля», впервые напечатанную в 1940 году в театрально-критическом разделе журнала «Литературный современник» как отклик на гастроли московских театров в Ленинграде. По форме это обзор, и в то же время это разработка принципиальных эстетических категорий, не утратившая значения по сию пору.
Бесспорно, тут примеры особой индивидуальности критика, масштаба его интеллекта. Но и все сколько-нибудь значительные театральные критики сочетали интерес к живому театру с историческими штудиями. Классики критического цеха А. А. Гвоздев, П. А. Марков, Б. В. Алперс, А. И. Пиотровский, Ю. Юзовский и многие другие принципиально совмещали занятия историей театра с работой театрального рецензента. Это традиция, упадок которой не может не сказаться на содержательной внятности театрально-критических выступлений. Во всяком случае, историко-театральное образование, получаемое на театроведческих факультетах, должно служить некоторой гарантией полноценной театрально-критической деятельности.
В то же время надо подчеркнуть, что критик, которого справедливо называют зеркалом (а он зеркало двустороннее: в нем видят себя и сцена и зал), — не нейтральная оптическая инстанция: критик просто обязан иметь дар индивидуального восприятия искусства, ибо это в природе его предмета. К этому во многом и сводится «парадокс о критике»: критик реализует свое право и свою обязанность транслировать свое индивидуальное восприятие, и, соответственно, его отклик не может совпадать ни с чьим другим, а при этом он должен оставаться в объективных параметрах художественной ткани спектакля и по возможности дать об этом адекватное представление.
Но чтобы не погрязнуть в зыбях субъективности, а самую субъективность поместить в объективный контекст, критик и апеллирует ко всему комплексу своих историко-теоретических знаний. Доза конкретного присутствия этих знаний в его высказывании — сугубо индивидуальна, чаще всего эти знания присутствуют латентно, но присутствуют и определяют фарватер его высказывания в целом и оценку частностей. Это важно еще и потому, что при всем различии и богатом разнообразии критических темпераментов объективный баланс «индивидуального восприятия» и историко-теоретической базы не дает критику опуститься до дежурной запальчивости или, напротив, до анемичного пересказа.
168 Всякое полноценное критическое высказывание включает в себя анализ произведения (или фрагмента, или стороны, или тенденции художественного процесса) и его оценку. Критическое высказывание о театре, в отличие от тех, где обдумывается литература или живопись, музыка или кино, не может обойтись без третьего — воспроизведения. Литературный критик вправе просто сослаться на страницы романа, театральному сослаться не на что — кроме того, что сам же он и воспроизведет. Но для этого ему надобны сразу два дара — театральный и литературный.
Этот факт можно считать общепризнанным. Но выводы из него делаются разные. И общей договоренности по этому вопросу сегодня тоже нет.
Что представляет собой «театральный талант критика»? Как простое знание основ стихотворчества не превращает пишущего в поэта, так не делает критиком совокупность театроведческих знаний. Тут нужен «слух» на спектакль, способность к его живому восприятию, специфическая память на драматически значимые перемены, на действие и т. д. Явление театра должно быть поставлено в контекст театрального процесса, соотнесено с общей ситуацией времени, общекультурной средой, но оно во всех случаях индивидуально-личностно присвоено критиком.
Так же непросто обстоит дело и с писательским даром критика. Чтобы воспроизвести в словах тонкую живую материю театра, литературный талант, конечно, обязателен. Не случайно в России родоначальниками многих театрально-критических жанров были такие писатели, как Н. М. Карамзин, П. А. Вяземский, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, П. А. Плетнев, Н. И. Гнедич или А. А. Шаховской, так что по крайней мере российскую театральную критику (а она вряд ли исключение) есть все основания считать частью отечественной словесности и настаивать на том, что ей доступно столь же впечатляющее разнообразие стилей и жанров, как любой другой литературе. Театральные рецензии, пародии, портреты, проблемные статьи, интервью, памфлеты — все это либо литература, либо не критика вовсе.
На деле дискуссия о мере художественности театральной критики упирается в вопрос о природе и предмете критического творчества. Театрально-критическое сообщество, по всей видимости, солидарно в том, что критерий художественности должен быть основополагающим в ценностной шкале критика. Художественность же его арсенала — вещь гораздо более спорная. Жанр эссе, может быть, единственный, 169 где такой критерий законен в полном его объеме; не случайно великолепные примеры критических эссе мы находим у поэтов. Гейне писал о Паганини, а Мандельштам о ГОСЕТе таким образом, что возникали собственно художественные тексты (которые, бесспорно, могут пригодиться искусствоведам). За таким текстом стоит творческий мир автора во всей его глубине и художнической избирательности. Критик же должен быть наделен художественной интуицией, вкусом к искусству (разному), чувством слова и широким критическим кругозором.
Каковы отношения театрального критика со спектаклем? Существует ли вообще «спектакль» вне восприятия, сценическое действие без со-действия зрителя (а значит, и критика)? Все без исключения современные трактовки «понимания» предполагают соавторство читателя, зрителя, слушателя с писателем, актером, режиссером, музыкантом. В театре этот факт непреложен: в становлении смысла спектакля зритель участвует буквально. Но если так, то и рассказать о спектакле и проанализировать его критик может только одним способом: переводя в мысли собственные ощущения и чувства, то есть так или иначе рассказывая и о себе. Очевидно, что эта ситуация таит в себе широкие возможности не только для глубокого анализа и личной оценки спектакля, но и для произвола, не обязательно злостного: взамен спектакля, который он взялся исследовать, критик искренно сочиняет и записывает другой, свой собственный, превращаясь из соавтора в единственного автора по сути нового произведения. Тот спектакль, от которого в подобном случае отталкивается критик, «ставший художником», здесь уподобляется жизни, «первой действительности», какой она предстает композитору, живописцу или поэту. Сторонники такой позиции сравнивают свое отношение к спектаклю с тем, что рождается между режиссером и пьесой. Если исходить из того, что режиссер нечасто сочиняет пьесу, но спектакль сочиняет всегда, такое сравнение как будто уместно.
Но тут вперед выдвигаются такие критерии, которые ни для историка, ни для теоретика решающими быть не могут, — нравственные. В этом случае вопрос ставится так: о чем именно отчитывается театральный критик перед читателем, что для него спектакль, о котором он пишет, — цель или средство рассказать о себе, познакомить публику с глубиной своих переживаний и тонкостью чувствований, с теми мыслями о жизни, которые навеял критику спектакль, и т. п. Художественное произведение на темы спектакля может быть и бывает в самом деле талантливым, умным и благородным. Моральные критерии здесь применимы именно в случае подмены предмета театральной критики. Но 170 эта ситуация возвращает нас к собственно профессиональным критериям — не столько к общей и специальной театральной образованности критика, сколько к теоретическим установкам школы, которой он принадлежит.
Если смысл происходящего на сцене принципиально безграничен, как жизнь, всякий его воспринимающий, поскольку обладает даром режиссера или драматурга, не только может, но и вынужден использовать этот смысл как материал для создания собственного художественного произведения. Если происходящее на сцене «уже» художественно, а значит, оформлено и целостно, — как бы многосмысленно оно ни было, у него есть границы. Они и есть объективные рамки, поставленные театрально-критическому творчеству.
Глава 8.
ТЕАТРОВЕДЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
Систематическое знание о каком-нибудь предмете уверенней называют наукой в том случае, когда это знание опирается на разработанную и устоявшуюся терминологию. Неутихающей дискуссии о том, является ли все-таки театроведение наукой, театроведческий терминологический аппарат дает немалую пищу. В самом деле, у нас сегодня еще нельзя говорить о выкристаллизовавшейся понятийной системе. Такое положение обусловлено как историческими обстоятельствами, так и некоторыми содержательными аспектами театроведческого знания.
Латентное формирование науки о театре, начавшееся с «Поэтики» Аристотеля, много веков проходило в рамках общей эстетики, рассматривавшей театральное искусство в неразрывной связи с драмой. Такие фундаментальные теоретические тексты, из которых можно и должно черпать глубокие знания о театре, как «Гамбургская драматургия» Лессинга или «Лекции по эстетике» Гегеля, — наглядные примеры такого подхода. Известный «драмоцентризм», тысячелетия господствовавший в европейской традиции понимания театра, естественным образом способствовал специфическому отбору терминов, привлекавшихся для описания и анализа театрального искусства, ядро терминологического аппарата образовывали понятия по существу своему литературоведческие. «Конфликт», «кульминация», «интрига», «тема» — эти и подобные термины были очевидно недостаточны для описания сценического действия. Таким образом, к XX веку, когда произошло выделение театроведения 171 в самостоятельную часть искусствознания, обнаружилось резкое несоответствие наличествующей терминологии уже четко определенному и не литературному объекту — театральному спектаклю.
Фактически молодая наука о театре оказалась перед необходимостью разрабатывать собственную терминологию, не продолжая предшествующую традицию (как это было, например, в литературоведении), а вопреки ей. Это, однако, не означает, что предшествующие двадцать пять веков размышлений о театре должны были быть забыты. Ситуация была сложнее: менявшийся взгляд на театр только в полемических вариантах полностью отрицал его связи с драмой. Чаще речь шла о необходимости пересмотреть прежнюю иерархию этих связей: «литературоведческие по существу» термины сохранялись, но переставали быть главной частью научного аппарата. Их удельный вес заметно уменьшался. А вот ядром аппарата новой науки должны были стать понятия, пригодные для описания специфики театрального спектакля, то есть такие, которые помогли бы выделить и проанализировать существо сценического искусства, те его части и стороны, которые нигде, кроме как на сцене, не представлены.
Естественно, что в этой ситуации основной массив понятий был заимствован у практиков сцены. Положение дел в театре первой четверти двадцатого века было для формирующегося театроведения крайне благоприятным: молодое искусство режиссуры осознавало самое себя, его рефлексия выразилась в целом ряде теоретических текстов, предлагавших молодой науке о театре, по существу, и начатки терминологии. В понятийную систему театроведения вошли термины, связанные с материально-физической стороной спектакля. Не случайно в трудах М. Германа и первых отечественных ученых, таких, как А. А. Гвоздев и А. И. Пиотровский, важнейшими инструментами оказываются «декорация» (в случае Гвоздева — «станок») и «мизансцена». Их привлечение знаменовало качественный перелом во взгляде на театр — с этого момента искусство сцены понимается как пространственное искусство. Практически одновременно в научных работах появляются понятия «темп» и «ритм». Музыкальные по происхождению, в театроведение они попадают, во-первых, из словаря режиссеров и, во-вторых, из театральной критики, еще с XIX века использовавшей музыкальную терминологию для описания актерской игры во времени. Таким образом, первые же приращения театроведческой терминологии свидетельствовали о создании терминологического аппарата, адекватного новому театропониманию; наука обнаружила группу понятий, в совокупности 172 выражающих пространственно-временной характер театрального спектакля.
Необходимо обратить внимание на то, что названные термины универсальны для описания и анализа любого театрального спектакля и, следовательно, являются базовыми понятиями науки о театре, наравне с извечными «актером», «ролью» и «игрой».
Теоретические работы К. С. Станиславского, В. Э. Мейерхольда, А. Я. Таирова вводили в оборот все новые и новые термины. Однако в силу именно этого обстоятельства театроведение столкнулось с серьезной методологической и терминологической трудностью: терминология одной режиссерской системы вступала в противоречие с терминологией другой. Характерный пример — «линия рампы». Техническое по сути понятие, оно таковым и оставалось для Мейерхольда; у раннего Станиславского означало четкую пространственную границу, по которой «выстраивалась» четвертая стена, а в теории и практике Таирова «линия рампы» стала фундаментальным элементом его театра, обеспечивающим самодостаточность образного строя спектакля. В условиях режиссерского театра выработка общей универсальной терминологии оказалась проблематичной.
В работах отечественных ученых двадцатых годов прошлого века отчетливо видна разница в употреблении одного и того же термина применительно к спектаклям различных режиссеров. Фактически режиссерский театр обусловил на начальном этапе становления театроведения параллельное существование нескольких терминологий. В известной мере этот терминологический плюрализм (или терминологическая эклектика) не преодолен до сих пор. И сегодня он проявляется в употреблении терминов, вошедших в театроведческую науку непосредственно из сценической практики. Например, наполнение термина «маска» существенно зависит от типа и эстетики театра, о котором идет речь. Одно и то же понятие имеет совершенно разные смыслы в разговоре об античном театре, о театре Мейерхольда или о стилизации комедии дель арте. Здесь необходимо оговориться: многозначность части терминов еще не свидетельствует о несформированности терминологии в целом. Наоборот, в некоторых случаях говорит о гибкости и подвижности научного театроведения в работе с тем или иным материалом. Иными словами, хотя такие термины и обладают каждый набором значений, сам этот набор определен и ограничен.
С начала двадцатых годов в театроведении наблюдается и самостоятельная выработка терминов. Процесс этот был весьма сложен и растянулся 173 на многие годы. Так, П. А. Марков, желая отделить дорежиссерскую реалистическую традицию от нововведений Станиславского, определил театр последнего как «психологический», менее чем через десять лет Б. В. Алперс назвал этот тип театра «сновидческим», а уже в шестидесятые годы К. Л. Рудницкий пользовался термином «театр прямых жизненных соответствий». В результате одно и то же явление получило целый веер наименований (стоит заметить, что в те же годы в ходу оставался термин «реалистический»). Однако на сегодняшний день этот поиск нового определения можно считать если не завершенным, то завершающимся: все больше театроведов используют понятие «жизнеподобный». Эта история становления термина наглядно показывает, каким образом формируется театроведческий словарь и какое время необходимо слову, чтобы обрести статус термина.
В 1920-е годы началось и широкое заимствование терминологии из смежных областей и искусствознания, и общеэстетических теорий. Постольку, поскольку речь о свойствах искусства вообще, всякого искусства, появление таких терминов, как упомянутый «ритм», было не только неизбежно, но и продуктивно. При этом, однако, приходится учитывать специфику времени: часть заимствованной терминологии не была сколько-нибудь твердо установлена и в первоисточнике. Неоспоримо влияние русской формальной школы на театроведческую науку — и в методологическом, и в терминологическом планах. Однако воспринятая от формалистов пара «фабула — сюжет» и сегодня вносит путаницу в понятийный аппарат театроведения. «Фабула» и «сюжет» зачастую обозначают одно и то же; в другом случае «фабула» предстает событийным рядом, а «сюжет» чуть ли не синонимом «интриги», и только в третьем отчетливо проглядывает влияние формалистов, поскольку сюжет понимается как обработка фабулы. В данном случае видна терминологическая размытость, свидетельствующая о том, что понятийный аппарат науки о театре все еще не устоялся.
В двадцатые годы стремление определить терминологию и нового театра, и молодого театроведения было активным. Показательно, что Мейерхольд предложил слушателям курсов ГВЫРМ подготовить материалы для театрального словаря, а выходивший в Европе с 1926 года журнал «Cahiers de Théâtre» одной из своих задач видел выработку единой театральной терминологии. Однако процесс этот продолжения не получил, в Европе — по своим причинам, в России — по своим.
С начала тридцатых годов развитие всего отечественного искусствознания на несколько десятилетий было не просто заторможено, но 174 направлено в умозрительное русло «единственно верной» эстетики социалистического реализма. Разрабатывавшиеся прежде всего гвоздевской школой теория, методология и терминология театроведения на долгие годы были преданы забвению. Их место заняли теория классовой борьбы в искусстве, позже — теория бесконфликтности. И театр, и наука о театре служили мнимореалистической доктрине, в результате чего выросло несколько поколений театроведов, не знавших иного театра. В терминологическом плане этот период ознаменовался господством понятий системы Станиславского, объявленной высшим достижением мирового театра. Не только все театры работали «по системе», но и театроведение было ориентировано на мхатовский канон. При это нарушалась и понятийная «чистота» системы. Например, М. О. Кнебель включила в книгу «О действенном анализе пьесы и роли» главу о втором плане роли — понятие это было выдвинуто Немировичем-Данченко.
Лишь с шестидесятых годов начинается возрождение, весьма робкое, традиций годов двадцатых. Ослабевшее, но отнюдь не исчезнувшее идеологическое давление на искусствознание вплоть до середины восьмидесятых тормозило развитие науки. В условиях советской действительности разработка и обогащение терминологического аппарата происходили медленно. Но все же определенные успехи были достигнуты. В орбиту театроведческих понятий попали термины, заимствованные у структурализма и постструктурализма, а позже и деконструктивизма, и постмодернизма. Однако строгость в использовании терминов этих философско-эстетических концепций была, а в известной мере и остается относительной. Как в двадцатые годы театроведение не успело «переварить» подходы и терминологию формалистов, так в шестидесятые-восьмидесятые не были полностью (а в силу исторических обстоятельств и не могли) абсорбированы новейшие категории. Поэтому до сих пор само понимание структуры спектакля, которое демонстрирует современное театроведение, неоднородно. «Структура» может оказаться синонимом «композиции», а может описывать связи и подчиненности тех элементов спектакля, которые Аристотель назвал бы образующими. Еще более проблематичным является употребление термина «язык театра». Несмотря на то, что термин этот один из самых расхожих в театроведческих трудах, можно уверенно утверждать, что единого наполнения он не имеет. А использование понятий, пришедших из постмодернистской эстетики, и вовсе подчас выглядит поверхностным и выдает неусвоенность отечественной наукой о театре основ постмодернистской философии.
175 Сложная картина понятийной неустойчивости имеет очевидное объяснение. Терминологическая система всегда является производной от теории. И чем четче теория построена, чем яснее она понимает свой предмет, тем определеннее сущности, требующие наименования, и тем разработаннее терминологическая и методологическая оснащенность науки. Единая, общепризнанная теория театра находится в периоде становления. В этих условиях терминологическая гармония и определенность невозможны. Точнее, так же, как и теория, терминология не стала, но становится. Простое сравнение современных театроведческих текстов с текстами двадцати-тридцатилетней давности наглядно свидетельствует о возникающем терминологическом единстве. О нем же говорят и пока немногочисленные опыты, предпринятые только в последние десятилетия, — по созданию терминологических словарей театроведения: это «Словарь театра» П. Пави, «A dictionary of theatre anthropology» Э. Барбы и Н. Саварезе и выпуски «Театральные термины и понятия: Материалы к словарю» Российского института истории искусств.
Объективная сложность в создании таких словарей — «исторический шлейф» практически любого понятия. На протяжении десятилетий, а иногда и веков одно и то же слово наполнялось различным содержанием (яркий пример — «инсценировка», означавшая в начале XX века постановку на сцене). Это обстоятельство делает невозможной «абсолютную» фиксацию термина, однако и не является непреодолимой преградой: знание истории содержания того или иного понятия необходимо, особенно театроведу-историку, но ведь и современное состояние понятийной системы может быть осмыслено как исторический этап. А следовательно, возможны и терминологические словари, отражающие сегодняшнее ее состояние.
Современный театроведческий терминологический аппарат можно представить состоящим из нескольких принципиальных частей. Первая включает в себя собственно театральные понятия — такие, как «актер», «амплуа», «сцена», «роль», «маска», «мизансцена» и т. д. Часть из них, как уже говорилось, полисемантична и применительно к различным театральным явлениям обнаруживает различное наполнение. При этом источник этих понятий — театральная практика — не должен вводить в заблуждение. Практические, а подчас и технические понятия используются театроведением в специфическом ракурсе: всегда с точки зрения на спектакль как на произведение искусства. Подавляющее большинство этих терминов призвано вскрыть образную суть 176 спектакля, понять, из чего рождается художественный смысл сценического представления. Поэтому, используемые театроведением, эти термины получают качественно новое звучание: их материальная природа одухотворяется образным содержанием. Этот дуализм собственно театральных терминов в полной мере выражает дуализм самого театра — всегда материально-конкретного, но в лучших своих проявлениях наполненного духовной энергией.
Воспринятая и осмысленная театроведением, часть этих терминов вернулась в театр уточненной. Так «мизансцена», первоначально означавшая положение актеров на сцене, не без влияния театроведческой науки на сегодняшний день и практиками театра понимается динамически: как изменение положения героев на сцене. Такое уточнение смысла существенно, поскольку в большей мере соответствует действенной и пространственно-временной природе театра.
Другая часть — термины, заимствованные из различных театральных систем: например, «кинетическое пространство» Крэга, «предыгра» Мейерхольда, «очуждение» Брехта, «задача» и «сверхзадача» Станиславского, «чувственный атлетизм» Арто и т. д. Специфика этой группы заключается в том, что ни одно из этих понятий не универсально — они порождены определенной системой и в ее рамках только и существуют. Бессмысленно искать сверхзадачу для биомеханического актера или очуждение у актера Станиславского. Некорректное использование этих терминов чревато подтасовками и спекуляциями. Однако от последних в полной мере оберегает то, что все они имеют четкие определения, сформулированные их создателями. Произвольное толкование этих понятий недопустимо ни при каких обстоятельствах. Между тем театроведение знает примеры, когда подобного рода термины получали как бы новое содержание и с этим новым содержанием кочевали из одной книги в другую. Так, «монтаж аттракционов» С. М. Эйзенштейна («Свободный монтаж произвольно выбранных, самостоятельных… воздействий (аттракционов), но с точной установкой на определенный конечный тематический эффект») в целом ряде случаев употребляется в смысле череды эффектных ходов. Несмотря на узаконенность временем и традицией, такая подмена представляется неправомерной.
Третья часть — заимствования из различных общеэстетических и философских систем, а также смежных искусствоведческих дисциплин: «структура», «текст» (текст спектакля), «остраннение», «деконструкция» и т. д. Сложность этой терминологической группы заключается в том, что все эти понятия были придуманы как универсальные не 177 только (а обычно и не столько) в применении к театру, но к искусству как таковому. А некоторые даже и не к искусству. Поэтому их употребление в театроведческих работах требует, как правило, определенной адаптации к реалиям собственно театрального искусства. Большинство проблем возникает здесь в силу присущих театру и только театру особенностей: единства творца и материала (актера) и участия в театральном действии зрителей. Поскольку все эстетические теории, терминология которых в большей или меньшей степени вошла в современный театроведческий лексикон, разрабатывались на основе других искусств (обычно — литературы и кинематографа, не имеющих подобных особенностей), прямолинейный перенос их методов, а следовательно, и терминологии на театр чреват внутренними противоречиями. Другая сложность заключается в том, что термины эти имеют смысл в рамках породившей их эстетической и философской системы, они репрезентируют определенный взгляд на мир и искусство, являются инструментом совершенно определенного метода. Поэтому механический их перенос в театроведческую науку с отрывом от философской базы также не сулит решения крупных задач. Иными словами, не будучи постмодернистом по мироощущению, лучше избегать активного использования постмодернистской терминологии. Более того, как показывает практика, адекватный и последовательный постмодернистский анализ постмодернистских же спектаклей оказывается далеко в стороне от собственно театроведческих подходов и методологии.
И, наконец, четвертая часть. Ее можно условно определить как собственно театроведческую терминологию. Такие понятия, как «режиссерский театр», «действие», «пространство спектакля», «актерская режиссура», «психологический театр», «реконструкция спектакля», или порождены театроведческой наукой, или обрели в ней качественно новое содержание, нигде более, кроме как в театроведении, не существующее. Некоторые из этих терминов, таких, как, например, «реконструкция спектакля», описывают методические приемы, но большинство соответствует специфическим явлениям, осмысленным в границах театрального искусства. Поэтому содержание этих терминов сугубо искусствоведческое, соединяющее в себе, как правило, аспект технологии спектакля и его образную природу. В известном смысле некоторые из этих терминов, как, например «пространство спектакля», сами являются образами, что сильно затрудняет возможную четкость их определения. Но именно эта неутраченная в театроведении образность слова позволяет поймать в его сети искусство театра.
178 На сегодняшний день эта группа вкупе с первой — театральными терминами — образует ядро профессионального театроведческого словаря. Наличие такого ядра, внятной системы понятий, с помощью которых можно описать и проанализировать любое театральное явление (для чего, разумеется, используется и соответствующая методология), наглядно доказывает состоятельность театроведения как науки. Однако и собственно театроведческая терминология не лишена известных проблем. Несмотря на общеупотребительность всех этих понятий, самые фундаментальные из них все еще не имеют исчерпывающих определений. Так, оказывается, в высшей степени затруднительно четко и по существу определить, что такое «режиссура» и уж тем более «действие». Тонкость, а быть может, и некоторая курьезность современного положения вещей заключается в том, что при наличии в театроведческом сообществе по сути общего понимания этих важнейших терминов не существует их общепризнанных формулировок. Практическая и насущная задача нынешней науки о театре — дать все необходимые и исчерпывающие дефиниции. Но задача эта может быть решена лишь в рамках другой, еще большей задачи — в рамках создания полноценной и законченной теории театра.
179 Часть вторая
ОСНОВНЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ
Глава 1.
ТЕАТР КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Театральное искусство и в качестве специфического вида деятельности, и в качестве специфического же «продукта потребления» давно и прочно обосновалось в культуре человечества. Не во всех культурах, не во всех общностях и не во все времена театру находилось место, однако в том или ином виде театр присутствовал в культуре всегда, что свидетельствует, во-первых, о витальности его появления и бытия, а во-вторых, в какой-то степени гарантирует театру «неистребимость» в грядущей культуре. Конечно, место и роль театра в культуре и общественном сознании достаточно скромны, при самом удачном для театра расположении звезд он не может рассчитывать на внимание более чем 10 % населения. Однако, если взглянуть на эту ситуацию без театроцентристских амбиций, 10 % — совсем не мало… Кроме того, театр, в отличие от других, возможно, более распространенных видов искусств — художественной литературы, музыки, кино, — чрезвычайно социален, он действительно не может без социума — в театральном зале во время спектакля должны быть зрители. В этом заключается и особая сила театра, и одновременно — его слабость. Искусство театра неотлагаемо, спектакль не может в ожидании своего зрителя «полежать» какое-то время в столе, на полке или в запасниках. На каждом представлении спектакль творится на глазах у публики и с ее участием, на протяжении всего акта творения / сотворения происходит и акт потребления. В других видах искусства дистанция между созданием художественного произведения и его потреблением может измеряться даже веками. И хотя история театра существует, соприкоснуться с живым спектаклем можно только тогда, когда он идет. Есть огромная доля уверенности в том, что «Джоконда» Леонардо да Винчи остается на своем месте в Лувре, когда тот закрыт для посетителей, а вот где находится спектакль, когда расходятся 180 зрители, определить невозможно. Именно в силу своей социальности театр больше других искусств зависим от зрителя, но благодаря ей же он может иногда очень ощутимо воздействовать на публику.
Будучи частью культуры и частью общественной жизни, театр в то же время является социальным институтом, как, впрочем, и остальные виды искусства. Социальный институт искусства выполняет те же функции, что и другие социальные институты — права, образования, религии, воспитания… Все они служат своеобразной прослойкой между культурой общности и общественной жизнью. В культуре содержатся все правила, регулирующие общественную жизнь, — от правил выращивания пшеницы до правил создания и запуска космических кораблей. В ней же — правила типичного поведения людей в типичных ситуациях. Здесь же — значимые для всех членов конкретной общности социально-культурные, нравственные ценности. Правила, нормы, законы существуют для их соблюдения, вот почему культура — по необходимости крепко, жестко сконструированная сфера, обеспечивающая общественной жизни относительную безопасность и развитие. А вот сама общественная жизнь динамична, изменчива, поскольку реализуется людьми, индивидами — членами общности — через социальные контакты и социальные конфликты. Социальные институты существуют как раз для того, чтобы жесткая культура и динамичная общественная жизнь по возможности безболезненно «притирались» друг к другу.
Все социальные институты тиражируют, транслируют и укореняют в общественной жизни нормы и законы из культуры, и через эти же институты в культуру попадает и закрепляется в ней какое-то число позитивных для общности изменений, произошедших в общественной жизни.
Театр, как и все искусство, тиражирует, транслирует, внедряет в общественное сознание нормы, правила, модели поведения, образцы для подражания, идеи, социально-культурные ценности, то есть выполняет типичные для любого социального института функции. Однако в отличие от них эта функция реализуется искусством быстрее, надежнее, результативнее. Нормы, идеи, ценности транслируются искусством через свой специфический канал — через эмоцию.
Слушатель, посетитель, зритель — публика, испытывая эмоции, чувства от увиденного, услышанного, прочитанного, не только быстрее и легче усваивает информацию, но и охотно присваивает ее как лично пережитую.
181 Искусство гораздо эффективнее других социальных институтов осуществляет и обратную связь — от общественной жизни к культуре. Особое свойство художника — раньше и острее других замечать или предчувствовать перемены в общественной жизни, пусть даже локальные, часто еще на уровне тенденций, — толкает творца к тому, чтобы в своем искусстве выразить замеченное или почувствованное. Он это делает — в меру своего мастерства и темперамента. Зародыш идеи или тенденция не только обретают в искусстве дополнительную значимость, но и широко этим искусством тиражируются, проникая во все новые и новые пласты и закоулки общественного сознания, и достаточно быстро могут стать нормой общественной жизни. А коли это произошло, культура должна узаконить новую норму…
Оперативность и действенность социального института искусства концентрируют на нем внимание определенных социальных групп, прежде всего — власти, которой очень нужен такой именно рупор для пропаганды собственных идей. Проникновение в искусство и насыщение его властной идеологией всегда происходило и будет происходить, но способы проникновения, как и мера идеологизации, могут быть разными. Чем дальше расходятся интересы власти и интересы общества, тем большее давление, вплоть до грубого насилия, испытывает искусство (художник) со стороны власти. Чем ближе эти интересы, тем свободнее творит художник, который, реализуя себя в искусстве, естественно реализует в нем и властные идеи, поскольку, как и подавляющая часть общества, искренне их разделяет.
Еще одним из трех «китов», на которых балансирует искусство, является публика, и применительно к театру ее интересы связаны в основном со зрелищной стороной этого искусства. Природа театрального искусства всегда зрелищна, однако чем ниже культура общества, чем примитивней культура публики, тем большей зрелищности она требует от театра. А повышенная по сравнению с другими искусствами зависимость театра от его публики уже упоминалась выше.
Итак, самовыражение, исповедничество (для художника), пропаганда, идеология (для власти), зрелище (для публики) — эти столь разные интересы сосредоточены на театре, а точнее, буквально, на любом его спектакле. И в каждом спектакле в зависимости от множества часто меняющихся причин — своя мера выраженности этих интересов, свои пропорции — от уродливых до относительно гармоничных.
182 ТЕАТР КАК ОРГАНИЗАЦИЯ
Развитые формы театра всегда опираются на другие искусства: художественную литературу, изобразительное искусство, музыку, танец. В спектакле в разной мере действительно может быть собрано все это и многое сверх того. Но такого рода соединение невозможно без участия в создании спектакля профильных специалистов — представителей разных профессий, в том числе и таких, чьи умения напрямую не связаны с искусством. Деятелей (делателей) искусства принято называть художниками, творцами, а применительно к театру обязательно вводится уточнение — «коллективный художник, коллективный творец». Обычно под этим определением разумеются режиссер и труппа, однако коллектив творцов гораздо шире, в него следует включать и художника, и композитора (или заведующего музыкальной частью театра), и завлита, и заведующего художественно-постановочной частью, а в музыкальном театре, например, помимо режиссера есть дирижер, балетмейстер и в труппу входят все, кто танцует, все, кто поет, да еще и оркестр.
Создание, а затем и эксплуатация спектакля немыслимы без так называемых технических исполнителей — работников художественно-постановочных цехов, чья работа имеет тоже вполне творческий характер.
Словом, театр — это обязательно коллектив, размеры которого зависят от вида театра (в театре кукол может быть 50 – 70 сотрудников, в театре оперы и балета — тысяча), от его истории и статуса. Труд этих людей должен быть организован, их усилия должны быть согласованы как в процессе создания спектакля, так и в процессе его проведения. Проведение требует особо тщательного согласования действий всех участников спектакля — «с точностью до секунды, с точностью до миллиметра».
Вот почему театр есть организация, кстати, он сегодня так и называется — «организация исполнительских искусств». А в советские времена театр назывался государственным социалистическим театрально-зрелищным предприятием. Разумеется, дело не в названии. Советские времена здесь помянуты исключительно потому, что именно тогда окончательно сформировалась внутренняя организационная структура театра, сохранившаяся и позволяющая театру функционировать и ныне.
Универсальность (все театры внутренне устроены почти одинаково) и живучесть этой структуры обеспечены не столько гениальностью, 183 сколько скупостью. Власть сохранила (допустила) в театре только то, без чего театр уж никак не смог бы существовать. Власть разрешила только одну, понятную ей, творческую модель театра — МХТ, только одну систему воспитания актера — систему Станиславского, только одно направление в искусстве — социалистический реализм и, естественно, только одну организационно-управленческую структуру. Ведь если все театры по всем параметрам устроены одинаково, то для управления этими «винтиками» театрального искусства достаточно одного «гаечного ключа»…
Ниже приведена схема организационной структуры для драматического (самого распространенного в России) советского театра. Для театра оперы и балета, для театра музыкальной комедии схема тоже будет верна, если ее творческий блок дополнить соответствующими подразделениями — хор, балет, оркестр и т. д.
Организационная структура драматического театра
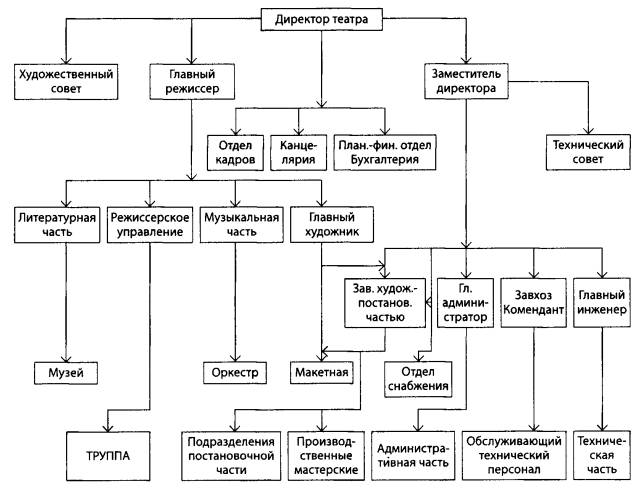
184 В целом и сегодня внутреннее устройство театра остается таким же. Реформации театра, проводившиеся особо активно в конце 1980-х – середине 1990-х годов, многое изменили в жизни театра, однако на его внутренней организационной структуре сказались мало. Реальные перемены затронули лишь «верхушку» схемы — сегодня единоначалие директора театра становится все более формальным, и вопрос «кто под кем ходит?» решается между директором и главным режиссером в каждом конкретном театре по-своему. Во все большем числе театров вводится должность художественного руководителя, который одновременно может быть и главным режиссером или вовсе не быть режиссером — ни по характеру деятельности, ни даже по профессии. Все большее число художественных лидеров руководит театром еще и в должности директора — со всей полнотой директорских прав. С другой стороны, театр может себе позволить иметь не одного директора, а нескольких — генерального, финансового, директора-распорядителя и т. п. У директора (директоров) может быть несколько заместителей — по направлениям деятельности. Эти перемены — отражение своеобразного процесса перераспределения функций в рамках прежнего их набора.
А между тем у театра как организации сегодня появились вполне значимые новые функции. Жизнь заставляет его заниматься и фандрейзингом, и освоением иных источников законных доходов, не связанных со спонсорством или меценатством, наконец, театр должен обновлять и активизировать PR- и рекламную деятельность, системно администрировать собственное представительство в интернете. Многие театры, как могут, осваивают эти задачи, однако ни на практике, ни, тем более, в структурной схеме новые структурные подразделения не появляются. Отделы маркетинга, фандрейзинга, рекламы, служба системного администратора сегодня для театра все еще, как правило, непозволительная роскошь.
Как организация театр не свободен от внешних по отношению к нему структур, его работа должна осуществляться в поле действующего в обществе законодательства. Конституция РФ, кодекс законов о труде, гражданский кодекс, региональные законы, подзаконные акты собственно театральной сферы, безусловно, регламентируют деятельность любого театра. В советские времена управление и контроль над деятельностью театров осуществлялись государством через его структуры — Союзное (СССР), Российское министерства культуры, областные и городские комитеты по культуре соответствующих исполкомов. Соответственно и театры имели разные статусы — союзного, российского, областного 185 (таких было большинство) и городского подчинения. Для всех театров этих четырех статусов организационно-правовая форма была единой — государственное социалистическое театрально-зрелищное предприятие. В конце 1980-х годов, когда власть сначала в экспериментальном, а затем и в общем порядке освободила театры от своей плотной опеки, театральное искусство получило в свое распоряжение целый букет невиданных им ранее свобод — творческих, хозяйственных, финансовых, организационных. Одновременно волна «перестройки и гласности» обрушила на театральное сообщество огромное количество новых театров, повсеместно возникавших по инициативе снизу. Только за два года (1986 – 1987) в Ленинграде появилось 160 новых театров, в Москве — 240 (!), а сколько их родилось тогда в целом по стране — вообще неизвестно. Организационно-правовая форма для новых театров той поры — «театр-студия» — сплошь и рядом была неудобна новым образованиям. Многие из них не были студиями по сути, часть — не была театрами по характеру деятельности. Эту форму вынужденно примеряли на себя все новые коллективы, желавшие легализоваться, — от вполне традиционных театров до разношерстных групп людей, объединенных подчас весьма экзотическими интересами. Так называемые «театры-студии» рождались во множестве и во множестве умирали, в сегодняшнем санкт-петербургском театральном сообществе вряд ли наберется с десяток театров, родившихся в конце 80-х годов. В Москве, возможно, — несколько больше. И ныне эти театры — вовсе не «театры-студии». Тогдашний «театрально-демографический бум» не поддавался контролю, да и учету поддавался с большим трудом. Последующие шесть лет характерны снижением активности этого процесса и выработкой внутри него через пробы и ошибки, через согласование с властями новых разнообразных организационно-правовых форм. Определение формы существования организации — это, прежде всего, определение формы собственности.
Сегодня есть варианты. Есть варианты и в статусе пребывания театра на рынке театральных услуг, статус может зависеть от цели деятельности: сегодня цель деятельности и миссия театра — не одно и то же. Цель может быть вполне коммерческой, а миссия — вполне социально-культурной. Разнообразие организационно-правовых форм деятельности театров, закрепленное сегодня законодательно, как раз и определено этими параметрами — формой собственности и целью деятельности. Ниже приведены две схемы — для коммерческих и некоммерческих организаций. Обе они образуют правовое поле, в рамках которого всякий театр может идентифицировать себя с той или иной подходящей формой.
186 Действующие
организационно-правовые формы коммерческих организаций
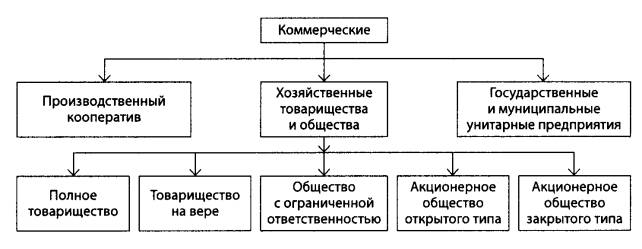
Действующие
организационно-правовые формы некоммерческих организаций
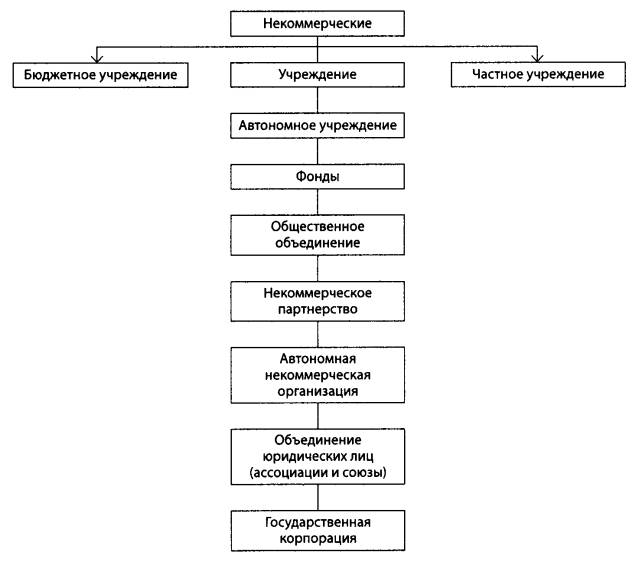
187 ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Театр производит — создает — спектакль. Репертуарный театр — наиболее распространенный в России — производит спектакли, репертуар. Театр одного спектакля (теперь у нас есть и такие), создав спектакль, далее занимается его прокатом — настолько долго, насколько будет существовать спрос. Однако репертуарный театр одновременно с созданием спектакля (спектаклей) ведет активную эксплуатационную деятельность, прокатывая репертуарную афишу. Для него эта деятельность — тоже производственная. Правда, сегодня в России существует немало организаций, которые скупают или берут в аренду чужие спектакли и занимаются их прокатом: так называемые антрепризные театры, продюсерские конторы, театры (или концертные организации) — площадки, не имеющие собственных исполнительских сил, и т. п.
Однако наиболее типичное театральное производство включает в себя и создание спектаклей, и их прокат. Причем осуществляется эта производственная деятельность практически одними и теми же людьми: обычно в первой половине дня сотрудники заняты в репетиционном процессе, а вечером — в представлении, показе публике какого-либо спектакля текущего репертуара. Это обстоятельство непременно учитывается в практической организации репетиционного процесса и особенно — при составлении плана проката текущего репертуара и в последующей его реализации. Тем не менее каждую из этих сторон театрального производства можно рассматривать автономно, поскольку и в одной, и в другой имеются свои, проверенные временем, принципы, методы, правила, этапы и алгоритмы. Основное правило, относящееся к созданию спектакля, не содержит двусмысленности и легко выполнимо: администрация театра обеспечивает все необходимое для максимально комфортных условий творчества. Это простое правило далеко не всегда соблюдается на практике. Вероятно, на театре все еще сильны дурные традиции недавнего прошлого, когда идейно-художественные ценности репертуара создавал режиссер спектакля, а отвечал за них перед властью директор театра. Конечно, дирекция — менеджерский «цех» — театра должна создавать максимум удобств творческому «цеху» на всех этапах производства спектакля, начиная с поиска необходимых средств на новую постановку и кончая, допустим, обеспечением нормальных условий работы в репетиционном помещении: чистота, свет, свежий воздух и т. п. Сегодня у дирекции театра нет никаких причин для того, чтобы относиться к репетиционному процессу или практически его обеспечивать 188 как-то иначе. В советское время план выпуска новых постановок утверждался «сверху», и на дату премьеры, например, театр не мог покуситься ни при каких обстоятельствах без серьезных негативных для себя последствий. Ныне театр — его режиссер — сам решает, что ставить, как ставить и — как долго ставить. План-график выпуска нового спектакля создается внутри театра, для его же удобства, и этапы выпуска задаются режиссером — постановщиком спектакля в согласовании с дирекцией. Если администрация театра неукоснительно выполняет свою часть работы по реализации этого согласованного плана, режиссеру не на что ссылаться в случае неудачи — ему никто не мешал творить.
Создание спектакля в силу специфики театрального художественного «продукта» слагается из нескольких векторов параллельной деятельности:
— репетиции с артистами — застольный период, репетиции в репетиционной комнате с условной выгородкой, в ней же — с частью декораций, репетиция на сцене с частью декораций, со всей декорацией (в том числе — монтировочная, световая и звуковая репетиции с артистами), репетиция на сцене в костюмах, затем — в костюмах и с аксессуарами, в гриме, несколько прогонов, генеральная репетиция, премьера;
— создание вещественного оформления — работа режиссера с художником, изготовление и обсуждение эскизов оформления и эскизов костюмов, изготовление и обсуждение макета спектакля, обсуждение и формирование сметы расходов, то есть «осмечивание» макета, размещение заказов на изготовление / приобретение декораций и костюмов в собственных мастерских театра или на стороне, создание световой партитуры, заказ / изготовление специальной световой аппаратуры, изготовление и обсуждение грима, подбор / изготовление реквизита;
— создание музыкального оформления спектакля — работа режиссера с композитором или заведующим музыкальной частью театра, сочинение / подбор и обсуждение музыки к спектаклю, репетиции с оркестром, запись музыки, создание звуковой партитуры спектакля;
— вокальные и танцевальные репетиции, если танцы и вокал предусмотрены режиссерским замыслом.
В театре оперы и балета, естественно, добавляются свои специфические этапы создания спектакля — освоение оперных и балетных партий, репетиции артистов без оркестра, репетиции оркестра, сводные репетиции с оркестром на сцене и т. д.
В соответствии с этими направлениями деятельности в театре можно выделить несколько тесно взаимодействующих структурных подразделений.
189 Творческий цех
Художественный руководитель, главный режиссер, режиссеры, помощники режиссера — по литературной части (завлит), по музыкальной части (завмуз), по проведению спектаклей, по труппе (зав. труппой или зав. режиссерским управлением), труппа, если есть — оркестр, зав. музеем.
Главный художник, художник-постановщик, макетчик, художники-исполнители.
Художественно-постановочная часть
Заведующий (завпост), технические цеха, каждый со своим заведующим — художественно-декорационный (монтировочный), мебельный, реквизиторский, костюмерный, гримерный, радиоцех, осветительский. Производственные мастерские — декорационный (поделочный) цех, бутафорский цех, пошивочный, сапожный.
Административная часть
Директор (директора), заместители директора, главный (старший) администратор, администраторы, билетный стол, комендант здания, обслуживающий технический персонал (билетеры-контролеры, гардеробщики, уборщики), зав. складом, служба снабжения, канцелярия, планово-финансовый отдел, бухгалтерия.
В распоряжении заместителя директора по эксплуатации здания — инженерная служба и техническая часть.
Каждое структурное подразделение театра в определенный момент и в определенной мере подключается к производству спектакля с тем, чтобы на последнем этапе выпуска все его компоненты были в наличии и управляемым образом, согласованно создавали то самое искусство, каким является театральный спектакль. И только одно структурное подразделение — административное — включено в работу на всех стадиях процесса создания спектакля, потому что обеспечивает плавное его течение. Строго говоря, дирекция приступает к выпуску спектакля даже несколько раньше всех остальных. Сегодня продвинутые руководители театров склонны рассматривать создание спектакля как некий культурный проект и под этот проект загодя находят и «вербуют» участников, прежде всего — финансовых, информационных, а в необходимых случаях и творческих — конкретных режиссеров, художников, композиторов или же артистов.
190 Создание спектакля заканчивается премьерой, и с нее же начинается его прокатная жизнь. Он «поступает» в распоряжение администрации, которая как раз и занимается продажей, реализацией специфического театрального продукта. Планово реализуя в прокате все названия текущей афиши, администрация театра обязана обеспечить новому спектаклю полные залы задолго до его готовности. За несколько месяцев до даты премьеры в русле общей рекламной деятельности театра начинается специальная акция по продвижению готовящегося спектакля. Билеты на премьеру и несколько последующих представлений нового названия за 2-2,5 месяца должны быть размещены в каналах реализации, поскольку всякая премьера, если ей обеспечен повышенный спрос, какое-то время может служить своеобразным «локомотивом», стимулирующим продвижение всего репертуара. Эксплуатация текущего репертуара, его прокат — дело сугубо производственное, вот почему разумный художественный руководитель может вверить судьбу нового спектакля специалистам и далее в эту судьбу не вмешиваться.
Вместе с тем, вне зависимости от квалификации конкретных театральных менеджеров, прокатная жизнь спектакля лишь относительно зависит от их вольной воли. Уже при рождении каждый спектакль обладает своим набором социально-культурных ценностей, особыми свойствами и характеристиками, часть из которых может существенно предопределить его прокатную судьбу. Среди них — мера художественности, зрелищность, жанр, тема, актуальность, оригинальность, адресность (предназначенность той или иной категории зрителей). Эти свойства вместе и порознь в какой-то степени сказываются на зрительском спросе, а он, в свою очередь, достаточно мощно влияет на прокатную жизнь спектакля.
Другая группа характеристик спектакля, существенно определяющих его судьбу в прокате, имеет отношение к внутритеатральной организационной «кухне» — качественно-количественная населенность спектакля артистами, трудоемкость спектакля (сложность или простота материального оформления), населенность спектакля техническими исполнителями. Создавая прокатный план на месяц, администратор, по сути, определяет, какое название сколько раз будет показано зрителю, то есть — частоту; располагая названия по конкретным числам, он устанавливает последовательность названий в прокате. Показ конкретного названия обеспечивается конкретными, занятыми в нем людьми — артистами и работниками технических цехов. Занимаясь вроде бы сугубо своим делом — планированием, администратор одновременно должен 191 решать непростую проблему занятости артистов (каждый артист имеет право выходить на сцену) и их перегрузки (артиста нельзя перенапрягать). Кроме того, артисты ведь заняты еще и в репетициях (иногда — и вне театра). Перенапрягать нельзя и работников художественно-постановочной части. Значит, трудоемкость установки, проведения и разборки спектакля — серьезные характеристики определенного названия, ограничивающие свободную волю администратора в планировании, казалось бы, исключительно своей работы. Вот почему сверстанный дирекцией план эксплуатации репертуара необходимо согласовать с заведующим труппой (занятость артистов) и с заведующим художественно-постановочной частью (возможности технических цехов). Согласованный план утверждается художественным руководителем театра.
Планируя прокат, администрация исповедует или даже реализует некоторые принципы планирования и использует различные методы планирования.
Первый, идеальный принцип, используемый сполна лишь малой долей театров, — принцип равномерности проката всего социально-культурного достояния афиши. Все спектакли репертуара равны перед лицом проката, ни один из них не должен показываться чаще, чем любое другое название. Этот принцип позволяет театру наиболее полно реализовывать его миссию (как сам театр ее понимает).
Второй — принцип приоритетности в прокате так называемых «программных» спектаклей, к которым театр может относить либо лучшие свои творения, либо спектакли определенного жанра и т. д. Если программные спектакли не противоречат миссии театра, она сполна реализуется в прокате.
Третий — не столько принцип, сколько широко распространенная прокатная практика — ориентация на зрительский спрос. Здесь говорить о каком-то выполнении театром его миссии уже не приходится.
Второй принцип планирования легко превращается в третий, когда программными спектаклями становятся те названия из афиши, которые пользуются наибольшим зрительским спросом. Что активно покупается, то активно и продается. Однако в свете миссии театра гораздо правильней было бы администрации самой планировать прокат, чем доверять это публике.
Есть два метода планирования эксплуатационной деятельности театра. Обычно они оба и используются. Первый, частотный метод лучше всего обеспечивает соблюдение принципа равномерности проката. 192 Администратор определяет среднюю частоту представления одного названия в год, в месяц и старается придерживаться этой средней цифры. Для того чтобы «выйти» на среднюю частоту показов отдельного названия, необходимо определить, сколько всего представлений (в год, в месяц) театр собирается давать. Сегодня количество представлений — то есть эксплуатационный режим — театру не задается властью, он сам себе его устанавливает. Однако некоторые правила и здесь следует соблюдать. Казалось бы, чего проще — вычитаем из календарных дней в году (365) 54 выходных дня и 40 дней коллективного отпуска и получаем около 270 рабочих вечеров в год. Вот и режим деятельности. Кстати, именно это количество представлений в год присутствует в большинстве учредительских договоров театров с их учредителями. Однако вряд ли такой режим подходит для всех театров безоговорочно. Скажем, театр города Ирбита Свердловской области работает, как все театры, в таком эксплуатационном режиме. Количество жителей города — 50 000 человек, но только десятая их часть может являться театральной публикой — это 5 000 человек. Коммерческая вместимость зала этого театра — 600 мест. Для удобства счета допустим, что ежевечерне зал заполняет 500 человек. Значит, ровно за 10 вечеров вся публика города посмотрит одно название из репертуара театра. И чтобы работать 270 вечеров в году, театру необходимо иметь в репертуаре не меньше 27 названий (по 10 дней на каждое). 27 названий в репертуарной афише — это нормально для драматического театра, но для конкретного, этого — Ирбитского — театра работа в таком режиме означает, что в следующем году он должен будет выпустить 27 (!) премьер… Между тем для театра такого ранга даже 6-7 премьер в год — большая нагрузка. Так, может быть, не надо работать в подобном режиме?
С другой стороны, театр, работающий в крупном городе — «миллионнике», даже с залом большей вместимости, допустим, 1000 мест, прокатывая одно название, «вычерпает» свою публику объемом в 100 000 человек за 100 рабочих вечеров. Относительная избыточность театральной аудитории позволяет такому театру и премьер выпускать поменьше — 2-3 в год, и представлений давать даже больше, чем 270, — за счет выездных спектаклей в городе, показываемых параллельно со стационарными, спектаклей для детей по субботам и воскресеньям, гастролей в близко расположенных городах и весях — тоже в параллель со стационаром. Режим эксплуатационной деятельности такого театра может быть настолько напряженным, насколько это ему выгодно и по силам. Итак, режим эксплуатационной деятельности театры малых городов 193 рассчитывают, опираясь на два объективных показателя — объем аудитории и коммерческую вместимость зала. Чем меньше публики, чем больше вместимость зала, тем скромней должен быть режим деятельности. И наоборот, соответственно. В городах с относительной избыточностью публики театры выбирают режим прокатной деятельности «по плечу», чтобы не перенапрягать коллектив и чтобы репетиционный процесс не ущемлялся ни по продолжительности, ни по качеству.
Так или иначе определенный режим прокатной деятельности ложится в основу расчета средней частоты представления отдельного названия. Арифметика проста: зная общее количество представлений в год, зная количество названий в афише, администратор легко рассчитывает эту среднюю частоту для сезона и для месяца. Театры, которые придерживаются второго принципа планирования прокатной работы — приоритетности программных спектаклей, — просто задают этим спектаклям некую большую — приоритетную — частоту представлений. Остальным названиям афиши, следовательно, задается меньшая частота представлений.
Планирование проката репертуара обычно начинают, используя точечный метод. В основе метода лежит обычная практика показа определенных названий в определенный, загодя известный день. Например, к юбилею Шекспира или Гоголя в соответствующий день будет показан «Гамлет» или «Ревизор», спектакли, которые обычно прокатываются наравне с другими, но в этот конкретный день пойдут непременно. «Точками» могут быть спектакли, связанные с юбилеем артиста или некоей красной датой календаря, или детские спектакли во «взрослом» театре, идущие обычно по выходным и каникулярным дням. Главное — театр знает загодя о дате проведения «точечного» спектакля. Расставив в месячном плане проката «точки», администратор далее распределяет другие названия афиши по оставшимся дням месяца, используя частотный метод. В результате создается календарный план проката репертуара. Оптимальный срок планирования — квартальный, то есть администратор планирует свою работу за три месяца на четвертый. Это правильно и потому, что за такой срок вполне можно продать все билеты, и потому, что все сотрудники театра, зная свое рабочее расписание на три месяца вперед, могут «приноровить» к нему свою жизнь вне театра.
Утвержденный календарный план проката является руководством к действию для всех структурных подразделений театра, а конкретные административные усилия менеджерского цеха складываются из следующих направлений:
194 — создание и размещение текущей рекламы театра, разработка и реализация специальных рекламных акций, посвященных премьере, юбилею артиста, режиссера, театра и т. д. Осуществление PR-акций или постоянной PR-деятельности;
— работа в той или иной форме со зрителями, направленная на их привлечение в театр;
— размещение в каналах реализации и активизация в них продаж театральных билетов (традиционные каналы — касса театра, институт уполномоченных по реализации билетов, а в крупных городах — централизованные театральные кассы или агентства по продаже билетов, сегодня — еще и интернет как дополнительный канал реализации);
— ежедневный прием зрителей в театре на спектакле, создание для них комфортной атмосферы просмотра;
— организация и проведение выездных или гастрольных спектаклей, если эксплуатационным режимом театра это предусмотрено.
Наряду с содействием репетиционному процессу и эксплуатацией текущего репертуара, администрация занимается поддержанием здания театра в надлежащем виде и состоянии, косметическим, капитальным его ремонтом, реконструкцией, если в этом возникает нужда, и т. д. Административного «пригляда» требует и разнообразная, подчас очень сложная сценическая или иная техника, используемая в театре.
Разумеется, организация труда всех работников театра, организация оплаты их труда и стимулирование их деятельности целиком и полностью ложится на плечи административного цеха.
Глава 2.
СЦЕНА И ЗАЛ. ТИПЫ ОТНОШЕНИЙ
То, что театр сложился как явление сколь эстетическое, столь и общественное, — факт неоспоримый и исторически подтвержденный. Другое дело, что изучали театр чаще всего исключительно как явление искусства, замкнутое в собственных пределах, либо в близких ему контекстах. Когда же к изучению театрального искусства впрямую подступилась социология, она почти сразу же интенсивно «перегнула палку», получив за это яркое определение «вульгарной». Полноценно изучить искусство с помощью социологической методологии не удалось: природа его при этом оказывалась искаженной.
195 И хотя одна наука явно недопоняла другую, это не отменило проблемы бытования театра как общественного института, отражающего и то, что происходит на сцене, и то, что творится при этом в зрительном зале, поскольку одного без другого в театральном искусстве не существует.
Изучая феномен театральной публики, Ю. Н. Давыдов убедительно доказал наличие конфликта двух партитур спектакля — режиссерской и зрительской. Под режиссерской партитурой ученый понимал режиссерский замысел, воплощенный создателем спектакля совместно с актерами, художником, композитором, балетмейстером и т. д. Она подчинена властной руке постановщика, управляема ею и в какой-то мере защищена. Однако по ходу конкретного представления и всей жизни спектакля в режиссерскую партитуру вторгаются совершенно новые ноты, акценты, голоса, способные до неузнаваемости изменить задуманный авторами и реализованный ими облик произведения. Это связано с тем, что зритель — далеко не пассивный отражатель происходящего на сцене, но активный преобразователь. Он способен самым непосредственным образом воздействовать на сценическое действие, жестко расставляя собственные акценты. И воздействие это (что существенно) «не является чисто эстетическим, ибо в зрительской партитуре, в рамках которой осуществляется восприятие зрелища и которая как бы “накладывается” на режиссерскую партитуру спектакля, определяющими в конечном итоге являются “внехудожественные моменты”»255*. Последнее утверждение не лишено полемичности, но в любом случае реальный спектакль не существует без тех социально-психологических, а иногда и физиологических реакций, которые входят вместе с публикой в зрительный зал из внешнего мира. Даже неоднородный театральный зал способен заразиться случайной эмоцией энергетически сильного зрителя и неистово хохотать вслед за ним, минуя и тонкости игры артиста, и юмор сценических ситуаций.
Каким образом взаимодействуют эти партитуры? В идеальном для искусства варианте они должны совпасть, что случается редко и закрепляется в истории театра под грифом «шедевр». На противоположном полюсе — полное распадение обеих, что означает абсолютное неприятие публикой происходящего на сцене. В середине — один из наиболее частных случаев: «полное подчинение зрелища зрительской партитуре, сопровождающееся утратой этим зрелищем своих эстетических качеств (“распад” спектакля как художественного целого)»256*.
196 Именно это обстоятельство дает ответ на вопрос, почему спектакль, полностью потерявший свои художественные ориентиры, продолжает с огромным успехом идти в театре, пользуясь необычайным спросом у публики, по-своему его «сотворившей».
Таким образом, рассматривая соотношение сцены и зала, необходимо иметь в виду сложнейшую диалектику, вытекающую из природы театра как вида искусства. И одна из типологий этого соотношения — тип взаимодействия режиссерской и зрительской партитур в пределах одного спектакля.
Вторая типология, которую имеет смысл рассмотреть в контексте отношений между сценой и залом, связана с тем, каким образом строится это взаимодействие. А. А. Михайлова предположила, что есть два типа такого общения, и образно описала их как оппозицию воронки и рупора. Эмоциональная «воронка», «втягивание зала в пространство сцены»257* — это фактически реализация «принципа четвертой стены»: сильнейшим эмоциональным канатом зритель втянут в происходящее, невольно становясь его участником. Другой тип — «рупор» — не предполагает включения зрителя в предлагаемые обстоятельства, напротив: «сцена наступает на него, атакует»258*. Здесь вполне уместны примеры из театра Брехта или Любимова.
Безусловно, эти два типа в чистом виде практически не встречаются, и вполне справедлива мысль о том, что «особенно напряженную зрительскую жизнь дают как раз те спектакли, где искусно, на пользу пьесе существуют оба типа взаимодействия “зал — сцена”, образуя каждый раз новый закон — закон данного спектакля»259*.
Диалектика взаимодействия сцены и зала может и должна быть рассмотрена еще в нескольких аспектах. «Для зрителя театр — это выход из одностороннего монологического общения с реальностью к общению диалогическому»260*, для театра же зритель — это необходимейшее условие его существования. Зритель нужен актеру: зал, как заметил А. Д. Попов, «своими реакциями вдохновляет актера, дает ему направление», у артиста «родятся новые приспособления, краски, акценты, которых он еще секунду назад и не предполагал и не знал»261*. Но зритель нужен и независимо 197 от психологической его функции: он инвариантная, фундаментальная часть художественной системы спектакля. Если человек, живущий в социуме, может обходиться без театра, театр без публики невозможен, на развитой стадии в отсутствие зрителей он превращается в лабораторию, что подтвердила, к примеру, поздняя практика Е. Гротовского.
Взаимодействие сцены и зала определяет и такое понятие, как тип театрального пространства. Театральное пространство, которое претерпело огромные качественные изменения в течение тысячелетий, отражало одновременно и место театра в конкретном обществе, и его эстетические ориентиры. Сцена-арена древнегреческого театра, амфитеатральное расположение мест были связаны со статусом театра как общественно-государственного учреждения. Как известно, спектакли этого театра предназначались всем гражданам Афин одновременно. Античным архитекторам необходимо было создать многотысячный зрительный зал, обеспечив при этом равные оптические и акустические условия восприятия зрелища. Так родился амфитеатр, самый демократический зрительный зал.
Одновременно сцена-арена отражала художественные устремления древнегреческих драматургов, для которых была важна полная свобода в определении места действия. Возможности этой сцены выглядели безграничными, ничто не сковывало фантазию авторов трагедий и комедий, не тормозило развитие действия — напротив, открытая площадка толкала к поиску особых выразительных средств, в первую очередь к использованию хора, получившего богатые возможности для эффектного размещения на орхестре.
Подобная архитектура и драматургия вместе порождали особый тип контакта сцены и зала. Единение исполнителей и зрителей в общем порыве создавало уникальный художественный опыт, к которому неоднократно на протяжении истории возвращались самые разные театральные эпохи в поисках утраченного единства, в поисках совмещения, наложения «режиссерской» и «зрительской» партитур.
Театр Древнего Рима отменил хор, изменил функцию орхестры, на которой теперь расположились зрители. Действие практически целиком перенеслось на проскений, мизансцены получили фронтальное построение, появился занавес, который теперь скрывал от зрителей ряд перестановок и явственно отделял их от актеров, что, несомненно, влияло на характер контакта сцены и зала.
Средневековый театр в корне пересмотрел взаимоотношения сцены и зала. Огромное пространство, соединявшее исполнителей и публику в античном театре, в литургической драме уменьшилось до крошечной 198 площадки возле алтаря. И только потом «стал использоваться центральный неф здания, ризница, притвор, кафедра проповедника»262*. Здесь церковь учила и просвещала своих прихожан, которые внимали действию со страхом и состраданием, но сдержанно: переживания уходили в глубь человеческой души.
Но вскоре, выйдя на площадь, мистериальный театр вернул потерянный масштаб: пространством мистерии стал весь город, основным местом представления — городская площадь, где осуществлялись религиозные и мирские акты, карнавалы и ярмарки.
Сцена-коробка, благополучно дожившая до сегодняшнего дня, возникла в 1454 году во время знаменитого «Пира фазанов», устроенного герцогами Бургундии и Клеве в городе Лилле: как считают историки, здесь впервые была использована сценическая площадка, перекрытая занавесом и помещенная в закрытом помещении. Повсеместно сцена-коробка стала использоваться в XV – XVI веках при княжеских дворах в Италии. Театр превратился в придворный, поскольку и устроить, и посещать его могли позволить себе только знатные вельможи. Сцена-коробка обозначила жесткий «водораздел» между актерами и публикой: исполнители развлекают, услаждают слух или веселят избранных, которые собрались, чтобы получить удовольствие. Момент отстранения публики от зрелища в условиях сцены-коробки зафиксирован в появлении и постоянного занавеса, и сменяющихся декораций и костюмов, которые со временем становились все более роскошными. Публика снисходительно созерцала изящную картинку, как настенную живопись.
А. А. Гвоздев в программной статье «О смене театральных систем» выделил два типа театральных площадок, которые явили собой и два типа театра: придворный (сцена-«коробка») и народный, ярмарочный. Два типа сценического пространства продиктовали различные типы драматургии, актерской игры и, конечно же, публики. Автор статьи констатировал «утверждение системы “придворного” театра, как системы общеевропейского сценического искусства, торжество ее над системой “народного” театра»263*.
Рассматривая этот процесс как диалектический, как «борьбу двух театральных систем»264*, А. А. Гвоздев наметил еще одну, открыто социологическую 199 типологию взаимоотношений сцены и зала, которая определена театральным пространством. Ярусный театр, появившийся также в Италии столетием позже, в XVII веке, способствовал изменению не только театральной эстетики и сценической технологии, но и зрительного зала, который стал внятно дифференцирован. Публика теперь по-разному видела, слышала и ощущала то, что происходит на сцене. Она постепенно разделилась по социальному составу — на аристократическую (партер, ложи бенуара и бельэтажа) и демократическую (галерка, или раек). Сцена чутко отвечала на эти изменения, поскольку нередко партер и раек по-разному реагировали на одну и ту же пьесу, актера, мизансцену. Правда, на отдельных спектаклях в общем порыве восторга или ужаса эмоции партера, лож и райка сливались — и такое возможно было только в театре. Когда зрительный зал объединялся, создавалась некая духовная общность, которая нередко пугала власть предержащих.
Кулисная сцена-коробка приобрела законченную форму в XIX веке и фактически в неизменном виде прожила целое столетие до первой «пространственной революции», случившейся уже в Новейшее время, в конце XIX века на сцене МХТ. Именно там и тогда «появились разновысотные площадки и, следовательно, возможность строить мизансцены на разных уровнях. Вертикаль начала осваиваться как одна из важных пространственных координат»265*. Глубина сцены стала использоваться полностью, свою функцию изменил свет. Наметилось качественно новое соотношение пространства с жизнью актера, что исподволь порождало такое явление, как атмосфера. А это, в свою очередь, спровоцировало рождение качественно нового контакта сцены и зала: сотворялась сильная, мощная «воронка», вовлекающая публику в действие.
В начале XX века произошел и следующий качественный скачок в области освоения сценического пространства и в типе отношений сцены и зала. Театральные деятели вспомнили об античности, о сцене-арене, о средневековом театре и комедии дель арте. «Именно тогда испытали сцену-арену, “комнатный театр”, выносной просцениум, комбинации различных площадок, создавали рельефную сцену и т. д.»266*. Экспериментировали, значит, и с публикой: на ней фактически испытывали новые сценографические и — шире — театральные системы; с другой стороны, она сама, будучи в это время необычайно активной, заметно влияла на поиски режиссуры.
200 Новаторские сценические площадки конца XX века (трансформирующиеся сцены, сцены-арены, кольцевые сцены, сцены на открытом воздухе и т. д.) явились осознанным возвратом к историческому опыту. И новации снова и снова оборачивались необычными взаимоотношениями сцены и зала. Зрители помещались в центре сценического действия или окольцовывали его, они могли находиться в крошечном помещении, почти касаясь актеров, — и на расстоянии, оптически отдаляющем место действия от публики. Режиссеры решали художественные задачи, вовлекая в этот процесс зрительный зал, делая его то активным соучастником, то пассивным интеллектуальным созерцателем. В XX веке стало окончательно ясно, что активно соучаствовать или пассивно наблюдать — это содержательно. История режиссуры XX века — это и история театральных пространств, в которой взаимоотношения сцены и зрительного зала менялись в зависимости от творческого кредо постановщика.
Каждая эпоха в истории культуры вырабатывает собственный тип театра и, соответственно, тип взаимоотношений сцены и зрительного зала. В качестве выразительного примера можно рассмотреть начало XIX столетия в отечественном сценическом искусстве. «XIX век застал русский театр и в плачевном, и в плачущем состоянии. Плачевным он был и раньше, и много позже, но плачущим в такой степени, кажется, никогда. Было время какой-то удивительной отзывчивости на все слезоточивое, плаксивое и возвышенное»267*. Для рубежа XVIII – XIX веков действительно была характерна атмосфера напряженного ожидания исторических перемен: кроваво завершавшая прошедший век Великая французская революция закончилась для Европы, как известно, опустошительными наполеоновскими войнами. Тревожное умонастроение европейцев остро нуждалось в установлении психологического баланса, нарушенного временем. Колебания, страхи, сомнения и тревоги могли быть компенсированы в том числе и средствами искусства.
Отдаваясь эмоциям, вызывающим неподдельные слезы, сопереживая, полностью погружаясь в ситуацию пьесы, сидящие в зале зрители сублимировали таким образом свои тревоги и сомнения, «выплакивали» их, смягчая тяжелые внутренние переживания с помощью «слезных» драм с обязательным счастливым концом.
«Легко и с любовью восхищаясь, посетители тогдашнего театра с такой же любовью и легкостью плакали. Это было потребностью души, 201 сердечной радостью, удовлетворением духовного голода»268*. Именно этими потребностями была вызвана к жизни, например, драматургия Коцебу, которая, в свою очередь, породила особую манеру исполнения «трогательной» пьесы, внеся внушительный вклад в основы русской школы сценической игры. Чем сильнее жаждала публика слез умиления, тем изобретательнее работал неутомимый драматург, на сорок лет насытивший европейский и русский театр «трогательным» материалом. Публика по инерции продолжала требовать «слезные» драмы даже тогда, когда налицо были признаки вырождения старого и рождения нового театрального стиля, связанного с романтизмом и его внутренними законами, требовавшими от зрительного зала умения не умиляться, но сильно чувствовать, способности переворачивать собственное сознание. Старая «зрительская партитура» сильно мешала романтикам утвердиться в современном им театре, и порой Гюго и мелодраму играли в духе Коцебу, потому что именно эти акценты расставлял зрительный зал.
Как ни прямолинейно выглядит утверждение о том, что и широко понятый реализм был не просто востребован, но спровоцирован публикой, — оно в конечном счете верно. Европейский успех мейнингенцев, а поздней и Московского Художественного театра, испытавшего мощное влияние немцев, — тому прямое свидетельство. «Мейнингенцы привлекали необыкновенным для своего времени умением создать на сцене обстановку, очень похожую на то, что мы видим в действительной жизни. Они уничтожили массу обычных театральных условностей и дали жизнь чему-то, гораздо более живому по внешности, чем прежний театр. И это умение создать на сцене вторую жизнь, искусство сделать массу живой толпой, а отдельным персонажам придать чуждую театральных условностей реальность повлияло на чувствительность зрителей так же, как действовало в более ранние эпохи всякое приближение к жизни: оно усилило иллюзию и увеличило нервное раздражение»269*. Надо ли говорить о том, что по прошествии времени публика перестала воспринимать этот тип театральных отношений как живой и снова потребовала отказа — теперь уже от набившего оскомину «натурализма» и обыденности на сцене. И тогда сложился символистский театр, коренным образом изменивший зрительские установки.
Собственно, вся история театра может быть рассмотрена под этим углом зрения, что позволит более внятно определить взаимоотношения 202 сцены и зрительного зала, существующих в полнейшей зависимости друг от друга.
В XX веке типы связей между сценой и зрителями порождались не только и не столько драматургами, сколько великими режиссерами, способными создавать театральные миры. При том, что публика в театрах Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова, Таирова внимала сценическому действию и актеры не провоцировали зрительный зал на активное вмешательство в происходящее на сцене (зритель — «третий» по Станиславскому и «четвертый» по Мейерхольду), она тем не менее по-разному включалась в драматическое действие, на нее воздействовали различные художественные механизмы, которые вызывали в свою очередь неодинаковые реакции и переживания.
«Четвертая стена», столь ценимая ранним Станиславским, внешне как будто снимала проблему публики: если актеры и зрители так программно разъединены, надо ли заботиться о контакте? На самом деле именно эта «стена» обеспечила зрительскую «воронку»: публика потянулась за созданной на сцене атмосферой, почувствовала ее, прониклась ею и смогла войти в подлинно содержательное внутреннее взаимодействие со сценой.
Провозглашенный Брехтом неаристотелевский театр предполагал разрушение традиционной театральной иллюзии, обращение к зрителю «напрямую», попытку расшевелить его, воззвать к его интеллекту, спровоцировать на активные действия в жизни. Еще более радикальными переменами в этой фундаментальной для театра сфере были чреваты опыты Арто, Гротовского и их последователей во всем мире: под угрозу ставилось само традиционное понятие о театральном зрителе.
Существенным аспектом проблемы является идеологический. Опыт советского театра показал: чрезмерное давление жесткой идеологии порождало у режиссеров скрытый или явный протест против существующей системы. И тогда рождались знаменитые постановки Н. А. Акимова, Ю. П. Любимова, А. В. Эфроса, П. Н. Фоменко, Г. А. Товстоногова, М. А. Захарова и других мастеров, которые нередко оказывались под запретом. Немалая часть советской интеллигенции была «настроена» на глубоко спрятанные в художественном тексте постановки «неуправляемые ассоциации». Иногда даже нейтральная деталь становилась предметом домысливания, а намек дорастал в процессе восприятия публикой до социального протеста, приобретая нешуточный общественный резонанс. Создавалось особенное поле напряжения между сценой и залом.
203 Публикой при этом были и представители власти, диктовавшие от ее имени идеологические догмы, и внутренняя оппозиция, которая эти самые догмы отрицала. Первые диктовали официально, вторые — скрыто, но не менее властно. Здесь проблема «сцена-зал» соприкасается с проблемой взаимоотношения искусства и власти, которая имеет собственную историю развития.
Не было, пожалуй, ни одного деятеля театра, который бы в том или ином контексте не высказывался по поводу театральной публики. Внятно звучащая тема самых разнородных высказываний — прямое воздействие зрительного зала на ход, качество и даже смысл театральной постановки. «Общий психологический лик публики (уровень ее духовной высоты) заставляет приспосабливаться к себе во время исполнения (помимо моего желания)»270*, — констатировал М. Чехов. Значит, публика способна воздействовать на исполнителя помимо его воли, и только необычайно высокий интеллектуальный уровень актера позволил ему проанализировать этот процесс. Большинство исполнителей способны осознавать сам факт воздействия зрительного зала. Для А. И. Южина публика — «это холст для художника, но холст живой, отзывчивый. Помогающий, дополняющий художника, зажигающий его своим дыханием, с любовью и радостью купающий свою душу, свою мысль, нервы и сознание в потоках его вдохновения…»271*.
С другой стороны, поскольку спектакль не может существовать без зрителя, без постоянных реакций публики, не исключен вариант негативного воздействия последней на уровень и качество постановки. «Часто бывает так, что спектакль распадается благодаря кассовому зрителю»272*, — признавал еще Вс. Э. Мейерхольд. Сегодня, в условиях массовой культуры, особенно очевидно, что зрительный зал, «подминающий» под себя театр, становится угрозой не только спектаклю, участником которого он является, но самому сценическому искусству: театру реально грозит отказ от художественных целей. На рубеже XX и XXI веков по-новому остро звучит вопрос, на который в течение многих столетий не найден надежный ответ: способен ли вообще театр, если он предлагает художественный текст высокой степени сложности, который требует от зрителей душевных и духовных усилий, навязать публике свои условия игры или он обречен подчиняться запросам зрительного 204 зала, «заказывающего» определенных актеров, тип драматургии и даже характер исполнения? В таких формулировках оба полюса альтернативы могут выглядеть излишне схематизированными, и все-таки именно между этими двумя полюсами располагаются на сегодняшний день все остальные варианты соотношения публики и зрительного зала.
Глава 3.
ПРЕДМЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Если искусство, как принято считать в академическом искусствоведении, — это особая, «вторая» действительность, вопрос об отношении этой действительности воображения и фантазии к действительности невыдуманной жизни возникает естественно. Если искусство, по мысли Аристотеля, этой первой действительности подражает — именно там, в первой действительности, и следует искать предмет подражания. По-видимому, у жизни есть какие-то стороны, или свойства, или части, которыми искусство интересуется, которые оно по-своему исследует и оценивает. Горький как-то назвал художественную литературу человековедением. Сегодня общепринято: человека «ведает», в самом существенном смысле этих слов, всякое, любое искусство. Общехудожественным предметом с этой точки зрения является человек в его социальных связях и отношениях. В такого рода формулировках важна и отрицательная характеристика: надо понимать, чем искусство не интересуется. Не интересуется оно природой как таковой, интересуется человеком и обществом.
Нетрудно предположить, что предметом каждого отдельного искусства становится часть или сторона общего предмета. Часть — непременно в пределах целого, но специфика уже здесь должна быть обязательно. Так, предметом музыки, по-видимому, является не весь человек и не все его отношения, а по преимуществу или главным образом внутренний мир человека, его душевная жизнь и те связи, которые в этом мире рождаются. Тут не просто «часть» человека, тут особое целое, которое не есть «человек». В противоположность музыке, пластические искусства отыскивают свой предмет в другой стороне реальности — внешней по отношению к субъекту. При этом границы предмета не делают содержание данного искусства бедней: душа, столь важная для музыки, может быть занята не только собой, но и войной и миром, а «внешняя» действительность может немало сказать о душе. Предметы 205 от этого, однако, не меняются местами, не сдвигаются и не смешиваются один с другим. Живопись скажет о душе не просто не так, но и не то, что музыка.
Реальная ситуация еще сложней. Если предметы музыки и пластики, каждый по отношению к другому, определяются относительно просто, куда меньше возможностей назвать предмет, когда речь, например, о драме. Можно считать на сегодня установленным, что, хотя драму, понятно, интересует человек, он входит в мир драмы особым способом. Человек ведь важен драме лишь постольку, поскольку участвует в создании и разрушении целостной системы отношений между людьми. «Предмет драмы, — утверждает один из самых тонких ее современных знатоков, — со-бытие человека с человеком в очень напряженных, сложных, противоречивых ситуациях»273*. В драме, продолжает исследователь, «именно отношения общения выходят на первый план»274*.
Многовековая и неразрывная связь театра с драмой подтверждает, что они во многом заняты общим делом и театр вместе с нею не может не подражать сложным, меняющимся отношениям между людьми. Более того, сцена чуть не автоматически удваивает число действующих: не теряя персонажей пьесы, прибавляет актеров. Может, в таком случае, чтобы определить театральный предмет, в самом деле достаточно просто «либерально», расширенно понять предмет драмы, указав, что их общий предмет отзывается на сцене со-бытием персонажей и актеров? Но даже если это именно так, возникает вопрос: на театральной сцене, когда та подражает одолженному у драмы предмету, у актеров и героев пьесы одно со-бытие или все-таки два разных, параллельно и одновременно протекающих на наших глазах?
Существует точка зрения, согласно которой содержание всякому спектаклю дает драма, сцена же данное ей содержание доводит до предметной ясности, до вещественной определенности. С этой точки зрения театральное творчество несомненно полноценно, но искусство театра при этом несамостоятельно, ибо на сцене не только получает окончательную живую форму содержание драмы, но художественно оживает самый ее предмет — отношения между людьми.
Актер исполняет обязанности персонажа пьесы, делает на сцене то, что персонаж делает на страницах первоисточника, думает и чувствует как его словесный конспект, так что мерить его искусство следует 206 в соответствии с тем, насколько мысли, чувства, поступки персонажа сценического адекватны мыслям, чувствам, поступкам персонажа литературного. А отношения актеров на сцене воспроизводят отношения между их героями.
Так думают не только непросвещенные люди. На нашей почве, где, особенно после реформ К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, неразделимость актера и героя пьесы ценится едва ли не превыше всего, названная точка зрения получила еще и нравственное подкрепление: самоотречение артиста сцены, его способность не выпячивать собственную персону и в самом деле кажутся морально безупречными. И все-таки эта концепция должна быть подвергнута сомнению.
Излюбленное выражение К. С. Станиславского «сценическое перевоплощение» чаще всего трактуется как требование максимальной сращенности актера и персонажа. Но так мы неосознанно восходим к буквальному пониманию термина: ведь перевоплощение есть переселение душ. Конечно, Станиславский говорил об «условном перевоплощении». Но на деле мы все-таки исходим из того, что актер, во-первых, не имеет и не может иметь никакой другой цели, кроме как стать персонажем, а во-вторых, что он в состоянии это сделать, что такая цель вообще выполнима.
Между тем мысль Станиславского своеобразно продолжается в другой ключевой для его идей формуле — «магическое “если бы”». Как перевести эту формулу с внутритеатрального на обычный язык? «Вся духовная и физическая природа актера должна быть устремлена на то, что происходит с изображаемым им лицом»275*, — требовал Станиславский. Актеры должны нащупать некое «зерно» пьесы, и затем каждый «будет стремиться к осуществлению той художественной цели, которая стояла перед драматургом и осуществлялась им в плоскости его словесно-поэтического искусства»276*. Станиславский не оставляет актеру собственной цели, это очевидно. Менее очевидно, но зато не менее важно другое: достаточно ли корректно сопоставлять актера и писателя? В эпоху Станиславского с драматургом все-таки логичней сравнивать уже режиссера: и тот и другой авторы всего целого пьесы и спектакля. Актера в этой ситуации стоит сопоставить с персонажем. Но цель актера, если даже она и совпадает, как утверждал Станиславский, с целью 207 драматурга, как раз с целью персонажа, в которого артисту предстоит условно перевоплотиться, решительно не совпадает.
Персонаж может кого-то или что-то изображать, притворяться, лицемерить, лицедействовать. Но и в таких частных случаях цели его не непременно в самом лицедействе. Напротив, они ближе целям любого иного, не лицедействующего персонажа. Они в том, чтобы повлиять на соседей по пьесе, переменить ситуацию в свою пользу, решить противоречия по своему разумению. У актера же всегда другая цель. С чем бы она ни ассоциировалась, мыслится ли как единственная или как часть иной, более масштабной, — всегда, во всех театральных вариантах актер приходит на сцену для того, чтобы изобразить Другого или Другое.
Как видно, различие между двумя главными составляющими сценического образа, актером и изображаемым им на сцене лицом (в театре, который принято называть драматическим; в других театрах это может быть не «лицо», а что-то иное), — в первую очередь в том, что оба участника процесса перевоплощения являются на сцену с целями разного типа и смысла. У одного цель «жизненная», у другого художественная; у одного в том, чтобы ввязаться в противоречивую ситуацию, у другого — чтобы изобразить участвующего в драматическом действии человека.
Если так, на вопрос, общее ли со-бытие у актера и его персонажа или тут два разных бытия, приходится ответить неуклончиво: здесь два разных явления. Таинственный предмет откликается на театральной сцене чем-то двойственным: всегда актеры изображают, широко говоря, не себя; всегда на сцене мы встречаемся с теми, кто изображает, и с тем, кого (или что) изображают, то есть с ролями.
Вспомним сразу же и о том, что актеры — тоже всегда, во всех случаях — изображают Другого в присутствии зрителей, и не просто в их присутствии, а для них и с их участием. Искусство театра делается, значит, минимум тремя силами — актерами, ролями и зрителями.
Не драма изобрела сложные отношения между людьми в сложных коллизиях, людям было непросто друг с другом и до того, как стали сочинять пьесы. Но художественно эти междучеловеческие отношения в своей глубокой специфике до поры не были освоены, осмыслены, оценены. Драма и стала тем инструментом, с помощью которого общество обнаружило, что его жизнь «драматична».
Не так ли следует подходить и к поискам театрального предмета? Да, театры разных эпох и регионов порой радикально отличаются друг от друга, и общее между ними нередко одно и бывает, что актеры играют 208 роли с участием зрителей. Но и этого достаточно, чтобы предположить: если есть такая специфическая вещь, как эта устойчивая театральная троица, существует, значит, что-то в жизни, что ее порождает.
Явления, которые могут соперничать за почетное звание театрального предмета, есть. Много раз, например, описаны игры детей. В таких ролевых играх участвуют все без исключения дети (исключения — патология). Так же хорошо известно, что подобные игры не шутка, а едва ли не оптимальный способ научиться правилам общественного поведения. То есть тут и не простая забава и вообще явление не природное, а социальное — и роль и игра в целом.
Видимо, это важно помнить, потому что ведь играют и животные. В театроведческом контексте пример со щенком, который самозабвенно играет с тряпкой как с врагом, еще в 1916 году использовал И. Н. Игнатов277*. «Игры» животных тоже чаще всего обучение, но назвать такую игру социальной нелегко. Зато легко говорить в таких случаях о некоем природном инстинкте, который, по мнению ряда ученых, есть не только у животных, но и у человека (или наоборот). Не это ли природное свойство должно занять пустующий трон театрального предмета?
Такое или близкое такому мог бы предложить Н. Н. Евреинов, когда размышлял о феномене театральности. Первая из главных его деклараций начинается так: «Человеку присущ инстинкт, о котором, несмотря на его неиссякаемую жизненность, ни история, ни психология, ни эстетика не говорили до сих пор ни слова. — Я имею в виду инстинкт преображения, инстинкт противопоставления образам, принимаемым извне, образов, произвольно творимых человеком, инстинкт трансформации видимостей Природы, достаточно ясно раскрывающий свою сущность в понятии “театральность”»278*. И этот досоциальный и доэстетический инстинкт проявляет себя в самых разных формах — в первую очередь в формах жизни, но и в искусстве тоже. Евреиновская «театральность» для театра, значит, может быть чем угодно, только не предметом подражания: ей вообще нельзя «подражать», ее можно (и должно) только реализовать — и в жизни и в театре. К тому же эта «театральность», как замечал сам Евреинов, в цивилизованном обществе исчезает: сохранилась только в играх детей, а во взрослом мире держится лишь там, где есть нужда в ритуалах, — например, в армии или в церкви.
209 По-видимому, следует искать какой-то, как минимум, не исчезающий вместе с детством жизненный источник театра. Такой есть, и вовсе не «природный»; напротив, он исключительно общественный, он открывается как раз в тех ситуациях, где индивидуальное поведение человека отчетливо социально. Это фундаментальная, обширнейшая (хотя и не универсальная) и откровенно взрослая сфера социальных ролей. Это там, где все без исключения люди исполняют в жизни какие-то роли при активном и чаще всего определяющем участии общества. При этом исполнять такие роли вовсе не значит притворяться и быть не собой279*. Напротив, скромный учитель или пламенный трибун могут на самом деле быть скромным учителем и пламенным трибуном, и вдобавок это может быть один и тот же человек.
Во времена Шекспира формула «весь мир театр, в нем женщины, мужчины — все актеры» была, конечно же, великим открытием: искусство догадалось, что жизнь «тоже» что-то вроде театра. В социальных науках девятнадцатого века понятие о роли уже вполне терминологично, а социология двадцатого столетия просто исходит из того, что социальная роль — атрибут человека и любой человек на протяжении своей жизни непременно оказывается во множестве ролей.
Человек не приговорен к тому, чтобы быть рабочим или учителем, мужем или отцом. Но раз он стал учителем или мужем, он обязан соответствовать тем представлениям, которые общество выработало о муже или учителе. Иначе ведь ни ученики, ни жена так и не узнают, что он их учитель и муж.
Однако отношения человека с его жизненной ролью заведомо непросты. На эту сторону дела обратила особое внимание социальная психология, которой хорошо известны так называемые ролевые конфликты, причем конфликты разнообразнейшие. Они возникают, например, тогда, когда роли одного человека одна другой не соответствуют, сшибаются или когда мое представление о том, как следует существовать в данной роли, сталкивается с иными представлениями о той же роли у окружающих. Я вижу себя не так, как видят меня другие, — даже взрослому человеку бывает трудно с этим смириться280*.
Для театрального искусства тут богатые резервы. Но уже на самом простом, фундаментальном уровне видно, что в ролевых связях действуют, 210 как минимум, сам человек, его роли и общество, которое эти роли изобрело. Подражая этому социальному феномену, театр, как может показаться, приближается к евреиновской мечте о преображении. Но никакой актер ни в каком театре не ставит себе цель стать другим человеком. Зато во все времена с тех пор, как театр родился, у всех народов, которые его породили, налицо человек, играющий роль, сама эта роль и зрители, и эта святая театральная троица, конечно, более чем напоминает те отношения, которые демонстрируют ролевые отношения в жизни. С другой стороны, ни в каком другом искусстве связи между человеком, его ролями и обществом не отражаются, по крайней мере так принудительно и тотально, как в театре. В кино и на телевидении можно, а часто нужно обходиться без ролей театрального типа, так что снимаемый на пленку или сидящий перед телекамерой человек с большой натяжкой может называться актером в том узком и строгом смысле понятия, которое неизбежно в театре. Только театр не может обойтись без играния ролей.
Итак, поскольку исполнение социальных ролей на глазах и с участием общества есть такое свойство действительности, которая чуть не зеркально отражается в театре; поскольку, с другой стороны, только в театре этот феномен отражается всегда, без исключений, следует полагать, что именно эти жизненные отношения человека, его социальной роли и общества и составляют искомый предмет театрального искусства.
Речь снова о театральности как о свойстве жизни, только не природной, а социальной. В России, однако, есть сильная традиция, препятствующая такому пониманию термина. Герцен, который приветствовал Щепкина как первого, кто стал у нас нетеатрален на театре, и Станиславский, преследовавший театральность, считали ее свойством театра, пусть и скверным. Но как свойство самого сценического искусства понимали театральность и те новаторы XX века, которые видели в ней великое достоинство. Несложно заметить логическую несообразность формул «театральный театр» или «музыкальная музыка», а вместе и «нетеатральный театр». И тем не менее такое понимание в театральном словаре — именно благодаря связанным с ним историческим смыслам — не исчезло.
Но и представление о театральности как специфическом художественном предмете требует поправок. Театральность жизни находится в особых, интимных отношениях с другим свойством жизни — ее драматизмом281*. Разобраться в отношениях между этими двумя предметами 211 необходимо хотя бы потому, что театр и драматическая поэзия связаны между собою и исторически, и, может быть, даже генетически. Не зря бытует общее для обоих понятие «драматическое искусство»282*. В самом деле, в содержание спектакля непременно входят сложные отношения между персонажами; с другой стороны, никакой даже самый богатый спектакль никогда не вбирает в себя все, что предлагает даже самая элементарная пьеса.
Как известно, драма выбирает себе для подражания не всякие, а именно противоречивые отношения жизни. А театр? Надежда уловить на сцене какие-то свойства характеров или хотя бы фабульные связи пьесы, которые, скажем, при всех ее постановках будут одни и те же, — увы, обманчива: и характеры и сюжеты слишком уж вольно трактуются театрами, слишком своенравно варьируются. И чем ближе к нашему времени, тем, кажется, этот произвол заметнее. Но зато мы никак и нигде не минуем самого факта драматической активности персонажей и связанной с этим противоречивости их действенных импульсов. Это-то сохраняется всегда, что бы театр ни удумал сотворить с героями пьесы. Значит, подражание драматизму в том или ином виде есть на сцене всегда.
Но приглядимся к только что упомянутому феномену — трактовке. Разве своеобразная смежность смыслов пьесы и спектакля не ведет к «частичности» и героев, а это не ущемление ли их литературной полноты и целостности? Разве Гамлет не непременно теряет на сцене, если сопоставить его с Гамлетом Шекспира (а Шекспир написал все-таки Гамлета «какого-то»)? Несомненно, обязательно теряет (иное дело, что и приобретает обязательно тоже — но нечто иное). Драма среди гипотетически бесконечного множества свойств человека насильственно выбирает лишь такие, которые делают его способным действовать, а из законов жизни признает только те, что понуждают человека все глубже вязнуть в противоречиях. Но ведь то, что делает с персонажем актер, не менее для персонажа «драматично»! В самом простом и ясном смысле актер, во-первых, подобно драматургу, когда тот ищет в жизни пригодное для пьесы, выбирает в данном ему персонаже те свойства, которые он, актер, в состоянии или желает изобразить; во-вторых, независимо даже от своего желания, актер своего героя «поворачивает к себе». Но нечто похожее происходит и с самим актером. Разве актер, играющий роль Гамлета, вкладывает в роль все, что есть в нем как в человеке или в артисте? Это невозможно: Гамлет — границы, которые принципиально не могут 212 совпасть с «границами» человека-актера. Но если все это так, не следует ли описать все отношения между актером и его ролью тем самым, коренным для драмы понятием драматического действия, только здесь — действия между главными сценическими силами?
По-видимому, сам театральный предмет к драматическим противоречиям не равнодушен. Ролевые конфликты, открытые в жизни социальной психологией, это подтверждают. Можно и должно говорить не только о драматических противоречиях между людьми как целостными величинами; надо помнить о возможностях прямой сшибки между ролями одного человека; следует понимать, что, участвуя в действии пьесы, люди ведь навязывают друг другу не просто и не только свою волю, но автоматически и трактовку своей роли и чужих ролей. В действительности драматизм ролевой сферы жизни еще шире. Человек, если он учитель или муж, всегда не только учитель и муж. Но он еще и не роль. Этого одного достаточно, чтоб он был вынужден одновременно приспосабливать к себе ролевой стандарт учителя или мужа и сам приспосабливаться к общественным нормам. Конечно, здесь-то драматические противоречия возникают не всегда и тем более не автоматически, но и здесь противоречия всегда дремлют в ожидании своего часа. Оказывается, не только часть ролевых отношений жизни, специально определяемая наукой как конфликтная, — вся целиком сфера ролевых связей в обществе по-своему драматична. Здесь-то и возникает «пересечение» драматизма и театральности: сама театральность потенциально драматична. По-видимому, театр питается такими ролевыми отношениями, которые немедля или в перспективе готовы обернуться драматическими противоречиями. С этой точки зрения, если человек, что называется, родился, чтоб стать мужем своей жены, и ничего другого ему не надо, если роль мужа для него решающая и он играет эту роль естественно и с полной отдачей, театру он не слишком интересен. А вот когда в выбранной им или навязанной ему роли мужа его что-то не устраивает, как бы он ни любил свою жену, театр им заинтересуется как жизненным прообразом для работы актера.
Теперь понятие о театральном предмете, возникшем в Новое время, сформулируется следующим образом: это часть жизненных отношений между человеком, его социальной ролью и обществом, которая чревата продуктивными противоречиями, то есть совокупность драматических свойств театральности.
Так, однако, было не всегда. Только в эпоху Возрождения ролевые отношения жизни были освоены театром как отношения важные и специфические. А драматический потенциал этих связей был осознан еще 213 позже. В тот момент, когда театр обнаружил ролевые отношения как нечто особенное и жизненно важное именно для него, театра (а то как раз и был момент рождения театральной самостоятельности), подобные связи в действительности были, надо полагать, куда проще, чем сейчас. Это значит, что понимание театрального предмета как драматической «части» или стороны ролевых отношений жизни ориентирует не столько на вневременную (в пределах истории театра тоже) величину, сколько на историческую перспективу развития театрального предмета. Это значит также, что художественный предмет театрального подражания явился значительно поздней, чем сам театр. А дальше театральность жизни развивалась так, что театру приходилось все внимательней присматриваться к специфической, именно драматической стороне ролевых связей в обществе.
При таком понимании дела сравнительно просто решается вопрос о другом кандидате в театральность — «театральности» евреиновского толка: инстинкт преображения человека в иное существо, если такой существует, — не предмет театрального подражания, а одно из средств, природная способность, с помощью которой театр оказывается в состоянии взять свой ролевой предмет, освоить его и воспользоваться им в художественных целях. Инстинкт преображения или инстинкт подражания для актера — не менее, но и не более, чем чувство ритма или слух для музыканта.
Искусство театра можно и должно рассматривать по-разному. У него особый генезис и своя история; его произведение состоит из частей, связанных между собою так, а не иначе; его содержание так, а не иначе оформлено и выговорено. Но это значит, что театральный генезис привел к созданию такого инструмента, которым человечество сумело воспользоваться, когда понадобилось подражать ролевым драмам; что театральная история есть история освоения этого самого, для театра неисчерпаемого, сложно развивающегося предмета; что в театре есть элементы, части, которые постоянно ищут себе прообразы в предмете и связаны между собою так, как предуказывает предмет; что театральное содержание — это, в конце концов, художественные вариации на тему, заданную предметом; что театральные формы и театральный язык, как далеко от жизни их ни уводи, — если они театральные, не могут быть поняты вне магнитного поля своего предмета. Все виды и типы театра — не что иное, как специализированные подражания тем или иным сторонам или частям предмета. Предмет нельзя переоценить: там для театра его почва и судьба.
214 Глава 4.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ГЕНЕЗИС
Исторически воспитанное сознание естественным образом исходит из того, что театра когда-то не было, а потом он стал и теперь продолжает быть. Известно, что театр есть не во всех культурах, не у всех народов, но там, где он родился, он продолжает развиваться, какими бы трудными ни были его пути. При всех различиях между Западным и Восточным театром, историк безусловно прав, когда рассматривает театр как процесс, как совокупность перемен. И так же логично начинать отсчет с тех эпох, когда театра не было, а были лишь отдаленные или близкие его предвестья. Уважающий себя исследователь западноевропейского театра не вправе миновать фаллические действа или элевсинскую мистерию, так же как ни один историк русского театра не обойдет вниманием те культурные явления, которые считает истоками русской сцены.
Но, с другой стороны, никакой историк не может выйти за пределы названной выше посылки: театра не было, потом он стал и продолжает уже быть театром. Без того, чтобы принять это положение за исходное, историк театра не может чувствовать себя историком театра. Но с теоретической точки зрения такое допущение не только должно обсуждаться — его следует поставить под сомнение: продолжает быть, но чем? По крайней мере, не менее логична, чем историко-театральная, иная гипотеза: да, случилось так, что театр родился, но после этого прекрасного момента он не столько стал, сколько становится самим собой.
Если принять такую гипотезу, вопрос о фактическом происхождении театра, столь насущный для историка, на время отступает перед другим вопросом — о генезисе театра, понятом узко и жестко определенно: не когда, а откуда; не как, а от каких родителей?
Историки учат нас, что театральные начала надо искать в древнейших явлениях, именуемых обрядами. Есть ряд культурных форм, которые не просто по традиции считаются пратеатральными, предшествующими театру и порождающими его. Среди них в первую очередь называют древние ритуальные охотничьи действа. Действительно, акт того самого преображения человека в другое существо, на которое ссылался Н. Н. Евреинов, в таких действах налицо. Охотник надевает на себя маску, сделанную из головы зверя, и не «условно», а буквально перевоплощается в этого зверя. Выразительные маски и идеальное перевоплощение чуть не автоматически отсылают к будущему театру. Но налицо и различия, не менее очевидные. Во-первых, в этом магическом действе 215 нет и не может быть зрителей, то есть оно совершенно не зрелище. Во-вторых, для участника такого действа надеть на себя маску-голову бизона значит стать бизоном, то есть переселить в тело животного свою душу, в определенном смысле со шпионскими целями: охотник должен научиться убивать зверя и для этого обязан знать нрав противника и будущей жертвы. Но узнать этот нрав он может и с помощью другой «методики»: не свою душу внедрить в тело зверя, а душу зверя, которая влачится вслед за его головой, вложить в свое тело. На самом же деле тут один и тот же феномен. Тот самый, который А. Ф. Лосев в этой именно связи назвал оборотничеством: все превращается, преображается во все283*. Нет не только «празрителя», нет и предшественников актера и роли. Посыла театру здесь, оказывается, нет, а поскольку мы имеем дело с явлением жизни, нет и кивка в сторону будущего театрального предмета.
Через тысячелетия после возникновения охотничьих обрядов в греческом местечке Элевсин жрецы преображались в персонажей хтонического мифа о Деметре, Персефоне и Аиде. Тут была культурная форма в тесном, строгом смысле понятия, тут была магия после рождения религии, уже на почве религии, тут жрец не сомневался в том, что он не богиня Деметра, и еще меньше мог предположить, что Деметра превращается в него, жреца. Все это куда ближе театру. Но и элевсинскую мистерию объявлять прямым родителем древнегреческого театра опасно. Ведь здесь не изображают — здесь преображаются; здесь нет нужды в публике, потому что жрец перевоплощается в Деметру с целями, интересующими только его и Деметру. Став на время магического сеанса Деметрой и Персефоной, жрецы автоматически начинали заведовать временами года. Им теперь не надо было просить о мягкой зиме или вымаливать дождь в засуху: календарь в их руках, они сами календарь. Дотеатральная история снова демонстрирует театральный тупик.
Видимо, имеет смысл присмотреться к явлениям, которые, может быть, не так «похожи» на будущий театр, но содержат какие-то элементы будущего театра или связи между такими элементами. Здесь среди культурных форм, потенциально способных дать театру его гены, выдвигаются другие, не исключительно (или не столь напряженно) магические или вовсе не магические действа, которые тоже предшествовали театру, а потом продолжали быть его современниками, — игры и зрелища.
Игры, обрядовые или детские, так же, как древнейшие ритуальные действа, не только «еще не театр», но вовсе никакой не театр. Хотя бы 216 потому, что у них не художественно-образный смысл и цели жизненно-практические. Подобные цели определяли существование и дотеатральных зрелищ, но в игре, в первую очередь в так называемой ролевой игре, есть все же нечто такое, что на этот раз, кажется, впервые прямо указывает на будущий театр. Есть одновременно — принципиально одновременно — играющий и то, во что или с чем он играет, и они не меняются местами. Другими словами, в ролевой игре моделируется нечто прозрачно напоминающее содержательный фрагмент театрального предмета. Когда мы говорим, что, играя с куклой в дочки-матери, девочка обучается социальному поведению, мы ведь прямо говорим о том, что она обучается «исполнять» социальную роль матери. Социальное поведение и есть здесь прямо ролевое поведение.
Жизненный прообраз связи актер — роль самоочевиден. Но отсутствие публики и самой потребности в зрителях очевидны не менее. Многократно зафиксировано наукой и описано в литературе: желающий принять участие в детской ролевой игре посторонний должен принять условия игры и таким образом перестать быть посторонним, войти вовнутрь, в противном случае пришелец все перестраивает и становится зрителем. «Зритель игры» — нонсенс.
В зрелищах все по-другому. Здесь в первую очередь театру протягивает руку другая пара — связанные между собою «зритель зрелища» и то, что ему предлагают «зреть». Нигде, кроме как в зрелищах и в театре, такую пару не встретить, тут опять по-своему неполный театральный предмет — неполный принципиально, потому что содержание зрелища (если на минуту зачислить зрелище по пратеатральному ведомству) безразлично как раз по отношению к игровой паре — играющему и его роли. Совершенно справедливо ни одно из определений зрелища не говорит не только об обязательности, но даже и о желательности связи между зрелищем и ролевой игрой. Если зритель видит на «сцене» ролевую игру, такое зрелище называют театральным. Оно становится театром.
Между тем само зрелище, будь то бой гладиаторов или коррида, театру глубоко чуждо по многим и самым уважительным причинам. Во-первых, содержание полноценного зрелища всегда натурально, никогда не условно. Оно означает самое себя, и если оно даже «образ», то тоже образ самого себя. Во-вторых, установка зрителя в этом случае — это установка не на со-действие, а исключительно на восприятие, на эмоциональную синхронизацию с тем, что ему показывают. В духовном смысле зритель никаким образом и ни в каком отношении не может и не 217 жаждет воздействовать на происходящее перед ним. Едва ли не как в охотничьем ритуале, где «актер» и «роль» взаимозаменяемы или неразличимы, где не может быть зрителей, только участники, — в уже не магическом зрелище внятно заметен эффект стягивания, даже «слипания» всего со всем: любой намек на ролевое уничтожается, а зритель не условно переживает натуральные чувства по поводу натуральных событий зрелища.
Театральный предмет предстает в воображении как симбиоз этих двух столь разительно несхожих явлений. Театр, за редкими исключениями, не зря называют зрелищем. И точно так же никому не удается вычеркнуть из театрального сознания формулу «актер играет».
Театр, как к этому ни относись, всегда зрелище, на «сцене» которого разворачивается ролевая игра, и ролевая игра, у которой есть зрители. В театре, стало быть, есть игровой и зрелищный гены. Но театральный зритель не зритель зрелища, сценическая роль не роль из игр, и нет игрока, а есть человек, одновременно играющий и показывающий игру. Сценическая роль, создаваемая актером, отдаленно, хотя и явственно, напоминает о роли в играх, но это показываемое изображение. Наконец, зритель — участник театрального действия, а не смотрящий зрелищное действо. Все трое заняты в театре совершенно новым делом: они строят художественный образ театральности.
Но чтобы такой образ возник, нужны сложные переходы — от жизненного действования к дотеатральному действу, а от него к драматическому действию, которое ни в играх, ни в зрелищах театр не мог позаимствовать. Драматическое действие можно было подглядеть только в драме, которая его и изобрела.
В играх и в зрелищах таились — кажется, открытые нужным связям — те самые гены, что понадобятся театру, когда он родится. Но преобразить действо, поставить взамен него драматическое в перспективе и по существу действие помогла театру драма. Он дал ей место под солнцем, вынес на орхестру, за это она должна была открыть ему, как и чем можно вместе и пронизать и объединить разрозненные, чуждые один другому фрагменты.
Когда театральное зрелище становится зрелищем ролевой игры, преображается, во-первых, сама игра. Ситуация показа, подлинной игре враждебная, делает сценическую игру в тесном смысле драматической — игру неизбежно постигает противоречие условного перевоплощения. Актриса, играющая роль девочки, играющей в дочки-матери, в отличие от своей героини, одновременно «я» и «не я», и ее зритель об 218 этом знает. Это значит, что — одновременно же — и зрелище оказывается зрелищем не любой вообще и даже не любой ролевой, но драматической игры, а это, в свою очередь, ставит зрителя в двусмысленное положение, в заведомо противоречивую ситуацию, зрителю нормального зрелища неведомую: его понуждают в один и тот же момент верить тому, что эта актриса есть девочка, играющая с куклой, и не верить в это. И тут не психологический только, а именно художественный феномен.
Глава 5.
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕАТРА
Театральная история показывает, что каждая эпоха едва ли не заново воспроизводит театр: механизм театрального генезиса всякий раз будто заново включается. Но если допустить, что театр теперь не просто есть, а продолжает становиться театром, возникает возможность рассмотреть его историю как процесс необратимый, своеобразно «направленный» и, как оказывается, закономерный: в театре должно наращиваться качество театра.
Основания есть: у спектаклей разных эпох разные смыслы. Иными словами, разные авторы. Есть и удобный материал для проверки. Это театр Западного, европейского типа: скорость перемен в нем такова, что эти перемены мы в состоянии зафиксировать.
Аристотель в «Искусстве поэзии» построил жесткую иерархию частей трагедии (нам бы сейчас хотелось, конечно, сказать «трагического спектакля»). Сказание (в прежних переводах фабула) — вот главное. При нем все остальное, включая характеры. А актеры вместе с декорациями — едва ли не самая неважная, зрелищная часть, которая обслуживает части, принадлежащие пьесе. Поскольку мы исходим из представления о том, что театр — это тогда, когда актеры играют назначенные им роли для зрителей, — перед нами театр. Но какой-то особенный, собственно театральный смысл, если его вообще можно отыскать, существует на глубокой периферии общего смысла. Смысл создал на основе мифа драматург. Это театр, но это театр драматурга в необразном, строгом понимании (а именно такого понимания мы и доискиваемся). Если Эсхил играл в своих спектаклях, автор не Эсхил-актер, а Эсхил-поэт.
Радикальные, исторического значения перемены на сцене и в зале связны с эпохой Ренессанса. Специалисты по английскому Возрождению 219 давно и убедительно показали, что в шекспировские времена, в противоположность греческой античности, когда действие на проскениуме было своеобразной материализацией поэзии, каждый спектакль был новым вариантом пьесы, менялся не только сценический рисунок, но даже и текст пьесы284*. При всем очевидном своеобразии этой ситуации, однако, ни из того, что спектакль вместе с пьесой или пьеса вместе с шекспировским спектаклем всякий вечер менялись, ни из наивности тогдашнего зрителя прямо не следует, что автором шекспировского спектакля стал не драматург Шекспир, а актер. В крайнем случае, и соглашаясь с тем, что центр творчества перемещался на сцену, нельзя исключить, что и сценическое творчество все же предопределял, как во времена античности, драматический поэт. Но вот что увидел С. В. Владимиров, когда стал погружаться не в спектакль, а именно в пьесу: «Эдгар распечатывает письмо Гонерильи к Эдмонту. При этом он обращается с извинением к восковой печати. Реальный жест сопровождается целым поэтическим пассажем, где сравниваются письмо и человек, тайна бумаги и задушевные мысли, конверт и бренное тело, хранящее душу:
Печать, не обижайся, что взломаю.
Законники, не осуждайте нас.
Чтоб мысль врага узнать, вскрывают сердце,
А письма и подавно.
<…> Театральный жест не просто иллюстрирует сказанное. Театральная форма не есть оболочка драмы. Театральное само по себе оказывается подвержено той же драматической борьбе внешнего и внутреннего. Именно на этой основе оно включается в драматическое действие. Игра обнажена, сцена становится одной из самостоятельных тем»285*. Роскошная, «барочная» шекспировская метафора стала в пьесе не чем иным, как словесной записью актерского жеста. Здесь слово прямо обслуживает жест актера — не просто разъясняет его смысл, но указывает на то, что именно в нем, в жесте, и содержится смысл происходящего. И это не зависит от того, чье именно слово тут работает — безвестного литератора, поставлявшего пьесы труппам комедии дель арте, или всеми уважаемого Кальдерона.
Актер стал полноправным субъектом творчества потому, что пьеса стала записью предстоящего спектакля. А это, в свою очередь, оказалось 220 возможным потому, что автор итальянских пьес и сценариев комедии дель арте обнаружил драматизм в тех областях жизни, где произрастали маски, а английский Бард — в той сфере, где люди внутренне и внешне «переодеваются», то есть, в тогдашнем понимании, играют роли. Записывается словами тот драматизм, который в жизнь принесла ролевая игра, театральность. Трагические отношения между Отелло, Дездемоной и Яго, Брабанцио, Кассио и Родриго вообще не могут быть поняты вне ролей, которые каждый из персонажей пьесы «Отелло» по своей или чужой воле играет. Так что Шекспир всегда будет желанным для актера автором именно по той причине, что шекспировский герой, как актер, играет роли.
Предмет драмы будто попал в услужение театральности. Разница между человеком и его жизненной ролью, которая, по всей видимости, для античного художественного сознания не существовала, в эпоху Возрождения навсегда вошла в ряд художественных предметов; театр обрел свой собственный предмет и потому стал самостоятельным искусством; когда актер стал не только реальным создателем художественного смысла, но и его жизненным прообразом, театр перестал быть театром драматурга. Театр Драматурга сменился Театром Актера.
Классицизм дал великих драматургов — Мольера, Расина, но были еще Мольер и Клэрон, великие актеры. Чей это был театр — театр классицизма, кто был автор спектакля?
Актер, сказано у Дидро в знаменитом «Парадоксе об актере», это тот, «кто тщательно копирует себя или свои наблюдения»286*. Актер копирует не героя пьесы — вот что интересно и странно. Ипполита Клерон, продолжает философ, своим «богатым воображением, широкой мыслью, тонким чувством меры и очень верным вкусом»287* создала некий идеальный образ героини Расина. Но ведь этот идеальный образ «состоит» решающим образом из Клерон. Актер творит художественный образ, пользуясь для этого самим собой и окружающей его (а не писателя и тем более не персонажа) жизнью, то есть ведет себя как любой автор в искусстве. При этом, сколь бы существенным или даже единственно специфичным ни было его «перевоплощение», в его работе непременно есть момент абсолютно полноценного художественного творчества. И все же ситуация уже в XVIII веке, во времена Дидро, вовсе не такова, как в эпоху расцвета комедии дель арте. Есть не только «маленькая 221 Клерон», есть еще «великая Агриппина», роль которой актриса играет и которая отнюдь уже не запись жестов актрисы. Тут театр актера, но не театр Ренессанса. Тут два автора. С одним уточнением: Расин — автор пьесы, а Клерон — спектакля. Театр в Европе девятнадцатого века, как и предыдущего восемнадцатого, был театром актера, который прекрасно устроился с Шекспиром и Шиллером, Дюма-отцом и Дюма-сыном, Мольером и Скрибом, Островским и Рышковым. Потому что все они, великие и не очень, писали для актеров роли. Даже больше: они понимали человека как существо, играющее роли или состоящее из ролей. Поэтому их понимали актеры.
А Чехова — нет. И Чехов не понимал человека так, как понимали человеческую природу актеры. И не ролевые коллизии порождали противоречия в «новой драме» конца позапрошлого и начала прошлого века. Сложилась новая ситуация: драматизм твердо, хотя и интеллигентно, развелся с театральностью, но театральность-то при этом осталась жива. Значит, в новых условиях перед театром водник вопрос о том, можно ли их заново соединить, а если можно, то как именно. Надо было искать третий смысл и для его создания призвать третьего — после драматурга и актера — автора. Режиссера. Готовилась очередная театральная революция, в Западной Европе начавшаяся еще в середине — второй половине XIX века, а в русском варианте имевшая, согласно П. А. Маркову, чуть не строгую датировку: 1898 – 1923288*.
Этот третий исторический автор сочиняет и с помощью творческих сотрудников показывает, что было бы, если бы такие люди, как эти актеры, оказались в положении, в ситуации, в ролях таких людей, как эти персонажи, — разумеется, в этом, сочиненном им пространстве и изобретенном им времени. И под надзором этой, а не какой-то иной публики. Здесь нельзя не сочинять: во-первых, в пьесе этого смысла нет или по крайней мере вполне может не быть, во-вторых, такого смысла уже нет в актере. У Софокла персонажи-герои буквально состояли из роли, и актер отдавался этой роли без всякого драматизма, и сама роль внутри себя драматизма не содержала, смысл организовывался как отношения между ролью-маской и ее судьбой. У Шекспира персонаж — тот, кто играет роли, а актер — тот, кто играет роли играющих роли. Смысл организуется как отношения между людьми, так или иначе играющими роли.
222 В режиссерском театре эпохи его открытия актеры, как повелось с Возрождения, — это люди, творчески активно играющие роли. Но играть роли обязаны только они. И они играют роли людей, в которых если и есть ролевое начало, не оно делает их самими собой. Ко всему еще и «характер» в пьесе Чехова или Метерлинка основательно выветрен, он не сумма и не система свойств, как было еще в XIX веке. В «Грозе» Островского измена Катерины мужу сильно движет действие. Подобное поведение Маши из «Трех сестер» — лишь один, и не самый существенный, мотив действия. Не с мужем, и не с Вершининым, и не с темным царством Наташи ей не удается жить. А самое главное, может быть, в том, что в характере Маши нет образца для изображения Маши, как нет такого образца в профессиональной ипостаси актера. Они живут в разных, непересекающихся мирах; чтобы им собраться вместе, нужны особого типа творческие усилия, нужно специально изобретенное содержание, принципиально новый смысл.
Глава 6.
СПЕКТАКЛЬ КАК СИСТЕМА. СТРУКТУРА СПЕКТАКЛЯ
Новые авторы приносили новые смыслы, эти смыслы накладывались один на другой, пересекались и сложно друг на дружку влияли. Но местом всех пересечений, основным носителем и представителем этих смыслов всегда было и остается театральное произведение — спектакль.
Эта единица театра, однако, не мене сложна, чем сам театр. Самоочевидно, что спектакль многосоставен. Среди старых (иногда говорят «базовых») искусств театр единственный живет во времени и в пространстве одновременно. У него пестрый состав: поэзия, а потом «литература» делается исключительно из слов, музыка из звуков, живопись из красок, только театр сделан из слов, звуков, красок, вещей и живых людей. Наконец, театр многосоставен и в том смысле, что в создании его произведения участвуют разнообразные художники и нехудожники. Коротко говоря, то, что подразумевается под синтетичностью, всякому ясно без особых объяснений. Неясно лишь, в самом ли деле всякий спектакль синтетичен. Есть немало слов, с помощью которых можно охарактеризовать пестроту. Например, конгломерат: это тоже соединение разнородного, только механическое соединение.
223 Косвенно против такой характеристики спектакля восстает театральный предмет: связи между человеком, его социальными ролями и обществом, эти роли в пространстве и времени каждой эпохи создающим, не механичны. Театральность не конгломерат, но она все же и не синтез. Как бы тонко ни определять это понятие, ясно, что синтезировать можно только то, что «до того» уже было и было самостоятельно. Ни собственно социального животного без социальной роли и общества, ни роли без человека и общества, ни общества без людей с их социальными ролями не было и не может быть. Среди понятий, сколько-нибудь сопоставимых с синтетичностью, здесь на первый план выходит синкретизм.
Синкретичность театрального предмета, однако, еще не гарантирует синтетичность спектаклю: произведение театра подражает жизни не буквально. Но ранние — особенно ранние — формы спектакля вместе с предметом тоже говорят о том, что «от природы» театр и не конгломерат и не синтез, а именно синкретизм. Трудно забыть в этой связи, что некоторые формы Восточного театра синкретичны до сего дня, а в художественной истории Европы искусства, из которых якобы «состоял» античный спектакль, стали искусствами тогда, когда театральный синкретизм стал разлагаться.
Спектакль не напоминает синтез еще и потому, что некоторые части из него можно изъять или обойтись без них, а спектакль остается спектаклем. Например, декорации. Не менее реален и драматический спектакль без музыки и шумов. Если прибегнуть к сравнению, спектакль в этом отношении можно уподобить ящерице, которая остается ящерицей, даже когда лишилась хвоста и ждет, пока он отрастет.
По-видимому, есть некое ядро, позволяющее спектаклю оставаться самим собой независимо от перемен в его составе. Э. Бентли остроумно заметил: «Ситуация театра, если максимально упростить ее, сводится к тому, что А изображает В на глазах у С»289*. В самом деле, из спектакля нельзя изъять только актеров, их сценические роли и театральных зрителей. Исчезнет зритель — наступит игра, пусть и ролевая. Исчезнет роль — зрители будут наслаждаться чем угодно, но только не актерским творчеством. О самом актере нечего и говорить. Эти три феномена и составляют ядро спектакля.
Важно, однако, подчеркнуть, что они всегда вместе: в театральном ядре укоренены разные по природе, принципиально одновременные 224 и неразрывно связанные между собой явления. А, как известно, такую совокупность элементов, которые находятся между собой в определенных отношениях и, так связанные, составляют некую качественно определенную целостность, в науке называют системой.
«Синкретизм» и «синтетизм» в этой связи не перестают быть важными, но пестрота состава, разноприродность составляющих, логика отношений между ними, вся совокупность явлений и процессов, делающих театральное произведение сложным и при этом качественно определенным целым, описывается понятиями принципиально иной сферы — системной. В этом смысле системный характер ядра спектакля не может быть недооценен. Это фундаментальный теоретический факт.
Но не только «ядро» спектакля — он весь должен быть рассмотрен в данной связи. Положим, все согласились с тем, что спектакль может обойтись без декораций, или без грима, или без специального света. Но без пространства он обойтись не может. Между тем в театре это понятие не только философское, но и самое что ни на есть предметное. И оно всегда «предметно» же представлено. Во-первых, самим актером, который, конечно, «занимает» какое-никакое пространство; во-вторых, всегда еще чем-то: пустой ли сценой, орхестрой или ареной, светом природным или искусственным — в данном случае вполне безразлично. В-третьих, пространством зрителей, которое тоже всегда есть.
Столь же невычленимо в спектакле время. Опять же, во-первых, в актере, действие которого занимает реальное время, а потом и в других элементах спектакля. Декорация спектакля, даже если она неподвижна, тоже живет во времени. Таким образом, при всех обстоятельствах, в любых театральных формах в спектакль, кроме актера, роли и зрителя, входят иные, иного рода элементы.
Ни актер, ни роль, ни зрители не пространственные и не временные части спектакля. Они временно-пространственны, как бы ни строились отношения между временем и пространством. Декорации и другие пластические части спектакля — представляют в нем «чистое пространство», а музыка и шумы — «чистое время». Иначе сказать, спектакль сложное образование не только потому, что, помимо трехликого ядра, включает в себя еще что-то, но и потому, что в онтологическом отношении части этого целого существенно различны. Различны и одновременно невычленимы из целого.
Не менее существенно, что спектакль собирает под свою крышу не просто разноликие и разноприродные части, но вместе еще и пучок разнообразных внутренних связей и отношений. Среди них решающими для 225 понимания спектакля как системы являются структурные. «Выявить структуру объекта, — полагал Б. Рассел, — значит упомянуть его части и способы, с помощью которых они вступают во взаимоотношения»290*.
Говоря о частях трагедии, Аристотель делил их на образующие и составляющие291*. Составляющие части, например, трагедии — пролог, эписодий и другие — несомненно принадлежат, как мы бы сейчас определили, форме. Они следуют одна за другой, сменяют одна другую, одна в другую переходят и, сделав свое дело, исчезают навсегда. А вот образующие части есть постоянно, живут от начала до конца спектакля. Более того, трагедия существует, лишь пока и поскольку в наличии все шесть образующих частей: «сказание, характеры, речь, мысль, зрелище и музыкальная часть»292*. По сути, само это постоянство и является первым и самым простым отличием тех частей, которые в нашем контексте следует, конечно, назвать системообразующими, от других, из которых составляется форма спектакля или его содержание.
Сказание, характеры, речь, мысль, зрелище и музыкальная часть, однако, образуют трагедию не сами по себе; не одним лишь своим существованием и постоянством обеспечивают они ее наличие. Они работают только в связях между собой. Вот эти связи, точней, эти отношения, их совокупность и есть структура трагедии, как она выглядела в эпоху Стагирита.
Это открытие можно с полным основанием использовать и сегодня. Только мы принуждены сейчас назвать системообразующими, стягиваемыми структурой другие, тоже на протяжении всего действия существующие части — актера, сценическую роль и зрителей, а также, вероятно, декорации и шумы, грим и свет. Их одновременность и нерушимое соседство — первая и самая очевидная связь между ними. Но и она не проста. Соседствующие части неравнозначны, там есть иерархия. В спектакле Нового и Новейшего времени нет такой, какую зафиксировал Аристотель, жесткой логики господства и подчинения, такой же однонаправленности управляющих импульсов — от фабулы пьесы к ее героям, от них к актерам. Зато обнаруживается другое: только три части, входящие в систему по имени «спектакль», могут претендовать на то, чтобы поместиться в центре этого мира, занять место ядра. Это новая, но несомненная иерархия.
226 Структура вяжет между собой, значит, не просто отдельные, разбросанные части, но как бы две большие группы частей. В одной укоренены главные, в другой неглавные. Три основные силы спектакля в театральных пределах неварьируемы. По-научному — инвариантны. Из прописанных в спектакле только они постоянны, есть всегда, пока есть театральное искусство. Всякая иная локальная часть системы спектакля может наличествовать, а может и отсутствовать.
Инвариант системы спектакля временно-пространствен, в то время как всякая другая часть, как бы она ни была важна сама по себе или в конкретном спектакле, всегда односторонняя — в онтологическом смысле «плоская», только пластическая или только временная. Очевидно, что в отношениях между пространственно-временным статусом спектакля и пространственно-временным статусом актера, роли и зрителя существенно не просто «одновременно», но «потому»: он потому такой, что они втроем таковы.
Отделяя образующие части от всех других на том основании, что они есть одновременно и от начала до конца представления, Аристотель, как всегда лапидарно, объясняет и то, чем все это время занимаются шесть образующих частей: они воздействуют на душу. На душу зрителя, «седьмой части трагедии». Оказывается, системообразующие элементы спектакля объединяют не просто параллельность и подчинение; впечатляюще разные и во времена Аристотеля, и в наше время, они выполняют одну работу: воздействуют. Действие — может быть, единственное, что их объединяет. Единственное, зато решающее. Действие есть и цель, и причина, и механизм отношений между частями спектакля; спектакль — это отношения действия.
Если существует театральная эволюция, ее объективные основания, видимо, надо искать в этой фундаментальной области, в перемене систем отношений между элементами спектакля.
Первый известный нам исторический вариант структуры выглядит так: фабула воздействует, с одной стороны, сама собой на зрителей и, с другой, на характеры, а через них на актеров; характеры на зрителей — и на актеров; актеры только на зрителей; зрители не меняют на сцене никого и ничего, так же как актеры не могут повлиять ни на характеры, ни на фабулу; на фабулу не влияет никто. Это, как видно, вполне уже непростые, но односторонние отношения.
Величие и прелесть древнегреческого спектакля укрывают тот факт, что перед нами еще почти не театр. Все его элементы «уже» на месте, но актер без роли вообще собой ничего не представляет. А сама роль к тому 227 же задана. Она важней, чем актер, но между тем и сама она немногого стоит: от того, какова роль, действие никак не зависит. Наконец, публика, величина несомненно автономная, все же еще не осознает себя как эстетически оценивающая и художественно действующая сила. Пружины действия находились не в актере, не в роли, не в зрителях (и не в театральном пространстве, и не в театральном времени), а где-то достаточно далеко от всего, что причастно театру, — в пьесе, причем в самой «нетеатральной» ее стороне. Все, что имеет отношение собственно к театру, находится на далекой периферии действия, и, соответственно, связи между этими частями наименее продуктивны.
Особое внимание, которым пользуется в истории театра эпоха Возрождения, глубоко оправдано не в одном лишь историко-театральном контексте. Мир наполнен ролями, но он наполнен и людьми, готовыми эти роли играть с творческой отвагой и платить за результаты. Играющий роль теперь не ничтожество, он чувствует себя Создателем — и ролей, и самого себя. Во времена Ренессанса трещин в этой концепции не обнаруживали, так что отношения между актером и ролью выглядят едва ли не похоже на античность, только «наоборот». То есть они тоже по-своему односторонни, однонаправленны.
Очевидно новое в структуре спектакля связано со зрителями. Спектакль актера Ричарда Бербеджа «по пьесе Шекспира» зависел в первую голову от того, какова была публика каждого дня. В отношения с артистом, демонстрировавшим играющего роли героя, и входила публика тогдашнего театра. Она могла быть и часто бывала вовсе не эстетской, но зато во всех случаях она художественная сила. Если публика и ассоциирует себя с кем-то, то уж скорей с актером, но никак не с персонажем. Она получает вполне непосредственное удовольствие от проделок дзанни и злодейств Ричарда Третьего, но она знает, что злодейства и проделки для нее представляют. Люди с итальянской улицы забрасывали гнилыми овощами или фруктами не Арлекина, а актера — за то, что тот неизобретательно или неправильно играет. Как именно правильно, какой должна быть маска — знает и решает публика. Здесь с античной односторонностью, с однонаправленностью воздействий — со сцены в зал — было покончено, и, похоже, навсегда. Принцип действия должен быть теперь назван принципом взаимного воздействия — именно в таком, новом виде он охватил всю структуру театрального инварианта.
Актер Ренессанса не мог целиком погрузиться в роль, целиком отдаться ей: его персонаж был не роль-маска, а человек с букетом ролей. Смена ролей по ходу действия нередко и составляла это действие. Иначе 228 говоря, в театре типа шекспировского или испанского актер мог ассоциироваться только с человеком, играющим роли и ролями; в комедии дель арте с человеком, надевшим на себя маску и владеющим этой маской; в театре классицизма с человеком, чьи внутренние противоречия описываются как ролевая сшибка. И так далее, далее почти до конца XIX века.
Античная маска для артиста была простой и неоспоримой данностью, но не образцом: маска ничего не играла, это ею играли роковые силы. Актер Ренессанса тоже зависит от материала пьесы, который ему предстоит реализовать на сцене. Но это другой материал — материал, который подражает театральности. Принцип действия заложен именно в нем, в ролевых «играх» людей. «Подражая» пьесе, актер подражает театральности: входит и с ролью, и с партнером, и с пространством, и с публикой в отношения, подсказанные театральностью жизни, преображенной сперва в драматическое действие пьесы, а затем в драматическое действие спектакля. Тут сильные, отчетливо проявленные отношения, в которые втянуты играющий роль артист, его роль, представляющая собой человека в отношениях со своими ролями, и публика, к которой прямо и с полным основанием апеллирует артист (не герой, а именно артист). Весь объем спектакля смотрится как пронизанный театральностью, однако и самая зараженность театральностью меньше всего может быть понята как «тотальная». Это ясно, если на театр эпохи Возрождения взглянуть одновременно и из глубины Древней Греции, и в ретроспективе, с уровня позднейшего театра.
Волна театральности, накрыв театр с головой, научила его тому, что весь мир театр, а люди актеры. Однако сложные, противоречивые, то есть глубокие, содержательные отношения возникали тогда с помощью ролей, а не с ролями. У человека, как полагает ренессансный гуманизм, без сомнения, есть истинная сущность, которую играние ролей, смена ролей, обмен ролями не затрагивают. Ричард Третий злодей, он может менять роли и играть ролями, но они для него как маскарадные обличья. От того, что Яго надел маску честного малого, «хуже» не ему, а Отелло и Дездемоне. На Яго это не влияет, сущность его не меняет никак. Играние ролей включается в действие на том поле, где входят в отношения герои, а не человек с ролью. В этой сфере пока все немо. На связях между ролью и артистом драматургию спектакля построить пока нельзя.
В эпоху режиссуры такое стало и возможно, и порой необходимо. Без драмы, что разыгрывали между собой актер Завадский и герой пьесы «Турандот» Калаф, актер Буш и персонаж Галилей, Высоцкий и Гамлет, 229 великие спектакли Вахтангова, Брехта и Любимова лишаются смысла. Но даже если этого рода драма и не каркас действия, она и не аккомпанемент. Во-первых, потому, что, скажем, крушение гуманизма (так определил тему «Гамлета» у Мих. Чехова П. А. Марков) — трагедия и для персонажа Гамлета, и для актера Чехова. Во-вторых, потому, что такую трагедию и так именно Гамлет может переживать только в том случае, когда он одновременно такой, как у Шекспира, и совсем не такой, а, напротив, такой, как М. Чехов.
Режиссерский театр впервые заставил актера, его художественную роль и публику поглядеть в глаза друг другу. Третий исторический автор спектакля стал сочинять не просто отношения между этими троими (что, конечно, само по себе крайне важно и принципиально ново), но был будто приговорен к определенному типу и содержанию этих отношений: все больше и все упорней они мыслились как драматические и драматическими становились.
Один из самых показательных примеров — ничтожный по срокам переход от Станиславского с мечтой о максимальном переселении актера в шкуру и душу того, чью роль актер играет, к его младшему современнику Мейерхольду, и субъективно и объективно вернувшему на сцену «старинную» и часто демонстративную самостоятельность актера и маски, а в зрительный зал — хлопающих в ладоши, свистящих, а еще бы лучше — дерущихся между собой ценителей изящного. В спектакле «Великодушный рогоносец» Ильинский особым образом демонстрировал свободу актера-художника: он нападал на своего героя, мучил его и публично издевался над ним. Рядом, в «Принцессе Турандот», где Вахтангов осмыслял уроки Мейерхольда, между веселыми красавцами и красавицами из Третьей студии и особами сказочно голубой крови из фьябы Гоцци были «проложены» фиктивные — то ли впрямь существовали, то ли приснились — актеры некой итальянской бродячей труппы, именем Станиславского оправдывавшие игры с ролями. Драматизм в отношениях между двумя главными группами лиц этого спектакля был таким образом как бы смикширован, лукаво относителен, но это были те же, драматические отношения между актерами и их ролями.
Новое, усложняясь, закреплялось в течение всего XX века. Особенно показательно то глубокое безразличие, которое только что открытый структурный закон стал проявлять во второй половине века к театральному направлению: его открыли модернисты, но сейчас он оказался не привязан ни к условному, ни к жизнеподобному, ни к поэтическому, ни к прозаическому, ни к какому иному конкретному театру.
230 Советский бард В. Высоцкий, как в мышеловку, попал в чужое и далекое «быть или не быть», а у шекспировского принца оставалась, может быть, только одна честная возможность воплотиться — стать таким, как этот «парень из подворотни». Трагедия была предуказана не классической ролью самой по себе и не имиджем актера, а режиссерским замыслом, соединившим их между собою. Но то был бывший «левый» театр, он лишь законно воспользовался прямым наследством. Однако рядом существовал финал спектакля Эфроса «Месяц в деревне». Пьеса была завершена, разбирали ажурную декорацию, а О. Яковлева, которая уже должна была покончить актерские счеты с Натальей Петровной, все никак не могла с ней расстаться и, прислонясь к порталу, плакала. Кто плакал — героиня или актриса? И о чем? Об уходящей молодости героини или о судьбе режиссера, которого тогда в очередной раз изгоняли из театра? Так или иначе, осознанное использование драматических возможностей структуры говорило не о школе и направлении, а о зрелости режиссерского театра.
Любой значащий пример из дальнейшего — новый вариант постижения того же закона. В средней части «Серсо» А. А. Васильева герои обнаруживали в загородном доме чужие письма, сочиненные до Первой мировой войны, и читали их вслух. Все сидят за столом и в замедленном темпе передают друг другу листки бумаги. Сцена сознательно построена так, что непонятно: это люди той далекой эпохи или наши современники, которые затосковали по старой культуре? И кто именно тоскует — может быть, вообще не персонажи, а актеры? Мейерхольд драматическое несходство актера и роли подчеркивал — Васильев, кажется, настаивал на противоположном. Весь первый акт спектакля различия между актерами и ролями не были ни выделены, ни спрятаны, просто были, и зрителям надлежало читать в партитуре спектакля как минимум две параллельные строчки. Но вдруг в сцене с письмами эти привычные «ножницы» беззвучно сомкнулись, и драматическое напряжение сходства (не привычного контраста!) стало источником ритма. Снова особо значащей оказалась не история конкретных течений, направлений и художественных судеб, а объективная эволюция структуры.
Третий инвариантный элемент спектакля, зритель, к новым внутрисценическим отношениям оказался на редкость готовым.
Среди описаний зрителя наиболее распространено психологическое, в соответствии с которым зрители — воспринимающие. Но есть и другое понимание, социологическое: «Общение со стороны зрителя осуществляется не просто некоторой личностью, а личностью, принявшей на 231 себя роль зрителя, т. е. добровольно подчинившейся нормативам поведения (внешнего и внутреннего), предписанного данной ролью, и действующего уже “от роли”»293*. Введенное социологическим словарем понятие роли позволяет ответить на существеннейший для театра вопрос о том, почему именно зритель воспринимает происходящее на сцене и воспринимает так, а не иначе. Ответ следует из самой постановки вопроса: потому что того требует роль зрителя, отличающаяся от других, жизненных ролей человека, который пришел смотреть или слушать спектакль.
Отнюдь не формальной оказывается при таком подходе и сама возможность сопоставить зрителя с актером. Достаточно в формуле «роль предписывает нормативы поведения» акцентировать «поведение», чтобы обнаружить тип этого поведения. Именно — действие.
Опыт актеров, которые во все времена и у всех народов слышали из зала указания — смехом ли, тишиной ли, кашлем или свистом, — ненаучен, но надежен. И он говорит о том, что зрители всегда буквально вмешиваются в такие решающие сценические связи, как те, что соединяют роль с актером и актеров между собой. Строго говоря, никаких таких отношений до начала спектакля нет, есть лишь конспект, заготовка, они становятся самими собой, то есть именно отношениями, сложными движущимися связями, с того мгновения, как их начинает актуализировать их третий творец. Оказывается, категориями драматического действия, то есть точно теми же, какими описываются отношения между актерами и ролями, можно и должно пользоваться, когда речь о зрителе. Актер действует на свою сценическую роль вполне определенным образом: приспосабливает ее к себе, то есть активно «редактирует» данные персонажа; лишая персонаж суверенности, превращает его в роль-для-себя. Точно так же ведет себя с актером персонаж: обреченный стать сценической ролью, он делает все от него зависящее, чтобы артист изображал именно его, и с этой целью творчески активно обрабатывает данные актера. Зритель, подобно актеру и роли, корректирует и того и другого с тем, чтобы оба его театральных партнера соответствовали его, зрителя, представлениям — философским, эстетическим, художественным и иным — о жизни и о людях. Тем самым зритель делает заведомо проблематичной ту договоренность, которой, кажется, достигли актер и роль к моменту генеральной репетиции. С другой стороны, как актер меняет роль, а роль актера, так оба они, минимум на протяжении 232 спектакля, меняют «что-то» в тех самых представлениях зрителей, которые все это время так ясно воздействуют на них самих. Иными словами, инвариант системы спектакля, не в сценическом только своем фрагменте, а целиком, движется, то есть существует по тотальному для них закону драматического действия294*. Спектакль — драматическое действие потому, что драматически действенна его структура, и постольку, поскольку отношения, связывающие его части между собой, есть отношения взаимного воздействия, в ходе которого все его участники меняются.
Драматическую природу системы спектакля подтверждает и положение ее неинвариантных частей. Показательны, например, системные характеристики тех элементов сцены, которые представляют в спектакле неактерское пространство. Многовековой фон или в лучшем случае аккомпанемент действию не вдруг превратился в то, что сегодня отличают от оформления специальным понятием «сценография». Но это случилось — возникли новые отношение когда-то периферийных элементов спектакля с инвариантными. Их можно определить: это отношения действия. В таком определении нет ни метафоры, ни какого другого тропа. Как актер и роль, сценография одновременно драматически воздействует и на зрителей и на актеров. А конструктивистские опыты игры актера с вещью — отнюдь не единственный пример того, как на «вещь» воздействует актер.
Обратимся для примера к сценографическим созданиям последних десятилетий. В спектакле Ленинградского Малого драматического театра «Живи и помни» Э. С. Кочергин построил деревянные леса. Едва ли не автоматически начинали действовать простейшие ассоциации: лес, деревянное, деревенское, пчелиные соты… Последнее значение, в частности, прямо поддержал режиссер спектакля Л. А. Додин, когда несколько раз помещал в этих сотах группу деревенских баб с их бытовыми делами. Но однажды бабы оставили свои занятия и выпрямились. Их резко осветили сзади, и над головой каждой оказался нимб. Соты превратились в иконостас, декорация сыграла две роли, а Додин их сопоставил — и с бабьей стаей, превращенной в групповой портрет «наших деревенских святых», и между собой. «Штанкеты и софиты, — писал о “Гамлете” Ю. П. Любимова А. М. Смелянский, — подобно актерам, исполняли тут важные роли». «Исполняли важные роли» не запрещено понимать как «имели важное значение». Но расшифровка, которая следует немедленно за этой нейтральной фразой, без возврата перестраивает 233 характер определений: «Про “Гамлета” на Таганке кто-то писал, что в списке действующих лиц надо сначала поставить занавес Боровского, а потом уже Гамлета — Высоцкого»295*. Есть немалый список «действий» и функций знаменитого занавеса. В него вошли и прихотливые перемещения, и эмоциональные ассоциации, которые он вызывал, и, конечно, его метаморфозы. Но когда речь о театре, все это может быть собрано и объяснено только одним способом: занавес Д. Л. Боровского играл у Любимова роли, точно так же, как артисты.
Сценография в системе спектакля не инвариантна. Но инвариантно пространство, и от его имени сценография желает и умеет теперь делать то, что прежде вправе и в состоянии были делать только актеры, — параллельно актерам и в драматических связях с ними.
Аналогичный структурный сюжет разыгрывается с музыкой драматического спектакля. Ограничимся и здесь примером одного классического произведения. Красоту и уравновешенную легкость ажурной беседки, платьев и актерских интонаций в начале «Месяца в деревне» А. В. Эфроса поддерживала и всем своим авторитетом утверждала мелодия из Сороковой симфонии Моцарта: она была окончательным знаком гармонии. Дальнейшее действие, как известно, показывало, что гармонии не только никогда уже не будет, но, даже хрупкой, не было. А на сцене и в зале, перед тем, как рабочие стали разбирать беседку, звучала та же, что в начале, побеждающая все гармония. Сочиняя сценическую драму, Эфрос сделал одной из ее героинь музыку. Две линии, одна обозначает все, что происходит с актерами и героями Тургенева, другая — музыкальный ряд; сначала обе движутся параллельно, но чем дальше, тем заметней расходятся и к финалу трагически противоречат одна другой. Неинвариантные части системы спектакля начинают подчиняться драматическому механизму структуры.
Глава 7.
ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗУЮЩИХ ЧАСТЕЙ
Подобно связям между древнегреческим актером, его ролью-маской и тысячами людей, окруживших орхестру, сам этот актер, сама маска и зритель — элементарны. Тип и смысл тогдашней роли красноречиво охарактеризовал С. С. Аверинцев: «Маска — это больше лицо, чем само 234 лицо»296*. Если углы губ у нее опущены, если она говорит о Герое, что он трагический, это по существу все, что в нем есть и что надобно о нем сказать. За маской, прав Аверинцев, ничего нет: личина и есть личность. И, подобно демокритовскому атому или платоновскому эйдосу, она последняя глубина, самотождественная и дальше не делимая.
Древнегреческий актер, в прямом соответствии с маской-ролью, имеет отчетливо «атомарный» вид. Он не более чем живой материал для создания в пространстве и времени форм маски. Что касается зрителя, то драматическому поэту достаточно того, что ему есть на кого воздействовать.
Под сомнение элементарность инвариантных частей спектакля была поставлена уже в Средние века. Актер моралите, который держит своего персонажа в вытянутой руке и демонстрирует его зрителю, больше всего похож на «докладчика», а за ролью, которую он играет, нет ничего, кроме понятия. В ней нет ни живого синкретизма античной маски, ни «снятой целостности» общего и индивидуального, на которой держится маска в новое и новейшее время.
В мистерии дело обстоит, кажется, противоположным образом. Как и в роли Добродетели, в роли Черта нет никаких индивидуальных свойств; у Черта есть только действенные функции — пакостить положительным героям и радостно тащить в ад давших себя соблазнить. В роли такого типа еще нет заведомой сложности, но нет уже неразложимой греческой целостности: она распадается на глазах средневековых зрителей и при их активном участии. Средневековый гистрион содержательность и определенность своему Черту придавал собою. Роль внятно слоится, вынужденно составляется из действенной схемы и принципиально «не написанных драматургом», но необходимых сиюминутных деталей, зависящих от того, в какие отношения войдет сегодня этот актер с этой толпой. Никаких таких деталей в образе персонажа нет, но они, когда актер берется его изобразить, возникают в созданной им роли.
Взявший на себя важную общественную миссию самодеятельный участник моралите и бродяга, который сам похож на нечистую силу, солидный докладчик, ответственно излагающий слова роли, и развлекающий публику гистрион — оба знают, что исполнитель роли не роль, и каждый отдает своей роли необходимый ей материал. В одном случае свою гражданственность, в другом, как минимум, профессиональное 235 бесстыдство. Но и этого достаточно: в обоих театральных вариантах мы имеем дело с человеческими свойствами артиста и одновременно с «техническими умениями». Роль уже не химически неразделимый атом, она из чего-то составляется. Но и роль, подобно актеру, представляет из себя некую комбинацию из нескольких элементов, мобильную и ориентированную на зрительный зал. Возникает намек на рождение некой закономерности: динамизация связей между элементами спектакля и усложнение состава каждого из них — это один процесс.
Театр, берущий начало в Ренессансе, и в этом отношении демонстрирует рывок, прорыв. Комедия дель арте — это театр профессиональных актеров в пожизненных устойчивых масках. Устойчивый и подвижный, выразительный и экономный образ роли, маска стала идеальным «шаблоном» для актера. Но маска всегда сложна. Так, в частности, оставаясь собой или войдя в состав других образов, маски по праву претендуют на общечеловечность — но при этом они не теряют свойств, рожденных их социальными, национальными и даже региональными истоками. Маска по-прежнему классический образец действенности, ибо все в ней зависит от места, которое она занимает в действии спектакля. Это почти автоматически означает, что она приговаривает к остроте и известной односторонности выражения. Но это совсем не означает, что в каждой маске генерализировано одно какое-то человеческое свойство. Квинтэссенция сценического действия, маска вобрала в себя характер, как понимал его Аристотель («направление воли»), но она еще и тип — тип характера, предполагающий в человеке индивидуальность.
Возрожденческая общность или родство актера с его ролью — вовсе не те, что соединяли гистриона с Чертом в Средние века. Различий много, и они, что важно, разного свойства. У мистериального Черта нет возраста — Панталоне от рождения старик, а Арлекин вечно молод. Кроме того, актер, призванный играть совокупность свойств Панталоне, сам не обязан обладать этими свойствами: на «человеческую» активность и подвижность Арлекина актер откликается вообще не человеческими, а артистическими свойствами. Психофизика актера, идущая здесь в дело, это и не телесный материал античности, и не психофизика человека-гистриона, это актерская психофизика актера — его актерский темперамент, актерская реактивность и т. п. Но мало того, что своеобразно двоится индивидуальность актера; уже его собственная эпоха обнаружила в нем иные — личностные порядки. А. К. Дживелегов писал об актере дель арте: «Он должен жить творчески и обретать в театре источник вдохновения. Он должен иметь “радостную душу”. Если эта 236 радостная душа (anima allegra) отлетает, актер перестает быть актером»297*. Впоследствии эту «часть актера» назовут установкой на творчество или волей к игре на сцене. В таком составе та часть системы спектакля, которая принадлежит актеру, сама представляет собой систему, сложно составленную из элементов разного происхождения и одновременно и принципиально открытую в обе стороны — в сторону роли и в сторону публики.
Логика структурных подвижек, едва забрезжившая в театре Средневековья, в театре Возрождения обретает убедительно определенный вид. Можно все более надежно фиксировать, что называется, постоянное и пока не обратимое структурирование театрального произведения. С одной стороны, ветвятся, усложняются, становятся живей и напряженней отношения между главными элементами спектакля. С другой стороны, оказываются в принципе более сложными и по составу, и по внутренним связям сами эти элементы. Наконец, более чем вероятно, что эти процессы одновременны не случайно: чем больше каждый из элементов сам становится системой, тем тесней связи между ними, и наоборот: чем драматически действенней отношения между элементами спектакля, тем больше сложности и самостоятельности от этих элементов требуется или, по крайней мере, для них допускается.
Классицизм, следующая за ренессансным этапом большая стадия развития спектакля, демонстрирует и усложнение внутрисистемных связей, и отчетливое превращение каждого из входящих в эти связи элементов в меньшую по масштабам, чем спектакль, но безусловно полноценную систему. При этом заметна некая параллельность: обнаруженное в роли естественно экстраполируется на актера. Самым простым примером может стать амплуа. Можно идти от типа роли — присоединиться к общей точке зрения, согласно которой амплуа объединяет однотипные роли; следующий шаг окажется неизбежным: актер «применяется» к этому типу и тогда может занять в труппе соответствующее амплуа. Амплуа актера и амплуа роли — понятия одинаково содержательные, и актеры делят между собою роли по тем же признакам, по которым делятся сами роли.
И оба эти амплуа — полноценные системы. В обоих случаях и в соответствии с одним и тем же законом всякое амплуа состоит как минимум из двух частей. Есть «часть», отвечающая за типовые характеристики, и есть — ведающая индивидуальными, и каждая из сторон этой двуликой 237 целостности открывается лишь тогда, когда входит в отношения с другой.
Структурные прозрения комедии дель арте надолго или навсегда превратили сценическую систему в систему систем, каждая из которых строилась по тем же правилам, что система целого. При этом точно так же, как было прежде с отношениями между актерами, ролями и зрителями, связи «внутри актера» и «внутри роли» поначалу были далеки от какого бы то ни было драматизма — несколько столетий их характеризовало как раз доброжелательное мирное сосуществование.
Но на рубеже XIX – XX и в начале XX века и этот долгий этап теоретической истории спектакля окончился серьезной (поначалу казалось, гибельной) встряской. Когда А. П. Чехов лишил своих персонажей типового стержня, они стали напоминать «человека без свойств». Такой персонаж не только не состоит из каких-то частей, в нем и атомарная часть не описывается как нечто «твердое», как вещь — только как истечение, волна в потоке. Очевидно, что роль, материалом для которой должен стать такой характер, начала проваливаться в неорганизованный хаос, и актеры поначалу стали догонять роль. Подтверждая конец амплуа, Станиславский писал: «По-моему, существует только одно амплуа — характерных ролей. Всякая роль, не заключающая в себе характерности, — это плохая, не жизненная роль, а потому и актер, не умеющий передавать характерности изображаемых лиц, — плохой, однообразный актер»298*. Знаменательно, однако, что в главе «Характерность» книги «Работа актера над собой» Станиславский использует формулу «перевоплощение и характерность»299*: роль, принадлежащая единственно законному амплуа — амплуа характерных ролей, — должна, согласно Станиславскому, заключать в себе характерность. То есть в любом случае характерность составляет часть какого-то большего, чем она, объема. Теоретизирующий режиссер продолжает эту мысль резко: «Характерность — та же маска, скрывающая самого актера-человека. В таком замаскированном виде он может обнажать себя до самых интимных и пикантных душевных подробностей»300*. Из-за маски-роли у Станиславского-теоретика на зрителя и партнера глядит актер-человек. Вдумаемся, однако, в суть рассуждений П. А. Маркова 1925 года. Считая «внутреннее оправдание творчества актера и закрепление его 238 двойственности» одной из главных задач так называемой системы Станиславского, Марков был уверен, что, по мысли создателя «системы», путь к решению этой задачи лежал «в уничтожении полной адекватности играемого образа с личностью актера»301*. Революционная мечта Станиславского смести до основанья всю накопившуюся в мировом театре ложь осуществлялась, значит, более чем парадоксальным образом: двойственность («Вы сами — а поступки другого лица»302*) закреплялась, а полная адекватность играемого образа личности актера, которую чаще всего ассоциируют с «перевоплощением», как раз и подлежала уничтожению. «Неатомарность» и заведомую драматическую структурность сценического создания Станиславский, значит, не только признает, но за нее борется, ее утверждает.
О передаче зрителю собственных чувств актера речи нет. Но о чувствах аффективных Марков не только вправе, он обязан толковать. И вот что он обнаруживает: «Пробуждая аффективные чувства, “перевоплощение” стремилось тесно слить актера с образом, сделать их неразрывными; оно соединяло актера и образ тысячами мелких нитей и связей; оно окутывало актера детальными и подробными ощущеньицами; оно захлестывало актера. Актер бывал принужден или лгать не только внешне по-актерски, но насильственно принимать в себя чужие чувства и ощущения, “притворяться” не только внешне, но и внутренне; или, пробуждая в себе аффективные чувства, подменять своим житейским содержанием патетические и художественные ощущения образа. И в том, и в другом случае первоначальная ложь уничтожена не была — “притворство” оставалось и художественного разрешения задач не достигалось»303*.
Этим замечательным диагнозом П. А. Марков предваряет описание системы Вахтангова, которая, по его тогдашнему мнению, и разрешила кричащие противоречия в построениях старшего гения. Шедший через «систему» Вахтангов «искал не столько примирения коренной и роковой раздвоенности, сколько раскрытия первоначальной, единой воли к игре — творческой воли к созданию из себя образа. <…> Вахтангов ринулся к существу человека-артиста и неожиданно обнаружил, что никакой раздвоенности нет, что правда театра и состоит для актера в том, чтобы, играя образ, свободно владея им, через него говорить 239 свою, только ему одному — актеру — присущую правду. Вместо того, чтобы превалировал образ, как было ранее, он дал право преобладания и явного приоритета личности актера»304*.
Непривычны и отношения, в которые входят новые, «слишком человеческие» элементы актерской части сценической системы с другими частями этой системы. Связь между актером-амплуа и ролью-амплуа в системе классицистского толка, надолго удержавшейся в европейском театре, непроста, но это всегда связь целого с целым. В Новейшее время ситуация переменилась резко и, может быть, необратимо: в непосредственные, продуктивные, очевидно влияющие на творческий результат отношения стали входить не только, а порой даже не столько части большой системы образа, сколько «части частей». Так, с ролью, а нередко и с определенными фрагментами, частями этой системы в прямую связь вошло существо человека-актера.
Стало хрестоматийным высказывание М. А. Чехова: «Я при изображении Муромского остаюсь до некоторой степени в стороне от него и как бы наблюдаю на ним, за его игрой, за его жизнью, и это стояние в стороне дает мне возможность приблизиться к тому состоянию, при котором художник очищает и облагораживает свои образы, не внося в них ненужных черт своего личного человеческого характера»305*. Проблему, которая возникает, когда актер пытается использовать для роли свое личное, Чехов предлагал решить, разделив в актере скрытого контролера и индивидуальность-материал и тем самым превратив скромный художественный самоконтроль в недвусмысленное авторство. Будто вопреки Вахтангову, личность художника-творца в материал не превращается и не погружается — для этого есть другие, индивидуальностные «части актера», которые и бросаются в котел «перевоплощения».
Систему и структуру сценического образа Чехов трактовал вполне определенно. Он понимал, что, работая над ролью, актер одновременно совершает два процесса — приспосабливает себя к роли и роль к себе. Он признавал, что внутренние и внешние актерские данные ставят предел такому сближению. Очевидно новое возникает в трактовке источников, из которых черпается энергия связи. «Необходимо провести грань между различными типами людей и индивидуальными характерами 240 внутри этих типов. <…> Они всегда разные. Одни, например, имеют склонность всегда играть один тип: задиристого парня, соблазнительную героиню, рассеянного ученого, стервозную женщину или неотразимую молодую девицу с длинными-предлинными ресницами и слегка приоткрытым ртом и т. д. Все это — типы характеров. Но каждый отдельно взятый задиристый парень или каждая стервозная женщина — это различные вариации внутри этих типов. Каждый из них — индивидуальность, которая должна быть осмыслена и сыграна по-своему», — пишет Чехов. Но вот прямое продолжение этого пассажа: «Другими словами, типы, которые мы играем, идут от нашей натуры, любой же индивидуальный характер мы получаем от драматурга»306*.
Сценическое создание, чуть ли не как у классицистов, составляется из двух больших частей, типа и его индивидуальной вариации, но только части эти происходят из разных источников. Индивидуальный характер всякий раз для актера нов, потому что сочиняется драматургом, а вот тип роли дается завершенному образу «натурой актера», то есть его «внутренними и внешними актерскими данными».
Система сценического образа снова мутировала, и этот ее вариант снова подтвердил закономерности эволюции театрального образа и тенденции развития его структуры.
Среди тенденций, особенно с 1960-х годов ставших популярными и плодотворными, и в русском и в западноевропейском театре было недолгое, но яркое явление тех свойств актера, которые тогда обобщенно называли личностным началом. Личность и индивидуальность снова не различались, зато очень скоро стало ясно, что и та и другая порождают актерские типы, а типажность «уходит в “маску”, отстаивающую свою художественную независимость в сценическом действии»307*. Поворот был замечен уже в середине 70-х годов. Вот показательный пример. Собирая портрет всеми любимого кинематографического и театрального Евгения Леонова, общие характеристики актера В. О. Семеновский формулировал сперва нейтрально: «Всегда, как ни в чем не бывало, “выглядывает” из образа добродушная физиономия. Если это и маска, то подвижная, допускающая трансформацию. А точнее — живой, узнаваемый тип, который в силу характерности и доступности способен оказаться “натуральным” в тех или иных условиях игры»308*. Но сам этот тип (или маска) видится как явление 241 многослойное, у найденного и поименованного типа обнаруживается то ли сосед, то ли двойник. Речь о чертах актера-потешника, которые исследователь квалифицирует определенно: «глубоко национальный тип актера». Нет сомнения в том, что здесь свойства того самого рода, которые в других местах и в другие времена одних актеров делали Арлекинами, а других отправляли в маску Панталоне. Если скрытые в Леонове черты актера-потешника — черты Е. Леонова, то и в таком случае выдают они не его человеческие свойства, а характер его артистизма.
Но и этого мало. На древний, лишь изредка являющийся скомороший слой, и гораздо ясней старинного, наложен еще один, не просто из Нового времени, но ведущий начало от принципиально неактерского художественного массива — «маленький человек» русской литературы. Очевидно, это тоже тип, и тип, несомненно освоенный актером, однако при этом достаточно ясно, что он «относится» к роли, сознательно вводится в состав ролей Леонова режиссурой.
Очередное усложнение системы сценического образа видно не только в этой чересполосице типов, теснящихся в одном, конкретном художественном явлении, но и в том, как тонка и, кажется, проходима грань между любым из этих типов и маской.
Между тем маска с полным основанием и уже давно стала принадлежностью и знаком совсем другого театра. Г. Крэг, первый из театральных мыслителей Новейшего времени, кто воззвал к маске, подробно разъяснил свою позицию: «Выражение человеческого лица по большей части не имеет никакой ценности, и изучение искусства театра убеждает меня в том, что было бы лучше, если бы на лице исполнителя (при условии, что оно не скучное) появлялось вместо шестисот всевозможных выражений только шесть. Возьмем такой пример. Лицо судьи, разбирающего дело подсудимого, сможет принять всего лишь два выражения, каждое из которых находится в точном соотношении с другим. У него как бы две маски, и на каждой маске написано одно главное утверждение»309*.
Когда Станиславский сравнил роль с маской, он отбрасывал ее в область внешнего. В трактовке Крэга маска как раз не что-то надеваемое на лицо актера, она и есть лицо или, согласно С. С. Аверинцеву, смысловой предел лица. Принципиально, что Крэг, отыскивая маску в личности или индивидуальности самого актера, одновременно противопоставляет эту свою идею и философии античного театра, где маской была 242 роль, и театральной философии Станиславского, который готов спрятать актера под маску как раз для того, чтобы прикрытый ею актер сумел сохранить на сцене, во встрече с ролью, все выражения своего человеческого лица.
Широко понятое личностное начало было отправной точкой и для В. Э. Мейерхольда, когда он формировал свои актерские идеи и своих актеров. Об этом, например, недвусмысленно свидетельствует общеизвестное его замечание об актере в записи А. К. Гладкова: «Он еще не Отелло, но он уже в гриме Отелло. Он еще болтает о разном с соседями по уборной, но он уже не Иван Иванович, а на полпути к Отелло. Больше всего я люблю подглядывать за хорошими актерами, когда они на полпути к своим образам: еще Иван Иванович и в то же время уже чуть-чуть Отелло»310*. Такие решающие в этой системе образа части, как актерское амплуа и маска актера, кроились из самого актера.
Амплуа и маска актера здесь явления родственные, но разные. «Вот Варламов, — вспоминал Мейерхольд. — Он нашел для себя маску, и эта маска была: он сам, как маска, со своими данными, плюс то, что он выбрал себе автора Островского, который помог ему этого самого себя в купеческой маске подносить. Заботливейшим образом он выискивал для этой маски соответственную напевность, своеобразную интонационную скалу и своеобразный славянский юмор»311*.
В такой интерпретации маска Варламова сама по себе сложное образование. С точки зрения системно-структурной здесь зафиксировано художественно своеобразное и новое: как минимум, самое маска, ее двусоставность и материалы, которые Варламов использовал для ее изготовления.
Формально эта структурная ситуация напоминает об итальянской комедии масок: великий артист Антонио Сакки стал вторым дзанни потому, что «он сам, со своими данными», соответствовал этой маске. Но на этой общности сходство заканчивается. Второй дзанни в каждом новом спектакле играл новую роль; пусть и очевидно вторичную по отношению к генеральной маске, но все-таки не себя, а кого-то другого. Невычленимой и, быть может, решающей частью той маски Варламова, которую он подносил зрителям, был «он сам, как маска». Но одновременно в большое целое входили и те части, которые эта сложная маска как бы заранее, перед спектаклем, позаимствовала у литературного персонажа, 243 у группы ролей. На этом этапе развития театра как театра маска и смеет «подносить» себя как таковую именно потому, что в нее самое впечатаны и личностное начало актера, и роли.
Маска Варламова, какой реставрирует ее Мейерхольд, — одна лишь маска, без и «до» ролей Яичницы, Варравина или Сганареля, — составом своим равна всему сценическому образу в комедии дель арте. Это факт, и этот факт в очередной раз подтверждает, что структурная эволюция захватывает и внутреннее пространство прежде неделимых в системе театрального образа элементов, в данном случае — элемента по имени «актер».
На этом фоне создаваемые Мейерхольдом актерские амплуа смотрятся более нейтрально и академично. Не всякий актер может стать маской — только такой, у которого, если воспользоваться остроумием Крэга, «не скучное лицо». Амплуа в системе Мейерхольда обязательно, но, при очевидно новой его трактовке, определяется, как и в старину, характеристикой группы ролей, которые «по своим данным» может играть этот артист. В отношения с очередной ролью актера амплуа входит сформированным, но в отличие от маски, которую можно «подносить», можно играть, потому что она сама по себе уже автономная художественная вещь, амплуа не вещь, а границы, его можно (и должно) применять.
Структурная новизна этой системы, быть может, особенно хорошо просматривается, когда речь заходит как раз о принципах такого применения амплуа. Мейерхольд говорит: «Я должен знать, кто у меня в театре “любовник”, для того чтобы не поручать ему ролей “любовников”. Я много раз наблюдал, как неожиданно интересно раскрывается актер, когда работает в некой борьбе со своими прямыми данными. Ведь они все равно никуда не денутся, но как бы проаккомпанируют созданному им образу»312*. Назначение Э. Гарина на роль Чацкого с этой точки зрения не столько парадоксально, сколько правильно: сценический образ Чацкого в такой системе ни практически, ни теоретически не может возникать «на основе Чацкого», как бы ни трактовать Грибоедова. Художественный сценический образ, создаваемый актером, теперь уже никак не может не «состоять» из элементов, сложно сплетенных и внутри актерской части системы, и внутри части, занимаемой ролью, и между частями этих двух главных больших частей. Вне такого состава и такой структуры сценический образ теперь вообще ни на какой театрально-художественный смысл претендовать не может.
244 Если условно вытянуть такое образование в горизонталь, с одной стороны эту линию будет начинать артист-автор или соавтор режиссера. Как бы далека от старой радостной души ни была эта часть, она, как и легендарная anima allegra, в роль не входит и в системе Мейерхольда занимает примерно то место, что сверх-Я в чеховской. Следом идут главные рабочие части этой подсистемы — актерское амплуа или маска, созданные на базе «личных свойств» артиста и готовые к сценическому свиданию с Ролью. Дальше располагается Роль, и она также оказывается сложным, системным образованием, устойчивым центром которого становятся маски.
Заметно варьировалась другая часть роли — индивидуальностная. В эпоху так называемого неподвижного символистского театра, с одной стороны, и в значительной степени в начале эпохи агитационного театра, с другой, эта часть мало или вообще не устраивала Мейерхольда. В другие времена он относился к индивидуальности персонажа более терпимо, а в зрелые годы даже и внимательно. Но и в таких случаях речь могла идти скорей о постоянном вкраплении резких характерных деталей, чем о связной совокупности черт характера. Центром сценической системы образа, создаваемого актером, у Мейерхольда оставались не слитые, но со-поставленные амплуа или маска актера и соответствующее обобщение-маска в роли.
Эта структура, связывающая и главные элементы сценического образа, и, на тех же основаниях, их собственные части, которые вступают в отношения не только вместе со своим целым, но и самостоятельно, автономно, — на всем протяжении XX века демонстрировала свою жизненность и продуктивность. Одной простой ссылки на опыт Ю. П. Любимова, отнюдь не канонического мейерхольдовца, может оказаться достаточно.
Мейерхольдом история театральных систем Новейшего времени не закончилась. Но типологически эту историю в пределах первого режиссерского века система Мейерхольда довела до логической полноты и необратимости.
Глава 8.
ТИПОЛОГИЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Способность элементов системы автономно развиваться, делиться на собственные части и самим превращаться таким образом в системы, неуклонно сопровождающий это «деление» процесс интенсификации связей, все более определенное драматически-действенное качество таких связей — надежные показатели эволюции театра: необратимо структурируясь, 245 спектакль становится все более спектаклем. Но такая логика помогает лишь отличить театральное произведение от нетеатрального; здесь уровень «театра вообще». Системы спектакля у Станиславского и Мейерхольда, Вахтангова или Чехова все театральные, но все разные, потому что, во-первых, и актер, и роль, и зритель, и другие элементы, «одинаково» их составляющие, уже на следующем после обобщающего уровне видятся как разные, во-вторых, на разные части по-разному делятся и, в-третьих, входят в связи разного вида. На том этапе развития театра, когда части его системы начинают демонстрировать отчетливую тягу к самостоятельности и к превращению в своего уровня системы, каждый только что родившийся «малый» элемент сразу же начинает проявлять ревнивый интерес к природе частей, возникающих в это же время по соседству. Если в актерской сфере образовалась маска, она «оглядывается» одновременно и на целое, которого стала частью, и на область роли — требуя, чтобы там формировалось нечто однородное или сходное с нею. При этом ни части системы, ни части частей, даже в совокупности, не дают критериев для различения систем. Есть, однако, другая решающая характеристика системы — связи между ее частями.
Сопоставляя структуру прозы, поэзии и драматического действия, С. В. Владимиров предложил соответственно три простые схемы: для поэзии круг, в котором автор, герой и читатель постоянно подменяют друг друга, «в движении стиха то сливаются воедино, то обнаруживают различия и расхождения», треугольник прозы, когда автор и герой «обязательно одновременно и как бы независимо друг от друга появляются перед читателем», и, в драматическом действии, цепь, выстраиваемую от автора, то есть драматурга, актера и режиссера, через героя (персонажа пьесы или сценическую роль) к читателю или зрителю. «Прямое взаимодействие между творцом и воспринимающим исключается, они общаются только через героя»313*, — категорически утверждал Владимиров.
Однако однонаправленная цепь актер — роль — зрители строго описывает лишь один тип театральной связи — тот, который строится в системах, близких Станиславскому. Первотолчком действия в подобной системе не может быть ничто иное, кроме как творческий импульс актера; для него здесь воля к игре есть на самом деле воля к условному перевоплощению в роль, а через нее — к передаче своих живых чувств зрительному залу. Но есть и другие модели. Б. В. Алперс так описывал работу И. В. Ильинского в «Великодушном рогоносце» В. Э. Мейерхольда: 246 патологический ревнивец из фарса «с бледным застывшим лицом и на одной интонации, в однообразной картинной декламаторской манере, с одним и тем же широким жестом руки произносил свои пышные монологи. А над этим Брюно потешался актер, в патетических местах его речей проделывая акробатические трюки, а в моменты его драматических переживаний рыгая и смешно закатывая глаза»314*. Акробатические трюки, рыгания и закатывания глаз были наложены на монотонную патетическую декламацию с помощью параллельного монтажа. Значит, единственным смыслом происходящего было сопоставление «Ильинского» и «Брюно», и при этом сегодня-здесь-сейчас-сравниванием мог заниматься только третий: зритель. Выходит, что театр знает структуру «треугольника».
Как в любой театральной системе, здесь зритель тоже поставлен в ситуацию выбора и на основании этого выбора воздействует на сценический фрагмент действия. Но выбирает он не трактовку роли Брюно. Брюно — очевидная маска, то есть закрепленная «самотождественность», и зритель двадцатого столетия новой эры так же не властен ее переменить, как зритель пятого века до нашей эры. А рядом другая маска — маска Ильинского, на которую воздействовать в ходе спектакля зрительный зал не может.
Итак, в двух классических театральных системах XX века различаются не только составляющие их элементы, но связи и сам тип связей между элементами. С другой стороны, характер элементов напрямую коррелирует с типом структуры. Чем более оформлены в виде маски или родственных ей образований элементы системы спектакля или элементы этих элементов, тем для них естественней и принудительней существование в «треугольнике»; чем более лабильной, индивидуализированной и сиюминутной удается сделать «жизнь человеческого духа» актера, тем прочней и одновременно незаметней та цепь, по которой драгоценный душевный ток течет от артиста через роль в зал.
Это не просто разные связи — тут структуры разного типа. Представления такого рода параллельны известным идеям двух кино, двух литератур и т. п. И есть несколько пар понятий, каждую из которых используют для определения этих «художественных групп крови»: например, поэтическое и прозаическое, синтетическое — аналитическое или, в театроведении, театр жизненных соответствий и условный театр. 247 Первая из упомянутых оппозиций, использованная В. Б. Шкловским для типологизации кинофильмов, по отношению к театру была развернута П. А. Марковым в 1934 году в «Письме о Мейерхольде» и развита в 1970-е годы.
Марков не просто показал, что Художественный театр и театр Мейерхольда «не столь разноценны, сколь разноприродны»; природу театра Мейерхольда он определил так: Мейерхольд — режиссер-поэт. В системе спектакля «мейерхольдовского» типа композиции ассоциативны, монтажная техника пригодна для создания ассоциаций, синтезируемое синтезируется по принципу сходства, смежности или противоположности, а такие средства языка, как метафора и метонимия, не что иное, как переносы значений по сходству или смежности, то есть та же ассоциация.
Точно таким же образом можно описать родство и общую почву композиционных, стилистических и собственно языковых принципов, используемых в спектаклях «Станиславского» типа, как бы по-разному ни называли и их. Таким образом, каждый из «двух театров» опирается, по-видимому, на один из двух способов мышления — причинно-следственный или ассоциативный315*.
Но наряду с этой традицией есть иная, не менее содержательная. Свое представление о типах художественного мышления П. П. Громов наиболее полно развернул в исследованиях стиля Л. Н. Толстого, но и театроведению, в связи с режиссурой того же Мейерхольда, ученый предложил близкую логику. Мельком отметив, что условен «всякий театр, в том числе и театр, избегающий синтетического подхода», Громов настаивал на том, что, хотя сам Мейерхольд в 1900-е годы определял свое направление в искусстве как Условный театр, «гораздо более важной, перспективной с точки зрения будущего движения представляется идея “Театра Синтезов”, противостоящего “Театру Типов”»316*. Решающим типологическим критерием, по мысли ученого, должен стать способ, каким строится образ человека (или той человеческой общности, которая героя заменяет).
Поскольку упомянутые концепции отчетливо разнятся, при желании их можно противопоставить. Но для теории спектакля необходимы 248 обе: они объясняют разные его свойства и качества. Поскольку принцип соединения частей в спектакле прямо восходит к способу художественного мышления, в этой, структурной сфере пара проза — поэзия представляется наиболее емкой.
Глава 9.
СОДЕРЖАНИЕ СПЕКТАКЛЯ
Такие, а не иные образующие части, так и только так между собою соединенные, превращают пестрый конгломерат в произведение театра. Но явлением искусства оно становится лишь в том случае, когда одновременно представляет собой иного рода связанность — особого, художественного содержания с особой формой и специфическим языком. Известная по Белинскому формула «Искусство есть мышление в образах» справедлива, если в образах именно мыслят. В этой связи В. А. Филиппов еще в 1924 году сочувственно процитировал Д. Н. Овсянико-Куликовского: «… у человека всякое выражение психического процесса жестом, словом, звуком, знаком, символом есть, по необходимости, акт мысли. И чем знак сложнее, чем выражение искуснее или искусственнее, тем больше в нем элементов мысли»317*. Но мысли в искусстве особые; не мысли, а, по слову Достоевского, ряды поэтических мыслей318*; потому художественная мысль и не вербализуется в принципе, потому больше чем острота заявление Толстого: чтобы рассказать, о чем «Анна Каренина», надо заново написать ее от начала до конца.
О чем эта мысль в театре? Очевидно, о театральном предмете. Что именно думается спектаклем о предмете, что отличает театральные художественные мысли от других, тоже художественных, но не спектаклем оформленных и не на сценическом языке выговоренных, — на эти вопросы во многом отвечает характер самого предмета. Предмет определяет естественные границы содержания. В одном отношении пределы и, значит, определенность содержаниям в театре дает играние ролей. С той поры, когда театр открыл собственный предмет подражания, 249 ролевое поведение не может быть вычленено ни из какого театрального смысла: подчеркивается это или скрывается, на сцене действуют актеры.
Чем дольше развивалась театральность жизни, тем ясней определялись и другого рода границы театрального содержания. Как человек в жизни, актер действует с ролью и зрителями драматическим образом, то есть порождает и преодолевает противоречия, заложенные в его художественной природе и природе всех его отношений. Значит, для материи спектакля, его действия драматические противоречия не произвольная краска, а атрибут. Для содержания спектакля — то самое, что отличает его от содержаний всех нетеатральных зрелищ и любых нетеатральных игр, здесь его всеобщая специфика. Драматические противоречия в ролевой сфере, по всей видимости, и есть «театральный тип» художественного содержания.
Но противоречия бывают разные, в разных областях предмета открываются и всякий раз по-своему организуются. Среди типов противоречий бесспорный приоритет принадлежит конфликту — механизму, который Белинский назвал сшибкой характеров. Силы, порождающие действие, в действительности могут «сшибаться» между собою, но могут и сопоставляться: как темы фуги, они способны бродить по разным голосам, не меняясь, и одно их упрямое несхождение может быть оформлено в материи могучего драматического действия. Косвенно это подтверждает драма, из которой конфликт перебрался на сцену. Вопрос о том, с кем сшибаются чеховские три сестры, не имеет ответа, потому что не имеет смысла; не сшибка характеров держит «Прометея прикованного» или «В ожидании Годо». Не конфликтом держалось и множество великих спектаклей. Они были буквально сотканы из противоречий, но — по-другому собранных и развернутых. Становится ясно: подобно тому, как общий характер содержания — противоречия — соответствует природе структуры спектакля, два способа формировать эти противоречия, два способа сопрягать между собою силы действия прямо отсылают к структурной оппозиции «проза — поэзия». Содержание спектакля, стало быть, его структуре типологически соответствует.
Тип противоречий не может быть безразличен по отношению к тому, какие силы ввязаны в такого рода действие, и, прежде всего, к той области предмета, откуда эти силы явились в спектакль. Исторически первым предметным полем, которое драматическое искусство (сперва пьеса) освоило, были отношения человека (у греков Героя, а у Чехова и в новой драме, по формуле Мейерхольда, группы лиц) с судьбой. 250 Там коренятся философские противоречия. В эпоху Возрождения решающим источником всего драматического стали отношения между людьми, людьми и средой, обществом — то есть в социальной сфере. В эпоху Классицизма было открыто еще одно богатое противоречиями предметное поле — «внутри» человека, то есть психологическое. В этих секторах жизни коренятся силы, ожидающие, когда и пьесы и спектакли возьмутся им подражать, — люди, судьба, группы лиц, человеческие страсти.
С началом режиссерской эры в театре, похоже, возникло «четвертое поле», готовое воззвать к собственно театральным силам. Это в первую голову актер и роль, актер и зрители, вербальный и невербальный, интонационный и пластический ряды спектакля. Ведь актеры «Принцессы Турандот» Вахтангова и «Великодушного рогоносца» Мейерхольда сами были полноправными действующими лицами.
Последний по историческому времени автор спектакля открыл для театра новые драматические противоречия — между актерами, ролями, зрителями, декорацией, литературным и сценическим текстами и пр. Секторов жизни, частей предмета не прибавилось. Но когда театр на режиссерском витке своего развития стал исследовать противоречия между актерами, ролями, зрителями, пространствами и временами как силами жизни, новые содержания все-таки несомненно возникли и реализовались в полноценном драматическом действии. Роль — не сценический эквивалент персонажа пьесы и не театральное понимание этого персонажа: Гамлет в спектакле Ю. П. Любимова был ролью героя, которому предстояло вправлять суставы вывихнутому веку, для актера, которому его собственный век поднес такую же горькую чашу, как Гамлету.
Все это означает, что содержание спектакля принципиально многомерно и потому может быть описано лишь совокупностью характеристик. Одно и то же содержание, во-первых, тем или иным образом сложено, то есть является либо конфликтом, либо сопоставлением складывающих его сил; во-вторых, целиком или по преимуществу ориентировано на какую-то — психологическую ли, в узком смысле социальную или философскую — область предмета, которому подражает; в-третьих, отличается типом тех сил, которые образуют действие. Важно, Герои это или люди, судьба или общество, но самым острым критерием для этой типологии содержаний спектакля сегодня оказывается вопрос о том, есть ли среди сил действия театральные актеры.
251 Объем характеристик, с помощью которых определяется содержание спектакля, многократно увеличивается, когда наряду с содержанием целого в рассмотрение включаются содержания его частей, сторон и свойств.
С эпохи Возрождения актер стал играть не маску Героя и не абстракцию, а живой человеческий характер. Но человек стал ролью для актера именно в драматическом спектакле. В оперном, а затем в балетном, по мере того, как эти театры самоопределялись как музыкальные, актер как раз уходил от роли человека. Чем тверже, например, в опере на место словесной пьесы, которая и была главным поставщиком ролей человека, становилась музыка, тем ясней актер был принужден роль свою извлекать из содержания музыки. Ядро этого содержания — не человеческие характеры, а человеческие чувства. По-своему содержание роли самоопределялось и в других театрах. Содержание такой части системы, как роль, является не частью содержания, а одной из сторон его объема.
Еще более очевидно обогащается представление о содержании как принципиальном объеме, еще богаче набор типологий, когда в рассмотрение включаются фундаментальные характеристики, связанные на этот раз с другой инвариантной частью системы спектакля, актером: содержание спектакля прямо зависит от того, кто именно — живой человек, кукла или тень — играет роль человека, чувства или вещи.
Очередной уровень сложности связан с внутренними, собственными свойствами каждой из частей и каждого из фрагментов системы спектакля. Прямо актуализируется в содержании сценического действия, например, разница между ролью, в которую актер условно перевоплотился, и ролью, показанной как бы со стороны. Столь же объективно обогащает и индивидуализирует содержание, даже в пределах одного вида театра, тип самой роли: содержания роли-характера и роли-маски отчетливо разнятся. С помощью этой самой логики можно описать и содержание других частей системы спектакля. В самом деле, декорация, натурально воспроизводящая место действия, намекающая на него, его символизирующая или ничего конкретно не изображающая и ни с чем в сюжете не связанная, или в драматическом театре музыка, аккомпанирующая чувствам действующих лиц, и музыка, уподобленная сама действующему лицу, — это именно содержания, и содержания разного типа319*. Система не смешивается с содержанием, но ее части содержательны всегда.
252 Глава 10.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ФОРМА
Понятие о художественной форме сегодня чаще всего растворяется в понятии «текст»320*. Но еще на рубеже 1950 – 1960-х годов М. М. Бахтин обратил внимание на двуликость этого явления: «Два полюса текста. Каждый текст предполагает общепонятную (то есть условную в пределах данного коллектива) систему знаков, язык (хотя бы язык искусства). Если за текстом не стоит язык, то это уже не текст. <…> Но одновременно каждый текст (как высказывание) является чем-то индивидуальным, единственным и неповторимым, и в этом весь смысл его (его замысел, ради чего он создан). Это то в нем, что имеет отношение к истине, правде, добру, красоте, истории. По отношению к этому моменту все повторимое и воспроизводимое оказывается материалом и средством»321*. Текст, по мысли ученого, приходится рассматривать дважды, притом с разных сторон: и как связную совокупность знаков, которым приданы значения, то есть как явление языка, и другую его «ипостась» — ту, что отвечает за смыслы, то есть как явление формы. «Повторимое и воспроизводимое», принадлежащее сфере языка (для нас художественного языка театра), в деле строительства формы является «материалом и средством», но зато единственным средством: не выговоренного смысла нет.
К форме спектакля, таким образом, должны быть отнесены все его стороны и свойства, из которых вычитываются смыслы, — и те, что адресуют к театральному генезису, и те, что связаны со спектаклем как системой и особой структурой, и, наконец, те, что непосредственно материализуют его содержание. Первыми среди атрибутов этой формы оказываются ее игровая и зрелищная стороны. Культура не игра, культура «возникает и развертывается в игре»322*, тонко различал Й. Хейзинга. В театре точно так же: его содержание разыгрывается, то есть существует в форме игры; и разыгрываемая на сцене ролевая игра непременно кажет себя зрителям, то есть содержание спектакля осуществляется, только если становится зрелищем. Форма театральна, если на протяжении 253 всего спектакля соблюдаются, как минимум, два условия, о которых сцена и зал между собой договорились (условились): во-первых, что все происходящее на сцене, как во всякой иной игре, — «понарошку», там играют, но притом, во-вторых, играют для зрителей. Эти договоренности в спектакле оформлены, то есть его создатели специально озабочены тем, чтобы такие странные свойства всегда были. Когда актер перестает играть и предпочитает по-жизненному быть (то есть не притворяться Другим, существовать без сценической роли), нет ничего, в чем бы зритель мог участвовать, он перестает быть нужен. Игровые и зрелищные свойства формы спектакля — действительно ее атрибуты.
Форма апеллирует и к театральному генезису, и, особенно заметно, к системе спектакля и ее частям. Исследуя театральную форму, нельзя абстрагироваться от того, в каком «виде» предстает перед нами актер — в живом плане, в виде куклы или тени. Именно в сфере формы эта сторона содержания получает свое разрешение. Человек в облике человека, в известной мере независимо от того, произносит ли он слова, поет, танцует или мимирует, — не может сыграть то, что может кукла, когда она делает то же самое. Актеру в живом плане принципиально недоступна та мера обобщенности, которая «с порога» дана любой кукле. Стоит опуститься на одну ступень вглубь, и становится не менее ясно, что, например, в самой форме марионетки есть ряд неотчуждаемых философских смыслов: не она движется, ее водит на нитях некто сверху. Здесь форма прямо содержательна. То же касается и самой роли: по-своему оформлена маска, по-своему характер. В одном случае форма указывает на устойчивость содержания, в другом на его текучесть, роль одного типа готова демонстрировать свою конструктивность, другого — «естественность»; при одном варианте смена статики динамикой специально фиксируется, при втором статику выдают за динамику и так далее.
На таком уровне различения за многообразием театральных форм еще не скрыт их общий источник, то, что соединяет между собой, с одной стороны, игру и зрелище и, с другой, игру и зрелище с театром. Это действенность. Согласно Аристотелю, трагический поэт Софокл и комический поэт Аристофан являются драматическими поэтами именно потому, что «оба они <выводят> в подражании лиц действующих и делающих»323*. Через века эту мысль охотно подхватил Гегель: 254 драме, писал он, надлежит, «подобно эпосу, представить созерцанию нечто совершающееся, некое действие»324*, которое, «по существу, основано на действовании, сталкивающемся в коллизии»325*.
Термины «коллизия» и «конфликт» древнегреческой «Поэтике» неведомы. Но тем знаменательней единодушие двух философов. Театра оно тоже и прямо касается. «А так как подражание производится в действии, то по необходимости частью трагедии будет <1> убранство зрелища»326* — Аристотелю такое объяснение кажется вполне достаточным. Для Гегеля актеры уже не часть зрелища, которое, в свою очередь, является частью трагедии, как было у древних. Тем не менее Гегель самую потребность в актерах обосновывает именно тем, что в их действовании действия героев обретают требуемую драмой безусловную и окончательную наглядность. Иными словами, действование есть непосредственный вид, в котором только и может явиться форма.
Но «действование», в первую очередь, есть тип жизненного поведения. Никакого специального пристрастия к искусству, в том числе театральному, такой способ жить не демонстрирует. Сущностной действенность оказывается для перформанса, который «акциональностью» буквально конституируется, или для таких культурных форм, как религиозная мистерия. В поисках театральной действенности не удается миновать природу театрального содержания: оно оборачивается действенностью, по-видимому, лишь «в конечном счете».
Даже действие не прерогатива искусства, а в его пределах также не может быть присвоено искусствами драматическими. Аристотель констатировал: «… что есть в эпопее, то <все> есть и в трагедии, но что есть в трагедии, то не все есть в эпопее»327*. Однако, если у трагедии и есть преимущества, они вовсе не в какой-то особой значимости действия. Напротив, подражание действию как раз и есть то, что роднит между собой эпос и трагедию. Вопрос, значит, в том, каково именно это действие в каждом случае. По мнению Аристотеля, в обоих случаях лица выводятся как действующие и деятельные, только эпический сочинитель временами ведет о них повествование «со стороны». Главный драматический нерв не в характерах, а в составе событий, так что именно сказание и есть подражание действию.
255 Гегель видит больше различий. Пренебрегая способом изложения, он обращается прямо к содержанию: драма должна «удалить все внешнее со всего того, что происходит, и на его место в качестве причины и действенного основания поставить самосознательного и деятельного индивида»328*. В результате, продолжает Гегель, в драме «происходящее является проистекающим не из внешних обстоятельств, а из внутренней воли и характера, получая драматическое значение только в соотнесении с субъективными целями и страстями»329*.
Для старшего философа и в эпосе и в драме «характер» непременный и активный участник действия, но не его причина. Он драматичен не априори, он становится таким, когда «попадает» в особым образом составленные события. В трагедии «не для того ведется действие, чтобы подражать характерам, — пишет он, — а, <наоборот>, характеры затрагиваются <лишь> через посредство действий»330*. Для Гегеля во многом даже в эпопее, а уж в драме безусловно и всегда всякий характер выбирает для своей нетерпеливой воли такую цель, которая самою своей индивидуальностью сталкивает его с теми, кто избрал тоже индивидуальные, а значит, другие цели. Такие цели по определению не могут мирно сосуществовать, конфликты между волями неизбежны.
Форма, снова и как всегда, содержательна: действие драмы есть инобытие ее конфликта: форма — это совокупность действований, каждое из которых реализует сталкивающиеся воления.
Сосредоточенность школы Станиславского на сквозном и контрсквозном действии законна и неизбежна: если содержанием пьесы, а вслед за нею и спектакля является конфликт, то действие и не может быть ничем иным, кроме как совокупностью локальных действенных (точнее, действовательных) импульсов. Только там, где содержанием спектакля становится «сшибка характеров», количество элементарных действований переходит в качество действия.
Между тем задолго до нашего времени высоко ценили художественную значимость других видов действия. Тот же Аристотель одной из трех частей трагического сказания называет страсть. А страсть (pathos) в античной эстетике трактовалась как душевное переживание, связанное со страданием. Плач Электры в трагедии Софокла — чистая рефлексия, героиня «ничего не делает»: отомстить матери за смерть 256 отца она не может, а Орест, который единственный мог бы покарать Клитемнестру, сгинул — и Электра скорбит. Такая индивидуальная рефлексия и для многих позднейших теоретиков драмы (например, для Шиллера) — полноценное драматическое действие.
И все же подлинная опасность для гегелевско-станиславской идеи возникает лишь тогда, когда выясняется, что действие драмы и действие спектакля вообще не сводится к совокупности каких бы то ни было его индивидуальных составляющих.
Аристотель так изложил перипетию софокловского «Эдипа-царя»: вестник, пришедший объявить Эдипу, кто он был, «и тем обрадовать его и избавить от страха перед матерью, <на самом деле> достигает <лишь> обратного»331*. С этим явлением вестника Аристотель связывает и вторую из трех главных частей трагической фабулы — узнавание: Эдип узнает, что бежал не от родных, а от приемных отца и матери. Ничего сравнимого по действенной силе и значимости в трагедии, убежден Стагирит, не бывает и быть не может. Но ведь эти решающие события совершаются не деятельным героем — это «с ним делается» главное в действии.
В случае, когда содержание развертывается не как сшибка характеров, а как сопоставление разнообразных действующих сил, свести драматическое действие к акциям и реакциям вообще невозможно. Индивидуальные воли героев «Слепых» Метерлинка, «Трех сестер» Чехова или «В ожидании Годо» Беккета не сталкиваются между собой, как не борется с принцем Калафом актер Завадский и с принцем Гамлетом актер Высоцкий.
Общим для всех вариантов оказывается лишь одно. Спектакль существует в форме неостановимых и необратимых драматических перемен в отношениях между всем и всем, что в нем есть: между актерами и ролями, сценой и залом, временем и пространством и т. д. Такие представления, как бы сами по себе ни были общи, гораздо конкретней, специфичней, ближе к пониманию непосредственной формы спектакля, чем те, что ограничиваются, с одной стороны, уровнем зрелищно-игрового и, с другой стороны, уровнем простой деятельности. К действию относится все то, после чего эти отношения содержательно и необратимо меняются. По логике драматического — и только драматического — действия Орест не сможет ни найтись, ни исполнить свой сыновний долг, пока не завершится плач Электры.
257 Драматическое действие, эта совокупность переходов-перемен, обусловленных противоречивостью самовозрождающейся коллизии и по той же причине порождающих новые противоречия, и есть форма спектакля. Оно не вещество, не «материал и средство», а именно материя (сейчас есть попытки предпочесть другое понятие: энергия) спектакля. В спектакле нет ничего, что бы не воз-действовало на кого-то или что-то: воздействует персонаж, воздействует актер, воздействует зритель, не фигурально, а буквально воздействуют декорация и свет, шум и музыка. Для театрального действия важно еще одно условие: на репетиции все связи предстоящего спектакля могут быть заготовлены как драматические. Но драматическим действием все это становится только в движении спектакля, только сегодня-здесь-сейчас ток действия и включается.
Зрелищно-игровое драматическое действие спектакля реализуется в его времени-пространстве. Время и пространство не просто нейтральное поле для взаимодействия, допустим, актеров с ролями — в театре самое время и самое пространство драматически действенны: они входят в отношения между собой, и эти отношения понуждают их «искривляться» и таким же образом формировать отношения между актерами, ролями, публикой и т. д. Драматическое действие и в этом отношении есть не только структурный или содержательный, но и формальный принцип.
С другой стороны, может быть, среди всех искусств только в театре и время и пространство существуют в своем физическом, грубо ощутимом виде. Всегда есть верх и низ, прямые линии и зигзаги, близко и далеко, коротко и длинно, медленно и быстро, долго и недолго, стаккато и легато, синкопированно и мерно. Какие-то из этих пар можно «прикрепить» ко времени, а какие-то к пространству, но даже и на уровне формулирования они сближаются: «длинно — коротко» больше чем на словах близки «долгому и краткому». Иначе говоря, единство пространства и времени для театра не трюизм: пространственное движение вверх или вниз в театре нельзя воспринять, минуя время этого движения, и наоборот.
Индивидуальные комбинации движения в разных пространствах и разных временах и есть то единственное, из чего является смысл. Чем их набор полней и богаче, чем больше в подобную комбинацию, помимо первичных, элементарных, включены такие параметры, которые ни при каких обстоятельствах нельзя понять как исключительно временные или исключительно пространственные (они, как правило, выглядят как надстроенные над элементарными и чаще всего вкусово окрашены), тем 258 надежней дорога к следующим уровням различения спектакля: всякий вид или жанр или иной тип спектакля таким набором формальных характеристик описывается внятно и объективно. Так, если ярко, грубо, резко и кратко — это, скорее всего, фарс. И с другой стороны — вероятней всего, не марионетка.
Используемая в спектакле глубина сцены, длина эпизода, рост и тембр голоса актера — такая же реальность формы, как, казалось бы, абстрактные пространство и время действия. Причем ни одного из полюсов времени и пространства — ни обобщенно-философского332*, ни физического — миновать, по всей видимости, нельзя.
Чтобы понять спектакль, нет другого выхода, кроме как обратиться к «набору» (или комбинации) его формальных характеристик. Ни структуру ни содержание непосредственно в тексте спектакля прочесть невозможно. Не вычитываются они и из самих по себе «выразительных средств», из языка как такового. Только когда знаки каким-то особенным образом повернуты и соединены один с другим, то есть когда есть форма, есть и смысл.
Глава 11.
АТМОСФЕРА СПЕКТАКЛЯ
Для описания формы спектакля есть разные пути. Один из них — подход к форме как материи спектакля. Его сегодня по преимуществу и используют. Но есть другой. Театр процессуален буквально, его произведение можно и должно понимать как некое «истечение» энергии. Такой подход особенно актуален потому, что далеко не все в театре «материально фиксируемо». Существуют и невидимые фигуры театральной речи. Так, невидим зрителю психологический жест актера, о котором писал М. А. Чехов333*. А. Ф. Лосев в одной из ранних работ писал о ритме как о ритмической фигуре334* — и очевидно, далеко не все составляющие ритма на сцене могут быть зафиксированы зрением или слухом. Такой невидимой фигурой речи спектакля становится и его атмосфера.
259 Эволюция представлений об атмосфере спектакля связана как с развитием театра XX века, так и с эволюцией самой науки о театре. Об атмосфере впервые заговорили в начале прошлого столетия как об особом, новом качестве спектаклей Московского Художественного театра. Поначалу само слово «атмосфера» употребляли через запятую с «настроением», но очень скоро «атмосфера» стала самостоятельной характеристикой спектакля. О театральной атмосфере в разные годы говорили и писали К. С. Станиславский, Вл. И. Немирович-Данченко, Е. Б. Вахтангов, М. А. Чехов, А. Д. Попов. Постепенно проблема художественной атмосферы вошла и в проблематику театроведения335*.
В последние десятилетия круг вопросов, связанных с атмосферой спектакля, стремительно перемещается с периферии в центр внимания театроведения и театральной критики. При этом само понятие «атмосфера» все чаще объединяется с другим, более общим — «энергия», что обусловлено некоторыми тенденциями развития театра в целом на протяжении более чем столетия. Режиссерский театр давно и всерьез работает с разноуровневыми энергиями актера и спектакля, о чем так или иначе высказывались режиссеры — основатели разных театральных школ и направлений, от К. С. Станиславского, М. А. Чехова, В. Э. Мейерхольда, А. Арто — до Е. Гротовского и П. Брука, М. А. Захарова, Л. А. Додина и А. А. Васильева.
Употребление в одном ряду понятий «энергия» и «атмосфера» снимает с последнего оттенок метафоры: театроведы сегодня признают энергетическую природу театрального искусства. Сохраняется пока некоторый разрыв между огромным пластом эмпирически описываемых явлений (разговоры об «атмосфере», «ауре», «излучении», «биополе» актера и спектакля успели уже войти в моду) и собственно теорией, поэтому изучение энергетической природы театра актуально сегодня для театроведческой науки.
Соотнесем понятия «энергия» и «атмосфера».
Понятие «энергия» (от греческого energeia — «действие», «деятельность») пришло в физику Нового времени из греческой философии, где оно имело одновременно онтологическое и эстетическое значение. 260 У Аристотеля, которому принадлежит наиболее полное учение об энергии, этим понятием определялось действие или движение осмысленное, имеющее в самом себе свою цель и завершение: аристотелевская «энергия» была энергией выражения, смысла336*. Рассматривая учение Аристотеля о трагедии в контексте всей философско-эстетической системы древнегреческого философа, А. Ф. Лосев ставит знак равенства между аристотелевскими категориями «действие» и «энергия»337*.
Аристотелевское понимание действия как энергии постепенно возрождается в современной теории драмы и театра338*. «Драматическое действие — сложный… процесс излучения эмоционально-духовно-волевой энергии героями в проблемных ситуациях, порождаемых их взаимно-действием и взаимнозависимостью»339*, — пишет, например, Б. О. Костелянец.
Но для понимания действия явно недостаточно универсального понятия «энергия». Об энергетическом потоке можно сказать: сильный, слабый и т. п. Характеристики атмосферы намного шире и разнообразнее, она окрашивает действие каждого конкретного спектакля неповторимым многообразием оттенков душевного спектра.
Атмосфера, как и энергия, — феномен не только театра, искусства. Это явление самой жизни. Согласно словарю В. И. Даля, атмосфера — «круг или пространство испарения или действия какого-либо тела, вещества»340*. В слове «атмосфера» появляется особый оттенок значения — крут действия, то есть само энергетическое поле, аура.
Атмосфера рождается в деятельности человека, сопровождая и окружая его, — и она же, атмосфера, хранит энергетический след человеческой жизни и деятельности на протяжении какого-то, иногда довольно долгого, времени. Вещи и предметы хранят атмосферу эпохи, стены зданий хранят атмосферу той жизни, которая в них протекала, — так что атмосфера театрального здания, например, способна препятствовать или 261 помогать рождению спектакля341*. Атмосфера может быть в той или иной степени динамична или устойчива — качество атмосферы, сама сила и интенсивность энергетического излучения, ее характеризующая, очевидно, в решающей степени зависит от интенсивности духовной и душевной жизни человека, который эту атмосферу создает. Давно известно, например, что по интенсивности энергетического излучения (биополя) эксперты определяют подлинность шедевров мировой живописи.
Но если и атмосфера театрального здания, и атмосфера спектакля — явления энергетической природы, то не размывает ли понятие атмосферы представление о границах спектакля как произведения театрального искусства? Очевидно, нет. Любое художественное произведение рождается в энергетически открытых границах жизненного события и тем не менее оказывается «отграничено» от нехудожественной реальности, как бы ни были проницаемы сами границы. Это относится и к спектаклю. Существование таких границ — и значит, феномена художественной атмосферы спектакля — подтверждает уже простой зрительский опыт: любой спектакль играют живые актеры, но далеко не каждый становится живым, «атмосферным» явлением.
В разговоре об атмосфере спектакля особое значение имеют идеи М. А. Чехова. По сравнению с теоретическим наследием других актеров и режиссеров, которые говорили и писали об атмосфере, чеховские статьи 1930-х годов и книга «О технике актера» (1946) содержат наиболее глубокую и целостную эстетическую концепцию театральной атмосферы.
«Спектакль есть живое, самостоятельное существо, подобное человеку. Как человек имеет дух, душу и тело, так имеет их и живой действенный спектакль. Дух спектакля — это идея, заложенная в нем. <…> Душа спектакля… это та атмосфера, в которой протекает и которую излучает спектакль. Тело спектакля — это все, что мы видим и слышим в нем»342*. Атмосфера «не есть состояние, но действие, процесс. Внутренне она живет и движется непрестанно»343*. Обратим внимание: чеховское определение атмосферы объединяет два упомянутых выше аспекта: атмосфера — действие, процесс, энергия, которую излучает спектакль, 262 и в то же время поле такого действия, аура, в которой спектакль протекает. Чехов впервые раскрывает органическую, психоэнергетическую природу этой ауры: атмосфера — душа спектакля. Вот почему она «имеет известную самостоятельность по отношению к вызвавшим ее причинам»344*. «Ни идея (дух), ни внешняя форма (тело), — пишет Чехов, — не могут дать жизнь спектаклю»345*, «спектакль, лишенный атмосферы, неизбежно носит на себе отпечаток механистичности»346*.
Атмосферы отдельных актерских созданий, по Чехову, — одна из составляющих общей атмосферы спектакля347*. Это значит, что чеховское понятие души-атмосферы применимо в разговоре не только о спектакле в целом, но и о том сценическом образе, который рождается в творчестве актера. Здесь у Чехова появляется и еще одно понятие — «душа образа». «Как живописец, например, находится вне материала, которым он пользуется для воплощения своих образов, так и вы, как актер, находитесь в известном смысле вне вашего тела и вне творческих эмоций, когда вы играете, охваченный вдохновением. Вы находитесь над самим собой. Ваше высшее “я” руководит живым материалом. <…> В минуты творческого вдохновения оно становится вашим вторым сознанием наряду с обыденным, повседневным. <…> В минуты вдохновения вы получаете как дар ваши забытые чувства в новом, преображенном виде. Так возникает ваше третье сознание — душа сценического образа»348*. Вполне очевидно, что два чеховских понятия в его размышлениях о творчестве артиста — «душа образа» и «душа-атмосфера» — близки и взаимно дополняют друг друга. Как «душа образа», «душа-атмосфера» актерского создания, воплощаясь в творчестве артиста, и неотделима, и относительно самостоятельна, независима от него — так и душа образа, душа-атмосфера спектакля, рождаясь в творчестве каждого из его авторов, неотделима от каждого из них и в то же время живет и развивается как относительно независимая психоэнергетическая структура.
Эстетическая концепция М. А. Чехова воспринимается сегодня в контексте старой традиции представлений о произведении искусства как о живом организме — к которой возвращается и которую активно 263 переосмысляет сегодняшняя наука349*. Методология современного искусствознания позволяет ввести в театроведческий обиход чеховские понятия души образа и атмосферы как души спектакля — в их не метафорическом, но именно научном значении. Такое определение атмосферы спектакля в контексте современных философско-эстетических представлений позволяет увидеть связь явления и сущности: «круг действия» невозможен без самого действующего, неотделим — и одновременно относительно независим от него.
Современные эстетика и искусствознание оперируют понятием художественного образа как процесса и как организма350*. Художественный образ как процесс и есть энергетический процесс преображения, в котором художественная идея воплощается в произведении, — и это вполне согласуется с чеховским описанием творчества артиста. Важно отметить, что как раз в понятии души образа, души-атмосферы фиксируется одновременно целостность (телесность) и процессуальность сценического образа351*. Все это, очевидно, относится и к спектаклю в целом. Но театральный спектакль — произведение разных авторов. Как при этом рождается атмосфера целого?
Вступая сегодня в диалог с произведением литературы, изобразительного искусства или даже кино, мы чаще всего имеем дело с атмосферой как с упомянутым выше энергетическим следом, который остается 264 после завершения творчества автора (если, конечно, поэт не читает свои стихи со сцены, а художник не пишет картину в присутствии публики). Такой феномен атмосферы как «следа» хорошо знаком и в театре. С ним сталкиваются все участники спектакля, когда вступают в диалог с пьесой, классической или современной. Далее атмосфера — как след не завершенного еще творческого процесса — существует уже в период подготовки спектакля. «Тянется» от репетиции к репетиции, потом — к премьере и дальше (заново родившись в контакте с атмосферой зрительного зала) — от представления к представлению. «Оседает» на декорациях, предметах реквизита, костюмах. Остается как след в душах самих актеров. Новая сегодняшняя атмосфера спектакля так или иначе интерпретирует этот след.
И все же именно на самом спектакле, когда его играют на публике, в наибольшей степени проявляется специфика театра и театральной атмосферы: она рождается непосредственно в действии спектакля и — в творчестве многих авторов, актеров и зрителей.
Атмосфера как результат действия разных авторов — и, соответственно, столкновения разных энергетических потоков — может вести себя в спектакле по-разному. Так, С. Т. Вайман, для которого художественная атмосфера — предмет пристального внимания и анализа, пишет не просто об отдаче и взаимообмене энергии — со сцены в зал и из зала на сцену, — но о синтезе атмосферы публики и атмосферы сцены «в их “вместе”: двое, биологически перемноженные в третьем»352*. О взаимноусилении атмосфер в процессе взаимодействия сцены и зала писал и М. А. Чехов: «Атмосфера может объединять находящиеся в ее сфере сознания. <…> Атмосфера, излучающаяся со сцены в зрительный зал, объединяет зрителей между собой и зрительный зал с актерами. <…> Зрительный зал не только воспринимает атмосферу спектакля — он усиливает ее и посылает обратно на сцену, чем в свою очередь усиливается атмосфера спектакля»353*.
Само по себе прирастание энергии в процессе творчества может быть характерно не только для театра, но и для любого из искусств. Тем не менее одновременное — здесь и сейчас, на спектакле — творчество многих людей, актеров и зрителей, способно, оказывается, придать этому явлению особое качество: оно многократно усиливает интенсивность энергетических процессов. Этот феномен, знакомый каждому актеру 265 и зрителю на собственном опыте, действительно можно считать спецификой театра — и потому театральное искусство не без основания называют самым атмосферным среди других искусств.
Но, с другой стороны, художественная атмосфера — не необходимый итог одновременного творчества многих авторов: она, как известно, может и не возникнуть в зрительном зале. Именно о таком спектакле Чехов писал как о психологически пустом пространстве354*. Больше того, результатом одновременного творчества разных людей на спектакле может оказаться не только отсутствие атмосферы, но и «энергетические дыры», выкачивающие силы у актеров и зрителей, о чем писала, например, М. Ю. Дмитревская355*. И это, очевидно, — обратная сторона все той же специфики театра. Характер энергетических процессов на спектакле может, таким образом, послужить и одним из важнейших критериев жизненности, органичности, состоятельности, а значит, и художественного качества спектакля как произведения искусства.
Все это лишний раз подтверждает необходимость говорить о собственно художественной специфике атмосферы спектакля. Не случайно М. А. Чехов, который в своих размышлениях об атмосфере сумел коснуться самых разных аспектов интересующей его проблемы, в известном письме Литовской студии (1933) затронул и этот вопрос: «В вашем спектакле “Любовью не шутят” не было или почти не было сценической атмосферы. А вместе с тем было впечатление ансамбля! Почему? потому, что вас объединяла ваша (столь ценная) чисто человеческая атмосфера. <…> И эта ваша жизненная, не имеющая к пьесе отношения атмосфера создала ансамбль на сцене. Теперь подумайте: во сколько же раз сильнее был бы ваш ансамбль, если бы вы имели время позаботиться еще и об атмосфере уже непосредственно для спектакля!»356* Говоря о сценической атмосфере, Чехов, судя по всему, и имел в виду художественную атмосферу спектакля.
Чтобы охарактеризовать собственно художественные качества театральной атмосферы, обратимся вновь к той специфической структуре образа, которая присуща только драме и театру, то есть к действию. О единстве и целостности спектакля как произведения театрального искусства современное театроведение предпочитает говорить только 266 в связи с режиссерским театром. Безусловно, однако, что и в прежние времена театральный спектакль обладал определенным единством. С. В. Владимиров показал, как менялось это единство на протяжении XIX века — но только в режиссерском театре оно стало целостностью, пропущенной через индивидуальное творческое сознание357*. Появление автора-режиссера было качественно новым этапом и для актерского искусства: изменилось его место в том действии, которое происходит уже без режиссера, вместе с публикой. С. В. Владимиров определяет это так: «Возникает ансамблевое единство, в котором каждый из актеров представляет свою режиссерскую по уровню обобщения концепцию драмы»358*. Иначе говоря, с появлением режиссуры не только сам режиссер, но и актер становится автором спектакля как целого — то есть ролью для актера теперь становится спектакль в целом, развернутый от его лица через его героя.
Рождение художественной целостности спектакля с его атмосферой в совместном творчестве разных авторов (каждый из которых для другого — и партнер, и зритель) начинается уже на репетициях. В этот период первоначальный режиссерский замысел интерпретируется в процессе создания актерского образа, творчество актера в свою очередь интерпретируется режиссером в развитии его замысла. Образ-действие каждого из актеров возникает в сознании режиссера как спектакль, развернутый «от лица» этого актера. И актер в работе с режиссером интерпретирует режиссерское целое, развернутое от своего лица. Так в совместном творчестве актера и режиссера развивается непрерывный процесс взаимоинтерпретации образа спектакля как целого.
Та же модель действует и в творчестве сценографа, художника по костюмам, композитора и так далее. В ходе подготовки спектакля все его авторы взаимодействуют с режиссером — и значит, каждый из них интерпретирует тот образ целого, которым мыслит режиссер как автор спектакля. И так до премьеры, в процессе подготовки спектакля каждый из его авторов творит образ спектакля как целого и — соответственно — атмосферу целого.
М. А. Чехов в уже упомянутом письме Литовской студии выделил в партитуре атмосфер «три слоя, в которых, собственно, и проявляется вся душевная гамма спектакля:
267 1. Основная атмосфера всего спектакля. <…>
2. Атмосфера отдельных сцен. <…>
3. Атмосфера отдельных действующих лиц. <…>
Все три слоя атмосфер в течение репетиций сольются в одно гармоничное целое сами собой. <…> Конечно, отдельные атмосферы несколько изменятся от этого, они окрасятся несколько иначе, чем первоначально, но… это уж их дело!»359*
Слияние разных атмосфер в одно гармоничное целое у Чехова происходит свободно, по закону рождения нового живого организма. Понять, как это происходит во взаимодействии, взаимоинтерпретации разных авторов, помогает открытый тем же Чеховым закон борьбы атмосфер.
«Разнородные или противоположные атмосферы, — пишет Чехов, — встречаясь друг с другом, вступают в борьбу между собой. Каждая из них стремится подчинить себе другую. <…> Однородные или одинаковые атмосферы сливаются друг с другом и усиливаются»360*. «Две различные атмосферы не могут существовать одновременно. Одна (сильнейшая) побеждает или видоизменяет другую. Представьте себе старинный заброшенный замок, где время остановилось много веков назад и хранит невидимо былые деяния, думы и жизнь своих забытых обитателей. Атмосфера тайны и покоя царит в залах, коридорах, подвалах и башнях. В замок входит группа людей. Извне они принесли с собой шумную, веселую, легкомысленную атмосферу. С ней тотчас же вступает в борьбу атмосфера замка и либо побеждает ее, либо исчезает сама. Группа вошедших людей может принять участие в этой борьбе атмосфер. Своим настроением и поведением они могут усилить одну и ослабить другую, но удержать их обе одновременно они не могут»361*.
Чеховский пример интересен: на нем можно рассмотреть несколько вариантов взаимодействия двух атмосфер. Допустим, в борьбе атмосферы замка с привнесенной туристами атмосферой побеждает первая. Это могут быть разные победы. Возможно, попав в старинный замок, его гости не сразу, но сумеют проникнуться самим духом истории. Их шумная, легкомысленная атмосфера в стенах замка изменится и постепенно окажется — по Чехову — однородна атмосфере замка. Сегодняшние гости тем самым продлят жизнь этой прежней атмосфере, изменив 268 и усилив ее новыми импульсами, — и сами уйдут обогащенные полученным опытом. Здесь, как видим, имели место и борьба, и слияние, взаимноусиление атмосфер.
Но вероятен и другой вариант. Предположим, случайные гости, попав в замок, так и не нашли с его атмосферой «общего языка» — и тогда атмосфера замка, победив в борьбе с чужой атмосферой, очевидно, окажется все же ослаблена в этой борьбе. А если случайные туристы будут посещать замок слишком часто, то его атмосфера, даже побеждая на протяжении какого-то времени инородные веяния, постепенно может слишком видоизмениться в борьбе с ними и в конце концов оказаться побежденной, умереть.
Тот же закон борьбы атмосфер действует, видимо, и в театре, в диа(поли)логе разных авторов спектакля, то есть атмосфер, которые рождаются в творчестве каждого из этих авторов. Вероятно, в их сотворчестве должны иметь место одновременно и борьба разнородных атмосфер, и слияние и взаимноусиление однородных — и именно это последнее является условием рождения целого. В самом деле, чтобы в диалоге родилось целое, необходимо, чтобы разные авторы спектакля были настроены друг на друга, раскрывались навстречу друг другу. (Этому в значительной мере и способствует появление фигуры режиссера.)
Все сказанное в равной степени должно относиться и к процессу репетиций, и ко второму этапу жизни спектакля, когда его играют на публике: диа(поли)логовая структура театрального образа в том и другом случае одна и та же. Уже на репетиции может произойти «слияние душ», преумножение атмосфер, творимых разными авторами спектакля, рождение атмосферы целого. Допустим и другой вариант: упомянутого слияния душ не происходит. Это значит, что в творчестве разных авторов рождаются разного рода атмосферы, которые вступают в борьбу — борьбу разных художественных законов в спектакле: каждый творит по-своему, не возникает настроенности друг на друга. Энергетические, действенные импульсы разных авторов не пересекаются, оказываются разнонаправлены, все участники действия «тянут» спектакль в разные стороны, как персонажи басни Крылова, — и действие стоит на месте. В таком спектакле существует, наверное, некая последовательность внешнего действия (условно говоря, реплика следует за репликой, мизансцена за мизансценой и т. п.) — но эта последовательность не становится преемственностью в развитии, которая невозможна без целостности энергетической структуры. Здесь, вероятно, могут 269 сталкиваться разные малоустойчивые атмосферы, в борьбе которых в какие-то моменты побеждает та или другая, — но главным образом они взаимно ослабляют друг друга, и ни одна из них не становится атмосферой целого. Отсюда и «энергетические дыры», «выкачивающие» энергию из каждого участника такого спектакля, будь то актер или зритель. Случаи, когда один хороший актер способен сыграть спектакль за всех и вопреки всем, довольно редки. Даже поддержанный частью зрителей, он играет значительно слабее своих возможностей — растрачиваясь, теряя энергию в бесплодной борьбе с партнерами.
Но вернемся к первому, лучшему варианту. Рассмотрим, как происходит рождение атмосферы целого на главном этапе жизни спектакля, когда его играют.
Если в процессе репетиций творчество целого разными авторами в той или иной степени разорвано во времени и логика взаимодействия, взаимоинтерпретации разных энергетических структур прослеживается более наглядно — то на втором этапе жизни спектакля, когда в ограниченном пространстве-времени его одновременно творят разные авторы, актеры и зрители, действие тех же законов приобретает более сложный характер: одновременное действие разных авторов спектакля на самом деле оказывается не одновременным. Ведь даже для самой элементарной интерпретации создаваемого кем-то из актеров смыслового поля его партнеру и зрителям необходим какой-то, пусть совсем короткий, отрезок времени, причем у каждого из партнеров и зрителей эти доли секунды скорее всего тоже разные. Действенные акции и реакции разных авторов в спектакле — при их одновременном участии в действии — не совпадают во времени-пространстве. Это, судя по всему, и делает возможным развитие действия как диа(поли)логового типа образных отношений. Авторство разных актеров и зрителей в спектакле оказывается на самом деле авторством переходящим.
Представить картину такого переходящего авторства помогает известный образ «блуждающего центра» (или «блуждающей точки»), возникший когда-то у П. Брука. «Спектакль — это концентрированное и стереоскопическое отражение реальности, то есть происходящее на сцене событие зрители видят с разных точек зрения»362*. «… Одна и та же тема более интересно развивается в одном месте (сцены. — И. Б.) и менее интересно в другом. И это место наиболее интересного развития 270 темы никогда не бывает статичным, оно все время перемещается». Брук готов здесь уподобить спектакль футбольному матчу: «Хорошая футбольная команда отдает себе отчет в том, что в центре футбольных событий всегда мяч, а он в непрерывном движении. Если продолжить эту аналогию: игроки футбольной команды тоже постоянно в движении, каждый из них видит и знает, что происходит на поле, но при этом не стремится обязательно туда, где мяч, он должен уметь играть и без мяча. И ни один футболист не выключается из игры, если он не владеет мячом»363*.
Можно представить другую, известную по многим театральным тренингам игру с тем же мячом: мяч кидают высоко вверх, выкрикивая имя партнера, поймавший вызывает следующего и т. д. Актеры на сцене, а зрители в зале «бросают» друг другу реплики, взгляды, паузы, вообще импульсы, душевные движения, направления воли. «Мяч» (то есть все вышеперечисленное) летит сначала вверх, а не непосредственно от автора к автору, потому что происходит, не забудем, действие-преображение каждого из них; «мяч» отклоняется, потому что летит в атмосфере целого и «через» нее, сливаясь с нею и преумножая ее потенциал собственным импульсом.
Еще лучше на месте мяча представить облако, которое в каждую следующую секунду меняет форму и цветовой спектр. Так ежесекундно выстраивается, структурируется в спектакле энергетическая, атмосферная фигура, невидимая фигура речи каждого из актеров и спектакля в целом.
Итак, борьба и слияние атмосфер в спектакле — если он живет по законам целого — это своего рода пере/пре/умножение разных атмосфер в одной. В каждый момент времени действия — и на всем его протяжении — у спектакля именно одна атмосфера, которая рождается и живет, меняясь в каждое следующее мгновение, в диа(поли)логе разных авторов, разных энергетических структур. Атмосфера одна — но меняется ее автор и, соответственно, ее «центр». Очевидно, можно — с учетом действия всех авторов спектакля на сцене и в зале — предусмотреть все возможные варианты такого переумножения разных атмосфер в одной. Но нельзя предусмотреть, какой именно «центр» вспыхнет в следующий момент времени в спектакле, и нарисовать траекторию движения этого «центра».
Таким образом, через атмосферу целого, в диалоге с ее энергетическим центром в каждый момент времени строится процесс преображения 271 большинства авторов спектакля. Любой автор действует в диалоге с наиболее энергетически сильным в этот момент времени авторским полюсом спектакля, то есть через центр спектакля как целого. Так действуют актеры, даже и не участвуя непосредственно в том наиболее важном, что происходит в этот момент на сцене, но внутренне это важное «видя» и «слыша». Так действуют и зрители: взгляды и устремления большинства из них в каждое мгновение времени направлены к этому актеру, этой, наиболее актуальной сейчас точке сценического пространства — и их устремление помогает всем остальным актерам настроить свое внутреннее зрение и слух на то самое главное, что происходит здесь и сейчас в спектакле.
В общей атмосфере спектакля сталкиваются, безусловно, и атмосферы сцены и зала в целом: два эти сильные энергетические потока, о борьбе которых чаще всего и пишут сегодня как об энергетическом процессе в спектакле. Но, как теперь понятно, в спектакле, который живет как художественная целостность, эти потоки «схлестываются» не непосредственно, «по горизонтали» — они так же взаимодействуют через единый центр, который в каждый момент времени один. Через этот центр взаимодействуют зал и сцена в целом — и каждый автор спектакля с другим автором.
Картина атмосферы как психоэнергетической фигуры речи спектакля, которая ежесекундно выстраивается от лица кого-то из его авторов, наглядно показывает, что при безусловном структурном равенстве разных авторов (будь то актер, исполняющий главную роль, статист в массовке или зритель в партере) энергетическое (а значит, и смысловое, художественное) значение каждого из них для спектакля в целом оказывается неравноценным. Каждый автор спектакля остается его автором на всем протяжении действия. В любом случае действие обновляется, растет. Но один автор вносит в него один-два еле уловимых оттенка, другой же переструктурирует его коренным образом. Автором спектакля в большей степени становится тот, чье творческое сознание энергетически (смыслово) выражает себя наиболее интенсивно.
Так, очевидно, не будет натяжкой говорить о возможности преображения не только актера, но и зрителя как автора спектакля в целом. И все же актер, владеющий определенным художественным методом, имеет явное преимущество перед зрителем как автором часто случайным, неподготовленным, менее сконцентрированным. Это объясняет, почему на хорошем спектакле сцена «ведет» зал: при структурном равенстве актера и зрителя сцена оказывается ведущей, когда там идет более интенсивный энергетический процесс. И — с другой стороны — 272 почему разрушительные (рассеивающие, нехудожественные) энергетические потоки в зале оказываются сильнее сцены на плохом спектакле.
Известна точка зрения А. А. Васильева: спектакль начинает умирать уже на премьере. Можно найти примеры в пользу противоположной концепции (скажем, «Доходное место» Мейерхольда зажило интенсивней, о чем писал К. Л. Рудницкий). Но в одном Васильев безусловно прав: как произведение режиссера спектакль действительно «умирает» на премьере, когда рождается другой спектакль, авторы которого — актеры и зрители. (Вспомним здесь известное высказывание Г. А. Товстоногова: концепция спектакля находится в зрительном зале.) Тем не менее след атмосферы, которая при участии режиссера родилась на репетициях, в той или иной степени интенсивно продолжает жить в спектакле. Энергетическое и художественное значение этого следа — в случае, когда речь идет действительно о режиссере-авторе, обладающем собственным методом и стилем, — может быть столь велико, что формулировку «спектакль Товстоногова (Эфроса, Додина и т. д.)» — вряд ли нужно подвергать сомнению.
Итак, в спектакле, если он рождается и живет как художественный организм, именно благодаря атмосфере возникает не только последовательность, но и преемственность наиболее активных энергетических импульсов (акций-реакций) разных авторов, которая и позволяет действию развиваться как целому во времени-пространстве. Картина рождения и жизни художественной атмосферы наглядно подтверждает возможность единого художественного закона в спектакле, творимом разными авторами.
Важнейшее свойство художественной атмосферы — ее определенная самостоятельность по отношению к вызвавшим эту атмосферу причинам — в театре возрастает в геометрической прогрессии: по мере развития действия, «роста» спектакля как живого организма его атмосфера все более независима, свободна от каждого из авторов в отдельности и от всех вместе. В этом и состоит художественная специфика театральной атмосферы.
Феномен атмосферы на протяжении нескольких десятилетий было принято связывать лишь со спектаклями определенного типа театра (его, видимо, не случайно называли психологическим) — но постепенно среди театроведов в основном утвердилось представление об атмосфере как неотъемлемой составляющей сценического образа в любом спектакле. Понятие атмосферы как души спектакля и описанная выше модель атмосферы в структуре театрального действия — подтверждают эти представления.
273 Глава 12.
ЖАНР СПЕКТАКЛЯ
Различая язык и речь, предложение и высказывание, сопоставляя сферу значений со сферой смыслов, М. М. Бахтин аргументированно утверждал: «Мы говорим только определенными речевыми жанрами, то есть все наши высказывания обладают определенными и относительно устойчивыми типическими формами построения целого»364*. Эти типические формы высказываний он и предлагает называть жанрами — независимо от того, принадлежат ли они сфере непосредственного бытового общения или это надстроенные над простыми «вторичные», научные и художественные, жанры.
Жанр — не вся форма. С другой стороны, жанровый тип нельзя поставить в ряд с другими, более односторонними, простыми. Жанр будто вбирает в себя множество весьма разнородных свойств формы, и в этом смысле среди ее характеристик жанровой и впрямь должно принадлежать особое место. Жанр, как полагал М. С. Каган, образуется на скрещении нескольких плоскостей, как минимум тематической и аксиологической, связанных одна с познавательной емкостью, а другая с типом образных моделей365*.
Такое понимание жанра по существу перекликается с тем, что предложил М. М. Бахтин. В самом деле, когда Бахтин формулировал идею о речевых жанрах, он исходил из того, что жанр характеризуется сочетанием определенной предметно-смысловой сферы, экспрессии и адреса. Высказывание всегда фрагмент общения, оно кому-то предназначено; оно непременно о чем-то, и его содержание раскрывает отношение высказывающегося о предмете высказывания. Аксиологическая плоскость, открывающая отношение художника к предметно-смысловой сфере, в классификации Кагана законно наследует жанровой экспрессии, то есть оценке, которая, согласно Бахтину, «разлита» в высказывании, и законно же переводится в эстетический план, а сама предметно-смысловая сфера развернута и дифференцирована.
Но главный для Бахтина отличительный признак высказывания — адрес — из морфологической классификации выпадает. Между тем проблема адреса как раз для театра по-особому актуальна. В отличие от всех других искусств, адресат театрального высказывания не вне высказывания, а в нем. Соотношение между текстом романа и читателем или 274 живописного полотна с посетителем Эрмитажа не то, что между сценой и зрителями театра. Сценическая часть спектакля ни в каком смысле не театральный текст-высказывание, жанр спектакля буквально становится — здесь и сейчас, когда актер встречается с публикой и при ее участии создает роль.
Если исходить из этого, жанровый акцент невольно переносится со «спектакля» как инварианта по отношению к совокупности здесь-сейчас разворачивающихся представлений этого спектакля: зрительный зал как часть системы спектакля инвариантен, но конкретный сегодняшний зритель непредсказуем.
Однако в жанре спектакля есть и устойчивое. С. В. Владимиров отмечал: «С категорией жанра мы попадаем в область театральных и литературных рядов, преемственности и взаимодействия художественных форм»366*. Но попадающие в область исторической преемственности «мы» — люди той же культуры, что и актеры, в сознании которых так или иначе укоренены те же, что у актеров, ряды театральных и литературных форм. Возникает не идиллия, а сложные отношения между сценой и залом. Так их и характеризует Владимиров: «… некоторое согласие, общность между залом и сценой и одновременно определенное расхождение, чувство взаимного сопротивления, которое должно быть преодолено. Процесс этот драматический, действенный по своему характеру»367*. В театре не просто играют в драматических жанрах; всякий из них драматически образуется во время спектакля.
Рассуждая об отношениях между драматическими жанрами и содержанием, Гегель отмечал, что, если и герой, и цели, которые тот перед собой ставит, равно субстанциальны, перед нами трагедия. Если цели несубстанциальны, а герой субстанциален или, наоборот, субстанциальны цели, а герой нет — комедия. Гегель, таким образом, без всяких опосредовании выводил жанр из характера коллизии и конфликта. Эстетические категории Гегель здесь не использует. Но причастность героев и их целей к основам жизни или их погруженность в ничтожный вздор очевидно корреспондируют с высоким и низким, трагическим и комическим, героическим и жалким и т. д. Иначе говоря, Гегель утверждает, что жанр — это атрибут конфликта; жанр — жанр содержания. И что в предметно-содержательной сфере экспрессия в виде философско-эстетической оценки изначальна: принимаясь изображать определенные 275 противоречия, художник чуть не предварительно оценивает их с точки зрения их соответствия эстетическим критериям368*.
Но если понимать содержание как явление многоаспектное, жанр спектакля сопоставим не только с содержанием в целом, но и с разными его сторонами. Жанр может быть безразличен, например, к тому, характеры или маски действуют на сцене (маска вполне может быть и трагической и комической); но зато он крайне пристрастен к эстетической цене всякой участвующей в действии силы.
Аристотель считал само собой разумеющимся, что есть пригодные для трагедии сказания и, соответственно, герои, а есть непригодные. После Гегеля можно утверждать, что история с платком Отелло стала фабулой трагедии не сама по себе, а только и именно потому, что Шекспир оценил ее как трагическую. То есть своей волей определил, что Отелло, так легко давший себя обмануть, — лицо субстанциальное, а цели его поэт понял как героическую попытку сохранить целостность мира, не дать разрушить соответствие между видимым и сущим и так далее.
К театру эта сторона дела имеет отношение самое непосредственное. Когда Г. А. Товстоногов в 1970-е годы пытался формулировать свое отношение к жанру, для него не подлежало сомнению, что жанр — это «угол зрения автора на действительность, преломленный в художественном образе»369*. И хотя автором спектакля Товстоногов упорно и последовательно именовал писателя, он понимал, что режиссер, «как и всякий человек, видит жизнь под собственным углом зрения»370*. Свой, и при этом именно эстетический, угол зрения осторожно предполагается даже у зрителя, недаром в этом же контексте так органично заявление: «почувствовать природу жанра для режиссера — это значит почувствовать способ взаимоотношений со зрительным залом»371*. Человек театра, Товстоногов попытался перевести представления о жанре на театральный язык, соотнести их с практикой сцены. Он фиксировал своего рода набор задач, которые должен решить режиссер, чтобы предстоящий спектакль обрел жанр. Среди них главными режиссеру видятся условия игры, отбор предлагаемых обстоятельств и природа чувств, в первую очередь чувств актера.
276 В сфере «условий игры» одно из самых хрестоматийных — наличие или отсутствие так называемой четвертой стены. Не только по традиции те или иные жанры располагают к тому, чтобы актеры реально или условно обращались к зрительному залу; четвертая стена родилась на сцене не как требование трагедии, а как внутренняя потребность «третьего жанра», драмы. Тем не менее и трагедию и водевиль, по-видимому, можно поставить и сыграть «за четвертой стеной», а драму, не только публицистическую, развернуть лицом к публике. Несколько иначе обстоит дело, когда Товстоногов толкует о «мере условности». Тип условности, поскольку связан с мерой обобщенности, и с жанром связан прямо. И у Товстоногова этот фактор не зря смыкается с другим — отбором предлагаемых обстоятельств. По мысли режиссера, трагический спектакль, например, естественно противится множеству подробностей и частностей, тогда как бытовая драма именно подробностей и взыскует.
Понятие «природа чувств», относимое почти всегда к чувствам писателя, — может быть, наименее внятное из тех критериев жанра, о которых размышлял Товстоногов. Зато когда он касается природы чувств актера, он затрагивает самые для театра чувствительные проблемы. П. А. Марков, заметивший, что в Московском Художественном театре был настоящий трагик Л. М. Леонидов, а главные трагические роли играл В. И. Качалов, в статье о Качалове констатировал, что «в своих репертуарных предположениях он сравнительно редко останавливался на трагедийных ролях. Может быть, в данном случае он учитывал свойство своего темперамента, очень сильного по направленности, но лишенного открытой непосредственности, без которой Отелло и Лир не могут быть убедительными»372*.
Могут быть жанрово широкие таланты, могут быть узкие, но, чтобы режиссеру отобрать для трагедии нужные ей предлагаемые обстоятельства, а актеру в них убедительно сыграть, надо же, чтобы режиссер и артист способны были видеть мир как трагедию. А это во многом вопрос человеческого мирочувствия.
О чем именно несколько часов кряду пытается договориться театральная сцена со своим партнером-зрителем? Под углом зрения жанра оказывается, что предметом этой драматической беседы является не столько то, каковы характеры героев спектакля, сколько вопрос об их эстетической цене. Актер в роли Отелло, если это трагическая роль, 277 должен, например, преодолеть внехудожественное, нравственное чувство зрителей, не приемлющее убийство. Нет, это прекрасно, настаивает актер. Но заставить зрителя переориентироваться, стать театрально-художественным лицом может только актер и только в сфере жанра. Целое формы отвечает в спектакле за то, чтобы был какой-то смысл. Жанр, выставивший вперед актера, отвечает в первую очередь за то, что это будет художественный смысл.
Глава 13.
КОМПОЗИЦИЯ
Аристотель называл образующие и составляющие элементы трагедии одним словом — «часть»: структура и композиция, обе — строения, только в одном случае строится система, а в другом форма. Части формы, составляемые в композицию, — это пространственно-временные объемы. В композицию спектакля входят прологи, эписодии, эксоды и хоровые части, а с ними пароды и стасимы, собираются акты и сцены, явления и мизансцены, и автор спектакля, сегодня режиссер, то есть театральный композитор, связывает их между собой, памятуя об отношении каждой к целому.
Но прежде чем рассуждать о частях и их соотношениях, Стагирит задался вопросом о том, каков должен быть весь объем, движущийся вдоль частных объемов. Ответ оказался многосторонним. Во-первых, объем трагедии должен быть именно целым, а целое должно быть законченным. О целостности можно судить по тому, как ведут себя в нем части: если какую-то из них изъять, целое изменится или «расстроится». Целое можно надежно обеспечить, если помнить, что сказание должно быть сосредоточено не вокруг одного лица, с которым может произойти множество не связанных между собой событий и многочисленные действия которого никак не складываются в единое действие, а вокруг одного события; говоря о форме, Аристотель немедленно отсылает к содержанию. Он отдает предпочтение простым, а не двойным сказаниям. В этом смысле «Отелло» или «Макбет» ему понравились бы больше, чем «Король Лир», составленный из двух историй — Лира с дочерьми и Глостера с сыновьями. Для Аристотеля это был бы не вопрос вкуса, а забота о целостности формы.
Объем трагедии должен быть достаточен и обозрим. Сказание должно быть «удобозапоминаемым». Сейчас ясно, что, хотя нужный 278 для этого отрезок времени нельзя точно отмерить, его длина не произвольна: объем не должен быть больше, чем «количество информации», которую зрители в состоянии усвоить. Такой объем должен быть и достаточен. Философ разъясняет: «Тот объем достаточен, внутри которого при непрерывном следовании <событий> по вероятности или необходимости происходит перелом от несчастья к счастью или от счастья к несчастью»373*. Формальный критерий снова извлекается прямо из содержания: объем формы достаточен, если вмещает в себя то, без чего драма не драма, — перипетию.
Только на этом фоне, на этой базе можно понять, из чего состоит всякое полное целое. И первое, что здесь бросается в глаза: типы таких собраний больше чем похожи на типы структуры, поскольку все театральные композиции тяготеют либо к причинно-следственной, либо к ассоциативной логике. И, как в других случаях, наличие смешанных, «нечистых» вариантов этому критерию не помеха.
Композиции, которые иногда называют аналитическими, сами по себе или через тип содержания, но очевидно родственны прозаическим системам. Здесь есть «сквозное действие», желательно строгое, когда все, что после, должно следовать «из прежних событий или по необходимости или по вероятности, — ибо ведь большая разница, случится ли нечто вследствие чего-либо или после чего-либо»374*. У Станиславского, как у Ибсена или Островского, сценический акт не пространство от антракта до антракта, а полная смысла часть формы. И лучше бы, чтобы действие двигалось и вибрировало без искусственных перерывов, хотения персонажей и актеров естественно вытекали из того, что случилось секундой прежде и, в свою очередь, так же спонтанно, но неизбежно и так же незаметно порождали живые воления следующих секунд. Рваная беспричинная композиция для реализации таким структурам и таким содержаниям противопоказана.
Композиции Мейерхольда, напротив, большею частью держались не актами, а сценами или эпизодами, вместо единой волны были сгущения и разрежения, пропуски и толчки. В XX веке не было технических причин строить сценические композиции так, как Шекспир строил словесные, да и принцип, согласно которому следующая сцена ни в каком случае не может вытекать из прежней, не декларировался. Тем не менее композиционная логика была та самая: составляющие части любого 279 масштаба стягивались ассоциацией; сходство, смежность или контраст и были «причиной» их совместности. Так, литература о «Лесе» показывает: даже когда фрагменты словесного текста располагались на сцене в той же последовательности, что и в пьесе Островского, законом было превращение явления в эпизод, установление связи между бывшими явлениями как между аттракционами375*.
Пластические композиции Станиславского много лет по праву вызывали восхищение; музыкальная сверхчуткость была одним из самых сильных режиссерских дарований Мейерхольда. И все же, при буквальной нераздельности времени и пространства, каждый из этих типов композиции имеет нечто вроде онтологической доминанты: композиция прозы держится перемен во времени, поэзии — на переходах в пространстве. Только и времена и пространства в каждом варианте свои. Время в композиции «Станиславского типа» однородно, оно одинаково дышит и внутри мизансцены, и на переходах от одной мизансцены к другой, а все потому, что здесь все — «время вытекания», так что его физическая протяженность, темп и ритм должны читаться как повышенно значимые и содержательные. В композициях другого типа время внутри мизансцены по видимости недвижно, малозаметно, зато на стыках, наоборот, катастрофически взрывается. Решает время стыка, и при всей самоочевидной важности его естественных свойств, в первую очередь протяженности, оно есть время сравнения. Сколько длится эпизод и каков характер движения в нем, зависит от того, сколько и какого именно времени нужно, чтобы это локальное сценическое высказывание было готово к сравнению. На деле и время самого эпизода строится по тому же закону. Такова вообще театральная специфика: какими бы кратчайшими во времени и пластически ориентированными ни были сцены, эпизоды или мизансцены, межкадровый монтаж в театре означал бы просто склейку живых картин. Это значит, что и при таком варианте композиционное время в себе также однородно, только это другой род.
Аналогично обстоит дело с пространством. В развитом прозаическом театре мизансцена глядится, по формуле С. М. Эйзенштейна, как «след разумного действия, прочерченный, как и в пространстве, кривой по хребту сценического времени»376*. А то пространство, что вне актера, хотя вовсе не обязано служить скромным фоном для сюжета, 280 разыгрываемого артистами, фоном все же может быть. Ведь оно внутренне нейтрализовано: положение, в которое его здесь поставили, противоречит его начальной природе — всему, что в пространстве, надлежит быть, а тут все оно течет.
В композициях, органичных для поэтических структур, особенно активна сценография. Это естественно: там, если воспользоваться метафорой Эйзенштейна, хребтом является само пространство. А это пространство сопоставления, в нем все, что справа, с тем, что слева, сравнивается так же, как верх и низ, как соседние или далеко отстоящие один от другого эпизоды; все монтируемое программно одновременно.
Пытаясь в начале XX века осмыслить природу создаваемого им театра, В. Э. Мейерхольд разными словами говорил о смене планов или об игре планами377*. Век спустя ясно, что этот закон описывает не только язык, но и форму. Поэтический театр пренебрег советом Аристотеля строить на основании «потому что», а вместо этого использует давно известный в литературе монтаж («а в это время…»); планы толкают и сбивают друг дружку по видимости прихотливо, лучше всего вдруг, а все же не одной игры ради: играют ассоциациями.
В сфере композиции, в строении формы, таким образом, обнаруживается та же пара, которой описываются и генеральные типы системы спектакля, и его структуры и которая дает основание одной из типологий содержания. Но подобно тому, как характер сложения сил сам по себе не может отвечать за весь объем содержания, аналитический и синтетический (то есть причинно-следственный и ассоциативный) типы композиции не могут исчерпать и не исчерпывают все потребности содержания в полном и объемном оформлении. Есть, как минимум, еще одна группа свойств композиции, которая обеспечивает действию его драматическую специфику.
Всякое действие где-то и как-то начинается и чем-то заканчивается; драматическое, разумеется, тоже. Для драматического действия, однако, наличие начала и конца характеристика хотя и обязательная, но никак не специфическая. К драматической специфике приближает лапидарная аристотелевская трактовка начала и конца произведения: завязка есть то, что простирается от начала трагедии «до той ее части, на рубеже которой начинается переход к счастью <от несчастья или от 281 счастья к несчастью>»378*, а развязка — от начала этого перехода и до конца.
Такой переход необходимо процессуален, и все же для Аристотеля это скорей точка, момент развития. Начиная с эпохи Ренессанса в драматическом действии все более отчетливо выявляются не две, а минимум три обязательные части: между завязкой и развязкой располагается кульминация, которая приняла на себя конструктивную роль греческой перипетии379* и эту решающую перипетию в себя включила. Тем не менее всегда есть время-пространство начала, процесс «завязывания узла», всегда есть середина, странным, но обязательным образом поворачивающая дело так, что конец принципиально не таков, каким было начало, и самый этот конец, автономная роль которого в том, чтобы зафиксировать этот факт: после драматического перелома все иначе.
Так развертывается не какое-то теоретически или исторически локальное, но всякое драматическое действие, и в пьесе и в спектакле. Собственный смысл имеет и обратное: если действие имеет начало, конец и между ними перелом, если именно это начало после перелома оборачивается этим именно концом — перед нами драматическое действие. Гигантский «выверт», одна огромная перемена — такова органическая форма, по-видимому, всякого драматического содержания. А одновременно — и модель формы: когда в композиции монтируются сколько-нибудь развернутые сцены, многие из них в архитектоническом отношении построены как микроспектакли — у них свои собственные завязки, кульминации и развязки.
После Гегеля в оборот ввели еще ряд понятий, казалось бы, этого же ряда — например, «катастрофа» или «экспозиция». Что до первой, это скорее вопрос о величине «частностей»; вряд ли, однако, катастрофа в той же мере конституирует драматическое действие, в какой делают это завязка, кульминация и развязка. Экспозиция, поскольку она есть совокупность информации, обязательной для понимания фабулы, необходима: и пьеса и спектакль — построения искусственные, жизнь в них начинается «не с начала» жизни. Но такая информация может и не быть сосредоточена в какой-то части композиции: в «Гамлете» сведения о поединке Гамлета-отца и Фортинбраса-отца возникают далеко от начала пьесы, где, согласно привычному взгляду, им надлежит располагаться.
282 К рассматриваемой «форме драматического содержания» есть своеобразная рифма — драматическая содержательность самой этой формы. Вопрос не в том, из скольки частей состоит композиция спектакля, а в том, насколько каждая из них обеспечена собственной драматической содержательностью. Трехчастность на деле есть трехфазность самого содержания, что особенно видно в классических вариантах композиции. Завязка начинается тогда, когда силы, которым предстоит действовать (персонажи, актеры, Хор — безразлично), оказываются поставлены в коллизию, то есть в обстоятельства, так скомпонованные, что всякий в них попавший вынужден выбирать, притом выбирать драматически. В начале завязки у Гамлета есть «теоретический вариант» неучастия: крови и мести он может предпочесть занятия в университете. Но если участник действия выбирает действие, он самим этим своим выбором ставит себя и своих соучастников в новое положение.
В первой фазе действия есть два рода сил. Есть импульсы, рождаемые обстоятельствами, как правило, не героями созданные. Таковы смерть отца и поспешное второе замужество матери для Гамлета. С другой стороны, всегда что-то проистекает из воли действующего — например, желание Гамлета разобраться в произошедшем, проверить истинность слов Призрака и т. д. По мере того как движется завязка, потенциал предлагаемых героям обстоятельств постепенно исчерпывается, и в материальный состав действия все более заметно входит энергия выбора, только что сделанного участниками дела. К концу завязки в теле коллизии уже нет ничего, что при открытии занавеса было «предлагаемыми обстоятельствами», ничего не созданного в ходе действия действующими силами. Но это одновременно есть и момент, когда все оказавшиеся в коллизии лица и другие силы окончательно, на этот раз необратимо, ввязались в действие. Путь назад и в сторону им заказан. Конец завязки есть начало новой фазы драматического действия.
Кульминация для всех решающих дело сил становится фазой кардинального выбора, максимально свободного потому, что выбирают в обстоятельствах, собственноручно созданных, — и одновременно сведенного едва ли не к альтернативе типа «быть или не быть». Открывшись королеве и убив Полония, Гамлет и Королеву, и Клавдия, и Лаэрта с Офелией, и прочих ставит перед необходимостью сделать решающий для себя выбор. И каждый его делает. Королева вынуждена стать на чью-то сторону — и она это делает, отчего, по логике трагедии, и погибает. Клавдий не может больше выжидать и надеяться на благополучный исход — он вынужден послать Гамлета с «друзьями» в Англию на 283 смерть. Гамлет вынужден пойти на убийство Розенкранца и Гильденстерна, Лаэрт и Офелия вынуждены реагировать на смерть отца и т. д. В завязке действующие силы как будто выбирают, участвовать им в действии или уйти от этого драматического участия, от своей драматической участи. После кульминации им уже не уйти не просто из действия, но и от этой именно развязки: они выбрали этот конец. Начинается новый, последний «объем» действия, третья большая его фаза. Возникает новая инерция, как будто пародирующая начало действия и на новом витке соперничающая с энергией действующих сил. Третья фаза действия — последний из возможных вариант сочетания судьбы и Героя, обстоятельств и характера, противоречий, по отношению к действующим объективных, и конституирующей всякую драматическую силу субъективности. Четвертого не дано.
Подобная логика равно применима и к композиции пьесы, и к строению спектакля, но отношения между ними скорей напоминают те, что складываются между пьесой и спектаклем в жанровой сфере: они драматичны. И в каждом случае прямо содержательны. Сравнивая на фоне пьесы Шекспира московского «Гамлета» Н. П. Охлопкова с ленинградским «Гамлетом» Г. М. Козинцева, П. П. Громов продемонстрировал эту связь на материале кульминаций (у Охлопкова сцена «мышеловки», у Козинцева «в спальне королевы»): разные кульминации оказались надежнейшим свидетельством разных смыслов.
В театре некоторые общекомпозиционные проблемы могут выглядеть менее актуальными, чем для пьесы, зато другие обостряются. Так, только режиссеру предстоит решать, как строить композицию спектакля, когда среди его действующих сил будут актеры, которые станут действовать на сцене не только от имени персонажей, но и непосредственно.
Многократно описано начало «Гамлета» на Таганке. Свет в зале. К беленому брандмауэру прислонился человек в джинсах и с гитарой. Не торопясь, Высоцкий отделяется от стены и приближается к нам. Поет из «Стихотворений Юрия Живаго»: «Гул затих. / Я вышел на подмостки. / Прислонясь к дверному косяку…». Объективно Любимов и Высоцкий сопоставляют «барда подворотен» и шекспировского принца. Субъективно всем известный актер и автор песен, реальный человек XX века с гитарой, на наших глазах решает ту самую проблему, которую с помощью театрального словаря сформулировал Пастернак: приговорен он к этой роли с заведомо смертельным концом или эта чаша еще может его миновать. Высоцкий пока не Гамлет, и Гамлетом ему быть одновременно и необходимо и страшно. То, что обычно для актера не 284 предмет рефлексии — играть или не играть свою сценическую роль, — для Высоцкого коллизия, в которой он обязан выбирать. Он выбирает «да». Быть может — «попробую». Но во всяком случае он начинает ввязываться в эту игру. Действие спектакля начало завязываться до начала пьесы. Благодаря кинохронике, сохранилась и сцена «Быть или не быть?», сыгранная Высоцким как вариации на тему этого монолога — по-разному пластически и интонационно и по смыслу едва ли не противоположно. Сцена, безусловно, причастна кульминации. В обеих ее частях, в отличие от начала завязки, Высоцкого «отдельно от Гамлета» уже нет: вопрос, быть ли ему Гамлетом или не быть, решился. Художественное время необратимо, и к исходной ситуации возврата нет. Гамлет XX века налицо, сам он это знает и, стало быть, в отличие от Гамлета пьесы, знает свой конец. Сейчас гамлетовский вопрос имеет новый смысл. Вот актер и пробует варианты: он решает не «быть или не быть», а — как именно не быть и каким умирать. Тут и прямое продолжение, и качественно новая фаза того, с чего начинался спектакль.
Как только отношения между актером и ролью перестали быть лишь фрагментом системы спектакля, а стали, кроме того, существенным моментом содержания, они должны были найти себе форму, должны были быть построены, вкомпонованы в целое. Так и случилось: отношения между Высоцким и Гамлетом в начале были проблематичны, а в районе кульминации необратимо изменились; условное перевоплощение актера в роль оказалось понято как полноценная, развивающаяся, то есть имеющая свои обязательные фазы, драма.
Близкая композиционная логика работает и по отношению к другим образующим частям системы спектакля. Когда в прозаическом театре меняется свет или декорация, такая смена во всяком художественном случае бывает строго содержательна, ибо занимает законное место в композиции причин и следствий. Столь же самоочевидный случай — использование музыки в драматическом спектакле, становится ли она аккомпанементом, подкрепляет ли эмоцию актера (а порой откровенно эту эмоцию заменяет) или вводится контрапунктически, сложно сплетаясь с игрой актеров, светом и пр. В спектакле А. В. Эфроса «Месяц в деревне» соотношения между разыгранным актерами сюжетом Тургенева и хрестоматийной темой Моцарта (почти незаметно отредактированной) не только можно, но и должно было прямо «переводить» в содержательный план. Возникал композиционный прием, напоминающий параллельный монтаж в «Броненосце “Потемкин”» С. М. Эйзенштейна: солдаты с ружьями — толпа — солдаты — толпа… 285 Толпа меняется, укрупняются ее планы, одновременно укорачивается время; кадры с солдатами неизменны. У Эфроса моцартовский «мотивчик», бессознательно ассоциирующийся с легкостью, ясностью и гармонией, повторялся на протяжении всего спектакля и таким образом в его композиции играл роль своеобразного остинато — статического, повторяющегося элемента. Структурные отношения были переведены в композиционный план: строение системы в строении формы четко материализовалось.
Глава 14.
МИЗАНСЦЕНА
Драматическое действие становится, его смысл накапливается постепенно. Форма едина и одновременно членима, и должна быть такая последняя в своей конкретности единица высказывания, «ниже» которой никакого художественного, а стало быть, и никакого смысла нет. Этим последним, химически неделимым атомом театрального текста может быть только мизансцена. Спектакль и есть совокупность и система мизансцен. Они, их переходы, их связи между собою и составляют ту материю, из которой мы вычитываем всякое содержание.
Возникновение понятия в близком к современному значении разные авторы датируют по-разному. Самое понятие, однако, потребовалось тогда, когда спектакль перестал быть целиком синкретическим действом, когда те фрагменты сценической части спектакля, которые связаны с актерами, потребовалось отделить от других, варьируемых частей системы и особым образом выделить. Другими словами, это случилось, когда театр стал актерским, то есть когда актеры со своими ролями и партнерами взяли на себя решающую ответственность за создание смысла и, соответственно, строительство формы.
Но особое значение мизансцена приобрела на следующей, режиссерской стадии развития спектакля. Не случайно автор книги «Режиссер — автор спектакля» один из разделов книги озаглавил «Мизансцена — художественный образ»380*. Создатель современного спектакля не отыскивает мизансцены для готовых смыслов, а думает мизансценами. Мизансцена не «материал и средство» театрального высказывания, а самое это высказывание, единица образной мысли.
286 По первоначальному определению мизансцена означает расположение артистов в пространстве сцены. Когда история спектакля доросла до мизансцен, они говорили от имени пространства. Но сегодня такое понимание требует уточнения: «расположение» отсылает к статике, между тем решает движение, для которого любая остановка, любое фиксированное положение артистов является лишь моментом. Таким образом, близко к первоначальному смыслу окажется понимание мизансцены как своего рода «рисунка движения». Если это фронтальный рисунок, то как бы ни было существенно различие между стоящими или движущимися вдоль «фронта» артистами, в любом случае это не движение в глубину сцены, это движение не вверх и вниз, это движение исключает практически любые диагонали. Тут вольно или невольно предполагается некая плоскость, расположенная перпендикулярно взгляду зрителя. Как картина в двух измерениях, которую нам представляют лицезреть. Столь же значимы и другие известные практике типы «расположения». Режиссеры по праву описывают созданные ими мизансцены как диагональные и кольцевые, горизонтальные и фронтальные и так далее; пластическая сторона мизансцены так или иначе описывается. И во всех таких случаях речь идет о своего рода топографических координатах мизансцены. Понятно, что здесь учитываются многие объективные законы пространства, не театром открытые. Так, физиологическими законами зрительного восприятия предопределено: движение из глубины к зрителям воспринимается как более активное, чем вдоль рампы. Известно, что движение слева направо и вверх, в правый верхний угол, наиболее удаленный от зрителя, то есть самая длинная в трехмерной коробке сцены диагональ, — это самая «динамичная» линия сцены. Если рассматривать только пластическую сторону дела, эта диагональ «несет собой» определенные смыслы, и чтобы лишить ее этих смыслов, переменить их — требуются специальные усилия. Для нас здесь важны не технологические подробности и названия, а один хотя бы факт: никакой пластический рисунок не нейтрален по отношению к смыслу.
Время, которое отпущено нам на рассматривание живописного полотна, принципиально неопределенно. В спектакле есть только то время, которое надобно, чтобы «картина» и сама говорила о перемене, и существовала в цепи перемен; время мизансцены не время рассматривания — это тоже время действия. Тем более очевидно это качество пластики мизансцены, когда речь о буквальном движении. Один и тот же шаг в одном и том же направлении может быть скорым и замедленным, спокойным и нервным и т. д. И, естественно, смысл произошедшего 287 в каждом случае будет другим. Мизансцена может быть понята как пластическая композиция во времени, но не менее важно, что «одновременно» время модулируется и пронизывается пространством. В сценической мизансцене время стояния актера и точно то же в физическом смысле время сидения, время справа и время слева, на планшете сцены и под колосниками — это разные времена.
Такое или близкое понимание мизансцены сегодня можно считать устоявшимся, общезначимым. П. Пави в «Словаре театра» цитирует Ж. Копо: «Под мизансценой мы понимаем рисунок драматического действия. Это вся совокупность движений, жестов и поз, соответствие выражений лиц, голосов и молчаний»381*. Для режиссера мизансцена описывает не все происходящее в спектакле, а то, что происходит между актерами; с тем, что не она, мизансцена находится в отношениях нередко драматических. Она не просто минимальная часть композиции спектакля, но и ее модель.
Иной вопрос — всегда ли, во всех ли видах театра и во всяком ли типе театральной структуры время и пространство мизансцены несут смысловую нагрузку «поровну», а не только вместе. Специфика содержания в разных видах театра наверняка разная, так что оперный театр весьма серьезно претендует на то, чтобы в его мизансценах время выражало в первую голову содержание музыкальное, то есть временное, и по преимуществу, и по незабытому происхождению. Но и в пределах театра не поющего, а разговаривающего — равновесия и механического равенства тоже не существует.
Так, в аналитических композициях прозаического театра, в его мизансценах следует искать временную доминанту: сам принцип «вытекания» одного из другого, сам по себе художественный эквивалент каузальности опирается на время. В другом театре, поэтическом, где принцип «одно из другого» заменен смысловой одновременностью, время тоже не исчезает, но оно особое, по существу некое «одно время», хотя и протяженное. В таком варианте во временно-пространственной материи действия зрители невольно отыскивают пластическую доминанту и неосознанно опираются на нее. И, в отличие от прозаического театра, здесь, как раз на уровне мизансцены, время и пространство не синкретически неразделимы, а смонтированы между собой.
Но у монтажа есть предел. Если актер равномерно движется по упомянутой диагонали сцены-коробки, создается неложное ощущение, что 288 динамика движения нарастает. Если он постепенно снижает скорость, динамика гаснет. Но если он снизит скорость, время и пространство обретут противоположный смысл и таким образом взаимно уничтожатся. Значит, в пределах одной мизансцены внутренний монтаж пространства и времени имеет пределы. По аналогичному поводу С. М. Эйзенштейн заключил: «… должно быть соответствие законов внутреннего строения обоих рядов — звукового и пластического»382*. Моделируя на сценической площадке сюжет «Возвращение солдата с фронта» и рассматривая последний отрезок этого сюжета, в котором солдат уходит из дома, Эйзенштейн обнаружил, что пластическому ряду соответствует «не звук шагов, а звучание, синхронное содержанию шагов»383*. Терминология отсылает к тому, что сам Эйзенштейн предложил называть мизанкадром, но здесь режиссер говорил именно о мизансцене, и о такой именно, где время и пространство не «слиплись», где между ними есть отношения и они драматически-действенны.
Законы восприятия любого, даже «короткометражного» спектакля, по всей видимости, таковы, что охватить его целиком ни одно, даже самое богатое воображение не в силах. Стало быть, никакой спектакль ни при каких обстоятельствах не может состоять из одной мизансцены, их всегда сколько-то. При этом у каждой театральной системы есть своего рода мизансценический идеал, и пространственный и временной. Для прозаического театра таким недостижимым образцом могла бы служить как раз «одна мизансцена на весь спектакль». На практике такой спектакль внутренне настроен на максимально плавное, незаметное перетекание одной мизансцены в другую, в интересах зрителя такого театра — создать ощущение, что спектакль неделим — ни по смыслу, ни, соответственно, по форме. Эта тенденция особенно заметна при встрече с так называемым психологическим театром, где нюансы тонки, переходы чувств изысканны и непредсказуемы и т. д. Здесь, при сохранении общего и «частного рисунка», мизансцена сменяется другой тогда, когда возникает новый поворот головы, или чуть меняется интонация, или замедляется темп, или рождается — при практически неизменной пластике, при непрерывности интонации — иной ритм. Здесь «чуть-чуть» и есть подлинная перемена, через эти «чуть-чуть» действие и прокладывает себе путь.
Совсем иное в театре поэтическом. И здесь не запрещена обширная по времени мизансцена, но, с другой стороны, естественно, что именно 289 в таком театре широко используется как раз противоположный способ строить форму: короткие, резко отделенные одна от другой мизансцены. «Мизансценический идеал» такого театра — свертывание физического времени длительности мизансцены, сведение сцены, картины, явления к мизансцене и одновременно максимальная «автономизация» каждой из мизансцен. Предназначенная для монтажного сопоставления единица формы и должна быть интенсивной.
Здесь, однако, тоже есть границы. Ограничения накладываются, с одной стороны, законами восприятия: самостоятельные, автономные мизансцены не могут быть «слишком краткими» — мелькание в театре бессмысленно. Не менее существенна специфика самого театрального смысла. Когда мы представляем тенденцию в области мизансценирования как стремление свести мизансцену к простейшему кирпичику, мы невольно оборачиваемся не столько на театр, сколько как раз на кино. И мизансцену уподобляем кадру типа тех, из которых смонтирован, например, «Броненосец “Потемкин”» С. М. Эйзенштейна. Три склеенных между собой каменных льва — это три кадра-буквы. Но мизансцена никогда не буква, а если слово, то слово-высказывание, то есть единица смысла — то, на что можно ответить. Причина проста: мизансцена не существует без актера, а актер всегда и материал для строительства формы, и носитель собственного, целого смысла. В кино лицо, фигура, рука человека могут быть и часто становятся знаками, в театре только знаками со своими значениями они не могут стать. Да и не выделить никаким крупным планом этот знак из целого живого человека. Здесь и положены ограничения и величине мизансцены, и скорости смены одной мизансцены другими, и содержанию мизансцены. Меньше чем единицей смысла она быть не может. В театре не только освоен, но иногда и безусловно необходим монтаж. Но и монтируются в театре только целые смыслы.
Глава 15.
РИТМ В СПЕКТАКЛЕ
В генетической памяти театрального ритма — пульсации вселенной, биологические и трудовые ритмы, от них он ведет свое начало и к ним апеллирует. Все лишенное ритма зритель, как любой другой человек, вообще не воспринимает, но если ритм есть, действует он на нас, минуя сознание, физиологически и эмоционально. И на сцене, где он должен 290 быть художественно преображенным, его тоже трудней всего создавать и регулировать.
Ритм не только в искусстве главное и решающее свидетельство жизни. С другой стороны, когда живым оказывается искусство, это не всякая, а организованная (в существенной мере самоорганизованная) жизнь.
Ритм существует и во времени и в пространстве. Не случайно до сей поры фундаментальные представления об этом феномене мы черпаем в первую очередь из арсенала наук о музыке и стихе, о живописи и архитектуре. В музыке ритм до очевидности прямо образует смысл — музыка и есть зафиксированный в звуковой фактуре ритм; в стихах соотношение между ритмом и значениями слов Ю. Н. Тынянов определил так: «стержневым, конструктивным фактором» является ритм, а семантические группы становятся для ритма «в широком смысле материалом»384*.
Ритм всегда и естественно связывается с пониманием или ощущением того, что есть какая-то закономерность, устойчивость, регулярность, повторяемость — и какие-то нарушения этой правильности, которые позволяют ее уловить. При этом смена дня ночью, прилив и отлив, вдох и выдох воспринимаются в первую очередь как временная связь. Для театра при этом важно, что даже и такая связь на деле многосторонна. Ритм в таком чисто временном искусстве, как музыка, отыскивается не только в соотношениях между длительностями звучаний; для музыканта «ритм — это временная и акцентная сторона мелодии, гармонии, тембра и всех других элементов музыки»385*. «Другие» тут не только элементы, но еще и уровни различения. Например, ритмическая регулярность «содействует тональности с ее подчинением одному звуковысотному центру, образуя вместе с ней иерархическую музыкальную систему», а ритмическая нерегулярность «способствует атональности, помогая избежать подчинения одному высотному центру»386*.
Для понимания ритма в театре и этого, однако, недостаточно: театральная материя даже совокупностью разных сторон, свойств и срезов времени не исчерпывается. Время спектакля не выносит одиночества, и в этой связи важны исследования ритма в пространственных искусствах. «В описаниях и схемах ритмических композиционных структур 291 часто пользуются плавной кривой, объединяющей головы фигур, верхние части предметов и зданий, рисунок рук, положение ног. Подобные кривые дают наглядное представление о волнообразном движении. Так выражаются акценты по высоте, словом, ритмические колебания по вертикали. Но упускают более существенное для ритмического построения деление на группы, сгущения и разрежения групп, короткие цезуры и длительные паузы. По отношению к этим явлениям ритма возвышения и низины, цветовые изменения выступают лишь как акценты. Для картины более существенны, говоря языком геометрии, не поперечные, а продольные колебания, вдоль оси движения»387*. В то же время в той же картине «ритмично не только построение на плоскости, но и построение в глубину. Кривые, наглядно выражающие ритмы во фронтальной плоскости, следовало бы во многих случаях дополнить кривыми, выражающими движения и группировку “в плане”»388*. Но и это отнюдь не все. Разбирая далее «Оплакивание» Боттичелли, Н. Н. Волков, которому принадлежит этот тщательный анализ, вводит в рассмотрение, как вещи сами собой разумеющиеся, характер ткани, форму тела, на которой ткань лежит, направление силы тяготения, движения фигуры389*. Но и это опять не все. В цитируемой книге речь лишь об одной стороне дела, которую искусствовед именует «образной геометрией». Так что по понятным причинам едва ли не за скобками остается, например, соотношение цветовых и световых масс, не обязательно связанное с характером рисунка, и т. д.
Цезуры и паузы — из словаря музыкознания или стиховедения. Но Н. Н. Волков уверен: и в живописи «ритм предполагает метрическую основу». Поле для сопоставления между тем потоком изменений, которые направляются музыкальным ритмом (и ритмом стиха, и временным ритмом танцевальных движений), и формами организации пространственных явлений — широко и надежно, здесь очевидно больше чем аналогия. Событие ли, действие ли изображается на полотне (в частном случае фигуративной живописи, театру наиболее близком), сам Н. Н. Волков готов отсылать читателя своей книги к «связи движений»390*. Понятия, связанные с движением, — «вдоль оси движения», «движения фигуры» — для изобразительных искусств не чужие.
292 Тем более не чужие они в театре, и особенно сильно это было осознано в эпоху режиссуры. «Из разряда словесных и изобразительных искусств театр переводится самим течением жизни в искусство ритмическое. Динамика современной жизни потребовала новых изобразительных средств, и таковым явилось движение. Ритму стали уделять первое место в театре. Слово стало лишь первой строчкой сложной партитуры актерской игры, развернувшейся от рампы по всей сцене в глубину ее и вверх по лестницам, станкам и конструкциям»391*, — утверждал А. А. Гвоздев в статье «Ритм и движение актера». В описании произведения нового, ритмического театра нетрудно узнать спектакль Мейерхольда, но сегодня очевиден общетеоретический статус этих идей.
Мысль о ритме как организующей силе действия естественно связывается с другой — о том, что носителем ритма может быть только движение, что ритм и есть ритм движения. Еще в 1913 году С. М. Волконский, который активно популяризировал и творчески развивал тогда идеи Жак-Далькроза, говорил: «Отличительная черта движения та, что из всех форм существования оно одно развивается за раз и в пространстве и во времени, т. е. всякое движение может быть короткое или длинное, но оно же может быть быстрое или медленное. Воспитать “пространственность” движения, т. е. внести порядок в “протяжение” его, не трудно: всякий видимый знак указывает границу, исходную и конечную точки. Но как воспитать “длительность” движения, т. е. внести порядок в быстроту и медленность? Мы должны подчинить движение такой дисциплине, которая была бы результатом деления времени, которая сама была бы построена на сочетаниях быстроты и медленности; такая дисциплина только одна: ритм»392*. Проблема движущегося актера не в том, что его жест всегда имеет протяженность и занимает время; вопрос в том, каким будет «ритмический итог», если это движение, допустим, захватывает пространство длиной в целую руку, а сделано очень быстро. Каким оно будет, и самое по себе, и в цепи других движений, — острым, вялым, резким, плавным? «Сумма» пространства и времени об этом не говорит.
Очевидно, главная сложность театральных ритмов в этом как раз реальном соединении двух атрибутов движения. Между тем театральная 293 мысль о ритме по естественной причине всегда начиналась с временной его ипостаси. К. С. Станиславский декларировал: «там, где жизнь, там и действие, где действие — там и движение, где движение, там и темп, а где темп — там и ритм»393*. Озабочен он тем, как этот ритм уловить и как отыскать те связи, которые помогут это сделать. Главным здесь темпоритм — именно этот симбиоз самым надежным образом говорит о том, что происходит во времени спектакля. «Наши действия и речь, — внушал своим ученикам Аркадий Николаевич Торцов, — протекают во времени. В процессе действия надо заполнять текущее время моментами самых разнообразных движений, чередующихся с остановками. В процессе же речи текущее время заполняется моментами произнесения звуков самых разнообразных продолжительностей, с перерывами между ними»394*. Физическое движение и словесная речь — оба действие и оба происходят во времени. Ритм для Станиславского явление временнóе, и именно в таком обличий он действует — и на самого актера, и на зрителей. Темпоритм, в свою очередь, связан с предлагаемыми обстоятельствами и задачами. «Они так крепко связаны друг с другом, что одно порождает другое, то есть предлагаемые обстоятельства вызывают темпоритм, а темпоритм заставляет думать о соответствующих предлагаемых обстоятельствах»395*. Выходит замкнутый круг, но Станиславский сам его разрушает и идет до конца. Итог размышлений Аркадия Николаевича Торцова формулируется так: «Если артист интуитивно и правильно почувствует то, что говорит и делает на сцене, тогда верный темпоритм сам собой явится изнутри и распределит сильные и слабые места речи и совпадения. Если же этого не случится, то нам ничего не остается, как вызывать темпоритм техническим путем, то есть, по обыкновению, идти от внешнего к внутреннему»396*.
Сам «прозаический» тип художественного мышления, сама по себе конфигурация порождаемой им структуры, с одной стороны, заставляют опираться на временную доминанту формы одинаково и в действии актера, и в действии спектакля, а с другой — весь этот узел проблем невольно стягивается именно к актеру, к его природному ритмическому таланту или к тому в его душе, что порождено верным сценическим самочувствием.
294 Показательна в этом контексте трактовка метра. Выбирая в союзники ритму темп, Станиславский и к метру относится серьезно (особенно когда вспоминает о стихотворной речи), но ставит его на второй план. Темп для него, может быть, и непростой, но союзник ритма; метр, родственник метронома, лишь создает рамки, в которые ритм так или иначе укладывается. Метр в этой системе мышления поглощен ритмом или, по крайней мере, не актуален, как не актуален он в любой другой прозе.
Из убеждения, что ритм — это «заколдованное время», исходил, по всей видимости, и Мейерхольд. «Режиссер должен чувствовать время, не вынимая часов из жилетного кармана. Спектакль — это чередование динамики и статики, а также динамики различного порядка. Вот почему ритмическая одаренность кажется одной из наиважнейших в режиссере. Без острого ощущения сценического времени нельзя поставить хороший спектакль»397*, — записал А. К. Гладков. С этим должен был бы согласиться Станиславский. Солидарны учитель и ученик и в том, что самое трудное в строительстве или отыскании ритма — это все связанное с актером. По всей видимости, близость взглядов должна говорить о том, что пока мы имеем дело с некими универсальными атрибутами ритма в театре.
Но дальше, еще в пределах понимания ритма как временной характеристики действия, начинаются системные различия. Режиссер, не вынимающий часов из жилетного кармана, значимость темпа никак не может преуменьшить. Но думая о том, с чем связан все тот же временной ритм, Мейерхольд выдвигает вперед метр: «Временной кусок тот же, а структура его иная: он дает иной ритм в метре. Ритм — это то, что преодолевает метр, что конфликтно по отношению к метру. Ритм — это умение соскочить с метра и вскочить обратно»398*. Иными словами, Мейерхольд думает о ритме как поэт, для которого метр — не нечто внешнее по отношению к ритму, а всегда один, именно регулярный полюс ритма.
Сложней обстоит дело с пространственными характеристиками ритма. «Мизансцена — это вовсе не статическая группировка, а процесс: воздействие времени на пространство. Кроме пластического начала в ней есть и начало временное, то есть ритмическое и музыкальное»399*, — говорил, по свидетельству А. К. Гладкова, Мейерхольд. Ритм внятно 295 привязан к времени. Но вот другая, более развернутая мысль, касающаяся актера: «В области миметизма ему приходится изучать мышечное движение, нужно различать направление силы, производимой движением, и давление тяги, притяжения, длины пути, скорости»400*. Направления силы и длина пути, казалось бы, говорят о пространстве, а скорость о времени; на деле это все характеристики чего-то третьего. Показательна еще одна, нередко цитируемая запись Гладкова: «У меня бы провалился “Маскарад”, если бы я соглашался с просьбами дирекции начинать репетиции в маленьких фойе. Я должен был с самого начала приучать актеров к ритмам широких планов»401*. Мейерхольд программно смешивает ритмические свойства времени и пространства: один и тот же термин он употребляет в двух сферах — но не смыслах. Смысл тот же. Поэтический театр отличается от прозаического тем, что «метризует» и время и пространство по одному закону и тем самым разведя сближает или сталкивает их. Это тоже целое, но другое — синтезированное.
Эта логика обращает к тому, что М. И. Ромм назвал «общей ритмической формой». Она, как полагает кинорежиссер, «получается благодаря сочетанию внутрикадрового ритма и темпа и монтажного ритма»402*. Ромм иллюстрирует этот тезис, реконструируя свой фильм «Адмирал Ушаков», который в целом был построен отнюдь не на ассоциативном монтаже. Разбирается эпизод «Штурм Корфу»: «… монтажный темп все нарастает; фактически же сцена монтируется так: вначале на 20 метров идет примерно 10 кадров, в следующем этапе — 15 и наконец 20, то есть в середине штурма кадр в среднем не превышает одного метра… После этого следует кульминация штурма, где кадры делаются не короче, а неожиданно длиннее: 3, 5 и даже 8 метров каждый. Небольшое количество этих длинных кусков образует стремительнейший финал. Внутрикадровый темп в них ускорен до предела за счет бурного движения переднего плана и предельного насыщения кадра динамическими элементами.
Это очень ясный, школьный пример того, как сочетается монтажный ритм с внутрикадровым. В начале штурма ритм создается только монтажными перебивками, поэтому кадры делаются все короче; в финале — внутрикадровым движением, поэтому кадры становятся длиннее»403*.
296 Ромм начал анализ с того, как он наращивал темп. Ясно, что кадры — это изображения, «картинки»; от того, что именно изображено, можно абстрагироваться, и не потому, что это кино, а потому, что ритм создан «чистым» временем. Дальше, когда кадры незаметно для зрителя становятся длинней, общее техническое задание не меняется: Ромм настаивает на том, что финал «стремительнейший». Темп ускоряется до возможного здесь предела, но только теперь это «внутрикадровый темп». Быстро и резко меняется местоположение массовки, то есть меняется композиция картины-кадра. Скорость в самом деле нарастает, но вместо чистого времени эту работу берет на себя пространство. Ситуация не лишена парадоксальности: в начале изображение по сути одно, с середины — самих изображений становится больше «на единицу времени».
Отношения между темпом и ритмом здесь строго определенны: темп не цель, а средство. Ускорением темпа в обеих частях эпизода интенсифицируется ритм. Моторно или иным способом он создается, зависит от художественной задачи. Важно, что он пролагает себе дорогу во времени и в пространстве. Несмотря на то, что в каждый момент экранного действия вперед выступает какая-то одна онтологическая доминанта, время и пространство не только взаимопроницаемы, но и взаимозаменяемы.
Варианты отношений между временем и пространством, ритмом и темпом, ритмом и метром определимы — ритм спектакля можно строить. Подобного рода представления к театру применимы без натяжек, тем более что из такого кино, которое анализирует Ромм, нельзя изъять актера. Существенное различие здесь в том, что для кино ритм движения актера не критерий. Когда рассматривается ритмический строй спектакля, о реальных его свойствах можно судить по тому, как и насколько «ритм общей формы» соответствует ритму актера.
Глава 16.
ЯЗЫК И СТИЛЬ
В ощущение зрителю дана форма. Но чтобы эта театральная материя стала действительностью, она должна быть воплощена в каком-то веществе. А единственным веществом, из которого форма может быть слеплена, в котором только и может быть реализован всякий театральный текст, когда мы рассматриваем его как форму, является язык.
297 Театральный язык отличается функционально: он язык искусства, а не науки или жизни, он приспособлен для того, чтобы на нем выговаривались художественные образы; он язык рода: его знаки не застывший мрамор, не записанные слова, не краски на полотне и т. п., он состоит большею частью из меняющихся или одновременных разнообразных движений человеческого тела, лица, когда оно есть, движений куклы и тени, из сложно составленных интонаций говорения, речитатива или пения и т. д. Это значит, что он всегда еще и язык вида. Театральный язык различается по тому, какой принадлежит эпохе; если содержание, которое он реализует, сочинено — он язык какой-то индивидуальности. Словом, у языка театра много характеристик, и важно, что все они без исключения содержательны: в театре на языке действования высказываются смыслы драматического действия.
Театральный язык многажды специфичен. И едва ли не первое, на что, особенно в последние десятилетия, здесь обращают внимание, — это его принципиальная незафиксированность и опасная неотличимость его знаков от жизненных. Это и впрямь резко выделяет театр в художественном мире и иногда даже порождает сомнения в полноценности театрального искусства.
Менее демонстративны, но более существенны иные характеристики театрального языка. Например, его заведомая пестрота. Театр как таковой пользуется не одним, а несколькими языками. При этом любой из них реально состоит минимум из двух частей — языка актера и языка спектакля, для которого языковые средства поставлены литературой, изобразительными искусствами и музыкой. Впрочем, словари, в которых собраны выразительные средства самого актера и которые заполнены разнообразными движениями, тоже при желании могут быть названы словарями заимствований. Среди кредиторов артиста сцены — самостоятельные искусства танца и пения и не менее древние искусства звучащего слова и мимирования.
Но отношения между театральным языком и языками других искусств глубоко своеобразны. Возьмем, к примеру, балетный театр, где на протяжении последних столетий танцуют музыку. Музыка, согласно классификации М. С. Кагана, — род искусства404*, вполне самостоятельным искусством является и танец. Но на балетной сцене музыка живет не для своих, а для театральных целей, и ее танцуют, то есть танец превращен в язык, с помощью которого актер выражает не танцевальные смыслы.
298 Аналогично обстоит дело, когда речь о языке частей системы спектакля или частей этих частей — например, о декорации. Языки пространственных искусств на сцене тоже сдвинуты с опор, с другой стороны, их знакам насильно «присвоены» некоторые свойства, которые противоречат их природе. Когда декорацию помещают во время, она в разные моменты спектакля разное означает. Ажурная беседка художника Д. А. Крымова в начале «Месяца в деревне» у Эфроса давала и зрителям и героям ощущение гармонии и изысканной красоты; к финалу она отчетливо приобрела — среди других — едва ли не противоположные значения. Например, ажурной клетки, из которой героине не выбраться. И с другими соседями-искусствами театр поступает так же: отнимает их суверенитеты и «свертывает» в языки405*.
На развитой стадии театра становится очевидна содержательная дифференциация его языка, причем по разным признакам. Язык прозаического спектакля синкретичен. Это не тот исторический синкретизм языка, который отличает античную трагедию, когда еще не выделились, не отделились один от другого пение и говорение, речитатив и танцевание и который столетия спустя синтетически стилизовали Таиров или мюзикл. Язык прозаического театра любой эпохи — это своего рода онтологический синкретизм: здесь без автономии существуют временные и пространственные знаки, время не дублирует и не иллюстрирует пространство — они одно. В таком спектакле артист, исповедующий мхатовскую веру, может нагружать свое действие так называемым подтекстом, но этот самый подтекст, как его ни трактуй, будет выражен и временными и пластическими средствами вместе.
Язык поэтического театра и на практике, и в теоретическом пределе синтетичен. В «Лесе» Мейерхольда Е. А. Тяпкина — Гурмыжская, словами по-своему варьируя мотив «все высокое и прекрасное», недвусмысленно демонстрировала похоть. Это, на онтологическом уровне, именно синтезированный язык. Языковые планы не менялись, а были буквально одновременны, естественный симбиоз пластики и интонации в самой интимной для театра сфере, в актере, художник разодрал, чтоб затем «отдельные» движения тела и словесной речи произвольно спаять. Вопрос, стало быть, не в том, однородны по значению интонация и пластика или нет, а в самой установке: два слоя языка не просто одновременны, но параллельны, соединить их вынужден зритель, и здесь 299 неизбежно именно то, что Эйзенштейн сформулировал как закон ассоциативного монтажа: один плюс один больше, чем два; налицо своего рода «языковая композиция», разумеется, более чем аналогичная строению формы.
Показательно с точки зрения языка разное отношение театров к тропам — тяготение к ним поэзии и неприязнь прозы. В прозе значение естественно «держится своего знака», в поэзии оно с этого знака сдвинуто, что и дает метафору, метонимию и т. п. Работа с разными планами языка здесь вещественна: знак насильно соединен с чужим — противоположным ли, сходным ли, смежным, но всегда не своим — значением. (Рассуждая об этом предмете, надо учитывать вид театра: то, что в драматическом театре метафора, в театре пантомимы может быть натуральной связью между знаком и значением, о чем со зрителями условились с самых первых движений спектакля.)
Но и дифференцированный, и многообразно разными своими свойствами ориентированный, театральный язык все же остается именно и только языком. «Есть слова, — писал М. М. Бахтин, — которые специально означают эмоции, оценки: “радость”, “скорбь”, “прекрасный”, “веселый”, “грустный” и т. п. Но и эти значения так же нейтральны, как и все прочие. Экспрессивную окраску они получают только в высказывании, и эта окраска независима от их значения, отдельно, отвлеченно взятого; например: “Всякая радость мне сейчас только горька” — здесь слово “радость” экспрессивно интонируется, так сказать, вопреки своему значению»406*. Бахтин согласен с тем, что у знака (в словесном материале, с которым он работал, это слово) есть некая типическая для этого слова экспрессия, но он настаивает: «только контакт языкового значения с конкретной реальностью, только контакт языка с действительностью»407* порождает искру экспрессии, то есть в нашем случае делает знак средством выразительности.
В концепции Бахтина ключом, который отмыкает всю эту проблематику, становится жанр. Но жанр есть категория формы; должна быть своего рода формула перехода от одной ипостаси текста к другой.
И здесь вперед выступает главная содержательная характеристика художественных языков — стиль. Стиль собирает для целей художника ту или другую совокупность языковых средств, он в конечном счете 300 и есть определенная, для данного случая или данного ряда случаев взятая совокупность, комбинация средств языка408*. Тут — другое понимание «конкретности» театрального языка — не связанное с видом театра, но связанное с некими специфическими сторонами содержания спектакля. Стиль «Детства», «Отрочества» и «Юности» — стиль раннего Толстого, но шире — это, если соглашаться с литературоведами, психологический стиль. Придаточные предложения гроздьями, без конца и без меры, облепили главное настолько, что не дают ему закончиться, и, когда мы вчитываемся в «отдельный» смысл этих соединений и размежеваний, мы понимаем, что такая фраза — единственная возможность написать все эти получувства и полумысли, бесконечные оттенки, цепляющиеся друг за друга, эту, как сказал бы Чернышевский, диалектику души. Ведь пишется именно душа, фиксируются ее движения, а они не вещественны, они едва уловимы, они тянутся, и рвутся, и вновь возникают, кажется, без всякой связи, а на самом деле это отсвет чего-то бывшего, но полузабытого и так далее и так далее. Тут прямо психологическое письмо: передается движение внутреннего мира.
Когда Станиславский специально вглядывался в человеческую душу, он, подобно Толстому, стремился построить длинную, даже витиеватую, с придаточными, с причастными и деепричастными оборотами, бесконечно длящуюся, просто нескончаемую театральную «фразу». И Шостакович, пытаясь рассказать о том, что делается в душе, тоже искал в своих средствах подобные. Конечно, психологизм на балетной сцене не тот, что на драматической, но если в обоих театрах можно (и поскольку можно) изобразить движение души — стиль реально роднит между собой произносимые слова и подобное обычной жизни движение тела актера — с танцем.
В таком смысле стиль указывает, значит, не столько на конкретные средства языка, сколько на цель, с которой они выбираются, значит, прямо на некоторые свойства содержания.
Стиль несомненно происходит из языковой сферы. Это подтверждается тем, насколько идентичны собственно языковые и стилевые характеристики: в стиле не только можно, но и должно различать его родовые, 301 видовые, исторические и «направленческие», жанровые и индивидуальные признаки. Но и у попыток не сводить его к языку есть уважительные резоны: мизансцены Эфроса, частицы формы, не менее надежно говорили о его индивидуальной манере, чем специфическая «аритмия» в движениях и интонациях его актеров. С другой стороны, то обстоятельство, что художественный стиль претендует на описание не одного лишь набора знаков театрального языка, на деле свидетельствует как раз о том, что именно через стиль язык входит в связи со всем, что образует смысл спектакля.
Стиль потому так много и значит, что как бы узаконивает союз языка и формы. «Сквозь» форму и через ее голову именно он непосредственно указывает на тип содержания. П. П. Громов сформулировал это так: «Когда мы подходим к вопросу о стиле, мы подходим тем самым к качественной определенности данного спектакля. Роман Толстого отличается от романа Достоевского не наличием или отсутствием единства тона, т. е. “ансамбля”, — ведь и тут и там есть единство тона, — а определенностью различного содержания. Качественная определенность содержания и есть стиль»409*.
Стиль по-разному связан с «предметными полями» каждого искусства, но он указывает на родство между предметами разных искусств. По-видимому, не только в театральном — в общехудожественном предмете объективно наличествует сфера, связанная с отношениями между людьми, когда психика затрагивается лишь постольку, поскольку она проявляется в междучеловеческих отношениях, а есть область отношений человека с не-человеком, иными силами, например прямо с историей или с природой, Богом или Судьбой. Не исключено, что как раз такого рода характеристики изначально определяют самые большие объемы понятия «стиль». Один из поздних, психологический — среди них. Но, конечно, не только он.
Так понятые стилистические общности, однако, всякий раз по-своему пронизывают разные искусства и их виды. Они могут быть более или менее родными, органичными для одних искусств и драматически сопряженными с другими. Так, скажем, какими бы ни были успехи театрального психологизма, театру, вероятно, ближе всего сфера междучеловеческих отношений. Таков театральный предмет, такова его, театра, структура. А вот музыка и в какой-то мере словесная лирика, кажется, 302 изначально приспособлены к передаче душевных движений, и, хотя отнюдь не вся музыка или словесная лирика «психологичны», именно они заведуют душой и нередко как раз неудобной для театрального исследования душой отдельно взятой.
Предмет искусства, таким образом, налагает самые жесткие ограничения на использование тех или иных стилистических общностей. Но предмету можно подражать по-разному. В классических вариантах психологического театра диалектика души воспроизводится «адекватно» — психической тканью актерского существования. На сцене, однако, можно встретить иное: драму одной человеческой души изображает не один актер, а весь спектакль — вместе все актеры, вся сценография, вся музыка и все шумы. Общим местом стали «воспоминания»: меняется свет, и разыгрывается, нередко с участием «вспоминающего», сцена из прошлого. Так или иначе, здесь материализуется психика.
Стиль прямо протягивает руку структуре спектакля: и самый тип структуры — проза или поэзия, аналитизм или синтетизм — достаточно внятно призывает те или иные группы стилей, конкретная, локальная структура — тоже и тем более. Структура образа в театре, близком Станиславскому, по-видимому, чувствует тот же «психологический» стиль как родственный. Не случайно подобные структуры вызвали к жизни и эффект четвертой стены: отношения между сценой и залом в такого рода спектакле не прямые, не непосредственные и не принудительные. Точно так же «другой театр», когда возникает нужда, осваивает, например, публицистическое содержание и его стилистическую оснастку куда более непринужденно: здесь актер, роль и зритель «отдельны» и вступают между собою в прямой вольный контакт.
При этом связь стиля со способом мышления оказывалась порой на редкость прямой. Может быть, именно структурный принцип должно выдвинуть вперед, когда речь о стиле. По существу, об этом толковал в свое время Мейерхольд, когда утверждал, что гротеск строго синтетичен. Смена планов языка, зовущая к их сопоставлению, и есть природная техника любых стилистических «причуд», в том числе и в первую очередь полноценного гротеска. От более мягких вариантов гротеск в этом смысле отличается «лишь» заведомым, программным переходом через границу жизнеподобия. Гротеск (если его не трактовать слишком расширительно, что для научных надобностей никогда не полезно) от близкого ему эксцентризма отличается по-разному в разных отношениях. В отношении жизнеподобия, во всяком случае, куда более радикально, чем перед лицом синтетизма. Но обе характеристики, несомненно, 303 одной группы крови, потому что обе они — характеристики стиля.
Самое понятие о жизнеподобии нередко кажется размытым и недостаточно «терминологичным» потому, что связано не с одним языком, но и с типом конструкции, то есть с формой спектакля. Другими словами, жизнеподобие стиля логичней связывать именно с синкретизмом, а не с «условностью» — это явления разных рядов: поэтические и прозаические структуры по-своему одинаково отстоят от нехудожественной действительности, одинаково правдиво и одинаково условно ей подражают, но синкретический язык на формы жизни прямо ориентирован, а синтетический — нет. Эффект «как в жизни», когда его добиваются в искусстве, в том числе и первую очередь в языке, — глубоко художественный эффект. Для строительства таких форм вещество синтетического языка непригодно. С другой стороны, полноценная ассоциация в сфере формы вообще вряд ли читается без поддержки особого языка, без сдвинутых значений. Значит, мало сказать, что стиль, как и форма, глубоко содержателен; для каждого содержания и для каждого типа содержания, для каждой конкретной формы и для всякой группы форм этот набор средств языка и этот «тип набора» единствен.
Так, «психологический гротеск», скорее всего, лишь комплимент остроте выражения. Душевные противоречия, когда они становятся предметом художественного исследования и составляют содержание спектакля, достаточно строго ориентируют всю стилистическую сферу. Психологизм, и в тесном и даже в нестрогом его понимании, требует протяженного и недискретного времени; каким бы физически коротким ни был его отрезок, в этом отрезке, как минимум, одно душевное движение должно «набежать» на другое, и, если мы имеем дело не просто с диалектикой, но с драматической диалектикой души, должно явиться третье — результат противоречивого соединения первых двух. Это элементарная, неделимая «частица» психологизма. Она действительна повсюду, где психика не мотив поступка, где она важней, чем самый поступок. Так у Толстого в трилогии про Николеньку Иртеньева, так в тургеневских спектаклях Станиславского. Психологизм в этом фундаментальном смысле аналитичен и, по крайней мере в театре, выговаривается только на синкретичном языке, потому что синкретичны сами первоначальные импульсы, на которые расчленяется поток анализируемого сознания.
Между тем любой синтетический стиль, и гротеск в первую голову, и в форме, и в выразительных средствах, с помощью которых он добирается до содержания, всегда склонен не анализировать физическое 304 время, присвоив ему душевное содержание, а, напротив, свертывать его в точку: сценическая «фраза» синтетического стиля держится вспышкой сдвига. И это точно тот же механизм, который порождает языковой троп.
Глава 17.
ВИДЫ ТЕАТРА
Театральное сознание, не только обыденное, делит театр на несколько видов. Имеются простые перечни этих видов. Среди них главные театры — драматический, оперный, балетный (иногда оперно-балетный, то есть «музыкальный», иногда оперно-балетно-опереточный), театр кукол и театр пантомимы. Порой прибавляется, но нередко и опускается театр теней. Опускается тогда, когда вспоминают, что тени чаще всего отбрасываются на экран куклами, и значит, театр теней оказывается в этом случае разновидностью театра кукол. Но это пока лишь перечни. Внятного признака или совокупности всюду действующих признаков, которые бы объясняли это «разделение театра на роды и виды», не обнаруживается. В самом деле, достаточно напомнить о том, что театр кукол может быть оперным (ближайший пример — некоторые спектакли марионеток Р. Л. Габриадзе) — и привычный ряд оказывается малосодержательным набором того, что «есть». Иное дело, что некоторые из названных театров составляют «ряд» в одном отношении, а некоторые, в том числе и «занятые» в том, первом ряду, входят в иной ряд — по другим признакам. В этом и заключается реальная сложность. И потому для понимания проблемы требуются ясные критерии. Если всякий спектакль может одновременно входить в несколько рядов, критериев тоже должно быть несколько.
Сферу театрального предмета из числа тех, где нашлись бы критерии для разделения театров, следует исключить: предмет не разделяет, а соединяет все театры. То же касается и театральной структуры: она может быть разной, но независимо от вида.
А вот в области содержания поиски критериев различения могут оказаться плодотворными. В театре, который принято называть драматическим, содержание роли сводимо к тому, что это роль человека. И в пьесе и в спектакле его можно назвать и даже изобразить самым причудливым образом: это может быть Любовь, или Смерть, или Голова сахара, или Птица. Но на деле это всегда и во всех случаях человек. 305 Критик вправе настаивать на том, что у Е. А. Лебедева в спектакле Товстоногова «На всякого мудреца довольно простоты» Крутицкий был человек-пень, и это определение какую-то сторону созданного актером образа схватывает. Но все-таки Лебедев, как ни был мастеровит, в драматическом театре не мог сыграть «пень» — только и исключительно человека, не принудительно напоминающего критику пень, то есть могущего с тем же основанием напоминать и не пень. В драматическом театре нельзя сыграть понятие, чувство, вещь и еще многое другое. Только человека — впрочем, с самыми разными свойствами и по-разному понятого — например, как характер или как маска.
Через содержание роли содержание всего спектакля в существенной мере безусловно определенно: человек в роли человека. Итак, видовое своеобразие мы можем обнаружить здесь через содержание роли.
Точно то же и в театре музыкальном — оперном и балетном: содержание роли и здесь специфично. Ибо здесь оно извлекается из музыки. С точки зрения содержания роли там «театр драмы», тут — «театр музыки». И содержание роли — музыкальное, ядром которого является человеческое чувство. Не люди, как в пьесе или в романе, а чувства людей. Актеру в музыкальном театре предстоят роли чувств. Оставаясь в сфере содержания роли, следует утверждать, что содержание роли «ограничено» содержанием музыки в опере и в балете в равной мере. Любовь можно спеть или станцевать — в музыкальном театре. Но чрезвычайно трудно сыграть вещь. Только в театре пантомимы артист может изобразить вещь как таковую.
Можно сопоставить все соседние театру старые, «муссические» художества — музыку, литературу, пластические искусства. Когда театр обращается к каждому из них «в поисках содержания ролей», он получает то, что искал: в содержании каждого из этих искусств есть материал для театральных ролей. Театральными, да и просто ролями они становятся только в театре, только «в приложении» к играющему их человеку и смотрящей и слушающей публике. Но выискали-то их актеры для себя и для нас в каждом случае в строго определенном месте. Содержание (или источник содержания) роли и есть один из возможных и необходимых критериев для разделения театра на виды. Материал для роли поставили литература, музыка, пластика. Ролями стали: человек, чувство, предмет (может быть, точнее — вещь). А театр — драматическим, музыкальным или пантомимическим.
Форма предлагает другой критерий: в одном театре перед нами на сцене живой человек, в другом — кукла, в третьем тень. Это и есть 306 непосредственная форма, в которой мы воспринимаем образ. Здесь нельзя так же жестко, как в случае с содержанием, «отнести» форму к какому-то одному элементу системы спектакля. Логичней связывать форму со всею сценической частью образа и так на основании формального критерия построить другой, в отличие от содержательного, ряд: театр «живого актера» (более удачного названия пока не придумали), театр кукол, театр теней.
Два эти ряда пересекаются: театр кукол может быть музыкальным, а может быть драматическим, в театре теней можно и говорить и петь, и т. д. Если так, на реальный смысл могут теперь претендовать только «двухступенчатые» определения. Например, драматический театр кукол. И хотя на практике переход к таким определениям вряд ли возможен, научно они «на порядок» корректней тех, какими мы пользуемся.
Третья из обозреваемых нами сфер спектакля — язык. Из этой области тоже должны и могут быть извлечены свои критерии для разделения спектаклей. Как минимум, для музыкального театра нужда в таких критериях актуальна. Музыкальную по происхождению и содержанию роль в опере поют, а в балете танцуют: в качестве языков обеих главных ветвей музыкального театра выступают самостоятельные искусства — пение и танец. Но этого рода критерий необходим и для понимания драматического театра. Не только содержание роли, но и существенная часть ее языка — слова — подарена театру литературой. Есть точка зрения, согласно которой в тылу словесной речи актера другое, некогда самостоятельное искусство — ораторское. В любом случае, однако, целый слой языковых средств драматического театра получен им от соседних искусств точно так же, как пение дало язык опере, а танец балету. И точно так же самостоятельное искусство мимирования стало языком театра пантомимы.
Теперь виды театра приходится определять, исходя одновременно уже из трех критериев — содержательного, языкового и формального. Форма во всех этих вариантах рассматривается как видообразующая по отношению ко всей целостности создаваемого актером сценического образа; содержание характеризует роль, а язык «принадлежит» актеру: говорящий; поющий; танцующий; мимирущий. Опера теперь должна быть определена так: театр — живого — поющего — музыкальную роль — актера. Это непереносимо громоздко, но базируется на внятных критериях и, значит, строго.
Родство между танцующей балериной и танцующей куклой безусловно. Так же как родство «живой» танцующей артистки балета и «живого» 307 драматического актера, так же как органическая близость между танцующим и поющим, если они танцуют и поют музыку. Три разных родства, и все несомненны. Характеристика вида в таком случае становится заведомо интегральной.
У такого способа делить театр на виды есть еще один резон. Именно на этом уровне возникает реальная возможность сопоставить две группы характеристик спектакля, системно-структурно-элементную и содержательно-формально-языковую, спектакль как произведение театра и спектакль как произведение искусства. Виды театра определяются в своей специфике не только на основании принадлежности их содержаний, форм и языков, но и по тому, какие части системы спектакля оказывают в каждом случае решающее влияние на эту принадлежность. В одном случае это актер — язык «его»: не роль поет, это он поет; в другом случае это роль: содержание — это в решающей мере ее содержание. В третьем случае важней всего связанные между собою актер и роль, то есть сценическая часть системы, но не зрительный зал.
Четыре пересекающиеся типологии вида и в совокупности не делают его полным хотя бы потому, что не вбирают множество переходных и межеумочных вариантов. Но целью подобной классификации не должно быть «заполнение всех ячеек», пустующих в четырехмерной театральной таблице Менделеева. Разделение театра на виды дает возможность сопоставить эти виды по принципиально разным признакам, нащупать критерии, на основании которых данные понятия, с одной стороны, необходимы и достаточны, и с другой — по искусствоведческим возможностям однозначны и определенно содержательны.
Спектакль определенного вида по отношению к нему же как произведению театрального искусства — не только и не просто более «частное», более конкретное явление. Это принципиально более содержательный феномен. Следующей ступенью в глубину становится конкретный спектакль, то есть совокупность (если она есть) ежевечерних представлений. Лишь такое представление является последней ступенью различения, самым большим из мыслимых театральным богатством. Ибо уже на уровне «спектакля» к многоаспектности вида прибавится как раз индивидуальность этой роли, этого актера, этих отношений между ними и между этими актерами в этих ролях между собою, и между ними и всеми остальными элементами спектакля; здесь вся сценическая часть структуры «воплотится». Но и здесь — не окончательно. Ибо хотя на протяжении всей жизни спектакля актеры будут (в принципе) те же, 308 роли «трактованы» так же, отношения между ними, тоже в принципе, в целом, заданы, и на уровне спектакля будет та же комбинация средств языка, тот же жанр и т. д., — на этом уровне останется слишком абстрактной, обобщенной одна из решающих величин — зрительный зал. Только с его участием актер и роль войдут в реальные отношения не только с публикой, но и между собой, и только здесь выяснится, каков жанр спектакля, и только тут резкость поворота головы актера и высота колосников сцены обретут смысл.
Глава 18.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Итак, драматическим принято называть лишь один из видов театра, а именно театр «живого актера» — в отличие от театра кукол и театра теней с их актерами-куклами и актерами-тенями. Но образ, создаваемый в драматическом театре актером, предстает в форме «живого человека» еще и потому, что актер играет роль человека, в отличие от актера театра пантомимы и музыкального театра, где роль может быть чувством или вещью. Наконец, средствами языка актера в драматическом театре являются физическое действие и слово, в то время как в музыкальном театре — пение или танец, а в театре пантомимы — особого рода движения. Все это определяет «сферу компетенции» театра, который принято называть драматическим.
Видовые особенности этого театра очевидно приспособлены для развертывания содержания, связанного с социальными, междучеловеческими отношениями, и для повествовательного, вдоль фабулы, развития действия и проведения интриги. Но в повествовательном изложении может быть раскрыто и содержание, связанное с внутриличностными, психологическими противоречиями, а для театра, даже и повествовательного, это трудно, поскольку реально на сцене всегда действуют люди, вступающие друг с другом в разнообразные отношения, и нужно предпринимать специальные усилия, чтобы в таких условиях предметом исследования стали не эти отношения, а то, что происходит в душе того или иного героя. По той же причине нельзя назвать «соприродной» всякому драматическому театру и философскую проблематику, то есть противоречия между человеком, с одной стороны, и судьбой, роком или течением жизни — с другой, которая более открыта поэтической структуре с ее ассоциативным принципом развития действия. Но 309 и с этими сферами содержания драматический театр порой успешно справлялся.
Специально, вероятно, следует остановиться на условности драматического театра, которая в силу его специфики (и не только) иногда становится проблемой. Сетование А. С. Пушкина «правдоподобие все еще полагается главным условием и основанием драматического искусства»410* актуальности не утратило. Привычка считать жизненное правдоподобие наиболее естественным для драматического театра по-прежнему глубоко и небезосновательно укоренена в театральном сознании. Образ, создаваемый актером в драматическом театре, — человек, говорящий и физически действующий, — на самом деле больше всех театральных образов напоминает живого действующего человека в жизни. Отсюда ожидание, чтобы театр и оставался в этих кажущихся естественными для него рамках, и протест против любого отклонения от жизнеподобия. Но как бы ни был похож созданный актером образ на человека в жизни, он — художественное создание. И как всякий художественный образ, независимо от принадлежности к виду и роду искусства — условен.
Видовые особенности драматического театра могут привести и к выводу о том, что они обрекают его на жанр драмы. Драма действительно близка этому виду театра, что по-своему оправдывает его название. Однако в действительности и античный, и средневековый, и собственно драматический театр, самоопределившийся в эпоху Возрождения, предстал вне рамок этого кажущегося жанрового предназначения. А чтобы освоить жанр драмы, когда в этом возникла историческая необходимость, театру пришлось даже преодолевать то, чем он привык пользоваться при работе с «крайними» жанрами.
В античном театре игрались именно «крайние жанры», трагедия и комедия. Дистанция между обычными людьми и трагическими героями античности в существенной мере определялась тем, что эти герои были связаны с близкими зрителю, но все-таки героями мифов. Ощущение величия трагических героев в античном театре возникало уже от их укрупненных фигур, которые создавались благодаря обуви на каблуках, позднее — котурнам и — онкосу под париком; а также благодаря объемным костюмам, оставлявшим, однако, тело пропорциональным. Монументальность трагического героя обеспечивалась и передающей 310 страдание маской с париком, с раскрытым ртом, опущенными уголками губ, зияющими провалами глаз и правильной формы носом, а позднее — маской-шлемом. Специальной, далекой от жизнеподобной, была и пластика этих героев с их величавостью и неспешной размеренностью жестов. Их движение было «преувеличенным, торжественно сдержанным»411*. Трагическим героям присущ сильный, порой громового звучания голос; певучая декламация и речитатив, речь, по определению Аристотеля, «торжественная и уклоняющаяся от обыденной»412*. Все это было вызвано не только масштабами театральных сооружений, но также необходимостью представить героев возвышенных и значительных.
Комические герои имели обычно объемное тело уродливых пропорций, которые достигались с помощью короткого костюма со специальными передними и задними накладками. Персонажи были снабжены маской с раскрытым от уха до уха ртом и приплюснутым носом. Комические герои наделялись высокими, сбивающимися на визг голосами, торопливой речью с резкими интонациями, а их жесты были «карикатурно буффонными»413*.
Чтобы представить на сцене трагических и комических героев, свои условные средства языка уже драматический театр применял в эпоху Возрождения. Упомянем здесь в качестве примера мощь декламации, громоподобный голос и бурную жестикуляцию английского трагика Эдуарда Аллейна или, например, поэтическую декламацию актеров «Глобуса», в первую очередь — Ричарда Бербеджа.
С помощью масок создавала образ героя комедия дель арте. Итальянские комедианты «довели до высшей степени совершенства чистую форму своего искусства… Игра в маске еще усиливала выразительность всего их тела»414*. У так называемых «четырех масок», Панталона, Доктора и двух Цани (в такой транскрипции названия масок приведены К. М. Миклашевским), «разговор и все приемы игры были выдержаны в гротесковых фарсовых тонах»415*.
На трагедию и комедию ориентировался классицистский драматический театр. Возвышенная поэтическая речь его трагических героев 311 приближалась к пению, интонирование порой фиксировалось с помощью нотной записи, как это делал Ж. Расин, обучая декламации актрис Бургундского отеля Терезу Дюпарк и Мари Шанмеле. Пластика героев воссоздавала пластику античных скульптур. Благородное величие по балетному выверенных жестов подчинялось строгим нормам. Герой «жестикулировал… пока он говорил. <…> Замолкая… застывал в неподвижной картинной позе и стоял на сцене, безучастный ко всему происходящему»416*.
При создании образов классицистской комедии актеры также пользовались рационально выверенными эстетизированными жестами, которые можно представить, например, по портретам Ж.-Б. Мольера в разных ролях. Нередко жесты, движения, позы его героев органично переходили в полные изящества танцы. Для создания комических героев мольеровская труппа использовала и присущую ей высокую культуру стихотворной речи.
В эпоху Просвещения английский актер Дэвид Гаррик, «стремясь отражать “природу”… в то же время несколько приукрашивал ее». «Это была красивость в стиле рококо… погоня за красивостью заставляла Гаррика, например, никогда не отступать от балетной техники движений»417*.
Свой тип условности возник в игре романтических актеров. Они нередко использовали контрастные переходы в голосе, в котором резко сменяли друг друга дрожь, раздирающий крик и шепот, как это делала, например, предвосхитившая романтизм английская актриса Сара Сиддонс в роли леди Макбет. Для мелодраматических героев, которых во множестве играли романтики, были характерны неестественно экспрессивные жесты, контрастность мимики, чрезмерно пафосная речь. Немецкие актеры Иоганн-Фридрих-Фердинанд Флек и Людвиг Девриент воплощали необузданные эмоции шиллеровских героев с помощью громового голоса, рыданий, зубовного скрежета, метания дикой страсти из глаз, резкого грима418*. Внезапными порывами, приподнятостью, резкими переменами тона, контрастами отличалась игра итальянских актеров «большого стиля» Аделаиды Ристори, Томмазо Сальвини, Эрнесто Росси.
312 Русский театр — в силу исторически объективных причин — позднее и ускоренными темпами вплоть до рубежа XIX – XX веков проходил этапы развития, типологически во многом сходные с пройденными западноевропейским театром. И, разумеется, пользовался соответствующими мерами условности.
Размышляя о русском театре XIX века, который «почитал себя театром реальным, театром, верно и точно передающим жизнь изображаемых героев», П. А. Марков писал: «Этот театр… на самом деле, конечно, не был театром жизненного правдоподобия. Его правда была иная — театральная, условная, его реализм был условным реализмом; таковы были и средства его сценической выразительности»419*.
Что касается Московского Художественного театра, то он, по мнению того же Маркова, «наиболее полно сближал актера, сцену и театр с жизнью»420*. Но любому конкретному художественному направлению, манере, методу доступно одно и недоступно другое. Художественный театр здесь не исключение, что неоднократно зафиксировано самим Марковым. Во многих статьях, посвященных актерам Художественного театра, критик обнаруживает условность средств их языка, а также условность созданных ими образов, которая возникает, например, в результате разного рода преувеличений или концентрированной подачи отдельных свойств персонажей. Так, Леонид Леонидов «в большинстве своих характерных ролей… пользовался ярким гримом, резкими движениями, необычностью облика, доходящего почти до гиперболы, даже костюмы, в которые были одеты его герои, были так же подчеркнуты и кричащи, как их внутреннее существо, как их жесты и интонации»421*. У Ивана Москвина «несколько выхваченных и подчеркнутых черт освобождают образ от всего лишнего, случайного»422*.
Очевидный фактор условности происходящего на сцене — сосуществование персонажа и его творца, которое может обнаруживаться разными способами. Говоря о Василии Качалове, Марков отметил: «Монологи Чацкого или Бранда виртуозны по своей музыкальной фактуре. Качалов увлекает музыкальностью своей речи, он заставляет слушать и наслаждаться»423*. Такого рода замечание — явно сущностное, не комплиментарное. 313 Оно указывает на содержательность самой музыкальности речи, на самоценность мастерства актера, его виртуозность, которые как таковые увлекают зрителя. Качество исполнения становится здесь не только средством создания образа, оно, разумеется, вместе с самим с актером-виртуозом — объект внимания зрителя наряду с персонажем, созданным актером. Речь идет не только о наличии дистанции между ролью и актером, в принципе неисчезающей, но и об особенном ее проявлении в игре Качалова, которое делает ее отчетливой.
Художественный театр и театры такого же типа, для которых идеальной целью является слияние актера с персонажем, разумеется, не уничтожили дистанцию между ними, имманентную театральной игре. Мало того, нередко в игре его актеров она оказывалась ярко выявленной. В театре, который принято в театроведении называть «условным», эта дистанция программна, как это было, например, в театре Мейерхольда.
Рассматривая конкретные исторические примеры, мы обратили внимание на условность средств языка актера и персонажа. Сценический персонаж, созданный с их помощью, конечно, предстает как условный образ. Формы таких образов различны. От «маски» — схематически обобщенного социального типа, как в комедии дель арте, до характера — развивающегося обобщенно-индивидуализированного образа, который создавали, например, актеры Художественного театра. В диапазоне между ними образы отличаются друг от друга, скорее всего, не линейно, не последовательным увеличением количества индивидуальных черт от маски к характеру. Это может быть, в частности, череда масок, в виде которой предстал, например, Дон Жуан, сыгранный Юрием Юрьевым в спектакле Мейерхольда «Дон Жуан»: «то галантно-придворный кавалер, то духовно опустившийся аристократ, то философ-скептик, то шутливый соблазнитель и т. д. и т. д.»424*. Или — Хлестаков Эраста Гарина в мейерхольдовском же «Ревизоре»: «В каждом эпизоде это был новый человек — то кочующий шулер, то петербургский чиновник-волокита, ловелас, то блестящий гвардеец, то столичный мечтательный поэт, то высокомерный, удачливый карьерист»425*.
Оставаясь человеком, персонаж может предстать в драматическом театре вообще на грани человеческого. Такими были «разорванно-болезненные странные люди» М. Чехова. «У него особая манера говорить: 314 он внезапно выпаливает не слова, а звуки; звук разрыва тесно сомкнутых губ окрашивает речь; иногда кажется, что речь и слова живут сами по себе и… герой не волен удержать слова, которые сейчас польются из его уст», — размышлял Марков о манере речи чеховского Мальволио из «Двенадцатой ночи», переходя затем к пластике чеховских героев: «Точно так, как иногда представляется: слова, звук владеют этим человеком, так иногда представляется: жест, движения владеют им. Неожиданно вылетает вперед правая рука, в комических ролях явно обнаруживая несоответствие своего положения с остальными частями тела, и все они вдруг приходят в движение, каждая действуя на свой риск, поступая по своим законам, не подчиняясь законам движения всего тела»426*.
До сих пор речь шла об образе, создаваемом актером. Музыка как одна из составляющих частей спектакля, аккомпанируя этому образу или вступая с ним в отношения контрапункта427*, как минимум не способствует сдвигу этого образа и образа спектакля в целом в сторону жизнеподобия. То же и со сценографией, будь она всегда остающимся условным обозначением места, «ассоциативными, аккомпанирующими голосу»428* декорациями художников-«набистов», как в парижском Художественном театре П. Фора, или станком для игры, как конструкция Л. С. Поповой в «Великодушном рогоносце» Мейерхольда.
Иногда драматический театр так или иначе заимствует законы других родов искусства. В этом творцы театра похожи на поэтов, создающих «напевную лирику»429* или композицию стиха, сходную с музыкальной композицией430*; художников и архитекторов, стремящихся в линии и камне «запечатлеть музыку»; композиторов, иногда пытающихся вызвать зрительные ассоциации, и т. д. Принципы живописи и барельефа использовал при построении мизансцен Мейерхольд в своих спектаклях «Гедда Габлер» и «Сестра Беатриса». В поисках «идеала» гармонии спектакля в целом и отдельных его составляющих или в стремлении достичь степени обобщения, которая выходит за пределы, кажущиеся доступными драматическому театру, то интуитивно, то осознанно создатели сценических произведений порой ориентируются на музыку. Так, 315 Щепкин «добивался от своих партнеров тональностей, определяющих характер персонажа, чтобы настраивать соответствующим образом и свою игру»431*, — писал С. В. Владимиров, ссылаясь на свидетеля репетиции, где Щепкин просил партнера дать ему «ноту». На недоумение коллеги, который не понимал: «Какую ноту? Для чего?» — актер отвечал: «Как для чего? Для аккорда»432*. Э. Г. Крэг создал «движущиеся сценические конструкции», которые ассоциировались с развитием музыкальных форм. Композиция мейерхольдовского «Ревизора» была проанализирована А. А. Гвоздевым как композиция симфонии433*.
Драматический театр, как и другие виды театра и другие роды искусства, имеет свои возможности и свои ограничения. Что касается его условности, то она обеспечена не только тем, общим для всех видов театра, фактом, что спектакль играют «в здании, разделенном на две части, из коих одна наполнена зрителями, которые условились, etc.»434*. Он условен по-особому, как по-своему условны и другие виды театра.
Глава 19.
ОПЕРНЫЙ ТЕАТР
Задача этой главы — ввести читателя в круг вопросов, связанных со спецификой оперного искусства, посвятить в дискуссии, которые ведутся уже более четырехсот лет, с момента возникновения оперы по сей день.
Сложность проблемы заключается в следующем: можно вполне определенно различать оперу и оперный театр, характеризовать оперу и как вид музыкального искусства, и как вид театра. Но это не будет прямым аналогом различия литературной драмы и драматического театра. Драму может прочесть каждый, кто умеет читать. Прочесть оперу в ее полиграфическом выражении могут единицы — люди, имеющие 316 специальное музыкальное образование. Драма прочитанная существует в сознании читателя, можно добавить — в общественном сознании. Неозвученная опера фактически не существует. Драма может рассматриваться как факт литературы, и очень невелика практика чтения ее со сцены вне пространственного решения. У нее почти нет основания становиться временным искусством: только как театр она развивается на сцене во времени и пространстве. Оперу можно воспроизвести и без театра. Поместить на сцену оркестр, поставить певцов и исполнить от начала до конца на концертной площадке. В этом случае она лишится визуального ряда и останется в ранге музыкального искусства как искусства временного. И будет существовать, и восприниматься, и волновать чувства, будоражить фантазию слушателя. Некоторой части оперной публики такая форма воплощения даже кажется предпочтительной. Концертное исполнение опер — мировая практика.
С точки зрения музыки определение оперы может быть кратким — это синтез музыки и драмы, или музыки и драматической поэзии. Как сказано в Музыкальной энциклопедии, опера — это «род музыкально-драматического произведения. <…> В отличие от различных видов драматического театра, где музыка выполняет служебные, прикладные функции, в опере она становится основным носителем и движущей силой действия. Для оперы необходим целостный, последовательно развивающийся музыкально-драматический замысел»435*. Тут вполне уместно привести и определение, часто повторяемое Б. А. Покровским, — «опера это драма, писанная музыкой». Для оперы как вида музыкального искусства взаимоотношения музыки и драмы являются стержневыми, отделяющими оперу от других музыкальных форм на протяжении всего ее исторического развития. Все основные оперные реформы связаны с тем, как взаимодействовали музыка и драма в разные исторические и эстетические эпохи.
Опера родилась как «dramma per musica», драма на музыке, и служила целям усиления эмоционального воздействия поэзии в подражание античным образцам, но без адекватного понимания синкретической природы античного театра. Философы, поэты, музыканты кружка графа Барди, члены так называемой Флорентийской камераты, «придумали» оперу, опираясь на опыт предшествовавших эпох в развитии монодии и инструментального оснащения пения и ориентируясь, согласно духу Ренессанса, на «золотой век» искусства. Редкий случай в истории 317 искусств — известна дата появления на свет первого сочинения, именуемого оперой: «Дафна» поэта О. Ринуччини и музыканта Я. Пери была исполнена во время карнавала во Флоренции в 1597 году (текст произведения утрачен). До сих пор не только научный, но и практический интерес — интерес театров — вызывает первая дошедшая до нас опера — «Эвридика» образца 1600 года тех же авторов. А в 1607 году уже создано первое классическое оперное творение — «Орфей» К. Монтеверди. Новое искусство развивалась стремительно. Называлось оно словом «опера», тогда еще совершенно безликим, ибо в прямом переводе это означает труд, сочинение, произведение. Опера поначалу — это просто опус, который еще надо вписать в определенный разряд искусства. «Драма на музыке» или «драма через музыку» (переводят по-разному) и стала таким первым уточнением, конкретной реализацией стремления подражать образцам античного театра. Слово «опера» в современном значении стало употребляться с 1639 года.
Затем в лидеры вырывалась то одна, то другая составляющая. По мере развития вокального искусства и понимания неотразимой власти человеческого голоса над слушателем драма отступала в сторону, на второй план. Вокал, преодоление технических трудностей, виртуозность пения (особенно кастратов) превращали данный тип музицирования в самостоятельно значимый. Драматическая сторона оперы при еще не развитом оркестре (в техническом и содержательном плане) сосредотачивалась в различных типах вокального высказывания (схематично — речитатив как движение сюжета и различные формы арий как выражение эмоционального состояния героя) и постоянно тормозилась за счет непомерного разрастания каденций, желания украсить мелодию мелизмами — трелями, форшлагами, глиссандо и т. д. Увлеченный и восторженный слушатель мог в итоге и забыть, кто этот персонаж и что с ним происходит, действие заменялось рассказом, а рассказ терял смысл, разрастался во времени, тормозил развитие сюжета.
На начальных этапах развития оперы взаимодействие музыки и драмы было весьма относительным, обобщенным. О событиях публика узнавала из слов в первую очередь и из общего характера музыки во вторую. Реформа Глюка вернула оперу в лоно драмы. Если сравнить двух «Орфеев» — Монтеверди (1607) и Глюка (1762) — разница будет очевидной. В первом случае слово предоставляется персонажу по имени Музыка, которая повествует о своей чудодейственной силе и предуведомляет о представлении мифа об Орфее. Затем следует рассказ пастухов о предстоящей свадьбе Орфея и Эвридики, после чего влюбленные 318 направляются в храм благодарственной жертвы. Орфей предается воспоминаниям о первой встрече с возлюбленной, и лишь затем Вестник является с сообщением о том, что Эвридику укусила змея… Рассказ (музыкальный монолог) как повествование перемежается с рассказом — воспоминанием и т. д. У К. В. Глюка (точнее, у Р. Кальцабиджи — его либреттиста и соавтора реформы) мы застаем Орфея в момент, когда Эвридика уже ушла в царство теней. Здесь экспозиция сразу дана как часть душевной драмы — переживается чувство утраты в связи со свершившимся событием. Способ развертывания сюжета и «озвучивания» его принципиально разный (не в оценочном плане, а в плане изменения функций — слова и его подачи, его «омузыкаливания», способов развития сюжета, оркестрового сопровождения, более или менее связанного с выражением событийного ряда и эмоций, и т. д.).
Далее опера продолжила свои колебания от музыки к драме и обратно, пройдя через романтизм как период нового осознания чувственной природы музыки в ее драматическом выражении. Впервые (у К. М. Вебера) классическую ясность оркестра венских классиков сменили другие средства музыкального высказывания, соединившие характер звучания оркестра с драматической ситуацией так, как не бывало прежде. Не случайно найденное Вебером явилось источником многих оперных вдохновений, особенно Р. Вагнера. Именно он в определенном смысле завершил путь оперы от «драмы на музыке» к «музыкальной драме», когда оркестр взял на себя функции развития драматической мысли (система лейтмотивов) и в сочетании с пространной вокальной партией персонажа усилил роль музыки, превратив ее в главного двигателя драматической ситуации. В этом плане велики также заслуги Дж. Верди, шедшего к «музыкальной драме» своим путем — через мелодраму, через крайнее обострение драматических узлов действия (отсюда, особенно в его ранних операх, иногда немыслимые навороты событий в либретто — узнавания, переодевания, смертельные столкновения героев, динамичные повороты судеб, развязка сюжета с большим количеством жертв). По мере возрастания роли музыки снижалась роль собственно слова, оно переставало быть той высокой поэзией, для подачи которой подсобную роль играл инструментальный аккомпанемент. (Классический пример общего для оперы процесса — «Жизнь за царя» М. И. Глинки, которая рождалась сначала как музыкально-драматургическая концепция, либреттист оперы Е. Ф. Розен порой «подтекстовывал» готовые музыкальные эпизоды. Альтернатива этому — оперы А. С. Даргомыжского, а затем М. П. Мусоргского на неизмененные тексты Пушкина.)
319 Опера XX века так или иначе варьировала найденные формы, то отказываясь от мелодии в пользу речитатива (А. Берг, Д. Д. Шостакович в «Носе»), то возвращаясь к мелодии в форме «песенной оперы» (И. И. Дзержинский, Т. Н. Хренников), то приспосабливая оркестр к бытовым ритмам новой эпохи (джазовые оперы Э. Кшенека и «производственные» В. А. Мосолова здесь на разных полюсах понимания «быта»), то бросаясь на поиски совершенно новых медитативно-минималистских созвучий (Ф. Гласе) и т. д.
В любом случае общая тенденция вела и ведет к тому, что музыка все более вольно способна взаимодействовать с либретто, со словом, все более широко и глубоко осознает свою роль главного текста музыкальной драмы. Опера именно этим отличается от других музыкальных форм, что, в свою очередь, дает простор для сценической интерпретации. Причем обретенная свобода взаимодействия оперы и театра сегодня проецируется и на ранние формы оперы, позволяя постановщику обращаться к музыкальному материалу как главному источнику создания пространственно-временных координат спектакля.
Ясно, что опера может и должна быть предметом научных штудий чистого музыковедения с точки зрения анализа музыкальных форм (начиная с атомов мелодии или оркестровой партии и кончая способами развития музыкально-драматической мысли). И одновременно опера может явиться объектом изучения театроведения — с точки зрения заложенного в музыке действия и, соответственно, типа театра. Надо отметить, что две науки в этом смысле находятся в крайне неравном положении. Музыковедение существует не одно столетие, театроведение — неполный двадцатый век. Но именно в этом веке опера и начала сознавать себя театром в особом, не свойственном ей прежде понимании. В 1926 году один из крупных теоретиков музыкального искусства и искусства оперного театра Б. В. Асафьев написал: «Недавняя формула: “Опера — прежде всего произведение музыкальное”, со всеми вытекающими отсюда последствиями отжила свой век, и на смену ей пришло иное воззрение: нет оперы вне театра и его требований, ибо театр самостоятельное и властное искусство»436*.
Века двадцатого не хватило на то, чтобы формула «опера есть театр» «овладела массами». Борьба между музыкоцентристскими и театроцентристскими позициями ведется по сей день. Вернемся к определениям того, что есть опера, еще раз — расширяя и уточняя взгляд на предмет.
320 Чуть более десяти лет после выхода в 1978 году третьего тома Музыкальной энциклопедии, в котором дано приведенное выше определение оперы, тот же автор — музыковед Ю. В. Келдыш — в Музыкально-энциклопедическом словаре 1991 года выпуска изменяет свою формулировку: «Опера (с итальянского букв. — труд, дело, сочинение) — вид музыкально-театрального искусства»437*. Не род музыкально-драматического произведения, как было сказано раньше, а вид искусства. И дальше повторяется общая для обоих изданий фраза о синтезе в опере «слова, сценического действия и музыки». В данном случае не вполне правомерно соединяются разные ряды многосоставного понятия оперы, будто музыкознание не хочет делиться самой значительной и крупной своей музыкальной формой как объектом для анализа с другими науками, отраслями искусствознания. Музыка и слово зафиксированы композитором и либреттистом в одной системе знаков, имеют один способ выражения, а сценическое действие — другой (ремарки, обозначающие место действия или движение персонажа, в счет не идут, так как не являются описанием сценического действия в том смысле, какой вкладывают в это понятие теория и практика театра). Сценическое действие — принадлежность спектакля, хотя и сочиненного заранее, но происходящего здесь и сейчас. Спектакль — владения другой науки.
Имеет смысл привести и ряд определений, данных с позиций театроцентризма. Так, в Театральной энциклопедии по поводу оперы сказано следующее: «Опера — синтетическое художественное произведение, содержание которого воплощается средствами музыкальной драматургии в сценических, музыкально-поэтических образах. Опера органически соединяет в едином театральном действии вокальную и инструментальную музыку, драматургию, изобразительные искусства, хореографию при ведущем значении музыки. Особенность оперы заключается в том, что ее действующие лица не говорят, а поют»438*.
«Опера — это спектакль, в основе которого лежит либретто, с оркестром, хором и певцами-солистами, состоящий от начала до конца из музыки и пения (хотя возможны и разговорные вставки) и иногда включающий хореографические фрагменты. Поскольку опера ставится в театре, она относится к роду зрелищных развлечений, но доставляет удовольствие также и слуху как совокупность звуков, поданная 321 в форме представления», — считает итальянский музыковед Г. Маркези439*.
Задолго до него подобное мнение высказывал Б. В. Асафьев: «Опера — театральное (то есть зрелищно-сценическое) произведение»440*. Еще раньше, в словаре Брокгауза и Ефрона, читаем в статье Н. Ф. Соловьева: «Опера — художественно-драматическая форма театральных представлений, в которой речь, соединенная с музыкой (пение и аккомпанемент), и сценическое действие имеют преобладающее значение»441*.
Польский историк оперы, автор книги «Оперный театр» Б. Горович возвращает оперный театр к синкретизму: «Опера есть театр. Если на время отказаться от термина “опера”, возникшего лишь в XVII веке, и заменить его термином “музыкальный театр” или “лирический театр”, то такой театр и следует считать первым, древнейшим театром мира. Театр, называемый драматическим, является — при всех оговорках насчет точности нашего определения — как бы деформацией жанра, гипертрофией одного элемента (литературы) за счет другого (музыки). Впрочем, история театра дает нам немало свидетельств того, что он будет искать этот утраченный, но необходимый ему компонент»442*.
В каждом определении — следы полемик разных эпох и разных стран. И подобно тому, как под напором ветра перемен раскачивались, как маятник, внутри оперы отношения музыки и драмы, так на другом этаже эстетических координат, но довольно синхронно с первой парой понятий опера осмысляла себя то музыкой, то театром и даже тотальным театром, «перво-театром». Учеными от музыки она изучена лучше, подробнее, детальнее, с помощью веками разрабатываемого понятийного аппарата. Ученые от театра в большей степени занимаются театром драматическим, и научный аппарат опероведения фактически не разработан. В любом случае приведенные формулировки в основе своей содержат и ту систему понятий видовых особенностей оперного театра, которая предложена в данной книге. А именно — содержанием оперного театра является чувство, эмоция, страсть — душевный мир человека, формой — музыка, языком — пение.
Б. Горович фактически говорит о том же, только другими словами: «Для нас, размышляющих ныне об опере, сочетание звучащего в пении 322 слова и драматической музыки, служащей целям эмоциональной выразительности, составляет самое существо жанра»443*. Закроем глаза на слово «жанр»…
В круге подобных размышлений находился и Б. В. Асафьев, когда в статье «Опера как бытовое явление» 1926 года писал: «Трудно быть в концертном зале и в театре одним и тем же человеком. Поэтому главное в опере — драматически музыкальное развитие, динамика эмоций, сила взрывов чувств и умение такие взрывы подготовить. <…>
Опера не отвлеченная концепция, а факт, вернее, непрестанный опыт трансформации эмоций. Опера идет от потребности выразить в звуке чувство. Развитие в ней действия — это чередование периодов накопления и моментов разряда эмоций»444*.
Оперный театр — театр чувств и эмоций, выраженных в инструментальной и вокальной музыке собственными способами развития музыкальной мысли. Это — один слой проблемы. Другой — все то же, но на уровне спектакля — театральной версии партитуры, театральной реализации партитуры, театрального воплощения. Отношение к спектаклю как самостоятельно значимой эстетической единице тоже менялось в процессе исторического развития. До появления на рубеже XX века режиссуры главенствовали авторы музыкально-драматического текста (по XVIII век включительно либреттист не просто был уравнен в правах с композитором, но иногда значился на первом месте). О том, кто на протяжении по крайней мере трех столетий отвечал за сценическое воплощение оперы, какие этапы проходила опера как спектакль, специальных работ не написано. Но логика театрального бытия оперы здесь не сильно отличается от логики развития драматического театра, рассмотренной в статье С. В. Владимирова445*. (В постановочном процессе попеременно координирующую роль мог играть и руководитель труппы, и первый актер, и сам автор — либретто или музыки, или машинист сцены, декоратор и т. д.) Существенная поправка в том, что в оперном театре более значительную роль всегда играл художник. Оперные спектакли обставлялись богаче, пышнее, декоративной стороне уделялось всегда более пристальное внимание начиная с тех времен, когда опера являлась частью дворцовых ритуалов. Опера как зрелище 323 в истории театра чаще всего служила толчком для развития декорационного искусства, затем сценографии в современном понимании слова, ибо здесь визуализировалась музыка как надбытовое явление.
С возникновением режиссуры установка на подчиненность всех компонентов музыке получила новые обоснования, породила новые дискуссии теоретиков и практиков. Считалось, что «режиссер и дирижер расшифровывают то, что запечатлено в партитуре, а публика производит решающий актуальный отбор»446*.
Процесс этой расшифровки, а тем более конечный результат — спектакль — давали и продолжают давать самый различный материал для анализа взаимоотношений музыки и театра. Исходя из понимания этих взаимоотношений, на определенном этапе истории театра (двадцатого века, а не раньше, когда не существовало такой альтернативы) и решался вопрос о том, кто в опере «главный» — режиссер или дирижер. Если исходить из логики «расшифровки», то, казалось бы, кто, как не дирижер, представитель музыки в музыкальном театре, способен адекватно замыслу композитора «прочесть» партитуру. Но на практике этот вопрос решался просто — кто талантливей, тот в случае спора и подчинял оппонента логике своего понимания партитуры. В теории же дело обстояло и обстоит сложнее.
Тот же Б. В. Асафьев, писавший о «расшифровке» заложенного композитором, подчеркивал, что опера «рождена для сцены и сцене должна подчиняться»447*. И объяснял почему: «Формы оперы текучи и неуловимы. Если даже композитор обдумает каждую деталь и свяжет все звенья, сценическое воплощение их разорвет или в лучшем случае к ним только приблизится. И каждое новое возобновление уже шедшей партитуры — это ее новое перевоплощение. Для музыканта партитура, как она написана, остается в неприкосновенности. Для публики же есть только спектакль и захватывающие моменты из него»448*. Асафьев не говорит здесь о том человеке, который и призван произвести театральное перевоплощение партитуры. Но сами практики-режиссеры «договорили» прежде не договоренное. Л. Д. Михайлов, например, в книге «Семь глав о театре»: «Еще один “вечный вопрос” нашей профессии: что мы ставим — музыку или что-то другое? Конечно, мы оперируем музыкой. Это — непременное условие профессии. Но одну и ту же музыку исполняют 324 по-разному. Музыка — это некая объективная правда. Но, как говорил Брехт, есть тысяча разных способов открыть и тысяча способов утаить правду. Трудность музыкальной режиссуры в том, что на основе музыки мы создаем самостоятельное произведение. Музыкальный театр как таковой начинается тогда, когда режиссер, дирижер и художник приступают к работе над партитурой. Ибо они переводят нечто из одного вида искусства — музыки в другой вид искусства — театр»449*. В этом искусстве — театре — действуют свои законы, которыми не владеет дирижер, если он не получил специального образования (впрочем, даже образование не гарантирует успеха). К тому же дирижер является и непосредственным участником исполнения партитуры в момент спектакля. Он лишен преимущества «взгляда со стороны», находясь внутри процесса. Опыты постановки оперы на сцене дирижерами в истории имеются, но ни один из них, каким бы значительным ни было имя обратившегося к сцене музыканта, не стал по-настоящему крупным театральным явлением. Опусы, например, Г. Караяна или Ю. Х. Темирканова остались в театре выдающимися дирижерскими опусами, давая больше слуху, чем глазу. Не меньший, а скорее больший успех эти прочтения опер имели бы в филармонии, на концертной эстраде — тут уж ничего не раздражало бы глаз: ни традиционные формы спектаклей, ни штампы, которые обитали на сцене вопреки новому, нерутинному звучанию партитуры.
Законами театра, казалось бы, владеет художник, и его роль, как уже отмечалось, в музыкальном театре особенно велика. Более того, сегодня он все чаще выступает автором художественного целого, переводя звучащее в зримое. Именно пространство сцены способно напрямую резонировать со звучащей музыкой, высекая образные смыслы. Пример — «Кольцо Нибелунга» в Мариинском театре 2002 – 2005 годов, когда конструктивное оформление Г. Цыпина (огромные каменные идолы) определило основную художественную мысль сценического решения — о единстве мифологического сознания разных человеческих цивилизаций. Но, как и в случае с дирижером, для художника камнем преткновения остается актер, у которого в музыкальном театре особое содержание роли. Дирижер способен решить эту проблему с точки зрения звука (голоса и оркестра), художник — с точки зрения расположения фигур в пространстве. Но процесс совмещения звучащего и зримого в главной значимой единице театра — актере (в ходе развертывания 325 роли на уровне общей образной системы спектакля) не способен организовать ни дирижер, ни художник или сценограф (если он не выступает в роли человека, полноценно, на равных совмещающего в себе функции художника и режиссера, как, например, Ж. П. Поннель, Р. Уилсон или Д. Ф. Черняков). Причем, как показывает практика, такое совмещение более эффективно и плодотворно, нежели совмещение функций дирижера и режиссера.
Автором спектакля в театре (независимо от его принадлежности) в двадцатом веке остается режиссер. Один из значительных представителей профессии, Л. Д. Михайлов, называл сочинение спектакля сочинением музыки оперы: «Если музыка есть сознательная организация звуков, путем сопряжения которых создается художественный образ, то само понятие “музыка оперы” существенно отличается от понятия музыки в опере. Музыка оперы заключается в гармонии соподчинения и сопоставления всех слышимых и видимых элементов спектакля. И если фальшив, если безобразен или профессионально беспомощен хотя бы один из этих элементов, будь то пение или декорации, драматическая игра или звучание оркестра, — музыка оперы разрушается»450*. Режиссер говорит о «соподчинении» и «сопоставлении» слышимых и видимых элементов, а никак не о подчинении одного другому. Формула «все подчиняется музыке» здесь трактована сложнее, чем в иерархическом смысле. Она понимается так: «… сущность музыкального театра заключается в диалектическом единстве двух враждующих начал — музыки и драмы. Не в мирном слиянии, а именно в их борьбе.
Противоречивость свойственна как самой структуре музыкального спектакля, так и менее крупным его элементам. Но начинается все с исконной противоположности музыкальной стихии, которая стремится к максимальной обобщенности, очищенности от конкретики, и слова, которое на несколько порядков конкретнее музыки. Мне кажется, что именно через ощущение этой противоречивости я понял что-то важное в нашей профессии. А именно: как раз на этом пересечении множества противоположностей, множества “плюсов” и “минусов” и возникает вольтова дуга музыкального театра, его чудо»451*. То, что Михайлов называл борьбой враждующих начал, которая пронизывает спектакль во всех его элементах, в разных режиссерских системах именуется по-разному. В. Э. Мейерхольд развивал идею контрапункта 326 в статье, посвященной «Пиковой даме»: «Мы стремимся к контрапунктическому слиянию тканей музыкальной и сценической»452*. Он оправдывал найденные приемы тем, что «сценическая подчеркнутость дается здесь с единственной целью отчетливо отметить основные элементы партитуры, заставить публику слышать то, чего она никогда не слышала»453*. Б. А. Покровский в том же русле трактует понятие перпендикуляра. И на заре возникновения режиссуры, и в периоды ее развития формула «соответствия» музыки и сцены усложнялась, видоизменялась и не сводилась к поиску иллюстраций для партитуры. Наоборот, сегодня мы вправе говорить не о «соответствии», а о содержательном взаимодействии — гармоничном или конфликтном (предпочтительно конфликтном или противоречивом, по Михайлову) — всех элементов спектакля, из которых складываются наиболее художественно значимые сценические творения в оперном театре.
Именно режиссер способен взять от каждого, прежде самостоятельного искусства, составляющего оперный синтез, то, что в новом соединении предстанет как авторское (режиссерское) сценическое произведение. При этом есть нечто, без чего такой вид сочинительства невозможен.
Главным структурообразующим элементом спектакля, в особенности оперного спектакля, является ритм. Это знаменатель, который объединяет временные и пространственные параметры постановки. В переводе с греческого ритм — мерное течение, в музыке — упорядоченное течение, то, что организует временной поток музыки. Сценический ритм — ритм движения в пространстве — может быть с ритмом звучащей партитуры содержательно соотнесен. В разных системах театральной образности идея ритма понимается и реализуется по-разному. Для Мейерхольда «сценический ритм, вся сущность его — антипод сущности действительной, повседневной жизни»454*. Но это для него не означает необходимости прямого соответствия движения ритму музыки: «Долой движение на музыке, как у Далькроза: в музыке триоли — в движении триоли, в музыке фермата — в движении фермата»455*. Непрямое, не прямолинейно-буквальное выражение ритма в движении и пространстве и вело к идее контрапункта: «Мы стараемся избежать совпадения 327 тканей музыкальной и сценической на базе ритма»456*. Идея контрапункта как борьбы противоречивых сущностей и реализовалась в оперных спектаклях режиссера.
Иными представлениями руководствовался К. С. Станиславский. Проблема ритма волновала его ничуть не меньше, но понимал он ее иначе: «Слияние с музыкой должно быть настолько близко, что действие должно производиться в том же ритме, как и музыка. Но это не есть ритм ради ритма, как теперь нередко практикуется. Мне хотелось бы, чтобы это влияние ритма и музыки не было заметно публике; чтобы слова соединялись с музыкой и произносились музыкально. Это должно быть незаметное совпадение движения ритма с музыкой»457*. Подчеркнем здесь важное для данной образной системы слово «незаметное» — скрытое, не выставляемое напоказ, как в жизни или театре жизненных соответствий, корректирующее свои законы применительно к театру музыкальному. Режиссер ратовал за внутренний ритм переживания, а не за ритм «поднимания руки или ступающей ноги»458*. Для него немыслим конфликт между элементами оперного зрелища: «Приведение действия, музыки, пения, речи и самого переживания к одному ритму является главной силой спектакля»459*. Для режиссера так реализовалась мысль о гармонии звучащего и зримого, залогом которой и становился ритм, пронизывающий все части целого. Именно идея соответствия музыки и сцены, не утратившая, впрочем, и сейчас своих позиций, более того, в спектакле лучше воспринимаемая публикой и двадцать первого века, рождала концепцию ритма, свойственную данному типу театра.
Следующим объектом для спора «двух систем» явился актер музыкального театра. Для Мейерхольда «прежде всего через актера музыка переводит меру времени в пространство»460*.
В своей статье, посвященной постановке «Тристана и Изольды» Вагнера в Мариинке, которую можно назвать программной, Мейерхольд формулировал идеи условного театра в целом, отводя значительное место в своей теории именно актеру.
328 «Музыкальная драма должна исполняться так, чтобы у слушателя-зрителя ни одной секунды не возникало вопроса, почему эту драму актеры поют, а не говорят. <…> В основе оперного искусства лежит условность — люди поют; нельзя поэтому вводить в игру элемент естественности, ибо условность, тотчас же становясь в дисгармонию с реальным, обнаруживает свою якобы несостоятельность, то есть падает основа искусства»461*. В этой системе режиссер видел актера частью единого художественного целого: «… весь сценический облик актера должен явиться художественной выдумкой, иногда, быть может, и опирающейся на реалистическую почву, но в конечном счете представшей в образе, далеко не идентичном тому, что видим в жизни. Движения и жесты актера должны быть в pendant условному разговору-пению»462*. Отметим, что в реализации задуманного режиссер особое значение придавал пластике: «Если отнять у оперы слово, представляя ее на сцене, мы получим в сущности вид пантомимы»463*.
«Партитура, предписывающая определенный метр, освобождает актера музыкальной драмы от подчинения произволу личного темперамента.
Так вот актеру музыкальной драмы предстоит добиться мастерства в телесной гибкости. … Человек вместе с согармоничной обстановкой и соритмичной музыкой являет собой уже произведение искусства»464*.
«Танец и есть движение человеческого тела в ритмической сфере. Танец для нашего тела то же, что музыка для нашего чувства: искусственно созданная, не обращавшаяся к содействию познания форма»465*.
Танец ритмически организует движение, но это не единственная особенность актера музыкального театра: «Помимо гибкости, делающей оперного певца в своих движениях танцовщиком, еще одна особенность отличает актера музыкальной драмы от актера драмы словесной. Актер последней, желая показать, что воспоминание причинило ему боль, мимирует так, чтобы показать зрителю свою боль. В музыкальной драме об этой боли может рассказать публике музыка.
Таким образом, оперный артист должен принять принцип экономии жеста, ибо жестом ему надо лишь дополнять пробелы партитуры или дорисовывать начатое и брошенное оркестром.
329 В музыкальной драме актер не единственный элемент, образующий звено между поэтом и публикой. Здесь он лишь одно из выразительных средств, не более и не менее важное, чем все другие средства выражения, а потому ему и надлежит встать в ряды своих собратьев-выразителей.
До инсценирования музыка создавала картину иллюзорно лишь во времени, в инсценировке музыкой побеждено пространство. Иллюзорное стало реальным через мимику и движения актера, подчиненные музыкальному рисунку; овеществлено в пространстве то, что витало лишь во времени»466*.
Столь пространное цитирование знаменитой статьи Мейерхольда дано не только для понимания воззрений режиссера на роль и возможности актера в музыкальном театре. Дело в другом: эти воззрения сегодня обретают актуальность, могут быть осмыслены заново, потому что отчасти реализованы в сегодняшней практике театре. Мысль о выражении внутреннего через внешнее для оперы, по Мейерхольду, еще более актуальна, чем для драмы, ибо внутреннее — эмоции, чувства — дает музыка, а конкретику содержание музыки обретает в пластике и жесте актера.
Мейерхольд дореволюционного периода не вторгается в область пения и, в отличие от Станиславского, не уделяет внимания интонации как средству выражения подтекста, не занимается с оперными певцами дикцией, которой посвящал много времени его учитель и оппонент. В отличие от Станиславского, который имел дело со студийцами, Мейерхольд получал готовый материал — певцов Мариинского театра, которым сама мысль о вмешательстве режиссера в музыкальную сферу их профессии не могла прийти в голову — этим занимался дирижер. Станиславский же, обратившийся к оперной режиссуре в тот момент, когда Мейерхольд свою деятельность в оперном театре фактически закончил (исключение — «Пиковая дама» в МАЛЕГОТе в 1935 году), имел возможность работать с певцами и как с вокалистами, и как с актерами, стараясь соединить эти понятия в одно — певец-актер. Именно Станиславскому принадлежит идея создания роли с учетом заложенного в ней действия — действенного пения — в соответствии с системой психологического театра. Идея, получившая наибольшее распространение. Ведущая роль в реализации этой идеи принадлежала слову — поэтому такое значение придавалось дикции как важному носителю информации. 330 Музыка, слово и движение служили задачам выявления жизни внутренней, духовной. Актер в оперных спектаклях Станиславского играл характер человека (не случайно режиссер обращался и к определенному типу музыкальной драматургии, к операм, реалистически направленным, — «Борису Годунову» Мусоргского, «Евгению Онегину» Чайковского, «Травиате» Верди). Материал самих произведений позволял строить сценическое действие как связь причин и следствий, актерам оставаться в рамках четвертой стены, «вживаясь» в роль на основе поисков нужных качеств и характеристик в себе.
Мейерхольд брался за совершенно иной музыкальный материал. Его дебют — вагнеровский «Тристан» — сразу взорвал общественное мнение, ибо в спектакле нарушалась авторская воля композитора, предписывавшая ставить произведения в соответствии с байройтскими канонами. В оформлении А. Ширвашидзе доминировали фрагменты картин, заменявшие собой целостное изображение места действия (парус вместо корабля, стена вместо замка и т. д.), — был произведен жесткий отбор важного с точки зрения субъективного, поэтического, смещающего привычные ракурсы взгляда на произведение. А главное заключалось в изменении актерских задач. Знаменитый любовный дуэт Тристана и Изольды, решенный в абсолютной статике, позволил максимально полно выразить чувства через музыку оркестра и пение благодаря несоответствию сценического ритма (неизменяемого) и музыкального (постоянно меняющегося от взволнованного к экстатическому).
Разница двух режиссерских систем по отношению к опере в итоге на практике привела к тому, что в опере и до сих пор едва ли не ведущие позиции занимает режиссура, осуществляющая постановку исходя из принципов драматического театра. Клянясь в верности музыке (а другое не произносится — никто не признается, что ставит, например, либретто), такая режиссура не соблюдает условия формы, которая должна быть музыкальной по всем параметрам времени и пространства, и, соответственно, продолжает содержанием роли у актера числить воплощение человека (как правило, говорят «характера»). Второй тип режиссуры — собственно музыкальный — встречается реже, как реже встречается поэтический тип мышления. В этом случае музыка становится содержательной составляющей зрелища, построенного по нелинейной системе взаимодействия ритмов и их значений. Сама роль музыки меняется в соответствии с новыми действенными запросами спектакля. Она может служить фоном, исполнять чисто ритмические функции, 331 служить цели выражения эмоции и т. д. Музыка становится вместе со сценическим действием равноправным партнером в создании драматургии спектакля на основе взаимодействия звучащего и зримого. Тогда именно правила актерской игры позволят отнести постановку к тому или иному типу театра (хотя они и существуют в рафинированном виде только как теоретическая абстракция). Потому что и в данной, поэтической системе актер, играющий чувство или состояние, подчинен правилам монтажного строения роли — постепенного или резкого раскрытия разных граней чувствований. И тут уже пение и жест, движение, мимика — сам актер и средства его выразительности — должны соответствовать художественно преображенному типу зрелища, иначе «падает основа искусства».
Глава 20.
БАЛЕТНЫЙ ТЕАТР
Балет, как и опера, принадлежит к музыкальному театру, возникшему в эпоху Возрождения, и представляет собой союз многих искусств. Чаще употребляется слово «синтез», но «союз» — определение более корректное: синтез в балете может быть, а может и не быть. Может быть принципом, а может быть синонимом индивидуального достижения. Например, по отношению к творчеству Дж. Баланчина и других хореографов-симфонистов можно говорить о синтезе музыки и хореографии. В драмбалетах 1930 – 1940-х годов его нет, там уместней говорить о попытках синтезировать драматический театр с балетным. В балетах М. М. Фокина и Л. Н. Бакста можно говорить о синтезе живописи и танца.
И синтез и союз в любом случае следует понимать не как зависимость одного от другого, а как свободное и равноправное единство. Но поскольку балетный спектакль — это плод коллективного труда, то взаимодействие творцов — сценариста, хореографа, композитора, художника, режиссера и т. д. — никогда не было и не может быть однозначным. В балете может превалировать музыка, как в балетах-симфониях, либо литературная основа и режиссура, как в драмбалетах, либо сценография, как в некоторых спектаклях эпохи модерна начала XX века или в балетах М. М. Шемякина. Следовательно, и содержание образов спектакля в первом случае извлекается из музыки, во втором — из литературы, в третьем — из художественного оформления.
332 Между тем главный автор балета — хореограф, поэтому в идеале должна превалировать хореография. Именно она является специфической особенностью балетного спектакля. Термин (от греческих «хорео» — пляска и «графо» — пишу) обозначает и само искусство танца, и искусство его сочинения. Основу хореографии составляет танец всех разновидностей с включением в него любых элементов пластической речи (движение, жест, статика).
Содержание и структура балета многослойны, как многослойна и каждая его составляющая. Первооснова балета — сценарий, независимо от того, сюжетный это спектакль, программный или бессюжетный. И хотя сценарий пишется словами, это сочинение не литературное, а балетное. В его основе может быть произведение любого жанра и рода литературы. Хореограф или сценарист трансформирует литературный текст в некий сценарный проект, на основе которого можно создать уже хореографический текст. То хореографическое действие и образы, что мы увидим в итоге на сцене, будут отличаться и от литературных образов произведения, и от словесных образов сценария. Один и тот же сюжет по-своему воплощается в разных слагаемых спектакля. Пример — балет «Ромео и Джульетта» 1940 года. Сценарий А. И. Пиотровского — это одно видение пьесы У. Шекспира, музыка С. С. Прокофьева — другое, хореография Л. М. Лавровского — третье. Тем не менее все это соединилось в спектакле, ставшем шедевром (в чем немалая заслуга и режиссера С. Э. Радлова) и на долгие годы эталонной постановкой, на которую равнялись отечественные и зарубежные хореографы.
Результат коллективного творчества в конечном счете зависит от хореографа. В руках бездарного балетмейстера достоинства других авторов могут потеряться. Лучшая балетная партитура XIX века — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского — имела худшую постановку Ю. Рейзингера в 1877 году, балет «прозябал», пока в 1895 году к нему не обратились М. Петипа и Л. И. Иванов.
Необходимая и органическая часть балетного спектакля — музыка. Хореография (танец) и музыка — искусства родственные. Музыка обогащает смысловое и образно-эмоциональное содержание хореографии и наоборот. Между тем именно с композитором (или с его музыкой) у хореографа складываются самые сложные отношения. Если в опере музыка чаще всего хозяйка положения, то в балете музыка и хореография существуют на равных. При этом образность зримая вовсе не обязательно совпадает с образностью звучащей. Близость структурных 333 принципов двух искусств тоже не означает их полного слияния. Опять-таки в симфонических балетах этого слияния намного больше, нежели в хореодрамах, где танец от музыки менее зависим. Степень самостоятельности или зависимости хореографии от музыки в каждом спектакле определяет хореограф.
Взаимовлияние музыки и танца очевидно. Танец изначально связан с музыкой. Такие музыкальные формы, как менуэт, чакона, пассакалья и т. д., были поначалу неотделимы от танца, и лишь позднее стали самостоятельными инструментальными формами. (Менуэт входит в симфонии Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, принцип чаконы использует М. Равель в «Болеро».) Сюита — это одновременно танцевальная и инструментальная форма. Закономерно, что танец, идя рядом с музыкой или вслед ей, пришел к высоким формам развития — сонатному аллегро, симфонии. Так что в заимствовании терминов тоже нет ничего удивительного.
Один из первых теоретиков и реформаторов балетного театра Ж.-Ж. Новерр, утвердивший в XVIII веке приоритет действенного танца над инструментальным, писал: «Танец подобен музыке, а танцовщики — музыкантам. Искусство наше не богаче основными па, чем музыка нотами. У нас тоже есть и октавы, и целые, и половинные, и четверти, и шестнадцатые, и 32-е, и 64-е. Нам тоже приходится отсчитывать такты и соблюдать размер; соединенные все вместе, это небольшое количество па и небольшое количество нот открывают путь к множеству различных сочетаний и пассажей. Вкус и талант найдут источник новизны, на тысячи разных ладов и тысячи разных способов переставляя и комбинируя этот небольшой запас нот и па. Вот эти-то па — медленные и выдержанные, оживленные и стремительные — и являются источником непрерывного разнообразия»467*.
В XIX веке взаимоотношения музыки и танца в балете меняются от простого ритмического совпадения к развитию тематизма и симфонизма. Такое сложное взаимодействие музыки и танца возможно благодаря родству их образной природы. Интонационная выразительность музыки сродни выразительности движений человеческого тела. Музыка задает танцу ритм, темп движения и структурную организацию эпизодов спектакля. Ритм музыкальный может быть в унисонных, полифонических и контрапунктных отношениях с ритмом танцевальным. Танец может соответствовать ритмическому рисунку музыки, но не являться его 334 копией. Даже если хореограф сочиняет «по нотам», как это делали Баланчин и его последователи, танец нельзя понимать только как зримое выражение музыки. От взаимодействия музыки и хореографии рождается своя, особая драматургия, она и есть в балетном театре основа всех основ.
Свойство балета и суть его содержания, как в музыке и поэзии, в высокой степени обобщенности и метафоричности. «Балет, рождающийся как миф, воспринимается как метафора, — справедливо пишет современный теоретик, — и самый процесс его восприятия зрительным залом оказывается процессом его перевода. Немалое число зрителей себя таким переводом не утруждает и воспринимает балет как некую последовательность сложных движений и нехитрых происшествий, смысл которых ими же и ограничен: танцовщица вертится на одной ноге, демонстрируя ловкость, или изображает смерть девушки, не перенесшей обмана, возбуждая сострадание»468*. Многомерность содержания, свойственная балету, проявляется в его композиции. Хореограф выстраивает ее, отталкиваясь от музыки и литературного источника (если балет сюжетный), идя от подражательного отображения жизни к концептуальному постижению мира. Смысл балета напрямую определяется его хореографической образностью.
Хореография не простой набор движений, а осмысленное танцевальное действие. Формы его воплощения так же разнообразны, как и содержание образов. Они подразделяются как по количеству участников — соло / вариация, дуэт / па-де-де, трио / па-де-труа, квартет и т. д., массовые кордебалетные танцы, — так и по характеру танца: адажио, аллегро, действенный танец / па д’аксьон. Содержательное и формальное многообразие обусловливает и многообразие языка.
Как и три века назад, главным выразительным средством балетного театра является классический танец. Л. Д. Блок дает ему такое определение: «Классический танец — система художественного мышления, оформляющего выразительность движений, присущих танцевальным проявлениям человека на различных стадиях культуры. В классический танец эти движения входят не в эмпирически данной форме, а в абстрагированном до формулы виде»469*. Он представляет собой упорядоченную систему танцевальных движений, которая складывалась веками у разных народов. Подобно тому, как из множества существующих 335 в природе звуков были отобраны в особую систему звуки музыкальные, так же формировалась и система классического танца. На основе выворотности были разработаны позиции ног, рук, корпуса, головы и регламентированное количество движений, выполняемых по строгим правилам. Все движения далеки от естественной физиологичности движений человека. Они абстрактны и схематичны. Хаос движений приведен в геометрический порядок, в соответствии с эстетическими понятиями о красоте, гармонии и соразмерности. Музыка была призвана гармонизировать духовный мир человека, а танец — выражать телесно эту гармонию. Классический танец, который поначалу называли серьезным, благородным, затем академическим, формировался на протяжении XVII – XIX веков. Но это не застывшая система. Он продолжает развиваться и по сей день.
У теоретиков танца нет общего мнения о том, содержит ли то или иное движение конкретный смысл. Согласимся с П. М. Карпом: «Абстрагировать движение до предела вовсе не значит лишить его решительно всех собственных свойств. Это, напротив, означает лишить всех, кроме одного, которое как раз концентрируется как особая краска, особый оттенок экспрессии. Но это все же только краска, только оттенок, не дорастающий до мысли. Потому-то мы, как правило, и не можем словами выразить абстрактную краску, заключенную в данном движении, “перевести” его на язык мысли и внятно сказать, что означает глиссад, а что аттитюд»470*. Задатки смысла, которые несомненно содержатся в отдельных движениях, развиваются и образуют смысловое поле лишь в развернутых хореографических структурах.
Другая разновидность сценического танца — народно-характерный. Если классический танец имеет общие законы и носит общечеловеческий характер, то бытовые народные пляски отличаются национальными признаками. Как правило, фольклорные танцы попадали на балетную сцену в стилизованном виде, тем не менее национальные характеры и образы были достоверными. Характерные танцы входят в балетный спектакль в виде сюиты, обогащая его колорит, либо целые спектакли стилизуются в том или ином национальном духе. Современные балетмейстеры используют национальные мотивы для новых трактовок: фольклорный танец становится выражением не плотского, а духовного надличностного начала, символом единства человечества в первооснове духа. Творчество М. Бежара богато примерами включения фольклора 336 различных стран (иногда в аутентичном исполнении) в хореографический текст. Национальные танцы у него становятся символами, знаками культур, имеющими не конкретное, а обобщенно-философское значение.
Вплоть до начала XX века в балетах наравне с народным активно использовался бальный танец (историко-бытовой, он также входит в программу обучения артистов балета). Менуэт, гавот, павана, экосэз и многие другие старинные придворные танцы сыграли большую роль в развитии бальной хореографии и легли в основу балетного театра. Европейский бальный танец был неотъемлемой частью русской общественной жизни до наступления советской эпохи, когда за любовь к фокстроту можно было угодить в лагеря. Соответственно и на балетную сцену современные танцы — танго, чарльстон, шимми и другие — изредка попадали исключительно для характеристики загнивающего западного мира, как, например, в балет «Золотой век» Д. Д. Шостаковича в постановке Л. В. Якобсона (1930), а затем в постановке Ю. Н. Григоровича (1982). В лексиконе современных балетмейстеров прочно закрепились вальс и танго, остальные встречаются редко.
Пантомима бытовая, драматическая, танцевальная была и остается неотъемлемой частью балетного спектакля. Довольно долгое время сюжетные ситуации в балете решались именно средствами пантомимы. Наивные мимические диалоги и жестикуляция со временем исчезли как атавизм. Действенная пантомима, соединенная с танцем, успешно развивалась, обогащая лексику балета. М. М. Фокин, утверждая равноправие выразительных средств балетного спектакля, соединил пантомиму с танцем, подчинил ее музыкальному ритму (на волне всеобщего увлечения ритмопластикой) и активно использовал в своих постановках как пластический речитатив. То же самое делал Л. В. Якобсон, называя свой новый язык «пластической хореографией». Корнями он уходит к действенному танцу Новерра, только на новом витке развития пластический танец обретает большую техническую изобретательность и свободу.
В XX веке появляется «танцевальный театр» (сегодня contemporary dance), возникший на основе танца модерн и отрицания классической школы. В нем самоценность танца более высокая, а зависимость от других искусств наименьшая. Здесь балетный театр берет на вооружение лексику модерна, соединяя его с классическим танцем и с другими видами пластики. Уже в 1913 году В. Ф. Нижинский поставил «Весну священную» И. Ф. Стравинского целиком средствами танца модерн и ритмопластики. 337 В середине века Бежар одним из первых отказывается от классического танца и создает балеты на основе танца модерн. Однако довольно скоро он начинает синтезировать различные виды танца и пластики на основе классического танца, создавая неповторимый бежаровский стиль.
Сегодня балетный театр использует все виды танца, пластики и пантомимы в суверенном и синтезированном качестве, включая также выразительные средства слова, пения, спорта, цирка, эстрады и других зрелищ. Хореограф свободно обращается с образной структурой и музыкального и литературного произведения: создавая на их основе новую художественную реальность, новый сценический текст, он лишь отчасти пользуется идеями смежных искусств.
Подготовка балетного спектакля — процесс трудоемкий. Помимо сочинения музыки, сценария, хореографии, сценографии требуется долгая репетиционная работа. Конечный результат коллективного труда во многом зависит и от исполнителей — солистов и кордебалета. Творческое начало балетного артиста, особенности его индивидуальности, характер облика и танца играют в балете существенную роль. Исполнителей, на которых ставится спектакль, можно назвать его соавторами, последующие исполнители будут интерпретаторами танцевального текста. Содержание роли / образа в балетном спектакле отличается многоплановостью выражения конкретного и абстрактного. Танцовщик-артист может воплощать человека, а может «ликование человеческого духа» (А. Л. Волынский), или абстрактную категорию, символ (партия Отчаяния в балете И. Д. Вельского «Одиннадцатая симфония»), или вещь (Диван, Окно, Дверь, Шлагбаум в балете Н. Н. Боярчикова «Женитьба»), или целые знаковые системы, как в балете К. Карлсон «Знаки». В балете М. Бежара «Стулья» по Э. Ионеско главный герой в исполнении Д. Ноймайера одновременно танцует и играет как драматический актер: слово и танец сплетаются в сложный вербально-пластический текст.
Понятно, что балет не всегда был таким. В разные эпохи он был разным. Первоначально балет представлял собой своеобразное состязание искусств, где танец, речь, пение и музыка соревновались на равных. Танец был фигурным, связанным не с сюжетом, а с музыкой. В драматических балетах, утвердившихся на французской придворной сцене в начале XVII века, действие воплощалось в пантомиме. Танец тяготел к геометрическим пропорциям и чистой игре линий и форм в движении. На пути к драматизации танца был Ж.-Б. Мольер, желавший сюжетно 338 связать комедию и балет в одно целое. Но в силу традиции и моды пантомима и танец в его спектаклях не воплощали действие, а лишь сопровождали его самостоятельными иллюстративными эпизодами. Первые два века существования (XVI – XVII) балет отличался универсальностью. В нем соединялись философия, мифология, метафизика, астрономия и прочие знания. Танцующие изображали знаки Зодиака, части света, темпераменты, стихии наряду с реальными и мифологическими персонажами. Балет становился отражением жизни во всем ее многообразии, а повседневность театрализовывалась благодаря постоянной балетной практике придворных.
Как самостоятельное и серьезное театральное зрелище, созданное средствами хореографии без опоры на речь и пение, балет определился в форме хореодрамы, или действенного балета. Первые такие постановки появились в Англии в начале XVIII века. В спектаклях Дж. Уивера балет не украшал драму, как обычно, а драма выстраивалась в самом танце. Английская хореодрама дала толчок для возникновения действенного балета во Франции, затем Германии и Австрии, а во второй половине века в России, Дании и Италии. Появился новый тип хореографа-режиссера. После Уивера ими стали Ф. Гильфердинг, Ж.-Ж. Новерр, Г. Анджолини и С. Вигано.
Гильфердинг ставил балетные драмы, беря за основу трагедии Ж. Расина, Вольтера, Кребийона. Он искал последовательности действия, подчиняя пантомиму и танец перипетиям сюжета, соединял их. Перелагая литературные драмы на язык пантомимы, хореограф вынужден был сужать содержание трагедий, отчего борьба страстей в них обретала прямолинейность.
В XVII – XVIII веках высшим театральным и литературным жанром почиталась трагедия, и хореографы стремились возвысить балет до трагедии. Пальма первенства тут бесспорно принадлежит Новерру, великому реформатору балета, совершившему переворот подобно тому, который К. В. Глюк совершил в опере. Соединив пантомиму с танцем, Новерр создал действенный танец, посредством которого можно было воплощать драматургическую, смысловую и действенную основу балета. Образцом балета стал спектакль, выстроенный по правилам драматического театра. Новерр утверждал в своих «Письмах о танце и балетах», что всякий балетный сюжет должен иметь экспозицию, завязку и развязку и состоять из тех же элементов, что и произведения драматические. Он недооценивал дивертисмент, сравнивая его с набором красивых слов.
339 Логика современной драмы переносилась в балет. Виртуозный танец уступил место действенному и пластическим речитативам, подчиненным ритмам музыки. И здесь тоже ориентиром стала декламация драматических актеров. В свою очередь размеренная, фронтальная с развернутыми ногами, пафосными позами и жестами пластика актеров драмы была близка балетной. В хореодраме танца было меньше, зато обогащалось пантомимное действие. Впрочем, в отличие от тогдашних драматических спектаклей, балетные пантомимные трагедии имели массовые сцены — шествия, игры, пляски.
Другой крупный хореограф XVIII века, итальянец Г. Анджолини, также был сторонником пантомимных зрелищ, близких драматической сцене, и находил новые сюжеты для балета в драматургии. В частности, он стал автором действенных балетов по мотивам комедии Мольера «Дон Жуан» (1761), трагедий Вольтера «Семирамида» (1765), «Китайский сирота» (1777). Его идеи прижились на итальянской сцене рубежа XVIII – XIX веков в хореодраме на исторические сюжеты и темы мировой драматургии, прежде всего в творчестве С. Вигано, автора пластических трагедий «Отелло», «Химена», «Орлеанская дева». На русской сцене Анджолини поставил балет по мотивам трагедии А. П. Сумарокова «Семира» (1772).
Литература постепенно заменяла мифологию. И на рубеже упомянутых веков уже шекспировские пьесы преобладали среди литературных балетов. «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Антоний и Клеопатра», «Макбет» активно шли на многих европейских сценах. Тяга именно к высокой литературе объясняется стремлением балетмейстеров выйти на концептуальный (мифологический и метафорический) уровень повествования. Их интересует не столько сюжет как таковой, сколько проблемы мироустройства. Они еще не умели сделать таковыми танцевальные композиции, и сам танец, жест, поза не обрели еще метафорического значения. Поэтому через сюжет пытались возвысить балет до трагедии — самого высокого жанра театрального искусства.
В эпоху романтизма внутри сюжетных балетов появляются большие танцевальные сцены абстрактного характера, построенные не по принципу дивертисмента, а на взаимодействии «солист — кордебалет». Они не содержали событий, а лишь чувства и взаимоотношения героев. Танцы сильфид — начало симфонического танца и путь к философским обобщениям. Во втором действии «Жизели» в редакции М. Петипа на хореографическую форму гран па (антре, адажио, вариации, кода) 340 накладываются приемы сонатной формы (экспозиция, разработка, реприза).
Если в музыке А. Адана есть элементы симфонического развития, то в балете Л. Минкуса «Баядерка» их нет. Тем не менее Петипа использовал в хореографическом построении сцены «Теней» музыкальную форму «тема с вариациями» и доказал, что хореографический тематизм может развиваться независимо от музыки, поскольку роль танца в балете ведущая.
Симфонический танец — наивысшая форма развития бессюжетного танца. Термин «бессюжетный» весьма условен и неточен, но лучшего пока еще никто не придумал. Он характеризует балет или танец, в котором сюжет как последовательное развертывание событий отсутствует, а строение и развитие танца многоплановостью и целостностью композиции, разработкой пластических мотивов напоминают принципы развития сложных музыкальных форм. В симфоническом балете, как правило, хореография является формальным и образно-содержательным аналогом музыки при всей ее самостоятельности и самоценности. Обращение к симфонической музыке стало серьезным толчком развития танцевальных форм.
Бессюжетный танец — антипод действенного. Сторонники литературного балета вступали в непримиримый конфликт с приверженцами бессюжетного, объявляя его детищем формализма. В конце прошлого века эти споры утихли, оба направления доказали свою жизнеспособность. Но надо заметить, что излишняя зависимость как от музыки, так и от литературы выхолащивает танец. Такой зависимости не было у Петипа. В его балетах сюжетное и музыкально-хореографическое развитие существовали в гармонии.
Вершина симфонизации танца в балетном театре XIX века — «Спящая красавица» Чайковского — Петипа. Она создана как четырехчастная симфония. Хореографическая драматургия выстроена таким образом, что сюжетно-пантомимное действие имеет свою динамику развития с завязкой, кульминацией и развязкой, а музыкально-хореографическое — свою. Хореографическая кульминация балета — сцена с нереидами — главная симфоническая сцена балета, она развивается наподобие четырехголосной фуги: с проведением темы у Авроры, Дезире, феи Сирени, кордебалета и ее разработкой. Лирическая и одновременно динамичная сцена на основе виртуозного классического танца стала прообразом танцсимфоний XX века.
М. М. Фокин на основе хореографической формы гран па (адажио, вариации, дуэт, кода) создал одноактный бессюжетный балет «Шопениана» 341 (1907). А. А. Горский в 1916 году поставил целиком V симфонию А. К. Глазунова, правда, снабдив ее сюжетом — пасторальным любовным треугольником в античном духе. Публика была не готова к восприятию целых симфоний с абстрактными танцевальными образами. Не приняла она и танцсимфонию «Величие мироздания», поставленную Ф. В. Лопуховым в 1923 году на музыку IV симфонии Бетховена. То был новый балетный жанр. Лопухов следовал за музыкой и выстраивал хореографию тематически. Многократно повторялись и варьировались комбинации. Тема кордебалетных танцовщиц (впервые!) повторялась танцовщиками. Содержанием балета стал процесс зарождения и развития танцевальных движений от первобытных до симфонических во всем многообразии. Поднимались философские проблемы мироздания. Но форма танцсимфонии показалась слишком абстрактной, метафизической, и в России она не прижилась. Зато на Западе ее успешно развивали Л. Ф. Мясин, Дж. Баланчин, С. М. Лифарь, М. Бежар и Д. Ноймайер. В свою очередь композиторы-симфонисты стали писать для балета серьезную музыку, среди них И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, Б. Барток, М. Равель, А. Г. Шнитке, Р. К. Щедрин.
В России на поиски балетной образности большее влияние оказали идеи режиссуры. В 1920-е годы А. А. Гвоздев усматривал в «Пульчинелле» Стравинского в постановке Лопухова параллели с находками Вс. Э. Мейерхольда, Е. Б. Вахтангова, А. Я. Таирова и писал в рецензии на балет: «Это именно то, что нужно нашему балету, — усвоить себе достижения новой русской режиссуры»471*. Балет и пошел по этому пути. В 1930 – 1940-е годы ведущим жанром стала балетная драма (хореодрама, драмбалет). Сцена была «наводнена», по выражению Лопухова, режиссерскими балетами, «балетами без балета». По существу, это были пантомимы с танцем или немые драмы, которые ставили по системе К. С. Станиславского. Не случайно спектакли, которые режиссировал С. Э. Радлов («Пламя Парижа», 1932; «Бахчисарайский фонтан», 1934; «Ромео и Джульетта», 1940), стали лучшими хореодрамами того времени. В них преобладали повествовательные сцены, излагающие перипетии фабулы, с логически развитым действием, мотивированными характерами и жизнеподобием. Поэтому основным языком балета стала танцевальная пантомима — полутанец, полуигра, гибкая, выразительная, подвижная. Функция танца сузилась. Он перестал быть многозначным, метафорическим, обобщенным. Эти качества обретали пантомима и актерское 342 исполнение. Классический танец имел сюжетную оправданность. Героини балетов «Утраченные иллюзии», «Три толстяка», «Крепостная балерина», «Пламя Парижа» танцевали потому, что были балеринами. Как и во времена Новерра, пантомима в балете несла драматургическую, смысловую и действенную нагрузку.
В середине века Ю. Н. Григорович и И. Д. Вельский предложили другой путь развития хореографии. Основой их сюжетных балетов становится не литературный сценарий, а музыкально-хореографическая драматургия. Балеты отличались непрерывным танцевальным развитием с тематической разработкой образов. Хореографы попытались синтезировать хореодраму и танцсимфонию. Если в драмбалете содержание заключалось в сюжете, выраженном через пантомиму и действенный танец, то в балетах Григоровича и Вельского содержательность заключалась в самой хореографии на основе модифицированного классического танца, а музыка и драма были ее помощниками, а не диктаторами. «Легенда о любви» А. Д. Меликова и Ю. Н. Григоровича (1961) стала первым трехактным сюжетным балетом, сочиненным на основе симфонического танца. В. Ванслов в своем исследовании отметил: «В спектакле разрешается противоречие и уничтожается противопоставление балета-симфонии и балета-пьесы. Хореография в этой танцевально-пластической пьесе-симфонии развивается по своим собственным законам, одновременно выражая музыку и драму. Музыкально-хореографическая драматургия спектакля существует как непрерывное развитие танцевально-симфонического действия»472*.
Пьесами-симфониями можно назвать и балеты Петипа с той лишь разницей, что симфонические сцены в его спектаклях существовали обособленно и служили для характеристики ирреального мира. Теперь же хореографы пришли к синтезированию сюжетного действия с симфоническим танцем. И балетмейстеры новой волны 1960 – 1970-х уже учитывали эти открытия.
Другой путь, идущий от традиции Новерра и Фокина, предлагал Л. В. Якобсон. Он утверждал: «В хореографии должна произойти революция. От школы “классического” танца должна остаться вся ее универсальная система развития движения, ведущая к профессии артиста балета. Но должен быть отвержен стиль, в который эта система замкнута. Тогда родится новое искусство. Я его называю искусством “хореографической пластики”, или “пластической хореографии”, или “танцевальной 343 пластикой” — называйте как угодно, лишь бы сущность была единой. И тогда этой системой движения… можно рисовать все, что есть в жизни. Тогда предметом творчества хореографа может быть любое литературное произведение, образы живописи и скульптуры. Становятся подвластны все жанры, все жизненные явления, доступные пониманию художника»473*. Балеты Якобсона «Спартак» (1956), «Клоп» (1962), «Двенадцать» (1964), «Скульптуры Родена», «Свадебный кортеж» (1971) и другие созданы именно таким языком хореографической пластики.
На Западе Бежар одним из первых доказал, что возможности балета безграничны. Главное не приносить хореографию в жертву литературе, музыке, изобразительному искусству или еще чему-нибудь. А источником содержания и образной структуры может быть все что угодно. Требуется найти лишь соответствующий ключ к созданию образного мира балета.
Глава 21.
ПАНТОМИМА. ТЕАТР ПАНТОМИМЫ
Пантомима и театр пантомимы — родственные, но не случайно разделенные понятия, каждое имеет свое объемное содержание. В книге известного немецкого театроведа К.-Г. Симона «Пантомима», одном из фундаментальных современных трудов, посвященных изучению пантомимы, читаем: «Пантомима — это нечто отличное от танца и нечто отличное от мимики драматического актера. И в то же время она родственна этим видам искусства. Впрочем, не менее родственна она и марионеточному театру кукол, и технике акробатов, но при этом совершенно отлична и от них. Пантомима являет собой нечто самостоятельное, независимое — это искусство, которое обладает собственными законами и ни с чем не сравнимой сутью»474*.
Советский исследователь пантомимы А. А. Румнев утверждает, по сути дела, то же самое. Приводя в пример творчество всемирно известного французского актера М. Марсо, который выступал с моноспектаклями пантомимы, Румнев констатирует факт очевидный и не требующий особых доказательств: «пантомима является самостоятельным 344 видом искусства театра»475*. С другой стороны, рассматривая историю развития пантомимы, Румнев настаивает на том, что элементы пантомимы можно наблюдать повсеместно, и не только в балете, но и в опере, в драме, в цирке, в кино. «Когда актер на сцене не танцует, не поет и не говорит, он действует молча, и как бы ни назывались эти куски роли — паузой, внутренним монологом, немым куском, молчаливым диалогом или зоной молчания, — актер выражает себя в пантомиме. Пусть это только эпизоды, но они бывают иногда настолько важны в развитии действия и характеров, что приобретают первостепенное значение. “Гастрольные паузы” великих актеров, о которых говорит К. Станиславский, эти замечательные куски немой игры, которые способны захватить зрительный зал, являются паузами пантомимическими, несущими важнейшие действенные функции»476*.
Так что же такое пантомима и что такое театр пантомимы?
В западноевропейской культуре понятие «пантомима» возникло на заре Античности. Многие исследователи театра полагают, что, собственно, сам «драматический театр возник из пантомимы… Пантомимические представления стали со временем сопровождаться отдельно рассказываемым текстом, который играл роль аккомпанемента зримого действия. Этот, так сказать, преддраматический театр сохранился во многих странах Востока, в частности в Японии; след этого театра в Европе — хор античных трагедий»477*.
В переводе с древнегреческого «пантомима» (pan (pantos) — весь, всякий + mimos — подражание) означает подражание всему.
Актер выступал перед публикой один. Он играл нескольких персонажей, причем играл не только людей, но и среду их обитания, то есть все объекты, с которыми его персонажи взаимодействовали. К тому же, говоря современным языком, игра его протекала на невербальном уровне (без использования речи не только автора-драматурга, но — как таковой). Костюм был нейтральным, лицо набелено, то есть лишено черт индивидуальности, что позволяло сколь угодно часто преображаться в любого из своих героев.
Такой вариант действительно позволяет утверждать, что актерское искусство способно быть самодостаточным — осуществляться без взаимодействия 345 с другими искусствами (литературой, живописью, музыкой). Следует подчеркнуть, что сама игра античных мимов была необычайно музыкальна, прежде всего строго ритмизована.
Сценические произведения мимов напоминали рассказы от первого лица, от лица актера. Поэтому, когда к их игре с течением времени подключился рассказчик-речевик и музыканты (ударник и флейтист), игра эта не утратила своей самодостаточности, а лишь приобрела некоторое разнообразие.
Положение дел принципиально изменилось, когда искусство актера вступило во взаимодействие с поэзией. Когда при создании сценического текста в театре стала использоваться пьеса, изменилась задача, стоящая перед актером: если прежде он играл на сцене всех и все, то драматурги предложили ему играть только человека (причем не многих, а — одного). С этого момента пантомимическая основа актерской игры стала все чаще (а от эпохи к эпохе — и все больше) сводиться к мимированию. Вместо pantomime осталось только mime, а форма изображения на сцене человека с течением времени стала все сильнее приближаться к жизнеподобной.
Правда, на первом этапе, в Античности, актер использовал не бытовую, а поэтическую речь. К тому же он все еще играл несколько ролей, меняя маски и костюмы персонажей. То есть — создавал несколько образов, но уже не за счет своей игры, а за счет изменения внешнего облика с помощью средств выразительности, нехарактерных для его собственного искусства.
И все же основа актерского искусства осталась прежней — пантомимической. В этой связи В. Е. Хализев пишет: «В театре пантомима бытует двояко. В собственно пантомимических спектаклях она присутствует “в чистом виде”. Чаще же пантомима соединяется с вокальной и инструментальной музыкой (опера), а также с танцем (балет) или, наконец, со звучащей речью (драматический театр). В каждом виде театрального искусства, естественно, устанавливаются свои, особые соотношения между пантомимой и иными образными началами (танец, вокальная музыка, сценическая речь)»478*. Второй аргумент ученого выглядит так: «… театр может существовать без павильона и декораций, без музыкального сопровождения действия и даже, как это бывает в балете и пантомиме, без звучащего словесного текста. Но нельзя обойтись без воспроизведения мимики, жестов, поз, движений человека… <…> 346 Говоря иначе, специфическим компонентом сценических представлений является пантомима…»479*.
Очевидно, по отношению к новым формам существования актера больше подходит термин «мимирование»: речь уже идет о ситуации, когда актер-человек играет персонажа-человека. Актер сознательно ограничивает возможности своей игры, другие способы существования остаются невостребованными.
В истории развития актерского искусства есть и такие примеры, когда в игре одного и того же актера мы встречаем использование как пантомимы, так и мимирования (в принципе пантомима вбирает в себя мимирование). Но лишь спустя двадцать с лишним веков после мимов Античности такой «смешанный» вариант (а также — его безграничные возможности) стал применять в своей игре великий французский актер-романтик Ж. Б. Г. Дебюро (1796 – 1846). Дебюро играл в театре «Фюнамбюль», одном из бульварных театров, где было запрещено использование пьес, а стало быть, актеры не имели права разговаривать. Посещали подобные театры простолюдины и люмпены. Дебюро и сам был из этой среды и всю жизнь, как его зрители, испытывал чувство социальной униженности и несправедливости.
Вот как описывает Ф. Кожик в монографии «Дебюро» первый выход этого актера на сцену, принесший ему мгновенный успех и любовь зрительного зала: «Дебюро впервые вышел на сцену в роли Пьеро. <…>
Кассандр на языке пантомимы приказывает: вычисти мой костюм! Пьеро с готовностью подходит, услужливо смахивает пыль с его плеч, деликатно снимает каждую соринку. Кассандр нетерпелив, он награждает слугу пинками и затрещинами. Лицо Пьеро склоняется с покорной улыбкой. Но, увернувшись от подзатыльника, он незаметно подбирает с полу горсть мусора и преспокойно растирает его по костюму господина. Публика приветствует неожиданную смелость Пьеро взрывом хохота.
У Кассандра — его играет Ланж Кьярини — в глазах сверкают молнии. Он награждает слугу пощечиной, куда более хлесткой, чем это требуется для удовольствия зрителей. Пьеро заканчивает начатое дело; но когда господин поворачивается к нему спиной, будто бы невзначай спотыкается и возвращает ему один из пинков. Кассандр в ярости, а у слуги — совершенно невинное лицо.
Весь зал смеется, сценка заканчивается под аплодисменты»480*.
347 Это описание (следует напомнить, что горсть мусора — воображаемая) наглядно демонстрирует, как именно Дебюро сочетал в своей игре принципы пантомимы с мимированием: при взаимодействии с реальным партнером Дебюро (актер-человек) выстраивал на сцене поведение реального действующего человека-слуги; но как только его герой погружался (пусть даже очень ненадолго) в мир своих фантазий, в мир идеальных представлений о действительности, актер переключался на чисто пантомимическую игру, где и предметы, и партнеры — все было воображаемым и все воспроизводилось исключительно игрой актера.
Следующий всплеск интереса к пантомиме, сопровождавшийся уникальными достижениями, произошел спустя еще примерно сто лет. В 1930-е годы французский актер, режиссер и педагог Э. Декру стал разрабатывать принципы школы «mime pur», а в 1930 – 1940-е ее выпускники (сначала Ж.-Л. Барро, затем М. Марсо и др.) приступили к воплощению этих принципов на сцене.
История развития пантомимы (в ее «чистом виде»), кажется, противоречит законам развития всех других искусств: однажды возникнув, они уже не исчезают. История же пантомимы на первый взгляд может показаться дискретной: она то возникает, то на долгие периоды вроде бы исчезает совсем. На этот странный факт обратил внимание А. Я. Таиров. В его книге «Записки режиссера» читаем: «Пантомима!
Разве не она была родоначальницей театра и в дни Диониса и в культе Кришны, разве не она собирала жадные толпы в римский амфитеатр, разве не она всегда возникала на долговечном пути театра, как верный и неизменный признак его грядущего возрождения?»481* Действительно, пантомима в своем первозданном виде возникает исключительно в моменты кардинальных перемен внутри самого искусства актера, будь то попытки синтетических соединений с другими искусствами или пересмотр собственных возможностей. В XX веке интерес к пантомимической основе актерской игры вспыхнул с особой силой. А сопряжен он был с появлением и стремительным формированием в театре авторской режиссуры.
Сегодня общеизвестно, что одна из обязательных задач современного режиссера — создание пространственно-временной композиции, объединяющей актерскую игру с музыкой, литературой, архитектурой, живописью, позже — еще и с фотографией и кино. Чтобы успешно справиться с этой задачей, автор спектакля должен знать первооснову каждого из искусств. Если к рубежу XIX – XX веков, когда профессия 348 режиссера-постановщика начала активно заявлять о себе, с законами, организующими музыку, литературу, живопись, архитектуру, все было более или менее понятно, то проблема актера вызывала ожесточенные дискуссии. И поэтому не случайно, что среди режиссеров-новаторов и в Западной Европе и в России, пожалуй, нет ни одного, кто бы не обратился для решения этой проблемы к осмыслению пантомимы и ее возможностей.
На первоначальном этапе решения «актерского вопроса» многие режиссеры пошли по пути расширения возможностей мимирования с целью уйти от бытового существования актера на сцене, научить его творить в условиях художественного пространства и художественного времени, как это делают творцы других искусств, а также — привить вкус к стилевому разнообразию. М. Рейнгардт, например, «очеловечил» декорации — лес в спектакле «Сон в летнюю ночь» играли актеры; В. Э. Мейерхольд и А. Я. Таиров почти одновременно поставили сценарий пантомимы А. Шницлера «Подвенечная фата Пьеретты»; позже Мейерхольд разрабатывал основы биомеханики, Таиров — теорию эмоционального жеста, М. А. Чехов — принципы психологического жеста. Е. Б. Вахтангов модифицировал в своей «Принцессе Турандот» маски комедии дель арте; Ж. Копо, увлеченный идеями А. Аппиа и Г. Крэга, предпочитал ставить практически в «пустом пространстве» сцены, и т. д. и т. д. Позже П. Брук объявит «пустое пространство» сцены своеобразным идеалом для творчества как актера, так и режиссера.
Можно привести множество высказываний, в которых запечатлены эти поиски по обогащению возможностей актерской игры, но, пожалуй, образней других (хотя и гораздо позже) высказался Б. Е. Захава: «Во сколько раз выше искусство какого-нибудь японского актера, запрягающего на сцене несуществующую лошадь, — но так запрягающего, что зритель начинает ощущать присутствие этой лошади (не беда, что он ее не “видит”), — во сколько раз его искусство выше искусства того актера, который вытащит на сцену живую, настоящую лошадь и начнет ее запрягать на глазах у зрителей в настоящую телегу…».
В примере Б. Е. Захавы мы видим стремление решить проблему уже не на уровне мимирования (когда актер-человек играет персонажа-человека), а именно на уровне пантомимы, так как здесь актеру одновременно с персонажем-человеком нужно сыграть еще и лошадь с телегой.
349 Это особое, самодостаточное искусство. Его заново изобрел (не реконструировал то, что было двадцать пять веков назад, а именно изобрел утраченное) Декру. Школа Э. Декру не зря получила название «mime pur» (подражание вчистую, без примесей). Драматический актер воспитывался здесь под лозунгом «голый человек на голой сцене». Это означало, что прежде чем вступить в союз с какими бы то ни было другими искусствами, актеру следует научиться играть любой из объектов реальной действительности. И не только одушевленные, но и неодушевленные предметы, а также любые природные явления (вода, воздух, огонь, земля). Для этого Декру предложил новое, принципиально отличное от традиционного для Европы нескольких последних веков использование принципа идентификации (отождествления себя с играемым объектом).
Декру ввел понятие «частичной» и «множественной» идентификации. Это необычайно усложняет задачу, стоящую перед актером, но и ведет актера к творческой свободе, расширяет возможности его искусства.
Для понимания разницы приведем один из наиболее элементарных примеров. Во многих актерских школах используется упражнение «Я — статуя», когда тело актера должно на некоторое время уподобиться монолитной каменной глыбе. Здесь задача одна, и состоит она в умении овладеть полной блокировкой тела. В следующем упражнении «Я — ожившая статуя» перед актером встают уже две задачи: полная блокировка тела должна смениться движением. Но эти столь разные задачи выполняются актером последовательно. Декру же предлагает актеру выработать умение одновременно выполнять подчас прямо противоположные задачи. Так, в упражнении «Я — статуя, вращающаяся на пьедестале» от актера на протяжении всего упражнения потребуется одновременное выполнение сразу двух требований, так как при блокировке верхней части тела (частичная блокировка — корпус, голова, руки) ноги актера должны будут выполнить медленный и плавный поворот на 360 градусов (локальное движение). Развиваясь параллельно и независимо друг от друга, действия эти, однако, должны будут слиться для зрителей в единое целостное впечатление от статуи, вращающейся на пьедестале.
На первом этапе актер должен, опираясь на специфику только своего искусства, научиться самостоятельно создавать пространственно-временные модели, являющиеся базой сценического текста, то есть овладеть спецификой актерского языка, как овладевают спецификой своего языка творцы любого другого искусства.
350 Безупречное решение столь сложной задачи было найдено в одном из первых упражнений «mime pur». Со временем оно стало знаменитым во всем мире и в каком-то смысле долгое время являлось своеобразным брэндом «mime pur». Речь идет о «ходьбе на месте».
Как правило, персонажу-человеку, которого играет актер «разговорного театра», доводится передвигаться в сценическом пространстве, которое по своей величине практически адекватно реальному. Чаще всего это небольшое пространство комнаты или часть улицы, а также другого закрытого или открытого пространства. В таком случае актер двигается так, как в жизни, ему достаточно лишь найти выразительную краску, которая характеризует походку его героя. Но сможет ли такой актер решить задачу более сложную, а именно — создать у зрителей впечатление, что его персонаж преодолевает путь длиною в несколько километров (ведь зеркало сцены редко когда бывает больше 20 метров)? Обычно вместо того, чтобы сыграть этот путь, актер описывает его словами.
«Mime pur», не отрицая естественную ходьбу, рассматривает ее как один из множества допустимых вариантов. В «mime pur» актер без помощи других искусств учится моделировать сколь угодно огромное жизненное пространство в условиях сравнительно небольшого пространства сцены. Но в этом случае естественная ходьба уступит место искусственно построенной модели ходьбы. Таких моделей тоже может быть великое множество. О «классической», которую Декру сочинил вместе с Ж.-Л. Барро, его единственным тогда учеником, Барро впоследствии писал: «На расчет знаменитого шага на месте у нас ушло три недели: потеря равновесия, противовесы, дыхание, изоляция энергии… Благодаря Декру я открыл для себя бесконечный мир мускулов человеческого тела. Его нюансы. Его алхимию.
Мы начали вырабатывать новое сольфеджио искусства жестов»482*.
Для начала Декру и Барро проанализировали механизм движений, организующих естественную ходьбу человека: человек отрывает стопу от пола, выносит ногу вперед, ставит стопу на пол, переносит вес тяжести на впереди стоящую ногу — он сделал шаг. Для того чтобы найти сценический эквивалент этому жизненному процессу, Декру предложил Барро сыграть и человека-персонажа, и поверхность, по которой тот будет продвигаться вперед. Получилась следующая схема движений: артист, играющий человека, отрывает стопу от пола, выносит правую 351 ногу вперед… До сих пор его движения совпадают с естественными, но дальше в силу вступает искусственное построение. Он опускает стопу вниз (в направлении пола), но не ставит ее на пол, а фиксирует в воздухе за два-три сантиметра от него, расположив параллельно ему. Центр тяжести тела по-прежнему остается на левой ноге. Затем — артист втягивает наверх бедро (так, чтобы правая нога стала немного короче) и, выпрямив колено, плавным, равномерным движением возвращает ногу в исходное положение (стопа движется параллельно полу). Одновременно с этим движением, благодаря которому у зрителей создается впечатление, будто из-под ноги персонажа-человека уходит пространство, артист перекатывает стопу левой ноги на полупальцы и сгибает эту ногу в колене. Он продолжает удерживать на левой ноге равновесие до тех пор, пока стопы обеих ног окончательно не сблизятся, придя в исходное положение. Только теперь происходит перенос центра тяжести на правую ногу. А дальше — та же самая схема движений повторяется, но уже с другой, левой ноги. Само собой разумеется, что «шагать» таким образом можно сколь угодно долго и размеры сцены тут не помеха. Артист создает впечатление ходьбы, но не использует для своего «продвижения вперед» ни одного сантиметра реального пространства сцены. Поэтому, будь она большой или маленькой, он сможет сыграть на ней расстояния любого размера. Больше того, искусственно смоделированное пространство позволит артисту органично сочетать его с искусственно смоделированным временем. За несколько минут сценического времени он может сыграть не только несколько часов, дней, но и многие годы, целую жизнь человека и даже — вечность. Пользуясь различными приемами монтажа, хорошо известными сегодня по киноискусству, актер может выделить наиболее значимые «моменты» этого пути, иногда спрессовывая, иногда раздвигая время тех или иных эпизодов.
Принципы «mime pur» оказали серьезное воздействие на актерское искусство XX века, но одновременно положили начало и новому по существу виду театра — театру пантомимы, где они заработали на уровне художественного сценического текста. Среди спектаклей этого театра есть и «сольные» и «многофигурные», но все они именно театральные произведения. Есть актер, есть роль, которую он играет, и она уникальна: актер играет вместе и человека, и все, что вокруг него. Есть специфически художественное содержание — как правило (но не обязательно), оно философично, есть формы, заведомо «условные», и есть, наконец, пантомима, превращенная, как танец в балете и пение в опере, в художественный язык. Вот один пример — «Клетка» М. Марсо.
352 Нет реквизита, декораций, музыки, литературного текста, костюм актера нейтрален, лицо набелено. Середина сцены слабо освещена. Лучом прожектора выхвачен «идущий» (разумеется, не сходя с места) Человек. Иллюзия заполненной, но ирреальной картины длится до тех пор, пока у зрителя не возникает отчетливого ощущения, что речь идет не о какой-либо конкретной прогулке, а о дороге жизни и преодолевающем ее Человеке.
На несколько секунд перед мысленным взором героя мелькает видение: цветущие ветки деревьев, птицы — мир. Он тянется к ним рукой, видение увлекает его за собой, и герой действительно начинает идти вперед. Постепенно продвижение Человека обретает решимость и окрыленность, потому что вдали, поначалу едва различимая, перед ним возникает цель. Он полностью поглощен ею, он увеличивает темп ходьбы, он мобилизует все свои силы, чтобы преодолеть путь, ведущий к этой цели, но… резко и неожиданно останавливается и замирает с полувоздетыми у небу руками, которые «смотрят» в зал чуть растопыренными пальцами. Два шага к рампе, шаг в сторону — и тело распластано по стене, отгородившей его от чудившегося ему все это время миража. Эту позу завершает «обрубленный» взгляд, хотя явно направленный к горизонту, но не видящий дальше стены. Напряженная пауза. И — осторожное (словно герой боится быть кем-то замеченным в своей растерянности) движение влево, длящееся до тех пор, пока руки не наткнутся на угол, а Человек не убедится я наличии второй стены — его тело вновь, как и в момент встречи с первой преградой, распластано по ее плоскости. Короткими (боковыми, приставными) прыжками, всякий раз застывая в «роковой» позе, он продвигается вдоль стены во все ускоряющемся темпе, а во время обратного движения вдоль той же стены этот темп становится лихорадочным. Вновь добравшись до стыка двух стен, уже охваченный паникой, он бежит через всю сцену к заднику с явным желанием удержать будто бы надвигающуюся на него третью стену. Но она оказывается такой же неподвижной, гладкой и неприступной, как первые две (он двигается вдоль нее знакомыми прыжками, только еще быстрее, и уже лишь формально фиксирует руками стену). В существовании четвертой герой уже не сомневается. Сбывается и его предчувствие, что стены начнут наступать на него. Четвертая оттесняет Человека к центру сцены, откуда начиналось его путешествие по жизни.
Стены плотно обступили его со всех сторон. И сколько бы он ни пытался удержать их наступление, поочередно упираясь ладонями в каждую, Клетка становится все тесней и тесней, а Человек все сильней 353 и отчаянней ощущает свою несвободу. Агония наступает, когда сверху начинает опускаться потолок. В одном из порывов отчаяния Человек пробивает стену (в этот момент ладонь левой руки актера воссоздает собою стену, а кулак правой — в полуметре от этого обозначения — лихорадочно и отчаянно бьет по этой «стене», пока не разрушит).
И вот — широко раскрытые глаза, жадно хватающий струю свежего воздуха рот и мягкая пластика вырвавшейся на волю руки при скрюченном, обессиленном, зажатом со всех сторон теле. Но и ничтожная возможность обрести свободу придает человеку сил — он окончательно «взламывает» стену, чудесным образом вслед за рукой оказывается на воле и, вдохнув полной грудью, начинает идти…
Ему кажется, что идет он, как прежде, — вперед. Но зрители видят, что Человек, словно на какой-то движущейся ленте, «отъезжает» назад, к середине сцены, откуда он начал свой путь… Ему вновь видятся цветущие ветки деревьев, птицы — мир, который манит.
Человек возрожден. Постепенно поступь его становится столь же уверенной, какой была прежде. Он еще не догадывается, что вновь увлечен миражом и находится в клетке, только большего размера. Он благополучно минует приведший его к столь горькому опыту рубеж, но вскоре опять наталкивается на стену, и кошмар пленения повторяется (в том же рисунке, только в более рваном ритме), вот только завершается он на сей раз иначе. Когда рука вырывается на свободу, пробив стену, она долго «смотрит» вперед, словно размышляя над будущим: вместе с утратой веры в возможный положительный исход из нее постепенно уходят силы.
На освещенной середине сцены скрюченный человек: рука его, вырвавшись в отверстие, проломленное в стене, вытянулась вперед и после долгой паузы безвольно обвисла; отголоском то же движение вслед за рукой повторили голова и корпус актера, весь последний эпизод стоящего на коленях.
С технической точки зрения Марсо использовал здесь достаточно простые приемы воссоздания плоскости, а именно — стены, с которой персонаж драматически взаимодействовал. Но самый перенос внимания с техники или ее демонстрации на драму и сделал это произведение спектаклем.
Театр пантомимы в его чистом виде и сегодня нельзя назвать широко распространенным. Нередко он становится как бы частью другого целого, и тогда «мимирование» сочетается с пантомимой. Существуют даже пьесы, созданные с учетом такого сочетания. Например, «Наш 354 городок» Т. Уайлдера. Здесь первое действие протекает в бытовой обстановке, но автор настаивает на том, чтобы повседневность с ее бесконечными конкретными заботами была разыграна актерами в условиях чистой пантомимы, в «пустоте». А примеров, когда режиссер и актеры используют пантомиму как фрагмент, — бесчисленное множество. Но, может быть, наиболее выразительный из них — «Христофор Колумб», поставленный Ж.-Л. Барро.
Один из важнейших эпизодов этого спектакля был разыгран с применением техники «mime pur». Действие происходило в финале бури, в которой, возможно, разбился корабль Христофора Колумба, а это означало крах мечты открыть новые земли, да и сама жизнь Колумба и его команды под угрозой: буря разметала всех. И главным виновником этих бед было Море.
Постановщик спектакля решил, что Море обязательно должно присутствовать на сцене и постоянно влиять на жизнь и судьбу других героев спектакля. Зритель видел следующее. Посередине сцены стоял наклонный пандус. То сверху вниз, то снизу вверх, в унисон еще бушующим волнам моря, перекатывалась по пандусу человеческая фигура. И поначалу было непонятно, движения ли человека были порождены еще теплящейся в нем жизнью или это уже безвольное тело, которым играет ненасытная стихия.
В левом углу авансцены (уже почти на берегу) распласталась еще одна человеческая фигура. Это Христофор Колумб, которого Море прибило к суше. Он тоже ритмично двигался в такт набегающим волнам, но движения его были незначительными, так как ближе к берегу сила Моря заметно ослабевала. Потом Христофор Колумб медленно, с трудом поднимался на ноги и замечал фигуру моряка, которого Море продолжало «перекатывать» (по пандусу). Колумб пытался углубиться в толщу волн, но всякий раз получал от Моря отпор: волна сбивала его с ног. И все же он не прекращал попыток борьбы с Морем. Стремление одолеть противника усиливалось тем, что в безвольно колеблющейся на волнах фигуре Колумб узнал своего преданного боцмана, с которым не раз бороздил моря и океаны. И когда наконец Море прибило боцмана к берегу и Христофор Колумб взял своего друга на руки, у зрителей было полное впечатление, что с тела погибшего моряка стекает вода.
В других эпизодах этого же спектакля персонажи и разговаривали, и вели себя более «бытовым» образом, но, посмотрев эпизод с Морем, невозможно было не согласиться с Э. Декру, который утверждал, что пантомима — суть актерской игры.
355 Глава 22.
ТЕАТР КУКОЛ
Краткое определение театра кукол как вида искусства на всех языках мира выглядит примерно одинаково: театром кукол называют особый вид театральных представлений, в которых вместо актеров на сцене действуют куклы, управляемые актерами. Между тем это толкование справедливо лишь по отношению к так называемому миметическому периоду эпохи барокко, когда из театра кукол стремились сделать миниатюрную копию большой сцены и во всем (репертуаре, оформлении, жанрах) если не полностью дублировать музыкальный и драматический театр того времени, то максимально ему подражать. Считать это определение научно строгим и универсальным нельзя еще и потому, что в нем нет ответа на главный вопрос специфики: что такое театральная кукла и почему она оказывается на сцене вместо живого актера.
Дело осложняется тем, что современный театр кукол не имеет формальных границ. Помимо кукол разных конструкций (а иногда и вместо них), он свободно использует маски, предметы, тени, руки, новейшие технологии и т. п. Начало этого процесса обозначают 1958 годом, годом Международного фестиваля театров кукол в Бухаресте, обрисовавшего широту и актуальность явления. Именно в связи с расширением границ кукольного театра педагог и режиссер М. М. Королев заметил: «Театры кукол бывают такими непохожими друг на друга, что иногда общность их природы становится почти неуловимой»483*. Спустя почти полвека с ним согласился известный польский специалист в области кукольной теории Х. Юрковский: «Я сомневаюсь в возможности выработать четкое универсальное определение современного театра кукол. Полагаю, что нам предстоит рассматривать отдельно каждый жанр так называемого театра кукол с целью определить его особенности и его язык»484*.
Не удивительно, что исследователи затрудняются дать точное определение театральной кукле — простое перечисление известных и широко используемых технологий занимает в специальных изданиях целые страницы485*. Классификация помогает прочертить внутренние границы 356 между разными областями кукольной территории, но не приближает нас к пониманию отличия кукольного от других видов театра.
Профессионалы-практики и критики пробуют подойти к проблеме и с обратной, антитехнологической, стороны, определяя специфику куклы на языке философии: «Кукла есть любая вещь, которая вовлечена в круг содержательных человеческих, человечных ассоциаций и участвует в сценическом творчестве»486*, «любой “одушевленный” предмет»487*, «всякое оживление мертвой материи»488*. Театр кукол называют театром визуальной поэзии, ожившей метафоры и т. п.
Такой подход провоцирует на определение жанрово-стилистических особенностей, присущих разным способам кукловождения: «Перчаточная — петрушка. Она смешна, суетлива, порой агрессивна, но никогда — страшна… В тростевую куклу человек вложил свою мечту о героической устойчивости. Она — символ определенности, четкости… А вот марионетка — продолжение духа… И, наконец, паркетная кукла… Есть в ней что-то монстрообразное, некая агрессия тела, преувеличение плоти»489*. Эти описания сродни художественной литературе — в них заметна излишняя степень образности; кукла описывается в них почти как чистая метафора, но ее сценическая функция продолжает оставаться неясной. Как справедливо заметил исследователь, «… образ в кукле всегда заслонял в ней инструмент… Это значит, что в образе не видели действия»490*.
Современное искусствознание описывает театр кукол либо как априорное единство его подвидов (когда на сцене что угодно, лишь бы не человек), либо как принципиальное многообразие форм, объединенных наличием куклы (что угодно, лишь бы с куклой). Но ни один из 357 этих подходов (равно как и чисто технологический, и чисто художественный) не отвечает на фундаментальный вопрос видовой специфики. Почему театр кукол постоянно занимается переизобретением куклы? Является ли кукла единственным необходимым и достаточным атрибутом театра кукол? Есть ли у театра кукол свой особый предмет?
Театр кукол как вид профессионального театра — явление очень молодое. До XX века кукольные спектакли театром не назывались и не знали такого обобщенного понятия, как «театральная кукла». За каждой куклой стоял определенный вид традиционного кукольного театра, среди которых наиболее известны уличная комедия с перчаточными куклами (например, Панч и Джуди в Англии, Петрушка в России), рождественские представления (польская шопка, французская крешь, белорусская батлейка, украинский вертеп) и марионеточные представления (бельгийская, сицилийская и другие традиции).
Для перчаточной куклы была характерна сценическая конструкция, которая могла быть вынесена на улицу и внутри которой мог спрятаться один кукольник. Куклы, надетые на руку кукольника, управлялись снизу и разыгрывали комедию с центральным главным героем, именем которого и называлось представление. Постоянные избиения, пограничные шутки, глумления под громкий ярмарочный смех напрямую апеллировали к карнавальной модели мира — с центром под игровой кукольной площадкой, в чреве самой земли, откуда все происходит и куда все в конце концов низвергнется.
Для работы с марионетками использовалось сравнительно сложное устройство — обычно внутри шатров или временных театральных сооружений строилась особая сцена с верхним мостом («тропой») для кукловодов. Изощренная конструкция кукол, почти без исключения трюковых, позволяла разыгрывать сложные, в основном волшебные сюжеты с большим количеством того, что в кино впоследствии стали называть «спецэффектами», — отрыванием голов, пиротехникой, магическими превращениями и т. п. В отличие от перчаточного театра, в котором «верха» не было вовсе (а был лишь «низ» и то, что еще ниже), марионеточный театр был полностью устремлен «вверх», к определяющему жизнь всего живого Небу.
Вертепщики перед Рождеством ходили из дома в дом, нося с собой деревянный ящик — двухэтажную сцену, на которой разыгрывались представления о событиях из жизни Спасителя (на верхнем ярусе) и злодеяниях Ирода (на нижнем). Вертепный ящик уже самой конструкцией, лишь поддерживаемой драматургическим материалом, олицетворял 358 собой иерархию христианской модели мира, где Божественное и земное строго разделены и никогда не пересекаются.
Как видим, традиционные формы европейского кукольного театра в разной степени сохраняли и выявляли мифологические корни куклы как знака или, если угодно, вестника определенного мироустройства. Поскольку модель мира, по формуле В. Н. Топорова, «не относится к числу понятий эмпирического уровня (носители данной традиции могут не осознавать модель мира во всей ее полноте)»491*, ее отдельные параметры в скрытом, зашифрованном виде присутствуют в разных формах народного искусства.
Показательно при этом, что фольклорные представления о мироустройстве выражены и воплощены в народной традиции не только и даже не столько самой куклой, сколько целым комплексом обусловленных системой ее управления признаков: сценической конструкцией, материалом, масштабом, содержанием разыгрываемых сюжетов, особенностями композиционного построения действия.
В народном театре кукол не было ни режиссера, ни драматурга, ни художника — их заменяла традиция, определявшая все структуро- и смыслообразующие связи между отдельными элементами представления. Таким образом, и сами представления, и тексты, и герои, и сюжеты, и трюки были однотипными — «традиционными».
Кукольник в таком театре актером не считался — он не играл ничьей «роли»; он был ремесленником и на все руки мастером — скульптором, механиком, фокусником, музыкантом, жонглером, одним словом… кукольником. Он мог быть от природы более или менее талантливым «шоуменом» (или «перформером», или «исполнителем»), но профессионализм в его случае означал только «ловкость рук», необходимую для владения куклой как инструментом.
Традиционные кукольные технологии возникли не в одно время и не в одном месте, а распространялись постепенно (один способ управления куклой часто сменял другой или продолжал сосуществовать с более старым) и в разных странах независимо друг от друга. Они вообще не возникали и не осознавались как технологии — они не были «выбором» культуры, а использовались как единственно возможные, поскольку выражали исторически сложившееся и доминировавшее в той культуре представление о строении мира.
Необходимость же новых технологий возникла сравнительно поздно, когда для культурного сознания открылись возможности не просто 359 воспроизводить, но и моделировать мироустройство. И тогда традиционные формы театра кукол (как и другие синкретичные художественные или мировоззренческие системы) начинают кардинально меняться: они словно разлагаются на составляющие их элементарные частицы, изолированные от других, ранее казавшихся неотъемлемыми.
Ярким примером тому может служить Панч-Петрушка, сюжет и герой которого отчуждается от традиционной перчаточной технологии. Технология перестает обусловливать структуру и форму спектакля — в то время как Петрушка бросает перчаточный театр, перчаточный театр тоже, в свою очередь, освобождается от Петрушки, а заодно и от «низовой» природы, множа свои сюжеты из всевозможных областей жизни (например, политики). Отрыв театральной куклы от театра кукол вообще и переосмысление ее как общекультурного феномена — логическое завершение тех же процессов. Поправ видовые границы, кукла традиционного театра проникает на драматическую и балетную сцены — и не как сценический инструмент, а как персонаж («Король Убю» Жарри, «Петрушка» Стравинского). «Высокий» официальный мейнстрим заимствует из низовых форм народного театра то, что ему подходит, — и в результате кукла окончательно покидает мифологическое измерение, оказываясь в игровом поле XX века — в поле, полностью подвластном уже не традиции, а демиургической авторской воле.
Несмотря на то, что в некоторых странах традиционные кукольные представления можно увидеть и по сей день в почти первозданном виде, сам такой театр уже давно считается «исчерпанной формой»492*. Ему на смену пришел современный театр кукол, который выступает на той же территории, что и всякий другой театр. Соответственно, не могла не измениться и сама кукла.
В отличие от традиционной, современную театральную куклу невозможно определить в терминах дизайна, она часто не является произведением изобразительного искусства вообще. После кукольных спектаклей XX века в музеях изящных искусств выставлять будет нечего. Зато будет что — в галереях современного искусства. На сцене в роли куклы выступают детские игрушки, аксессуары, одежда, предметы кухонной утвари и т. д. — без всяких специальных приспособлений и художественных усовершенствований. Кукла перестает быть таковой вне сцены: она становится собою только в руках актера-кукольника. Таким 360 образом, сложность определения куклы в современных условиях объясняется тем, что за сто лет своего официального существования в статусе эстетического объекта театральная кукла пережила такое количество генетических превращений, что стала почти неуловима для науки, требующей хоть какой-то стабильности наблюдаемого явления.
Революцию в сознании театрального мира совершил С. В. Образцов, вольно или нет продолживший работу XX века по отчуждению куклы от ее традиционного знаменателя. Если превращение театра кукол в искусство, происходившее на рубеже XIX и XX веков, ознаменовалось отчуждением куклы от ее мифопоэтических, синкретических функций, то модернистское сознание первой четверти XX века не могло не пойти дальше — к расподоблению самой куклы как эстетического объекта. Образцов, «раздевший» перчаточную куклу, обнаживший перед зрителями руку кукольника с простым шариком на указательном пальце вместо головы, произвел переворот, хотя не он здесь был первым. Первым по справедливости должен, вероятно, считаться Г. Крэг, в кукольной пьесе «Ромео и Джульетта» буквально разломавший куклу на куски и много работавший над созданием некого театрального Франкенштейна, получеловека-полукуклы.
Меж тем ход Образцова был гораздо более радикальным, чем предполагает примелькавшаяся эмблема его театра. Если рука с шариком может стать куклой, значит, и рука без шарика легко может ею стать. Важно, значит, не что выступает в роли куклы, а какова сама эта роль.
В этом случае можно пытаться определить свойства того семантического поля, в котором кукла только и обретает смысл или самое себя. Среди них важнейшие — анимизм, когда любой объект, находящийся в какой-либо связи с деятельностью человека, одушевляется; антропоморфизм, при котором предметы и явления неживой природы наделяются человеческими свойствами; и дуализм, идея существования двух не сводимых друг к другу начал, субъекта и объекта. Сколь бы архаичными эти понятия ни казались (а они таковыми, безусловно, являются), они остаются актуальными для определения куклы и по сей день.
Анимизм. Не нуждается в доказательстве то, что главное в кукле — ее «живость», обладание независимой от управляющего актера самостоятельной волей, витальностью. Культуре известно множество способов заставить зрителя поверить в жизнь куклы, а по мере развеществления куклы крут возможностей ее анимации расширялся. Сегодня кукле, чтобы быть «живой», не всегда обязательно быть визуально «оживленной». Ей достаточно просто быть. Но театр кукол изобретательно 361 управляется сейчас и вовсе без куклы, манипулируя самим понятием «кукла», оживляя саму ее «платоническую» идею.
Радикальным решением в этом плане является изобретение театра «невидимых кукол» — известен, например, бельгийский спектакль, в котором блошиный цирк исполняется только Мастером церемоний, комментирующим удивительные трюки созданий столь крохотных, что они не видны невооруженному глазу.
Антропоморфизм. Кукольный театр давно преодолел и изжил в себе стремление к человекоподобию. Когда кукла стала слишком натуралистичной, оказалось, что больше всего театр кукол ценит в ней ее «кукольность», и XX век потратил большие усилия на то, чтобы ее возродить. Но если утрату человекоподобия театр кукол позволил себе легко, от одного «фактора человеческого» он так и не смог отказаться — от эмоций. Из чего бы ни был сделан кукольный персонаж — из мягкой материи, из жесткой проволоки, из бумаги или из руки самого кукольника, — главное, чтобы он транслировал узнаваемую человеческую эмоцию.
Дуализм. Театр кукол всегда основывался на том, что человеку в мире отведено особое место, демонстрируя, что, кроме человека, в мире есть кто-то еще, кто с человеком связан (подчас самыми прямыми, натянутыми до предела узами). Театр кукол всегда работал над программированием и образной интерпретацией этих связей. Актер мог быть скрыт от зрителя или находиться у всех на виду, рядом с куклой — они всегда представлялись зрителю обитателями двух разных миров. И отношения между этими мирами (реальным и мнимым, верхним и нижним, человеческим и божественным) всегда были и будут отдельным предметом кукольного театра. (Недаром кинематограф развил целый поджанр, и это, пожалуй, единственное, в чем кукла приглянулась игровому кино, — фильм ужасов о чревовещателях и их куклах, выходящих из-под контроля и вершащих зло.)
Век, обнажавший в искусстве механизмы, вывел актера на сцену и сделал сам процесс создания кукольного персонажа предметом кукольного театра. Актер стал в буквальном смысле слова держать в руках свою роль. Надо отметить, что человек присутствовал на кукольной сцене едва ли не всегда. Он мог быть рассказчиком и комментатором происходящих на кукольной сцене событий (бунраку, Япония). Мог быть музыкантом, озвучивавшим кукольный мир, или «переводчиком» непонятного кукольного языка для зрителей (Россия). Мог читать роли за кукол, видимый в специальном окошке (Бельгия). Мог просто быть 362 незримым слугой пространства (Япония). Словом, он всегда был для зрителей проводником в мир кукол. Но никогда структура его взаимоотношений с куклой не выступала на первый план, заслоняя рассказываемую историю. Только когда кукла была осознана как идеальный Двойник, идеальный Другой (за что ее, собственно, и боготворил Крэг, естественно не формулируя это в постмодернистских терминах), отношения «субъект-объект» приобрели в кукольном театре характер структуро- и смыслообразующих. Кукла и актер могут выступать как равные партнеры или две ипостаси одного персонажа (прошлое и настоящее, реальное и мнимое) — вещественная природа театра кукол позволяет современным практикам ничем не ограничивать себя в интерпретации понятия дуализма, — в любом случае отношениями актера и куклы определяется и характер последней, ее естество.
Таким образом, кукла в современном театре кукол может быть определена как сценический инструмент создания персонажа, то есть — персонифицированная, овеществленная или опредмеченная роль, данная актеру извне и отдельная от него, при помощи которой он только и может создавать персонаж. В качестве куклы может выступать как фигуративный объект, сделанный художником, так и любой предмет, любая фактура, включая человеческую, метафорически используемая как знак другой по отношению к живому актеру реальности. Но главное, что требуется от куклы — что требовалось всегда и остается ее неизменным знаменателем, — это управляемая способность жить — точка, где сходятся все оси осуществления куклы.
363 Список рекомендуемой литературы
Аверинцев С. С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» // Вопросы литературы. 1971. № 8. С. 206 – 266.
Алперс Б. В. Театр Мочалова и Щепкина. М., 1979. Раздел «Искусство актера и пути его изучения». С. 7 – 54.
Аникст А. А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965.
Аристотель и античная литература. М., 1978.
Асафьев Б. В. Об опере. Л., 1976.
Бабкина М. П., Потабенко С. И. Народный театр Индии. М., 1964.
Барбой Ю. М. К теории театра. СПб., 2008.
Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
Бачелис Т. И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
Бентли Э. Жизнь драмы. М., 2004.
Берков П. Н. Библиографическая эвристика: (К теории и методике библиографических разысканий). М., 1960.
Блок Л. Д. Классический танец: История и современность. М., 1987.
Богатырев П. Г. О взаимосвязи двух близких семиотических систем: Кукольный театр и театр живых актеров // Ученые записки тартуского университета. Вып. 308. Труды по знаковым системам. № 6. Тарту, 1973. С. 306 – 329.
Брехт Б. Театр: В 5 т. М., 1965. Т. 5.
Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. М., 2003.
Веселовский А. Н. Избранное: Историческая поэтика. М., 2006.
Владимиров С. В. Действие в драме. СПб., 2007.
Власов В. Г. Стили в искусстве: Словарь: В 2 т. СПб., 1995.
Волков Н. Н. Композиция в живописи: В 2 т. М., 1977. Т. 1.
Вопросы театроведения. СПб., 1991.
Выготский Л. С. Психология искусства. М., 2008.
Гачев Г. Д. Жизнь художественного сознания. М., 1972. Ч. 1.
Гвоздев А. А. Итоги и задачи научной истории театра // Задачи и методы изучения искусств. Пг., 1924. С. 81 – 121.
Гвоздев А. А. Театральная критика. Л., 1987.
364 Гегель Г. В. Ф. Эстетика: В 4 т. М., 1969. Т. 2.
Границы спектакля. СПб., 1999.
Громов П. П. Герой и время. Л., 1961.
Громов П. П. Написанное и ненаписанное. М., 1994.
Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. М., 2003.
Декру Э. Слово о миме. Архангельск, 1991.
Дживелегов А. К. Итальянская народная комедия. М., 1954.
Дзэами Мотокиё. Предание о цветке стиля: (Фуси кадэн), или Предание о цветке: (Кадэнсё). М., 1989.
Дидро Д. Парадокс об актере. Л.; М., 1938.
Евреинов Н. Н. Демон театральности. М.; СПб., 2002.
Жак-Далькроз Э. Ритм. М., 2002.
Жирмунский В. М. Задачи поэтики // Задачи и методы изучения искусств. Пг., 1924. С. 123 – 167.
Жирмунский В. М. К вопросу о формальном методе // Вальцель О. Проблема формы в поэзии. Пг., 1923. С. 5 – 23.
Иванов В. В. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976.
Игнатов И. Н. Театр и зрители. М., 1916. Ч. 1. Из истории советской науки о театре. М., 1988. Искусство режиссуры за рубежом. СПб., 2004.
История и теория русской дореволюционной театральной критики. М., 1980. История советского театроведения. М., 1981.
Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории. М., 1998.
Каган М. С. Морфология искусства. Л., 1972.
Как всегда об авангарде. М., 1992.
Калмановский Е. С. Вопросы театральной терминологии. Л., 1984.
Калмановский Е. С. Книга о театральном актере. Л., 1984.
Карп П. М. Балет и драма. Л., 1980.
Колязин В. Ф. От мистерии к карнавалу. М., 2002.
Кон И. С. В поисках себя. М., 1984.
Конрад Н. И. Запад и Восток. М., 1972.
Королев М. М. Искусство театра кукол: Основы теории. Л., 1973.
Костелянец Б. О. Драма и действие. М., 2007.
Крэг Э. Г. Воспоминания, статьи, письма. М., 1988.
Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.
Кун Т. Структура научных революций. М., 1975.
Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977.
Лотман Ю. М. Семиотика сцены // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 2005. С. 583 – 603.
Лоусон Дж. Г. Теория и практика создания пьесы и киносценария. М., 1960.
Ляпушкина Е. И. Введение в герменевтику. СПб., 2002.
Мальцева О. Н. Поэтический театр Юрия Любимова. СПб., 1999.
Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974 – 1977.
Маркова Е. В. Современная зарубежная пантомима. М., 1985.
Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968.
Методологические проблемы современного искусствознания. Вып. 2. Л., 1978.
365 Мокульский С. С. Итоги и задачи изучения западноевропейского театра // Мокульский С. С. О театре. М., 1963. С. 485 – 507.
Молодцова М. М. Комедия дель арте. Л., 1990.
Мугинштейн М. Л. Хроника мировой оперы, 1600 – 2000. Екатеринбург, 2005.
Музыкальный театр: Сб. науч. трудов. СПб., 1991.
Наука о театре. Л., 1975.
Новерр Ж.-Ж. Письма о танце и балетах. М.; Л., 1965.
О театре. Л., 1926.
Оперная режиссура: История и современность. СПб., 2000.
Навис П. Словарь театра. М., 2003.
Петербургские записки о театре. СПб., 2003.
Петровская И. Ф. Биографика: Введение в науку и обозрение источников биографических сведений о деятелях России 1801 – 1917 годов. СПб., 2003.
Покровский Б. А. Введение в оперную режиссуру. М., 1985.
Почепцов Г. Г. История русской семиотики до и после 1917 года. М., 1998.
Проблемы социологии театра. М., 1974.
Режиссерский театр: В 2 т. М., 2001.
Режиссура: Взгляд из конца века. СПб., 2005.
Рехельс М. Л. Режиссер — автор спектакля. Л., 1969.
Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.
Руднев В. П. Словарь культуры XX века. М., 1999.
Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1968.
Румнев А. А. О пантомиме. Театр. Кино. М., 1964.
Силюнас В. Ю. Стиль жизни и стили искусства (Испанский театр маньеризма и барокко). СПб., 2000.
Смелянский А. М. Наши собеседники. М., 1981.
Соловьева И. Н. Спектакль идет сегодня. М., 1966.
Спектакли XX века. М., 2004.
Спектакль как предмет научного изучения. СПб., 1993.
Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1988 – 1993. Т. 1 – 6.
Степин В. С. Теоретическое знание: Структура, историческая эволюция. М., 2003.
Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
Таршис Н. А. Музыка спектакля. Л., 1978.
Театр и зритель (Проблемы социологии театрального искусства). М., 1973.
Театр и художественная культура (Социологические исследования театральной жизни). М., 1960.
Театральная критика 1917 – 1927 годов. Л., 1987.
Театральная критика: История и теория. М., 1989.
Театральная энциклопедия: В 5 т. М., 1961 – 1967.
Театральные термины и понятия: Материалы к словарю. Вып. 1. СПб., 2005.
Театральные термины и понятия: Материалы к словарю. Вып. 2. СПб., 2010.
Театроведение Германии: Система координат. СПб., 2004.
Титова Г. В. Творческий театр и театральный конструктивизм. СПб., 1995.
Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 т. Л., 1984.
Туровская М. И. Да и нет: О кино и театре последнего десятилетия. М., 1966.
366 Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
Филиппов В. А. Беседы о театре. М., 1924.
Фрейденберг О. М. Миф и театр. М., 1988.
Хализев В. Е. Драма как явление искусства. М., 1978.
Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
Хренов Н. А. Социологическо-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики. М., 1981.
Художник и публика. Л., 1981.
Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1995.
Шлейермахер Ф. Д. Э. Герменевтика // Общественная мысль. Вып. IV. М., 1993. С. 224 – 236.
Эйзенштейн С. М. Избранные произведения: В 6 т. М., 1966. Т. 4.
Эйхенбаум Б. М. Теория «формального метода» // Эйхенбаум Б. М. О литературе. М., 1987. С. 375 – 408.
Эфрос А. В. Репетиция — любовь моя. М., 1993.
ПОСТРАНИЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
1* Гуманитарная наука как предмет философско-методологического анализа: (Материал «круглого стола») // Вопросы философии. 2007. № 6. С. 59.
2* Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 149.
3* Налимов В. В. Размышление на философские темы // Вопросы философии. 1997. № 10. С. 63.
4* Бонди Г. Гипотезы и мифы в физической теории. М., 1972. С. 18.
5* Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 319.
6* Теория относительности была завершена раньше, чем нашла свое подтверждение.
7* Эйнштейн А. Собрание научных трудов: В 4 т. М., 1967. Т. 4. С. 143.
8* Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. С. 115.
9* Н. Бор произнес замечательные слова: «Причина, почему искусство может нас обогатить, заключается в его способности напоминать нам о гармониях, недосягаемых для систематического анализа» (Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М., 1965. С. 111).
10* Никифоров А. Л. Философия науки: история и методология. М., 1988. С. 260.
11* Философия естествознания. М., 1966. С. 73.
12* Пригожин И., Стенгерс А. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М., 1986. С. 97.
13* См.: Гиндилис Н. Л. Знание как целостность // Проблема знания в истории науки и культуры. СПб., 2001. С. 60 – 92.
14* Аверинцев С. С. Символ // Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. М., 1971. Т. 6. Стб. 828.
15* Полевой В. М. Искусство как искусство. М., 1995. С. 28.
16* Зедльмайр Г. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства. М., 1999. С. 19.
17* Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М., 2000. С. 99.
18* Михайлов А. В. Обратный перевод. М., 1999.
19* Зедльмайр Г. Искусство и истина. С. 75.
20* Цит. по: Ватсьяян К. Наставление в искусстве театра «Натьяшастра» Бхараты. М., 2009. С. 176 – 177.
21* Цит. по: Там же. С. 183 – 184.
22* Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1983. Т. 4. С. 655.
23* Там же. С. 647.
24* Там же. С. 651.
25* Там же.
26* Цит. по: Хрестоматия по истории западноевропейского театра: В 2 т. М., 1953. Т. 1. С. 806.
27* Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980. С. 544 – 545.
28* Там же. С. 555.
29* Там же. С. 542.
30* Дидро Д. Эстетика и литературная критика. С. 542.
31* Лессинг Г. Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М., 1957. С. 114, 115.
32* Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. М.; Л., 1936. С. 32.
33* Гегель Г. В. Ф. Эстетика: В 4 т. М., 1971. Т. 3. С. 565.
34* Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 1. С. 152.
35* Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978. С. 237.
36* Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. СПб., 1993. С. 245 – 246.
37* Там же. С. 50.
38* Там же. С. 52.
39* Ницше Ф. Помрачение кумиров: Сборник произведений. М., 1900. С. 192 – 193.
40* Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 542.
41* Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1994. Т. 6. С. 78.
42* Станиславский К. С. Собрание сочинений. Т. 6. С. 79.
43* См.: Демидов Н. В. Творческое наследие: В 4 т. СПб., 2004. Т. 1. С. 289 – 300.
44* Степун Ф. А. Сочинения. М., 2000. С. 185.
45* Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1984. Т. 6. С. 322.
46* Выготский Л. С. Собрание сочинений. Т. 6. С. 322.
47* Крэг Э. Г. Воспоминания, статьи, письма. М., 1988. С. 193.
48* Там же. С. 193.
49* Иванов В. И. Дионис и прадионисийство // Эсхил. Трагедии. М., 1989. С. 351.
50* Там же. С. 377.
51* Иванов В. Ницше и Дионис // Иванов В. Лики и личины России. Эстетика и литературная теория. М., 1995. С. 40.
52* Там же. С. 42.
53* Там же. С. 80.
54* Иванов В. Ницше и Дионис // Иванов В. Лики и личины России. Эстетика и литературная теория. С. 75.
55* Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 1. С. 170.
56* Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 1. С. 113.
57* Там же. С. 116.
58* Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 105.
59* Там же.
60* Флоренский П. А. Сочинения: В 4 т. М., 1996. Т. 2. С. 376.
61* Флоренский П. А. Сочинения. Т. 2. С. 382.
62* См.: Русские Пропилеи. Т. 6. Материалы по истории русской мысли и культуры / Собрал и приготовил к печати М. Гершензон. М., 1919.
63* Аппиа А. Живое искусство. М., 1993. С. 38.
64* Там же. С. 92.
65* Евреинов Н. Театр как таковой // Евреинов Н. Н. Демон театральности. М.; СПб., 2002. С. 59.
66* Евреинов Н. Театр как таковой // Евреинов Н. Н. Демон театральности. С. 95.
67* Там же. С. 76.
68* Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. С. 18.
69* Цит. по: Якубова Н. Виткаций: театр и его двойник // Современное польское искусство и литература: От символизма к авангардизму. М., 1998. С. 175.
70* См.: Маринетти Ф.-Т. Прославление театра Варьете // Маринетти Ф.-Т. Футуризм. СПб., 1914. С. 231 – 238.
71* См.: Маринетти Ф.-Т. Наслаждение быть освистанным // Там же. С. 87 – 91.
72* Маринетти Ф.-Т. Наслаждение быть освистанным // Маринетти Ф.-Т. Футуризм. С. 233.
73* Бретон А. Манифест сюрреализма // Назвать вещи своими именами: Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М., 1986. С. 45.
74* Artaud A. Œuvrèes completes. Paris, 1974. Т. 4. P. 18.
75* Ibidem. P. 15.
76* Брехт Б. Театр: В 5 т. М., 1965. Т. 5. Кн. 2. С. 66.
77* Брехт Б. Театр. Т. 5. Кн. 2. С. 103.
78* Там же.
79* Там же. С. 107.
80* Брук П. Блуждающая точка. СПб.; М., 1996. С. 72.
81* Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. М., 2003. С. 114.
82* Там же.
83* Шелер М. Избранные произведения. М., 1994. С. 12.
84* Там же.
85* Делёз Ж. Различие и повторение. СПб., 1998. С. 21.
86* Там же. С. 23.
87* Вульф К. Антропология: история, культура, философия. СПб., 2008. С. 125.
88* Там же. С. 136.
89* Вульф К. Антропология: история, культура, философия. С. 126.
90* Barba E., Savarese N. A Dictionary of Theatre Anthropology. The Secret art of the performer. London; New York, 1991.
91* Ibidem. P. 8.
92* Barba E., Savarese N. A Dictionary of Theatre Anthropology. The Secret art of the performer. P. 9.
93* В России одним из самых глубоких теоретиков этого направления был фольклорист Ф. И. Буслаев.
94* См., напр.: Волошин М. Лики творчества. Л., 1988.
95* В эстетике — М. Бодкин (Англия), Н. Фрай (Канада), Р. Чейз и Ф. Уотс (США) и др.
96* Основоположником и главным теоретиком школы был французский ученый Ипполит Тэн. Его последователями в Германии стали Г. Гетнер, В. Шерер, в Дании — Г. Брандес, в Италии — Ф. Де Санктис. Наиболее видные русские приверженцы «культурно-исторической школы» А. Н. Пыпин и Н. С. Тихонравов активно работали в 1860 – 1880-е годы.
97* Якобсон Л. Веселовский Александр Николаевич // Литературная энциклопедия: В 11 т. М., 1930. Т. 2. Стб. 199 – 200.
98* Белинский В. Г. Александринский театр: Велизарий. Драма в стихах и в пяти отделениях, переведенная с немецкого П. Г. Ободовским // Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953. Т. 3. С. 321.
99* Брехт Б. Театр. Т. 5. Кн. 2. С. 189.
100* Фриче В. М. Проблемы социологической поэтики // Вестник Коммунистической Академии. 1926. Кн. 17. С. 171.
101* См., напр.: The Sociology of the Theatre / Edited by Maria Shevtsova and Dan Urian. Basingstoke, Hants, 2002; The Theatrical Event: Dynamics of Performance and Perception by Willmar Sauter. University of Iowa Press, 2000; Театроведы Израиля размышляют. СПб., 2002; Театроведение Германии: Система координат. СПб., 2004.
102* Разряд словесных искусств был преобразованием Общества изучения поэтического языка (ОПОЯЗа), работы которого публиковались уже несколько лет («Воскрешение слова» В. Шкловского, 1914; «Сборники по теории поэтического языка», вып. I и II, 1916 – 1917 и «Поэтика (Сборники по теории поэтического языка)», 1919. В петроградской группе формалистов работали С. Бернштейн, А. Векслер, Б. Ларин, В. Пяст, Е. Полонская, А. Пиотровский, М. Слонимский, Ю. Тынянов, Б. Эйхенбаум, Викт. Шкловский, Вл. Шкловский, Л. Якубинский и др.).
103* Шкловский В. Кинематограф как искусство // Жизнь искусства. 1919. № 139 – 140. 17 – 18 мая. С. 2.
104* Письмо Л. Н. Толстого Н. Н. Страхову. 23 – 26 апреля 1876 г. // Собр. соч.: В 22 т. М., 1984. Т. 18. С. 784 – 785.
105* Этот термин стали печатать с одним «н», по стандартному словарю, когда после цензурного запрета, длившегося с 1930 по 1960-е годы, вызванного «борьбой с формализмом», снова стали публиковать некоторые сочинения авторов этой школы. Употребление термина «остраннение» с одним «н» некорректно, поскольку меняет значение слова: «делать странным» — это одно, «убрать в сторону» — совсем другое.
106* Шкловский В. Кинематограф как искусство // Жизнь искусства. 1919. № 139 – 140. 17 – 18 мая. С. 2.
107* См.: Шкловский В. Б. Пятнадцать порций городничихи // Мейерхольд в русской театральной критике, 1920 – 1938. М., 2000. С. 210 – 212.
108* Шкловский В. Б. «Ревизор» // Кино. 1926. 21 дек. С. 4.
109* Силичев Д. А. Культурология. М., 2007. С. 424.
110* См.: Косите Г. К. Идеология. Коннотация. Текст // Барт Р. S/Z. М., 1994. С. 277 – 302.
111* Керимов Т. Х. Постструктурализм // Современный философский словарь. М., 2004. С. 536.
112* Волконский С. М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту). СПб., 1913. С. 35.
113* Почепцов Г. Г. История русской семиотики до и после 1917 года. М., 1998. С. 91 – 93.
114* Волконский С. Человек на сцене. СПб., 1912. С. 171.
115* Почепцов Г. Г. История русской семиотики до и после 1917 года. С. 90.
116* Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1993. Т. 3. С. 343.
117* Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. 3. С. 331.
118* Мейерхольд В. Э. К истории и технике театра // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 1. С. 117.
119* Фишер-Лихте Э. Знаковый язык театра // Театроведение Германии: Система координат. С. 67.
120* См.: Pavis P. L’analyse des spectacles. Paris, 1996; Павис П. Словарь театра. М., 2003; Ubersfeld A. Lire le théâtre. Paris, 1996. (Книга с 1977 по 1996 год выдержала шесть изданий на фр. языке, на англ. языке вышла в 1999-м и 2002 году.)
121* Федоров С. В. Семиотический аспект изучения литературы: Размышления учителя-словесника. (URL: Методико-литературный интернет-сервер «Урок литературы» http://mlisk.ru/metodika/theory/metodol/fedorov_semio/) (дата обращения: 19.09.2008).
122* Федоров С. В. Семиотический аспект изучения литературы: Размышления учителя-словесника. (URL: Методико-литературный интернет-сервер «Урок литературы» http://mlisk.ru/metodika/theory/metodol/fedorov_semio/) (дата обращения: 19.09.2008).
123* Семиотика генетически связана с русским формализмом.
124* Шлейермахер Ф. Герменевтика // Общественная мысль. Исследования и публикации. Вып. IV. М., 1993. С. 227.
125* Шлейермахер Ф. Герменевтика // Общественная мысль. Исследования и публикации. Вып. IV. С. 233.
126* Ляпушкина Е. И. Введение в герменевтику: Учеб. пособие. СПб., 2002. С. 6.
127* См.: Малахов В. С. Герменевтика как методология гуманитарного знания. М., 2005.
128* Альтшуллер А. Я. Театроведение и герменевтика // Вопросы театроведения: Сб. науч. тр. СПб., 1991. С. 9.
129* Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 633.
130* Гвоздев А. А. Итоги и задачи научной истории театра // Задачи и методы изучения искусств. Пг., 1924. С. 85.
131* Гвоздев А. А. Итоги и задачи научной истории театра // Задачи и методы изучения искусств. С. 121.
132* См.: Гвоздев А. А. О смене театральных систем // О театре: Временник отдела истории и теории театра Государственного института истории искусств. Л., 1926. С. 7 – 36.
133* М. Герман (1865 – 1942) — театровед, впервые сформировал и обосновал театроведение как университетскую, академическую дисциплину. Создатель Театроведческого института в берлинском Университете им. Гумбольдта. Учился в Берлине, преподавал с 1919 года, получил звание профессора в 1930 году. Редактор «Театроведческих записок» с 1925 года. Погиб в фашистском концлагере. Основные труды М. Германа: «Ярмарочные празднества в Плундерсвайлерне» (1900); «Исследования по истории немецкого театра Средневековья и Возрождения» (1914, переиздание 1955); «Театр Ганса Закса» (2 части, 1923 и 1924); «Возникновение профессионального актерского искусства» (1962, подготовлена к печати Рут Мёбиус по материалам М. Германа).
134* См.: Corssen St. Max Herrman as Theorist of Theatre: [Текст доклада на XII Всемирном конгрессе Международной Федерации театральных исследований]. М., 1994. С. 2.
135* Гвоздев А. А. Актер — режиссер — драматург // Жизнь искусства. 1926. № 26. С. 11.
136* См.: Мокульский С. С. А. А. Гвоздев — историк зарубежного театра // Театр и драматургия. Л., 1959. С. 358.
137* Мокульский С. С. Переоценка традиций // Театральный Октябрь. Л.; М., 1926. Сб. 1. С. 16 – 17.
138* См.: Гвоздев А. А. Театр // Энциклопедический словарь Русского Библиографического Института Гранат. М., [1929]. Т. 41. Ч. 7. С. 154 – 187.
139* Глебов И. [Асафьев Б. В.] Музыка в театре Мейерхольда // Красная газета, веч. вып. 1926. 12 февр. С. 4.
140* Там же.
141* Гвоздев А. А. Выступление в Государственной академии искусствознания на обсуждении постановки оперы «Пиковая дама» в Малом оперном театре // Гвоздев А. Театральная критика. Л., 1987. С. 230.
142* Термины В. Э. Мейерхольда.
143* Слонимский А. Техника комического у Гоголя. Пг., 1923. С. 5.
144* Бескин Э. Пути и формы нового театра // Вестник Рабис. 1920. № 2 – 3. С. 14.
145* Блюм В. И. Островский и Мейерхольд // Мейерхольд в русской театральной критике, 1920 – 1938. С. 118.
146* Когда Немировича-Данченко спросили, какую должность в руководимом им театре занимает Марков, он подумал и ответил: «Не знаю, Марков — это Марков». Цит. по: Анастасьев А. Павел Александрович Марков и его книги // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1977. Т. 4. С. 608.
147* Марков П. А. О «Лесе» в Театре имени Вс. Мейерхольда // Марков П. А. О театре. М., 1976. Т. 3. С. 143.
148* См.: Марков П. А. Московская театральная жизнь в 1923 – 1924 годах // Там же. С. 158.
149* Марков П. А. Книга воспоминаний. М., 1983. С. 371 (гл. «“Ревизор” в Театре имени Мейерхольда»).
150* «Чайка» А. П. Чехова в постановке Московского Художественного театра. Режиссерская партитура К. С. Станиславского. Л.; М., 1938.
151* См., напр.: Горчаков Н. М. Режиссерские уроки К. С. Станиславского. М., 1951.
152* См., напр.: «Анна Каренина» в постановке МХАТ им. М. Горького. М., 1938.
153* Варпаховский Л. В. Уроки Мейерхольда. О театральности музыки и музыкальности театра // Варпаховский Л. В. Наблюдения, анализ, опыт. М., 1978. С. 70 – 113.
154* Чушкин Н. Н. Гамлет — Качалов. М., 1966.
155* Режиссерские экземпляры К. С. Станиславского, 1898 – 1930: В 6 т. М., 1980 – 1994.
156* В. Э. Мейерхольд: Наследие. Т. 1. М., 1998; Т. 2. М., 2006.
157* Дризен Н. В. Драматическая цензура двух эпох, 1825 – 1881. [Пг., 1917].
158* Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки. СПб., 2006. С. 106.
159* Фишер-Лихте Э. Перформативность и событие // Театроведение Германии. С. 101.
160* См. напр.: Бертенсон С. Л. Дед русской сцены: О жизни и деятельности Ивана Ивановича Сосницкого. Пг., 1916; Старк Э. А. Царь русского смеха: К. А. Варламов. Пг., 1916.
161* Алперс Б. В. Театр Мочалова и Щепкина. М., 1979. С. 8.
162* Алперс Б. В. Актерское искусство в России. М., 1945.
163* См.: Алперс Б. В. Театр социальной маски. М., 1934.
164* Русское актерское искусство XX века. Вып. I. СПб., 1992; Русское актерское искусство XX века. Вып. II, III. СПб., 2002.
165* См.: Proust S. La Direction d’acteurs. Paris, 2006.
166* См., напр.: Davis Т. С. Actresses as working women. London, 1991; Senelick L. Gender in performance. London; New York, 1992; Shuler С. A. Women in Russian Theatre. New York, 1996; Canning Ch. Femimist theatres in USA. London, 1996; Senelick L. The Changing room: Sex, drug and theatre. London; New York, 2000; Rosenberg T. Byxbegar. Stockholm, 2000 и др.
167* См.: Штелин Я. Краткое известие о театральных в России представлениях от начала их до 1768 года // Санкт-Петербургский вестник. 1779. Ч. IV. Авг. – сент. С. 94 – 98.
168* Новиков Н. И. Опыт исторического словаря о российских писателях // Новиков Н. И. Смеющийся Демокрит. М., 1985. С. 246 – 329.
169* См. репринтные издания: Богданов А. Описание Санкт-Петербурга: 1749 – 1751. СПб., 1997; Георги И. Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопримечательностей в окрестностях его. СПб., 1996.
170* См., напр.: Драмматический словарь. СПб., 1787.
171* Хроника русского театра Носова. М., 1883.
172* См.: Сумароков П. И. О Российском театре от начала оного до конца царствования Екатерины II // Отечественные записки. 1823. Ч. 12. С. 288 – 304.
173* Шаховской А. А. Летопись русского театра // Репертуар русского театра. 1840. Т. 2. № 11. С. 4 – 17.
174* Арапов П. Н. Летопись русского театра. СПб., 1861.
175* Вольф А. И. Хроника Петербургских театров с 1825 до начала 1881 года: В 3 ч. СПб., 1884.
176* См.: Русские драматические произведения 1672 – 1725 годов: К 200-летнему юбилею русского театра собраны и объяснены Николаем Тихонравовым, профессором Московского университета: В 2 т. СПб., 1874.
177* См.: Морозов П. О. История русского театра до половины XVIII столетия. СПб., 1889; Шляпкин И. А. Царевна Наталья Алексеевна и театр ее времени. СПб., 1898; Богоявленский С. К. Московский театр при царях Алексее и Петре. М., 1914.
178* См.: Карабанов А. П. Основание русского театра кадетами Первого кадетского корпуса. СПб., 1849.
179* См.: Варнеке Б. В. История русского театра. 3-е изд. М.; Л., 1939.
180* Погожев В. П. Проект законоположений об императорских театрах. Т. 1 – 3. СПб., 1900.
181* Божерянов И. Н. Столетие С.-Петербургского императорского Большого театра, 1783 – 1883. СПб., 1883.
182* Танеев С. В. Театральные мелочи из прошлого императорских театров. Вып. I – V. СПб., 1885 – 1890.
183* См.: Дризен Н. В. Материалы к истории русского театра. М., 1905; Дризен Н. В. Драматическая цензура двух эпох, 1825 – 1881.
184* История русского театра / Под ред. В. В. Каллаша и Н. Е. Эфроса. Т. 1. М., 1914.
185* См.: Зноско-Боровский Е. А. Русский театр начала XX в. Прага, 1925.
186* См.: Евреинов Н. Н. История русского театра: В 2 ч. Нью-Йорк, 1955.
187* См.: Всеволодский-Гернгросс В. Н. Театр в России при императрице Анне Иоановне и императоре Иоанне Антоновиче. СПб., 1914; Всеволодский-Гернгросс В. Н. Театр в России при императрице Елисавете Петровне. СПб., 2003; Всеволодский-Гернгросс В. Н. Театр в России в эпоху Отечественной войны. М., 1912.
188* См.: Старинный театр в России XVII – XVIII вв.: Сб. ст. / Под. ред. В. Н. Перетца. Пг., 1923; Старинный спектакль в России: Сб. ст. / Под ред. В. Н. Всеволодского-Гернгросса. Л., 1928.
189* См.: Лукомский Г. К. Старинные театры. СПб., [1914].
190* См.: Всеволодский-Гернгросс В. Н. Театральные здания в Санкт-Петербурге в XVIII столетии. СПб., [1910].
191* См.: Игнатов И. Н. Театр и зрители. Ч. 1. М., 1916.
192* См.: Гуревич Л. Я. История русского театрального быта. Т. 1. М.; Л., 1939.
193* См.: Всеволодский-Гернгросс В. Н. История русского театра: В 2 т. Л., 1929.
194* Бескин Э. М. История русского театра. Ч. 1. М.; Л., 1928.
195* См.: Державин К. Н. Эпохи александринской сцены, 1832 – 1932. Л., 1932.
196* См.: Александринский театр — Театр госдрамы. Сто лет, 1832 – 1932: Сб. статей. Л., 1932.
197* См., напр.: История советского театра: Очерки развития. Т. 1. Л., 1933.
198* См.: Данилов С. С. «Ревизор» на сцене. Л., 1932; Данилов С. С. «Женитьба» Н. В. Гоголя. Л., 1934; Данилов С. С. Гоголь и театр. Л., 1936.
199* См.: Тальников Д. Л. Система Щепкина. М.; Л., 1939; Алперс Б. В. Актерское искусство в России.
200* Всеволодский-Гернгросс В. Н. Русский театр. От истоков до середины XVIII века. М., 1957; Всеволодский-Гернгросс В. Н. Русский театр второй половины XVIII века. М., 1960.
201* Данилов С. С. Русский драматический театр XIX века. Л., 1957.
202* Асеев Б. Н. История русского театра XVII – XVIII веков. М., 1958 и др. изд.
203* См.: Русский драматический театр: Программа для театральных вузов. М., 1964.
204* Альтшуллер А. Я. Театр прославленных мастеров: Очерки истории Александринской сцены. Л., 1968.
205* Зограф Н. Г. Малый театр второй половины XIX века. М., 1960 и др.
206* Ростоцкий Б. О режиссерском творчестве В. Э. Мейерхольда, М., 1960; Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1967.
207* См.: Родина Т. М. Русское театральное искусство в начале XIX века. М., 1961; Родина Т. М. Александр Блок и русский театр начала XX века. М., 1972.
208* История русского драматического театра: В 7 т. М., 1977 – 1987.
209* Владимиров С. В. Исторические предпосылки возникновения режиссуры // У истоков режиссуры: Сб. ст. Л., 1976. С. 13 – 60.
210* Проблемы теории и практики русской советской режиссуры. Вып. 1 – 2. Л., 1978; Студийные течения в советской режиссуре 1920 – 1930-х годов. Л., 1983; Из истории русской советской режиссуры 1930-х годов. Л., 1979 и др.
211* Строева М. Н. Режиссерские искания К. С. Станиславского, 1898 – 1917. М., 1973; Строева М. Н. Режиссерские искания К. С. Станиславского, 1918 – 1938. М., 1977.
212* См., напр.: Виноградская И. Н. Жизнь и творчество К. С. Станиславского: Летопись: В 4 т. М., 1973; Рыбакова Ю. П. В. Ф. Комиссаржевская: Летопись жизни и творчества. СПб., 1994; Ласкина М. Н. П. С. Мочалов: Летопись жизни и творчества. М., 2000.
213* См., напр.: Режиссерские экземпляры К. С. Станиславского, 1898 – 1930: В 6 т. М., 1980 – 1994.
214* Старикова Л. М. Театральная жизнь старинной Москвы. М., 1983; Старикова Л. М. Театральная жизнь в России в эпоху Анны Иоанновны. М., 2003; Старикова Л. М. Театральная жизнь в России в эпоху Елизаветы Петровны. М., 2006.
215* Владимирова Н. Б., Романова Г. А. Любимцы Мельпомены. В. Каратыгин, П. Мочалов. СПб., 1999.
216* Очерки истории русской театральной критики: В 3 кн. Л., 1975 – 1979.
217* См. напр.: Орлов Ю. М. Московский Художественный театр: Легенды и факты (опыт хозяйствования), 1898 – 1917 гг. М., 1993; Мордисон Г. З. История театрального дела в России: Основание и развитие гос. театра в России (XVI – XVIII вв.). СПб., 1994.
218* Титова Г. В. Творческий театр и театральный конструктивизм. СПб., 1995; Титова Г. В. Мейерхольд и Комиссаржевская: Модерн на пути к Условному театру. СПб., 2006.
219* Иванов В. В. Русские сезоны театра «Габима». М., 1999; Иванов В. В. ГОСЕТ: Политика и искусство, 1919 – 1928. М., 2007.
220* Гвоздев А. А. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение. М.; Л., 1935; Гвоздев А. А. Западноевропейский театр на рубеже XIX – XX столетий. Л., 1939; Мокульский С. С. История западноевропейского театра: В 2 т. М., 1936 – 1939.
221* См.: Работы по технике сцены. Л., 1936.
222* Миклашевский К. М. La commedia dell’arte, или Театр итальянских комедиантов XVI, XVII и XVIII столетий. СПб., 1914.
223* История западноевропейского театра: В 8 т. М., 1953 – 1991.
224* Дживелегов А. К., Бояджиев Г. Н. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 года. М.; Л., 1941; Дживелегов А. К. Итальянская народная комедия. М., 1962; Бояджиев Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения: Италия. Испания. Англия. Л., 1973.
225* Финкельштейн Е. Л. Жак Копо. М.; Л., 1971; Финкельштейн Е. Л. Картель четырех. М.; Л., 1974; Образцова А. Г. Стелла Патрик Кэмпбелл. М., 1973; Образцова А. Г. Синтез искусств и английская сцена на рубеже XIX – XX веков. М., 1984.
226* Бачелис Т. И. Шекспир и Крэг. М., 1983; Бачелис Т. И. Гамлет и Арлекин. М., 2007.
227* Гительман Л. И. Русская классика на французской сцене. Л., 1978; Колязин В. Ф. Таиров, Мейерхольд и Германия. Пискатор, Брехт и Россия. М., 1998.
228* Макарова Г. В. Актерское искусство Германии. Роли. Сюжет. Стиль: Век XVIII – век XX. М., 2000; Макарова Г. В. Театральное искусство Германии на рубеже XIX – XX веков. М., 2002; Проскурникова Т. Б. Театр Франции. Судьбы и образы. Очерки истории французского театра второй половины XX века. СПб., 2002; Скорнякова М. Г. Эдуардо Де Филиппо и неаполитанский театр. М., 2006.
229* Молодцова М. М. Эдуардо Де Филиппо. Л.; М., 1965; Молодцова М. М. Луиджи Пиранделло. Л., 1982; Молодцова М. М. Комедия дель арте: История и современная судьба. Л., 1990; Молодцова М. М. Карло Гольдони: Очерк творчества. СПб., 2009.
230* Бартошевич А. В. Шекспир на английской сцене. Конец XIX – первая половина XX в. М., 1985; Бартошевич А. В. Поэтика раннего Шекспира. М., 1987; Бартошевич А. В. Шекспир. Англия. XX век. М., 1994.
231* Силюнас В. Ю. Испанский театр XVI – XVII веков. М., 1995; Силюнас В. Ю. Стиль жизни и стиль искусства (Испанский театр маньеризма и барокко). СПб., 2000.
232* Театр XX века. Закономерности развития / Отв. ред. А. В. Бартошевич. М., 2003; Спектакли XX века / Отв. ред. А. В. Бартошевич. М., 2004.
233* См.: Спектакль как предмет научного изучения: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. СПб., 1993; Границы спектакля: Сб. ст. СПб., 1999.
234* См.: Балм К. Культурная антропология и написание истории театра // Театроведение Германии. Система координат. С. 271 – 281.
235* См.: Байердорфер Х. П. Проблемы написания истории театра // Там же. С. 301 – 319.
236* Le roman d’Hernani / Texte d’ Anne Ubersfeld, iconographie réunie et commentée par Noëlle Guibert, présentation graphique de Massin. Paris, 1985.
237* Tchekhov A. La Censaie / Com. et notes de P. Pavis. Paris, 1993, Tchekhov A. La Mouette / Com. et notes de P. Pavis. Paris, 1996.
238* См., напр.: Bablet D. Esthétique générate du décor de théâtre de 1870 à 1914 Paris, 1965, Bablet D. Les Révolutions scéniques du XXe siècle. Paris, 1975, Banu G Le Rouge et l’Or: une poétique du théâtre a 1’italienne. Paris, 1989, Carlson M. Places of Performance. The Semiotics of Theatre Architecture. Corenell, 1989.
239* См. напр.: Mitter S. Systems of rehearsal: Stanislavsky, Brecht, Grotovsky and Brook London; New York, 1992.
240* Fischer-Lichte E. Kurze Geschichte des deutschen Theaters. Tuebmgen, 1993.
241* См.: Koski P. Dynamic world of Finnish theatre An introduction to its history, structures and aesthetics. Like, 2006, Paavolainen P., Kukkonen A. Nayttamolla Teattenhistona Suomista. Helsinki, 2005.
242* См.: Teater i Sverige / Ed. W. Sauter. Hedemora, 2004, Ny svensk teaterhistoria. Vol. 1 – 3 / Ed. T. Forser. Stockholm, 2007.
243* Перевод на английский язык вышел в 2002 году: Ftscher-Lichte E. History of European Drama and Theatre. London, New York, 2002.
244* См. одно из последних изданий: Nicoll A. World Drama. London, 1976.
245* Brockett B., Hildy F. J. History of the theatre. Foundation edition. Boston, New York, San Francisco, 2007.
246* См., напр. Daniels В., Razgonmkojff J. Le décor de théâtre à l’époque romantique, 1799 – 1848. Paris, 2003.
247* The Dramatic Works of Catherine the Great Theatre and Politics in Eighteenth-Century Russia / Ed. & com. by L. D. O’Malley. Aldershot, 2006.
248* Senelick L. The Chekhov Theatre. A Century of the Plays in Performance. London, New York, 1997.
249* National Theatre in Northern and Eastern Europe / Ed. by Laurence Senelick. Cambridge, 2009.
250* Иллюстрированная история мирового театра / Под ред. Д. Р. Брауна. М., 1999.
251* German and Dutch Theatre, 1600 – 1848 / Ed. by G. W. Brandt. Cambridge, 1993; English Professional Theatre, 1530 – 1660 / Ed. by G. Wickham, H. Berry, W. Ingram. Cambridge, 2001; French Theatre in the Neo-classical Era, 1550 – 1789 / Ed. by W. D. Howarth. Cambridge, 2009 и др.
252* См.: Theatre histories: An introduction / Ed. by G. J. Williams. London; New York, 2006.
253* Theatrical Events Borders — Dynamics — Frames / Ed. by V. A. Cremona, P. Eversmann, H. van Maanen, W. Sauter, J. Tullock. Amsterdam, 2004.
254* Postlewatt T. Theatre Historiography. Cambridge, 2009.
255* Давыдов Ю. Социальная психология и театр // Театр. 1969. № 12. С. 29.
256* Там же.
257* Михайлова А. Пространство для игры // Театр. 1983. № 6. С. 122.
258* Там же.
259* Там же. С. 123.
260* Дмитриевский В. Театр и зрители. СПб., 2007. С. 21.
261* Попов А. Д. Творческое наследие. Воспоминания и размышления о театре. Художественная целостность спектакля. М., 1979. С. 193.
262* Базаное В. Технология сцены. М., 2005. С. 12.
263* Гвоздев А. О смене театральных систем // О театре: Временник отдела истории и теории театра Государственного института истории искусств. С. 10.
264* Там же.
265* Михайлова А. Пространство для игры // Театр. 1983. № 6. С. 117.
266* Там же. С. 116.
267* Игнатов И. Н. Театр и зрители. С. 61.
268* Игнатов И. Н. Театр и зрители. С. 62.
269* Там же. С. 44 – 45.
270* [Чехов М.] Анкета актера // Театр. 1963. № 7. С. 119.
271* Южин А. Воспоминания. Статьи. Записки. Письма. М.; Л., 1941. С. 77.
272* Мейерхольд Вс. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 2. С. 258.
273* Костелянец Б. О. Драма и действие. М., 2007. С. 30.
274* Там же. С. 33.
275* Станиславский К. С. Искусство актера и режиссера // Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6. С. 279.
276* Там же. С. 276.
277* См.: Игнатов И. Н. Театр и зрители. С. 12 – 13.
278* Евреинов Н. Н. Театр как таковой // Евреинов Н. Н. Демон театральности. С. 43.
279* См., напр.: Кон И. С. В поисках себя. М., 1985.
280* См. об этом: Калмановский Е. Природа театра и идея театральности // Петербургский театральный журнал. 1993. № 1. С. 68 – 70; Барбой Ю. Заклятие // Петербургский театральный журнал. 1993. № 4. С. 54 – 57.
281* См., напр.: Хализев В. Драма как явление искусства. М., 1978. С. 14.
282* См.: Карягин А. А. Драма как эстетическая проблема. М., 1971.
283* См.: Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976.
284* См., напр.: Аникст А. А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965.
285* Владимиров С. В. Действие в драме. СПб., 2007. С. 54 – 55.
286* Дидро Д. Парадокс об актере. Л.; М., 1938. С. 43.
287* Там же. С. 47.
288* См.: Марков П. А. Новейшие театральные течения // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1. С. 255 – 321.
289* Бентли Э. Жизнь драмы. М., 1978. С. 140.
290* Рассел Б. Человеческое познание. М., 1957. С. 284.
291* См.: Аристотель. Поэтика // Аристотель и античная литература. М., 1978. С. 130.
292* Там же. С. 121.
293* Прозерский В. О коммуникативной функции искусства // Художник и публика. Л., 1981. С. 41.
294* О типах сценических связей см.: Калмановский Е. Книга о театральном актере. Л., 1984.
295* Смелянский А. Противоположники // Известия. 1997. 25 сент. С. 5.
296* Аверинцев С. С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» // Вопросы литературы. 1971. № 8. С. 55.
297* Дживелегов А. К. Итальянская народная комедия. М., 1954. С. 201.
298* Станиславский К. С. [Об актерском амплуа] // Собр. соч. Т. 5. Кн. 2. С. 184.
299* См.: Станиславский К. С. Работа актера над собой // Там же. Т. 3. С. 224.
300* Там же.
301* Марков П. А. Первая Студия МХТ: (Сулержицкий — Вахтангов — Чехов) // Марков П. А. О театре. Т. 1. С. 364.
302* Беседы К. С. Станиславского. М.; Л., 1939. С. 355.
303* Марков П. А. Первая Студия МХТ: (Сулержицкий — Вахтангов — Чехов) // Марков П. А. О театре. Т. 1. С. 395.
304* Марков П. А. Первая Студия МХТ: (Сулержицкий — Вахтангов — Чехов) // Марков П. А. О театре. Т. 1. С. 395 – 396.
305* Чехов М. А. Путь актера // Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995. Т. 1. С. 105.
306* Чехов М. А. Характер и характерность // Чехов М. А. Литературное наследие. Т. 1. С. 302.
307* Демидов А. Как молоды мы были… // Театр. 1976. № 1. С. 42.
308* Семеновский В. Евгений Леонов // Театр. 1978. № 3. С. 44.
309* Крэг Э. Г. Воспоминания, статьи, письма. С. 237.
310* Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 343.
311* Мейерхольд В. Э. Чаплин и чаплинизм // Февральский А. В. Пути к синтезу. М., 1978. С. 218 – 219.
312* Гладков А. К. Мейерхольд. Т. 2. С. 298.
313* Владимиров С. В. Действие в драме. С. 140.
314* Алперс Б. В. Творческий путь МХАТ Второго // Алперс Б. В. Театральные очерки. Т. 2. С. 58.
315* В современной театроведческой литературе эта связь типа структуры со способом мышления наиболее полно и убедительно развернута О. Н. Мальцевой. См., напр.: Мальцева О. Н. Поэтический театр Юрия Любимова. СПб., 1999.
316* Громов П. П. Ранняя режиссура В. Э. Мейерхольда // Громов П. П. Написанное и ненаписанное. Л., 1994. С. 29.
317* Цит. по: Филиппов В. Беседы о театре. М., 1924. С. 97.
318* См.: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1986. Т. 29. Кн. 1. С. 225. Напомним эту мысль: «Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической. Я же верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме».
319* См.: Таршис Н. А. Музыка спектакля. Л., 1978.
320* Показателен вышедший в Москве в 1999 году «Словарь культуры XX века» В. П. Руднева: среди ключевых, с точки зрения автора, понятий культуры XX века «форма» отсутствует.
321* Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках: Опыт философского анализа // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. С. 283.
322* Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. С. 7.
323* Аристотель. Поэтика // Аристотель и античная литература. С. 115.
324* Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 3. С. 540.
325* Там же. С. 546.
326* Аристотель. Поэтика // Аристотель и античная литература. С. 115.
327* Там же. С. 120.
328* Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 3. С. 540.
329* Там же. С. 546.
330* Аристотель. Поэтика // Аристотель и античная литература. С. 122.
331* Аристотель. Поэтика // Аристотель и античная литература. С. 128 – 129.
332* См.: Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.
333* Чехов М. А. О технике актера // Чехов М. А. Литературное наследие. Т. 2. С. 189 – 220.
334* См.: Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С. 336.
335* Обобщая практику режиссуры мхатовской школы, А. А. Бармак сделал важный вывод: атмосфера — не только и не столько выразительное средство в палитре режиссера, она является эмоционально-смысловым итогом спектакля как живого художественного целого (см.: Бармак А. А. Художественная атмосфера спектакля: Автореф. дис. … канд. искусствоведения. М., 1978. С. 22).
336* См.: Лосев А. Ф. История античной эстетики: Аристотель и поздняя классика. М., 1975. С. 99 – 100.
337* См.: Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С. 730.
338* С. В. Владимиров одним из первых начал рассматривать действие как структуру отношений, «которые проникают систему связей Автор — Герой — Зритель в драме, множатся, возводятся в степень на всех ее словесных и сценических переходах» (Владимиров С. В. Действие в драме. Л., 1972. С. 155).
339* Костелянец Б. О. Драма и действие: Лекции по теории драмы. Вып. 2. СПб., 1994. С. 109 – 110.
340* Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. СПб., 1996. Т. 1. С. 28.
341* О том, как это происходит в некоторых петербургских и российских театрах, писала М. Ю. Дмитревская (см.: Дмитревская М. Кажется… // Театральная жизнь. 1991. № 7. С. 4 – 5).
342* Чехов М. А. Литературное наследие. Т. 2. С. 137.
343* Там же. С. 194.
344* Чехов М. А. Литературное наследие. Т. 2. С. 138.
345* Там же. С. 139.
346* Там же. С. 195.
347* См.: Там же. С. 145 – 146.
348* Там же. С. 265 – 266.
349* Проследить развитие этой традиции в истории эстетической мысли — задача, далеко выходящая за рамки нашей темы. Можно лишь пунктиром наметить движение от И.-Г. Гердера и немецких романтиков до «философии жизни» А. Шопенгауэра и Ф. Ницше; напомним мысль немецкого ученого В. Беньямина об ауре произведения искусства — на эту мысль ссылаются и основатель современной герменевтики Г.-Г. Гадамер, и один из первых постструктуралистов Р. Барт. У Р. Барта возникает образ «эротического тела» текста, в котором узнается греческий микро- и макрокосм с его связью Эроса и души (см.: Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 543 – 544). Греческая Психея появляется и в последних статьях Ю. М. Лотмана. Художественный текст, это, по Лотману, «интеллектуальное устройство», неожиданно обнаруживает черты разумной души по Гераклиту Эфесскому и «имеет тенденцию осуществлять самостоятельное поведение, уподобляясь автономной личности» (цит. по: Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн, 1992. С. 32).
350* См.: Художественный образ // Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 728 – 729.
351* Душа, с одной стороны, — некое «тело», срединное между физической плотью и духом. Но душа — это и сам процесс, движение жизни, энергия, привносящая жизнь. Уже в античной философии душа телесна и самодвижна. По христианским представлениям — «сеется тело душевное, восстает тело духовное» (Кор. XV, 44).
352* Вайман С. Художественная атмосфера // Театр. 1992. № 9. С. 92.
353* Чехов М. А. О технике актера // Чехов М. А. Литературное наследие. Т. 2. С. 142.
354* Чехов М. А. О технике актера // Чехов М. А. Литературное наследие. Т. 2. С. 160.
355* См.: Дмитревская М. Кажется… // Театральная жизнь. 1991. № 7. С. 4.
356* Чехов М. А. О технике актера // Чехов М. А. Литературное наследие. Т. 2. С. 134.
357* См.: Владимиров С. В. Об исторических предпосылках возникновения режиссуры // У истоков режиссуры. С. 13 – 60.
358* Там же. С. 60.
359* Чехов М. А. О технике актера // Чехов М. А. Литературное наследие. Т. 2. С. 136.
360* Там же. С. 135.
361* Там же. С. 179.
362* Брук П. Лекции во МХАТе // Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. М., 2003. С. 305.
363* Брук П. Лекции во МХАТе // Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. С. 305 – 306.
364* Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. С. 257.
365* См.: Каган М. Морфология искусства. Л., 1972.
366* Владимиров С. В. Действие в драме. С. 143.
367* Там же. С. 142.
368* См.: Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 2.
369* См.: Товстоногов Г. А. О жанре // Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 т. Л., 1980. Т. 1. С. 173.
370* Там же. С. 178.
371* Там же. С. 183.
372* Марков П. А. Качалов // Марков П. А. О театре. Т. 2. С. 232 – 233.
373* Аристотель. Поэтика // Аристотель и античная литература. С. 125.
374* Там же. С. 128.
375* См.: Рудницкий К. Л. «Лес» Мейерхольда // Театр. 1976. № 11.
376* Эйзенштейн С. Режиссура. Искусство мизансцены // Избр. произв.: В 6 т. М., 1966. Т. 4. С. 409.
377* См.: Мейерхольд В. Э. Балаган // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 1. С. 207 – 229.
378* Аристотель. Поэтика // Аристотель и античная литература. С. 141.
379* Заслуга в возрождении этой идеи и разработке современной теории перипетии принадлежит Б. О. Костелянцу. См., напр.: Костелянец Б. О. Драма и действие.
380* См.: Рехельс М. Л. Режиссер — автор спектакля. Л., 1969.
381* Пави П. Словарь театра. М., 1991. С. 180.
382* Эйзенштейн С. М. Режиссура. Искусство мизансцены // Избр. произв. Т. 4. С. 98.
383* Там же.
384* Тынянов Ю. Литературный факт // Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 261.
385* Холопова В. Формообразующая роль ритма в музыкальном произведении // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974. С. 230.
386* Там же.
387* Волков Н. Композиция в живописи. М., 1977. С. 68.
388* Там же.
389* См.: Там же. С. 69.
390* Там же. С. 148.
391* Гвоздев А. Ритм и движение актера // Гвоздев А. Театральная критика. С. 46.
392* Воспитательное значение ритмической гимнастики Жака Далькроза: Доклад Всероссийскому съезду семейного воспитания. Кн. С. Волконского // Нива. 1913. № 2. С. 343 – 344.
393* Станиславский К. С. Работа актера над собой // Собр. соч. Т. 3. С. 152.
394* Там же. С. 162.
395* Там же. С. 170.
396* Там же. С. 172.
397* Гладков А. К. Мейерхольд. Т. 2. С. 301.
398* Там же. С. 310.
399* Там же. С. 299.
400* Мейерхольд Вс. Искусство режиссера // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 2. С. 152 – 153.
401* Гладков А. К. Мейерхольд. Т. 2. С. 297.
402* Ромм М. И. Вопросы киномонтажа // Избр. произв.: В 3 т. М., 1982. Т. 3. С. 269.
403* Там же. С. 278 – 279.
404* См.: Каган М. С. Морфология искусства.
405* См. об этом: Барбой Ю. М. Театр как комплекс и его комплексное изучение // Гуманитарий. № 1. СПб., 1996. С. 153 – 164.
406* Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. С. 266 – 267.
407* Там же. С. 266.
408* Термин «стиль» столь широко трактуется, что по крайней мере без одной оговорки не обойтись: речь не об исторических стилях типа барокко или рококо, но как раз и именно о не исторических, «теоретических» общностях. Если о гротеске, значит, о таком, который соединяет античные росписи в римских гротах и «Путешествия Гулливера» из XVIII, живопись Босха конца XV – начала XVI и спектакли Мейерхольда XX веков.
409* Громов П. П. Ансамбль и стиль спектакля // Громов П. П. Написанное и ненаписанное. С. 122.
410* Пушкин А. С. О народной драме и о «Марфе Посаднице» М. П. Погодина // Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 6. С. 317.
411* Пиотровский А. И. Античный театр // Очерки по истории европейского театра. Пг., 1923. С. 31.
412* Аристотель. Поэтика // Аристотель и античная литература. С. 149.
413* Пиотровский А. И. Античный театр // Очерки по истории европейского театра. С. 31.
414* Миклашевский К. М. Итальянская комедия // Очерки по истории европейского театра. С. 136.
415* Там же. С. 132.
416* Мокульский С. С. История западноевропейского театра. М.; Л., 1939. Т. 2. С. 52.
417* Там же. С. 64.
418* См.: Троицкий З. Л. Карл Зейдельман и формирование сценического реализма в Германии. Л.; М., 1940.
419* Марков П. А. Новейшие театральные течения // Марков П. А. О театре. Т. 1. С. 256.
420* Там же. С. 260.
421* Там же. С. 252.
422* Марков П. А. Москвин // Там же. С. 187.
423* Там же.
424* Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. С. 138.
425* Там же. С. 356.
426* Марков П. А. Михаил Чехов // Марков П. А. О театре. Т. 2. С. 301.
427* См. об этом: Таршис Н. А. Музыка спектакля.
428* Бачелис Т. И. Шекспир и Крэг. С. 59.
429* См. напр.: Эйхенбаум Б. М. Мелодика русского лирического стиха // Эйхенбаум Б. М. О поэзии. Л., 1969. С. 327 – 511.
430* См.: Эткинд Е. Г. От словесной имитации к симфонизму // Эткинд Е. Г. Материя стиха. Париж, 1985. С. 367 – 492.
431* Владимиров С. В. Об исторических предпосылках возникновения режиссуры // У истоков режиссуры. С. 32.
432* Нильский А. А. Закулисная хроника: 1856 – 1894. СПб., 1897. С. 294. Цит. по: Владимиров С. В. Об исторических предпосылках возникновения режиссуры // У истоков режиссуры. С. 32.
433* См., напр.: Гвоздев А. А. Ревизия «Ревизора» // «Ревизор» в Театре имени Мейерхольда. Л., 1927; СПб., 2002. С. 20 – 43.
434* Пушкин А. С. О народной драме и о «Марфе Посаднице» М. П. Погодина // Собр. соч. Т. 6. С. 317.
435* Музыкальная энциклопедия: В 6 т. М., 1978. Т. 3. С. 20.
436* Асафьев Б. Об опере. Л., 1976. С. 31.
437* Музыкально-энциклопедический словарь. М., 1991. С. 396.
438* Театральная энциклопедия: В 6 т. М., 1965. Т. 4. С. 167.
439* Маркези Г. Опера. М., 1990. С. 11.
440* Асафьев Б. Об опере. С. 28.
441* Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Пб., 1897. Т. 43. С. 7.
442* Горович Б. Оперный театр. Л., 1984. С. 12.
443* Горовиц Б. Оперный театр. С. 12.
444* Асафьев Б. Об опере. С. 29.
445* См.: Владимиров С. В. Об исторических предпосылках возникновения режиссуры // У истоков режиссуры. С. 13 – 60.
446* Асафьев Б. Об опере. С. 29.
447* Там же.
448* Там же. С. 28.
449* Михайлов Л. Семь глав о театре. М., 1985. С. 26.
450* Михайлов Л. Семь глав о театре. С. 30.
451* Там же. С. 37 – 38.
452* Мейерхольд В. Э. Пушкин и Чайковский // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 2. С. 304.
453* Там же. С. 308.
454* Мейерхольд В. Э. К постановке «Тристана и Изольды» на Мариинском театре 30 октября 1909 года // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 1. С. 147.
455* Мейерхольд В. Э. Пушкин и Чайковский // Там же. Ч. 2. С. 308.
456* Мейерхольд В. Э. Пушкин и Чайковский // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 2. С. 304.
457* Станиславский — реформатор оперного искусства: Материалы и документы. М., 1983. С. 25.
458* Там же. С. 14.
459* Там же.
460* Мейерхольд В. Э. К постановке «Тристана и Изольды» на Мариинском театре 30 октября 1909 года // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 1. С. 149.
461* Мейерхольд В. Э. К постановке «Тристана и Изольды» на Мариинском театре 30 октября 1909 года // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 1. С. 144.
462* Там же. С. 147.
463* Там же. С. 143.
464* Там же. С. 148.
465* Там же.
466* Мейерхольд В. Э. К постановке «Тристана и Изольды» на Мариинском театре 30 октября 1909 года // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 1. С. 149.
467* Новерр Ж.-Ж. Письма о танце и балетах. М.; Л., 1965. С. 238.
468* Карп П. Балет и драма. Л., 1980. С. 238.
469* Блок Л. Д. Классический танец: История и современность. М., 1987. С. 25.
470* Карп П. Балет и драма. С. 129.
471* Гвоздев А. А. На пути к новому балету // Красная газета. 1926. 17 мая.
472* Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. М., 1971. С. 142.
473* Якобсон Л. Письма к Новерру. New York, 2001. С. 367.
474* Simon К. G. Pantomime. Munchen, 1960. S. 11.
475* Румнев А. О пантомиме. Театр. Кино. М., 1964. С. 12.
476* Там же. С. 8.
477* Хализев В. Драма как явление искусства. С. 134. (См. также: Авдеев А. Происхождение театра: Элементы театра в первобытнообщинном строе. Л.; М., 1959. С. 222 – 223.)
478* Хализев В. Драма как явление искусства. С. 130.
479* Хализев В. Драма как явление искусства. С. 127.
480* Кожик Ф. Дебюро. Л., 1973. С. 60.
481* Таиров А. Я. Записки режиссера // Таиров А. Я. О театре. М., 1970. С. 81.
482* Барро Ж.-Л. Воспоминания для будущего. М., 1979. С. 119.
483* Королев М. М. Искусство театра кукол: Основы теории. Л., 1973. С. 68.
484* Jurkowski H. Keynote address. A propos. Fall, 1990. P. 16.
485* Библиографический указатель кукольной литературы, изданной на английском языке, в разделе «типы кукол» содержит шестнадцать пунктов: 1) автоматы; 2) Бунраку; 3) вырезанные фигуры; 4) куклы, открывающие рот; 5) пальцевые; 6) управляемые нитками; 7) перчаточные; 8) тростевые; 9) маротки (на палке); 10) на пруте; 11) куклы-великаны; 12) бумажные (paper-bag puppets); 13) театральные куклы-игрушки; 14) картонный театр; 15) черный кабинет; 16) теневые (Bibliographie Internationale De La Marionnettes & Ouvrages en anglais 1945 – 1990 / Par Genevieve Leleu-Rouvray et Gladys Langevin. International bibliography on puppetry. English books. 1945 – 1990. Munchen; New York; London, 1992; Puppet. Present Trends in Research of the World of Puppetry. Warsaw, 1992. P. 105).
486* Калмановский Е. С. Театр кукол, день сегодняшний: Из записок театрального критика. Л., 1977. С. 17.
487* Давыдова Е. В сторону куклы // Декоративное искусство СССР. 1983. № 12. С. 17.
488* Шрайман В. Реплики из дискуссий // Театр. 1987. № 7. С. 108 – 109.
489* Давыдова Е. В сторону куклы // Декоративное искусство СССР. 1983. № 12. С. 17.
490* Смирнов Л. Куклы как пространство // Международный симпозиум историков и теоретиков театра кукол. М., 1983. С. 107.
491* Топоров В. Модель мира // Мифы народов мира. М., 1992. Т. 2. С. 161.
492* См.: Юрковский Х. Идеи постмодернизма и куклы // Экран и сцена. 2001. № 48 (618). Дек.

