5 Эта книга принадлежит перу выдающегося ученого — Льва Семеновича Выготского (1896 – 1934), создавшего оригинальное научное направление в советской психологии, основу которого составляет учение об общественно-исторической природе сознания человека.
«Психология искусства» была написана Выготским сорок лет назад — в годы становления советской психологической науки. Это было время, когда еще шли бои с открыто идеалистической психологией, господствовавшей в главном научно-психологическом центре — в психологическом институте Московского университета, которым руководил проф. Г. И. Челпанов. В этих боях, шедших под знаменем перестройки научной психологии на основе марксизма, происходила широкая консолидация прогрессивно настроенных психологов и представителей смежных областей знания.
Когда после Второго психоневрологического съезда в январе 1924 года руководство психологическим институтом перешло к проф. К. И. Корнилову, в институт пришли новые люди. Многие из них только начинали свой путь в психологии; к их числу принадлежал и Выготский, которому в то время было двадцать восемь лет.
Заняв скромную должность младшего научного сотрудника (тогда говорили: сотрудника 2-го разряда), Выготский буквально с первых дней своего пребывания в институте развил поразительную энергию: он выступает с множеством докладов и в институте и в других научных учреждениях Москвы, читает лекции студентам, 6 развертывает с небольшой группой молодых психологов экспериментальную работу и очень много пишет. Уже в начале 1925 года он публикует блестящую, до сих пор не утратившую своего значения статью «Сознание как проблема психологии поведения»1*, а в 1926 году выходит его первая большая книга «Педагогическая психология» и почти одновременно — экспериментальное исследование, посвященное изучению доминантных реакций2*.
В научной психологии Выготский был в то время человеком новым и, можно сказать, неожиданным. Для самого же Выготского психология давно стала близкой — прежде всего в связи с его интересами в области искусства. Таким образом, переход Выготского к специальности психолога имел свою внутреннюю логику. Эта логика и запечатлена в его «Психологии искусства» — книге переходной в самом полном и точном значении слова.
В «Психологии искусства» автор резюмирует свои работы 1915 – 1922 годов, подводят их итог. Вместе с тем эта книга готовит те новые психологические идеи, которые составили главный вклад Выготского в науку, и развитию которых он посвятил всю свою дальнейшую — увы, слишком короткую — жизнь.
«Психологию искусства» нужно читать исторически в обоих ее аспектах: и как психологию искусства и как психологию искусства.
Читателю-искусствоведу не трудно воспроизвести исторический контекст этой книги.
Советское искусствознание делало еще только первые свои шаги. Это был период переоценки старых ценностей и период начинавшегося великого «разбора» в литературе и искусстве: в кругах советской интеллигенции царила атмосфера, создававшаяся разноречивыми устремлениями. Слова «социалистический реализм» еще не были произнесены.
Если сопоставить книгу Выготского с другими работами по искусству начала 20-х годов, то нельзя не увидеть, что она занимает среди них особое место. Автор обращается в ней к классическим произведениям — к басне, новелле, трагедии Шекспира. Его внимание сосредоточивается не на спорах о формализме и символизме, 7 футуристах и о левом фронте. Главный вопрос, который он ставит перед собой, имеет гораздо более общий, более широкий смысл: что делает произведение художественным, что превращает его в творение искусства? Это действительно фундаментальный вопрос, игнорируя который нельзя по-настоящему оценить новые явления, возникающие в искусстве.
Л. С. Выготский подходит к произведениям искусства как психолог, но как психолог, порвавший со старой субъективно-эмпирической психологией. Поэтому в своей книге он выступает против традиционного психологизма в трактовке искусства. Избранный им метод является объективным, аналитическим. Его замысел состоял в том, чтобы, анализируя особенности структуры художественного произведения, воссоздать структуру той реакции, той внутренней деятельности, которую оно вызывает. В этом Выготский видел путь, позволяющий проникнуть в тайну непреходящего значения великих произведений искусства, найти то, в силу чего греческий эпос или трагедии Шекспира до сих пор продолжают, по словам Маркса, «доставлять нам художественное наслаждение и в известном отношении служить нормой и недосягаемым образцом»3*.
Нужно было, прежде всего, произвести расчистку этого пути, отсеять многие неверные решения, которые предлагались в наиболее распространенной литературе того времени. Поэтому в книге Выготского немалое место занимает критика односторонних взглядов на специфику искусства, специфику его человеческой и вместе с тем социальной функции. Он выступает против сведения функции искусства к функции собственно познавательной, гностической. Если искусство и выполняет познавательную функцию, то это — функция особого познания, выполняемая особыми приемами. И дело не просто в том, что это — образное познание. Обращение к образу, символу само по себе еще не создает художественного произведения. «Пиктографичность» произведения и его художественность — разные вещи. Сущность и функция искусства не заключается и в самой по себе форме, ибо форма не существует самостоятельно и не является самоценной. Ее действительное значение открывается, 8 лишь когда мы рассматриваем ее по отношению к тому материалу, который она преобразует, «развоплощает», по выражению Выготского, и дает ему новую жизнь в содержании художественного произведения. С этих позиций автор и выступает против формализма в искусстве, критике которого он посвящает целую главу своей книги («Искусство как прием»).
Но, может быть, специфика искусства заключается в выражении эмоциональных переживаний, в передаче чувств? Это решение тоже отвергается автором. Он выступает против и теории заражения чувствами и чисто гедонистического понимания функции искусства.
Конечно, искусство «работает» с человеческими чувствами и художественное произведение воплощает в себе эту работу. Чувства, эмоции, страсти входят в содержание произведения искусства, однако в нем они преобразуются. Подобно тому, как художественный прием создает метаморфоз материала произведения, он создает и метаморфоз чувств. Смысл этого метаморфоза чувств состоит, по мысли Выготского, в том, что они возвышаются лад индивидуальными чувствами, обобщаются и становятся общественными. Так, смысл и функция стихотворения о грусти вовсе не в том, чтобы передать нам грусть автора, заразить нас ею (это было бы грустно для искусства, замечает Выготский), а в том, чтобы претворять эту грусть так, чтобы человеку что-то открылось по-новому — в более высокой, более человечной жизненной правде.
Только ценой великой работы художника может быть достигнут этот метаморфоз, это возвышение чувств. Но сама работа эта скрыта от исследователя, так же как она скрыта и от самонаблюдения художника. Перед исследователем не сама эта работа, а ее продукт — художественное произведение, в структуре которого она кристаллизовалась. Это очень точный тезис: человеческая деятельность не испаряется, не исчезает в своем продукте; она лишь переходит в нем из формы движения в форму бытия или предметности (Gegenständlichkeit)4*.
Анализ структуры художественного произведения и составляет главное содержание «Психологии искусства» Выготского. Обычно анализ структуры связывается в 9 нашем сознании с представлением об анализе чисто формальном, отвлеченном от содержания произведения. Но у Выготского анализ структуры не отвлекается от содержания, а проникает в него. Ведь содержание художественного произведения — это не материал, не фабула; его действительное содержание есть действенное его содержание — то, что определяет специфический характер эстетического переживания, им вызываемого. Так понимаемое содержание не просто вносится в произведение извне, а созидается в нем художником. Процесс созидания этого содержания и кристаллизуется, откладывается в структуре произведения, подобно тому как, скажем, физиологическая функция откладывается в анатомии органа.
Исследование «анатомии» художественного произведения открывает многоплановость адекватной ему деятельности. Прежде всего, его действительное содержание требует преодоления свойств того материала, в котором оно себя воплощает, — той вещественной формы, в которой оно обретает свое существование. Для передачи теплоты, одушевленности и пластичности человеческого тела скульптор избирает холодный мрамор, бронзу или слоистое дерево; раскрашенной восковой фигуре не место в музее искусств, скорее — это произведение для паноптикума…
Мы знаем, что иногда преодоление вещественных свойств материала, из которого создается творение художника, достигает степеней необыкновенных: кажется, что камень, из которого изваяна Ника Самофракийская, как бы вовсе лишен массы, веса. Это можно описать как результат «развоплощения материала формой». Но такое описание совершенно условно, потому что истинно определяющим является то, что лежит за формой и создает ее самое: а это не что иное, как воплощаемое в художественном произведении содержание, его смысл. В Нике это — взлет, ликование победы.
Предметом исследования в «Психологии искусства» являются произведения художественной литературы. Их анализ особенно труден в силу того, что их материал есть язык, то есть материал смысловой, релевантный воплощаемому в нем содержанию. Поэтому-то в литературно-художественном произведении то, что реализует его содержание, может казаться совпадающим с самим этим содержанием. В действительности же и здесь происходит 10 «развоплощение» материала, но только развоплощение не вещественных его свойств, не «фазической» стороны слова, как сказал бы позже Выготский, а его внутренней стороны — его значений. Ведь смысл художественного произведения пристрастен, и этим он поднимается над равнодушием языковых значений.
Одна из заслуг Л. С. Выготского — блестящий анализ преодоления «прозаизма» языкового материала, возвышения его функций в структуре творений художественной литературы. Но это только один план анализа, абстрагирующийся от главного, что несет в себе структура произведения. Главное — это движение, которое Выготский называет движением «противочувствования». Оно-то и создает воздейственность искусства, порождает его специфическую функцию.
«Противочувствование» состоит в том, что эмоциональное, аффективное содержание произведения развивается в двух противоположных, но стремящихся к одной завершающей точке направлениях. В этой завершающей точке наступает как бы короткое замыкание, разрешающее аффект: происходит преобразование, просветление чувства.
Для обозначения этого главного внутреннего движения, кристаллизованного в структуре произведения, Выготский пользуется классическим термином катарсис. Значение этого термина у Выготского, однако, не совпадает с тем значением, которое оно имеет у Аристотеля; тем менее оно похоже на то плоское значение, которое оно получило во фрейдизме. Катарсис для Выготского не просто изживание подавленных аффективных влечений, освобождение через искусство от их «скверны». Это, скорее, решение некоторой личностной задачи, открытие более высокой, более человечной правды жизненных явлений, ситуаций.
В своей книге Л. С. Выготский не всегда находит для выражения мысли точные психологические понятия. В ту пору, когда она писалась, понятия эти еще не были разработаны; еще не было создано учение об общественно-исторической природе психики человека, не были преодолены элементы «реактологического» подхода, пропагандировавшегося К. Н. Корниловым; конкретно-психологическая теория сознания намечалась лишь в самых общих чертах. Поэтому в этой книге Выготский говорит 11 свое часто не своими еще словами. Он много цитирует, обращаясь даже к таким авторам, общие концепции которых чужды ему в самой своей основе.
Как известно, «Психология искусства» не издавалась при жизни автора. Можно ли видеть в этом только случайность, только результат неблагоприятного стечения обстоятельств? Это малоправдоподобно. Ведь за немногие годы после того, как была написана «Психология искусства», Выготский опубликовал около ста работ, в том числе ряд книг, начиная с «Педагогической психологии» (1926) и кончая последней, посмертно вышедшей книгой «Мышление и речь» (1934). Скорее это объясняется внутренними мотивами, в силу которых Выготский почти не возвращался к теме об искусстве5*.
Причина этого, по-видимому, двойственна. Когда Выготский заканчивал свою работу над рукописью «Психология искусства», перед ним уже внутренне открылся новый путь в психологии, науке, которой он придавал важнейшее, ключевое значение для понимания механизмов художественного творчества и для понимания специфической функции искусства. Нужно было пройти этот путь, чтобы завершить работу по психологии искусства, чтобы досказать то, что осталось еще недосказанным.
Л. С. Выготский ясно видел эту незавершенность, недосказанность. Начиная главу, посвященную изложению своих позитивных взглядов — теории катарсиса, он предупреждает: «Раскрытие содержания этой формулы искусства как катарсиса мы оставляем за пределами этой работы…» Для этого, пишет он, нужны дальнейшие исследования в области различных искусств. Но речь шла, конечно, не просто о распространении уже найденного на более широкую сферу явлений. В той единственной позднейшей статье по психологии творчества актера, которая упоминалась выше (она была написана в 1932 г.), Л. С. Выготский подходит не только к новой области искусства, но подходит к ней и с новых позиций — с позиций общественно-исторического понимания психики человека, которые только намечались в ранних трудах.
Слишком краткая и к тому же посвященная специальному 12 вопросу о сценических чувствах, эта статья ограничивается в отношении более широких проблем психологии искусства лишь некоторыми общими теоретическими положениями. Однако положения эти — большого значения. Они открывают ретроспективно то, что в «Психологии искусства» содержится в не явной еще форме.
Законы сцепления и преломления сценических чувств должны раскрываться, пишет Выготский, раньше всего в плане исторической, а не натуралистической (биологической) психологии. Выражение чувств актера осуществляет общение и становится понятным, лишь будучи включено в более широкую социально-психологическую систему; в ней только и может осуществить искусство свою функцию.
«Психология актера есть историческая и классовая категория» (разрядка автора)6*. «Переживания актера, его жизнь выступают не как функции его личной душевной жизни, но как явление, имеющее объективный общественный смысл и значение, служащие переходной ступенью от психологии к идеологии»7*.
Эти слова Выготского позволяют увидеть как бы конечную точку его устремлений: понять функцию искусства в жизни общества и в жизни человека как общественно-исторического существа.
«Психология искусства» Л. С. Выготского — книга далеко не бесстрастная, это книга творческая, и она требует творческого к себе отношения.
За сорок лет, истекших после того как «Психология искусства» была написана, советскими психологами было сделано многое — и вместе с Л. С. Выготским и вслед за ним. Поэтому сейчас некоторые психологические положения его книги должны быть интерпретированы уже иначе — с позиций современных психологических представлений о человеческой деятельности и человеческом сознании. Эта задача, однако, требует специального исследователя и, разумеется, не может быть решена в рамках краткого предисловия.
13 Многое в книге Выготского уже отброшено временем. Но ни от какой научной книги нельзя ждать истины в последней инстанции, нельзя требовать окончательных — на все времена — решений. Нельзя этого требовать и от книг Выготского. Важно другое: что труды Выготского до сих пор сохраняют научную актуальность, переиздаются и продолжают привлекать к себе внимание читателей. О многих ли исследованиях из числа тех, на которые в двадцатые годы ссылался Выготский, можно это сказать? Об очень немногих. И это подчеркивает значительность научно-психологических идей Выготского.
Мы думаем, что и его «Психология искусства» разделит судьбу многих его работ — войдет в фонд советской науки.
А. Н. Леонтьев
14 Психология искусства1
|
Того, к чему способно тело, до сих пор никто еще не определил… но, говорят, из одних лишь законов природы, поскольку она рассматривается исключительно как телесная, невозможно было бы вывести причины архитектурных зданий, произведений живописи и тому подобного, что производит одно только человеческое искусство, и тело человеческое не могло бы построить какой-либо храм, если бы оно не определялось и не руководствовалось душою, но я показал уже, что они не знают, к чему способно тело, и что можно вынести из одного только рассмотрения его природы… Бенедикт Спиноза |
15 Предисловие
Настоящая книга возникла как итог ряда мелких и более или менее крупных работ в области искусства и психологии. Три литературных исследования — о Крылове, о Гамлете2 и о композиции новеллы — легли в основу многих анализов, как и ряд журнальных статей и заметок3. Здесь в соответствующих главах даны только краткие итоги, очерки, суммарные сводки этих работ, потому что в одной главе дать исчерпывающий анализ Гамлета невозможно, этому надо посвятить отдельную книгу. Искание выхода за шаткие пределы субъективизма одинаково определило судьбы и русского искусствоведения и русской психологии за эти годы. Эта тенденция к объективизму, к материалистически точному естественнонаучному знанию в обеих областях создала настоящую книгу.
С одной стороны, искусствоведение все больше и больше начинает нуждаться в психологических обоснованиях. С другой стороны, и психология, стремясь объяснить поведение в целом, не может не тяготеть к сложным проблемам эстетической реакции. Если присоединить сюда тот сдвиг, который сейчас переживают обе науки, тот кризис объективизма, которым они захвачены, — этим будет определена до конца острота нашей темы. В самом деле, сознательно или бессознательно традиционное искусствоведение в основе своей всегда имело психологические предпосылки, но старая популярная психология 16 перестала удовлетворять по двум причинам: во-первых, она была годна еще, чтобы питать всяческий субъективизм в эстетике, но объективные течения нуждаются в объективных предпосылках; во-вторых, идет новая психология и перестраивает фундамент всех старых так называемых «наук о духе». Задачей нашего исследования и был пересмотр традиционной психологии искусства и попытка наметить новую область исследования для объективной психологии — поставить проблему, дать метод и основной психологический объяснительный принцип, и только.
Называя книгу «Психология искусства», автор не хотел этим сказать, что в книге будет дана система вопроса, представлен полный круг проблем и факторов. Наша цель была существенно иная: не систему, а программу, не весь круг вопросов, а центральную его проблему имели мы все время в виду и преследовали как цель.
Мы поэтому оставляем в стороне спор о психологизме в эстетике и о границах, разделяющих эстетику и чистое искусствознание. Вместе с Липпсом мы полагаем, что эстетику можно определить как дисциплину прикладной психологии, однако нигде не ставим этого вопроса в целом, довольствуясь защитой методологической и принципиальной законности психологического рассмотрения искусства наряду со всеми другими, указанием на его существенную важность4, поисками его места в системе марксистской науки об искусстве. Здесь путеводной нитью служило нам то общеизвестное положение марксизма, что социологическое рассмотрение искусства не отменяет эстетического, а, напротив, настежь открывает перед ним двери и предполагает его, по словам Плеханова, как свое дополнение. Эстетическое же обсуждение искусства, поскольку оно хочет не порывать с марксистской социологией, непременно должно быть обосновано социально-психологически. Можно легко показать, что и те искусствоведы, которые совершенно справедливо отграничивают свою область от эстетики, неизбежно вносят в разработку основных понятий и проблем искусства некритические, произвольные и шаткие психологические аксиомы. Мы разделяем с Утицом его взгляд, что искусство выходит за пределы эстетики и даже имеет принципиально отличные от эстетических ценностей черты, но что оно начинается в эстетической стихии, не растворяясь 17 в ней до конца. И для нас, поэтому, ясно, что психология искусства должна иметь отношение и к эстетике, не упуская из виду границ, отделяющих одну область от другой.
Надо сказать, что и в области нового искусствоведения и в области объективной психологии пока еще идет разработка основных понятий, фундаментальных принципов, делаются первые шаги. Вот почему работа, возникающая на скрещении этих двух наук, работа, которая хочет языком объективной психологии говорить об объективных фактах искусства, по необходимости обречена на то, чтобы все время оставаться в преддверии проблемы, не проникая вглубь, не охватывая много вширь.
Мы хотели только развить своеобразие психологической точки зрения на искусство и наметить центральную идею, методы ее разработки и содержание проблемы. Если на пересечении этих трех мыслей возникнет объективная психология искусства, настоящая работа будет тем горчичным зерном, из которого она прорастет.
Центральной идеей психологии искусства мы считаем признание преодоления материала художественной формой или, что то же, признание искусства общественной техникой чувства. Методом исследования этой проблемы мы считаем объективно аналитический метод, исходящий из анализа искусства, чтобы прийти к психологическому синтезу, — метод анализа художественных систем раздражителей5. Вместе с Геннекеном мы смотрим на художественное произведение как на «совокупность эстетических знаков, направленных к тому, чтобы возбудить в людях эмоции», и пытаемся на основании анализа этих знаков воссоздать соответствующие им эмоции. Но отличие нашего метода от эстопсихологического состоит в том, что мы не интерпретируем эти знаки как проявление душевной организации автора или его читателей6. Мы не заключаем от искусства к психологии автора или его читателей, так как знаем, что этого сделать на основании толкования знаков нельзя.
Мы пытаемся изучать чистую и безличную психологию искусства7 безотносительно к автору и читателю, исследуя только форму и материал искусства. Поясним: по одним басням Крылова мы никогда не восстановим его психологии; психология его читателей была разная — у 18 людей XIX и XX столетия и даже у различных групп, классов, возрастов, лиц. Но мы можем, анализируя басню, вскрыть тот психологический закон, который положен в ее основу, тот механизм, через который она действует, — и это мы называем психологией басни. На деле этот закон и этот механизм нигде не действовали в своем чистом виде, а осложнялись целым рядом явлений и процессов, в состав которых они попадали; но мы так же вправе элиминировать психологию басни от ее конкретного действия, как психолог элиминирует чистую реакцию, сенсорную или моторную, выбора или различения, и изучает как безличную.
Наконец, содержание проблемы мы видим в том, чтобы теоретическая и прикладная психология искусства вскрыла все те механизмы, которые движут искусством, вместе с социологией искусства дала бы базис для всех специальных наук об искусстве.
Задача настоящей работы существенно синтетическая. Мюллер-Фрейенфельс очень верно говорил, что психолог искусства напоминает биолога, который умеет произвести полный анализ живой материи, разложить ее на составные части, но не умеет из этих частей воссоздать целое и открыть законы этого целого. Целый ряд работ занимается таким систематическим анализом психологии искусства, но я не знаю работы, которая бы объективно ставила и решала проблему психологического синтеза искусства. В этом смысле, думается мне, настоящая попытка делает новый шаг и отваживается ввести некоторые новые и никем еще не высказанные мысли в поле научного обсуждения. Это новое, что автор считает принадлежащим ему в книге, конечно, нуждается в проверке и критике, в испытании мыслью и фактами. Все же оно уже и сейчас представляется автору настолько достоверным и зрелым, что он осмеливается высказать это в настоящей книге.
Общей тенденцией этой работы было стремление научной трезвости в психологии искусства, самой спекулятивной и мистически неясной области психологии. Моя мысль слагалась под знаком слов Спинозы8, выдвинутых в эпиграфе, и вслед за ним старалась не предаваться удивлению, не смеяться, не плакать — но понимать.
19 К методологии вопроса
Глава I
Психологическая проблема искусства
«Эстетика сверху» и «эстетика снизу». Марксистская теория искусства и
психология. Социальная и индивидуальная психология искусства. Субъективная и
объективная психология искусства. Объективно-аналитический метод, его
применение.
Если назвать водораздел, разделяющий все течения современной эстетики на два больших направления, — придется назвать психологию. Две области современной эстетики — психологической и непсихологической — охватывают почти все, что есть живого в этой науке. Фехнер очень удачно разграничил оба эти направления, назвав одну «эстетикой сверху» и другую — «эстетикой снизу». Легко может показаться, что речь идет не только о двух областях единой науки, но даже о создании двух самостоятельных дисциплин, имеющих каждая свой особый предмет и свой особый метод изучения. В то время как для одних эстетика все еще продолжает оставаться наукой спекулятивной по преимуществу, другие, как О. Кюльпе, склонны утверждать, что «в настоящее время эстетика находится в переходной стадии… Спекулятивный метод послекантовского идеализма почти совершенно оставлен. Эмпирическое же исследование… находится под влиянием психологии… Эстетика представляется нам учением об эстетическом поведении (Verhalten)9, 20 то есть об общем состоянии, охватывающем и проникающем всего человека и имеющем своей исходной точкой и средоточием эстетическое впечатление… Эстетика должна рассматриваться как психология эстетического наслаждения и художественного творчества» (64, с. 98).
Такого же мнения придерживается Фолькельт: «Эстетический объект… приобретает свой специфический эстетический характер лишь через восприятие, чувство и фантазию воспринимающего субъекта» (161, S. 5).
В последнее время к психологизму начали склоняться и такие исследователи, как Веселовский (26, с. 222). И общую мысль довольно верно выразили слова Фолькельта: «В основание эстетики должна быть положена психология» (117, с. 192). «… Ближайшей, настоятельнейшей задачей эстетики в настоящее время являются, конечно, не метафизические построения, а подробный и тонкий психологический анализ искусства» (117, с. 208).
Противоположного мнения придерживались все столь сильные в последнее десятилетие в немецкой философии антипсихологические течения, общую сводку которых можно найти в статье Г. Шпета (см. 135). Спор между противниками велся при помощи отрицательных аргументов. Каждая идея защищалась слабостью противоположной, а основательная бесплодность одного и другого направления делали этот спор затяжным и оттягивали практическое разрешение его.
Эстетика сверху черпала свои законы и доказательства из «природы души», из метафизических предпосылок или умозрительных конструкций. При этом она оперировала эстетическим, как какой-то особой категорией бытия, и даже такие крупные психологи, как Липпс, не избегли этой общей участи. В это время эстетика снизу, превратившись в ряд чрезвычайно примитивных экспериментов, всецело посвятила себя выяснению самых элементарных эстетических отношений и была бессильна подняться хоть сколько-нибудь над этими первичными и, в сущности, ничего не говорящими фактами. Таким образом, глубокий кризис как в одной, так и в другой отрасли эстетики стал обозначаться все ясней и ясней, и многие авторы стали сознавать содержание и характер этого кризиса как кризиса гораздо более общего, чем кризис отдельных течений. Ложными оказались сами исходные предпосылки того и другого направления, принципиально 21 научные основания исследования и его методы. Это сделалось совершенно ясно, когда кризис разразился в эмпирической психологии во всем ее объеме, с одной стороны, и в немецкой идеалистической философии последних десятилетий — с другой.
Выход из этого тупика может заключаться только в коренной перемене основных принципов исследования, новой постановке задач, в избрании новых методов.
В области эстетики сверху все сильнее и сильнее начинает утверждаться сознание необходимости социологического и исторического базиса для построения всякой эстетической теории. Все яснее начинает сознаваться та мысль, что искусство может сделаться предметом научного изучения только тогда, когда оно будет рассматриваться как одна из жизненных функций общества10 в неотрывной связи со всеми остальными областями социальной жизни, в его конкретной исторической обусловленности. Из социологических направлений теории искусства всех последовательнее и дальше идет теория исторического материализма, которая пытается построить научное рассмотрение искусства на основе тех же самых принципов, которые применяются для изучения всех форм и явлений общественной жизни11. С этой точки зрения искусство рассматривается обычно как одна из форм идеологии, возникающая, подобно всем остальным формам, как надстройка на базисе экономических и производственных отношений. И, совершенно понятно, что поскольку эстетика снизу всегда была эстетикой эмпирической и позитивной — постольку марксистская теория искусства обнаруживает явные тенденции к тому, чтобы вопросы теоретической эстетики свести к психологии. Для Луначарского эстетика является просто одной из отраслей психологии. «Было бы, однако, поверхностным утверждать, что искусство не обладает своим собственным законом развития. Течение воды определяется руслом и берегами его: она то расстилается мертвым прудом, то стремится в спокойном течении, то бурлит и пенится по каменистому ложу, то падает водопадами, поворачивается направо или налево, даже круто загибает назад, но, как ни ясно, что течение ручья определяется железной необходимостью внешних условий, все же сущность его определена законами гидродинамики, законами, которых мы не можем познать из внешних 22 условий потока, а только из знакомства с самой водою» (70, с. 123 – 124).
Для этой теории водораздел, отделявший прежде эстетику сверху от эстетики снизу, проходит по другой линии: он отделяет социологию искусства от психологии искусства, указывая каждой из областей особую точку зрения на один и тот же предмет исследования.
Совершенно ясно разграничивает обе точки зрения Плеханов в своих исследованиях искусства, указывая, что психологические механизмы, определяющие собой эстетическое поведение человека, всякий раз определяются в своем действии причинами социологического порядка. Отсюда ясно, что изучение действия этих механизмов и составляет предмет психологии, в то время как исследование их обусловленности — предмет социологического исследования. «Природа человека делает то, что у него могут быть эстетические вкусы и понятия. Окружающие его условия определяют собою переход этой возможности в действительность; ими объясняется то, что данный общественный человек (то есть данное общество, данный народ, данный класс) имеет именно эти эстетические вкусы и понятия, а не другие…» (87, с. 46). Итак, в различные эпохи общественного развития человек получает от природы различные впечатления, потому что он смотрит на нее с различных точек зрения.
Действие общих законов психологической природы человека не прекращается, конечно, ни в одну из этих эпох. Но так как в разные эпохи «в человеческие головы попадает совсем неодинаковый материал, то не удивительно, что и результаты его обработки совсем не одинаковы» (87, с. 56). «… В какой мере психологические законы могут служить ключом к объяснению истории идеологии вообще и истории искусства в частности. В психологии людей семнадцатого века начало антитезы играло такую же роль, как и в психологии наших современников. Почему же наши эстетические вкусы противоположны вкусам людей семнадцатого века? Потому что мы находимся в совершенно ином положении. Стало быть, мы приходим к уже знакомому нам выводу: психологическая природа человека делает то, что у него могут быть эстетические понятия, и что Дарвиново начало антитезы (Гегелево “противоречие”) играет чрезвычайно важную, до сих пор недостаточно оцененную роль в механизме этих 23 понятый. Но почему данный общественный человек имеет именно эти, а не другие вкусы; отчего ему нравятся именно эти, а не другие предметы — это зависит от окружающих условий» (87, с. 54).
Никто так ясно, как Плеханов, не разъяснил теоретическую и методологическую необходимость психологического исследования для марксистской теории искусства. По его выражению, «все идеологии имеют один общий корень: психологию данной эпохи» (89, с. 76).
На примере Гюго, Берлиоза и Делакруа он показывает, как психологический романтизм эпохи породил в трех разнородных областях — живописи, поэзии и музыке — три различные формы идеологического романтизма (89, с. 76 – 78). В формуле, предложенной Плехановым для выражения отношения базиса и надстройки, мы различаем пять последовательных моментов:
1) состояние производительных сил;
2) экономические отношения;
3) социально-политический строй;
4) психика общественного человека;
5) различные идеологии, отражающие в себе свойства этой психики (89, с. 75).
Таким образом, психика общественного человека рассматривается как общая подпочва всех идеологий данной эпохи, в том числе и искусства. Тем самым признается, что искусство в ближайшем отношении определяется и обусловливается психикой общественного человека.
Таким образом, на месте прежней вражды мы находим намечающиеся примирение и согласование психологического и антипсихологического направлений в эстетике, размежевание между ними области исследования на основе марксистской социологии. Эта система социологии — философия исторического материализма — меньше всего склонна, конечно, объяснить что-либо из психики человека, как из конечной причины. Но в такой же мере она не склонна отвергать или игнорировать эту психику и важность ее изучения, как посредствующий механизм, при помощи которого экономические отношения и социально-политический строй творят ту или иную идеологию. При исследовании сколько-нибудь сложных форм искусства эта теория положительно настаивает на необходимости изучения психики, так как расстояние между экономическими отношениями и идеологической формой становится 24 все большим и большим и искусство уже не может быть объяснено непосредственно из экономических отношений. Это имеет в виду Плеханов, когда сравнивает танец австралийских женщин и менуэт XVIII века. «Чтобы понять танец австралийской туземки, достаточно знать, какую роль играет собирание женщинами корней дикорастущих растений в жизни австралийского племени. А чтобы понять, скажем, менуэт, совершенно недостаточно знания экономики Франции XVIII столетия. Тут нам приходится иметь дело с танцем, выражающим собою психологию непроизводительного класса… Стало быть, экономический “фактор” уступает здесь честь и место психологическому. Но не забывайте, что само появление непроизводительных классов в обществе есть продукт его экономического развития» (89, с. 65).
Таким образом, марксистское рассмотрение искусства, особенно в его сложнейших формах, необходимо включает в себя и изучение психофизического действия художественного произведения12.
Предметом социологического изучения может быть либо идеология сама по себе, либо зависимость ее от тех или иных форм общественного развития, но никогда социологическое исследование само по себе, не дополненное исследованием психологическим, не в состоянии будет вскрыть ближайшую причину идеологии — психику общественного человека. Чрезвычайно важно и существенно для установления методологической границы между обеими точками зрения выяснить разницу, отличающую психологию от идеологии.
С этой точки зрения становится совершенно понятной та особая роль, которая выпадает на долю искусства как совершенно особой идеологической формы, имеющей дело с совершенно своеобразной областью человеческой психики. И если мы хотим выяснить именно это своеобразие искусства, то, что выделяет его и его действия из всех остальных идеологических форм, — мы неизбежно нуждаемся в психологическом анализе. Все дело в том, что искусство систематизирует совсем особенную сферу психики общественного человека — именно сферу его чувства. И хотя за всеми сферами психики лежат одни и те же породившие их причины, но, действуя через разные психические Verhaltensweisen, они вызывают к жизни и разные идеологические формы.
25 Таким образом, прежняя вражда сменяется союзом двух направлений в эстетике, и каждое из них получает смысл только в общей философской системе. Если реформа эстетики сверху более или менее ясна в своих общих очертаниях и намечена в целом ряде работ, во всяком случае, в такой степени, что позволяет дальнейшую разработку этих вопросов в духе исторического материализма, то в смежной области — в области психологического изучения искусства — дело обстоит совершенно иначе. Возникает целый ряд таких затруднений и вопросов, которые были неизвестны прежней методологии психологической эстетики вовсе. И самым существенным из этих новых затруднений оказывается вопрос о разграничении социальной и индивидуальной психологии при изучении вопросов искусства. Совершенно очевидно, что прежняя точка зрения, не допускавшая сомнений в вопросе о размежевании этих двух психологических точек зрения, ныне должна быть подвергнута основательному пересмотру. Мне думается, что обычное представление о предмете и материале социальной психологии окажется неверным в самом корне при проверке его с новой точки зрения. В самом деле, точка зрения социальной психологии или психологии народов, как ее понимал Вундт, избирала предметом своего изучения язык, мифы, обычаи, искусство, религиозные системы, правовые и нравственные нормы. Совершенно ясно, что с точки зрения только что приведенной это все уже не психология: это сгустки идеологии, кристаллы. Задача же психологии заключается в том, чтобы изучить самый раствор, самое общественную психику, а не идеологию. Язык, обычаи, мифы — это все результат деятельности социальной психики, а не ее процесс. Поэтому, когда социальная психология занимается этими предметами, она подменяет психологию идеологией. Очевидно, что основная предпосылка прежней социальной психологии и вновь возникающей коллективной рефлексологии, будто психология отдельного человека непригодна для уяснения социальной психологии, окажется поколебленной новыми методологическими допущениями.
Бехтерев утверждает: «… очевидно, что психология отдельных лиц непригодна для уяснения общественных движений…» (18, с. 14). На такой же точке зрения стоят и другие социальные психологи, как Мак-Дауголл, Лебон, Фрейд и другие, рассматривающие социальную психику 26 как нечто вторичное, возникающее из индивидуальной. При этом предполагается, что есть особая индивидуальная психика, а затем уже из взаимодействия этих индивидуальных психологии возникает коллективная, общая для всех данных индивидуумов. Социальная психология при этом возникает как психология собирательной личности, на манер того, как толпа собирается из отдельных людей, хотя имеет и свою надличную психологию. Таким образом, немарксистская социальная психология понимает социальное грубо эмпирически, непременно как толпу, как коллектив, как отношение к другим людям. Общество понимается как объединение людей, как добавочное условие деятельности одного человека. Эти психологи не допускают мысли, что в самом интимном, личном движении мысли, чувства и т. п. психика отдельного лица все же социальна и социально обусловлена. Очень нетрудно показать, что психика отдельного человека именно и составляет предмет социальной психологии. Совершенно неверно мнение Г. Челпанова, очень часто высказываемое и другими, что специально марксистская психология есть психология социальная, изучающая генезис идеологических форм по специально марксистскому методу, заключающемуся в изучении происхождения указанных форм в зависимости от изучения социального хозяйства, и что эмпирическая и экспериментальная психология марксистской стать не может, как не может стать марксистской минералогия, физика, химия и т. п. В подтверждение Челпанов ссылается на восьмую главу «Основных вопросов марксизма» Плеханова, где говорится совершенно ясно о происхождении идеологии. Скорее верна как раз обратная мысль, именно та, что индивидуальная (resp. эмпирическая и экспериментальная) психология только и может стать марксистской. В самом деле, раз мы отрицаем существование народной души, народного духа и т. п., то как можем мы отличить общественную психологию от личной. Именно психология отдельного человека, то, что у него есть в голове, это и есть психика, которую изучает социальная психология. Никакой другой психики нет. Все другое есть или метафизика или идеология, поэтому утверждать, что эта психология отдельного человека не может стать марксистской, то есть социальной, как минералогия, химия и т. п., значит не понимать основного утверждения Маркса, что 27 «человек есть в самом буквальном смысле zoon politicon8*, не только животное, которому свойственно общение, но животное, которое только в обществе и может обособляться» (1, с. 710). Считать психику отдельного человека, то есть предмет экспериментальной и эмпирической психологии, столь же внесоциальной, как предмет минералогии, — значит стоять на прямо противоположной марксизму позиции. Не говоря уже о том, что и физика, и химия, и минералогия, конечно же, могут быть марксистскими и антимарксистскими, если мы под наукой будем разуметь не голый перечень фактов и каталогов зависимостей, а более крупно систематизированную область познания целой части мира.
Остается последний вопрос о генезисе идеологических форм. Есть ли подлинно предмет социальной психологии изучение зависимости их от социального хозяйства? Мне думается, что ни в какой мере. Это общая задача каждой частной науки, как ветви общей социологии. История религии и права, история искусства и науки решают всякий раз эту задачу для своей области.
Но не только из теоретических соображений выясняется неправильность прежней точки зрения; она обнаруживается гораздо ярче из практического опыта самой же социальной психологии. Вундт, устанавливая происхождение продуктов социального творчества, вынужден, в конечном счете, обратиться к творчеству одного индивида (162, с. 593). Он говорит, что творчество одного индивида может быть признано со стороны другого адекватным выражением его собственных представлений и аффектов, а потому множество различных лиц могут быть в одинаковой мере творцами одного и того же представления. Критикуя Вундта, Бехтерев совершенно правильно показывает, что «в таком случае, очевидно, не может быть социальной психологии, так как при этом для нее не открывается никаких новых задач, кроме тех, которые входят и в область психологии отдельных лиц» (18, с. 15). И в самом деле, прежняя точка зрения, будто существует принципиальное различие между процессами и продуктами народного и личного творчества, кажется ныне единодушно оставленной всеми. Сейчас никто не решился бы утверждать, что русская былина, записанная со слов 28 архангельского рыбака, и пушкинская поэма, тщательно выправленная им в черновиках, суть продукты различных творческих процессов. Факты показывают как раз обратное: точное изучение устанавливает, что разница здесь чисто количественная; с одной стороны, если сказитель былины не передает ее совершенно в таком же виде, в каком он получил ее от предшественника, а вносит в нее некоторые изменения, сокращения, дополнения, перестановку слов и частей, то он уже является автором данного варианта, пользующимся готовыми схемами и шаблонами народной поэзии; совершенно ложно то представление, будто народная поэзия возникает безыскусственно и создается всем народом, а не профессионалами — сказителями, петарями, бахарями и другими профессионалами художественного творчества, имеющими традиционную и богатую глубоко специализированную технику своего ремесла и пользующимися ею совершенно так же, как писатели позднейшей эпохи. С другой стороны, и писатель, закрепляющий письменный продукт своего творчества, отнюдь не является индивидуальным творцом своего произведения. Пушкин отнюдь не единоличный автор своей поэмы. Он, как и всякий писатель, не изобрел сам способа писать стихами, рифмовать, строить сюжет определенным образом и т. п., но, как и сказитель былины, оказался только распорядителем огромного наследства литературной традиции, в громадной степени зависимым от развития языка, стихотворной техники, традиционных сюжетов, тем, образов, приемов, композиции и т. п.
Если бы мы захотели расчесть, что в каждом литературном произведении создано самим автором и что получено им в готовом виде от литературной традиции, мы очень часто, почти всегда, нашли бы, что на долю личного авторского творчества следует отнести только выбор тех или иных элементов, их комбинацию, варьирование и известных пределах общепринятых шаблонов, перенесение одних традиционных элементов в другие системы13 и т. п. Иначе говоря, и у архангельского сказителя и у Пушкина мы всегда можем обнаружить наличие обоих моментов — и личного авторства и литературных традиций. Разница только в количественном соотношении обоих этих моментов. У Пушкина выдвигается вперед момент личного авторства, у сказителя — момент литературной традиции. Но оба они напоминают, по удачному 29 сравнению Сильверсвана, пловца, плывущего по реке, течение которой относит его в сторону. Путь пловца, как и творчество писателя, будет всякий раз равнодействующей двух сил — личных усилий пловца и отклоняющей силы течения.
Мы имеем все основания утверждать, что с психологической точки зрения нет принципиальной разницы между процессами народного и личного творчества. А если так, то совершенно прав Фрейд, когда утверждает, что «индивидуальная психология с самого начала является одновременно и социальной психологией…» (122, с. 3). Поэтому интерментальная психология (интерпсихология) Тарда, как и социальная психология других авторов, должна получить совершенно другое значение.
Вслед за Сигеле, Де-ля-Грассери, Росси и другими я склонен думать, что следует различать социальную и коллективную психологию, но только признаком различения той и другой я склонен считать не выдвигаемый этими авторами, а существенно иной. Именно потому, что различие основывалось на степени организованности изучаемого коллектива, это мнение не оказалось общепринятым в социальной психологии.
Признак различения намечается сам собой, если мы примем во внимание, что предметом социальной психологии, оказывается, является именно психика отдельного человека. Совершенно ясно, что при этом предмет прежней индивидуальной психологии совпадает с дифференциальной психологией, имеющей своей задачей изучение индивидуальных различий у отдельных лиц. Совершенно совпадает с этим и понятие об общей рефлексологии в отличие от коллективной у Бехтерева. «В этом смысле имеется известное соотношение между рефлексологией отдельной личности и коллективной рефлексологией, так как первая стремится выяснить особенности отдельной личности, найти различие между индивидуальным складом отдельных лиц и указать рефлексологическую основу этих различий, тогда как коллективная рефлексология, изучая массовые или коллективные проявления соотносительной деятельности, имеет в виду, собственно, выяснить, как путем взаимоотношения отдельных индивидов в общественных группах и сглаживания их индивидуальных различий достигаются социальные продукты их соотносительной деятельности» (18, с. 28).
30 Отсюда совершенно ясно, что речь идет именно о дифференциальной психологии в точном смысле этого слова. Что же тогда составит предмет коллективной психологии в собственном смысле слова? Это можно показать при помощи простейшего рассуждения. Все в нас социально, но это отнюдь не означает, что все решительно свойства психики отдельного человека присущи и всем другим членам данной группы. Только некоторая часть личной психологии может считаться принадлежностью данного коллектива, и вот эту часть личной психики в условиях ее коллективного проявления и изучает всякий раз коллективная психология, исследуя психологию войска, церкви и т. п.
Таким образом, вместо социальной и индивидуальной психологии следует различать социальную и коллективную психологию. Различение социальной и индивидуальной психологии в эстетике падает так же, как различение между нормативной и описательной эстетикой, потому что, как совершенно правильно показал Мюнстерберг, историческая эстетика была связана с социальной психологией, а нормативная эстетика — с индивидуальной (см. 155).
Гораздо важнее оказывается различение между субъективной и объективной психологией искусства. Различие интроспективного метода в приложении к исследованию эстетических переживаний совершенно явно обнаруживается из отдельных свойств этих переживаний. По самой своей природе эстетическое переживание остается непонятным и скрытым в своем существе и протекании от субъекта. Мы никогда не знаем и не понимаем, почему нам понравилось то или иное произведение. Все, что мы придумываем для объяснения его действия, является позднейшим примышлением, совершенно явной рационализацией бессознательных процессов. Самое же существо переживания остается загадочным для нас. Искусство в том и состоит, чтобы скрывать искусство, как говорит французская пословица. Поэтому психология пыталась подойти к решению своих вопросов экспериментально, но все методы экспериментальной эстетики — и так, как они применялись Фехнером (метод выбора, установки и применения), и так, как они одобрены у Кюльпе (метод выбора, постепенного изменения и вариации времени) (см. 147), — в сущности, не могли выйти из круга 31 самых элементарных и простейших эстетических оценок.
Подводя итоги развитию этой методики, Фребес приходит к очень плачевным выводам (142, S. 330). Гаман и Кроче подвергли ее суровой критике, а последний прямо называл эстетической астрологией (см. 30; 62).
Немногим выше стоит и наивный рефлексологический подход к изучению искусства, когда личность художника исследуется тестами вроде следующего: «Как бы вы поступили, если бы любимое вами существо изменило вам?» (19, с. 35). Если даже при этом записывается пульс и дыхание, если художнику при этом задается сочинение на тему: весна, лето, осень, зима, — мы все же остаемся в пределах наивного и смехотворного, совершенно беспомощного и бессильного исследования.
Основная ошибка экспериментальной эстетики заключается в том, что она начинает с конца, с эстетического удовольствия и оценки, игнорируя самый процесс и забывая, что удовольствие и оценка могут оказаться часто случайными, вторичными и даже побочными моментами эстетического поведения. Ее вторая ошибка сказывается в неумении найти то специфическое, что отделяет эстетическое переживание от обычного. Она осуждена, в сущности, всегда оставаться за порогом эстетики, если она предъявляет для оценки простейшие комбинации цветов, звуков, линий и т. п., упуская из виду, что эти моменты вовсе не характеризуют эстетического восприятия как такового.
Наконец, третий и самый важный ее порок — это ложная предпосылка, будто сложное эстетическое переживание возникает как сумма отдельных маленьких эстетических удовольствий. Эти эстетики полагают, что красота архитектурного произведения или музыкальной симфонии может быть нами когда-либо постигнута как суммарное выражение отдельных восприятий, гармонических созвучий, аккордов, золотого сечения и т. п. Поэтому совершенно ясно, что для прежней эстетики объективное и субъективное были синонимами, с одной стороны — непсихологической, с другой стороны — психологической эстетики (см. 71). Самое понятие объективно психологической эстетики было бессмысленным и внутренне противоречивым сочетанием понятий и слов.
Тот кризис, который переживает сейчас всемирная 32 психология, расколол, грубо говоря, на два больших лагеря всех психологов. С одной стороны, мы имеем группу психологов, ушедших еще глубже в субъективизм, чем прежде (Дильтей и др.). Это психология, явно склоняющаяся к чистому бергсонизму. С другой стороны, в самых разных странах, от Америки до Испании, мы видим самые различные попытки создания объективной психологии. И американский бихевиоризм, и немецкая гештальтпсихология, и рефлексология, и марксистская психология — все это попытки, направляемые одной общей тенденцией современной психологии к объективизму. Совершенно ясно, что вместе с коренным пересмотром всей методологии прежней эстетики эта тенденция к объективизму охватывает и психологию эстетическую. Таким образом, величайшей проблемой этой психологии является создание объективного метода и системы психологии искусства. Сделаться объективной — это вопрос существования или гибели для всей этой области знания. Для того чтобы подойти к решению этого вопроса, необходимо точнее наметить, в чем именно заключается психологическая проблема искусства, и тогда только перейти к рассмотрению ее методов.
Чрезвычайно легко показать, что всякое исследование по искусству всегда и непременно вынуждено пользоваться теми или иными психологическими предпосылками и данными. При отсутствии какой-нибудь законченной психологической теории искусства эти исследования пользуются вульгарной обывательской психологией и домашними наблюдениями. На примере легче всего показать, как солидные по заданию и исполнению книги часто допускают непростительные ошибки, когда начинают прибегать к помощи обыденной психологии. К числу таких ошибок относится обычная психологическая характеристика стихотворного размера. В недавно вышедшей книге Григорьева указывается на то, что при помощи ритмической кривой, которую Андрей Белый записывает для отдельных стихотворений, можно выяснить искренность переживания поэта. Он же дает следующее психологическое описание хорея: «Замечено, что хорей… служит для выражения бодрых, плясовых настроений (“Мчатся тучи, вьются тучи”). Если при этом какой-нибудь поэт воспользуется хореем для выражения каких-нибудь элегических настроений, то ясно, что эти элегические настроения 33 не искренни, надуманны, а самая попытка использовать хорей для элегии так же нелепа, как нелепо, по остроумному сравнению поэта И. Рукавишникова, лепить негра из белого мрамора» (41, с. 38).
Стоит только припомнить названное автором пушкинское стихотворение или хотя бы одну его строчку — «визгом жалобным и воем надрывая сердце мне», — чтобы убедиться, что «бодрого и плясового» настроения, которое автор приписывает хорею, здесь нет и следа. Напротив того, есть совершенно явная попытка использовать хорей в лирическом стихотворении, посвященном тяжелому и безысходному мрачному чувству. Такую попытку наш автор называет нелепой, как нелепо лепить негра из белого мрамора. Однако плох был бы тот скульптор, который стал бы окрашивать статую в черный цвет, если она должна изображать негра, как плоха та психология, которая наугад, вопреки очевидности зачисляет хорей в разряд бодрых и плясовых настроений.
В скульптуре негр может быть белым, как в лирике мрачное чувство может выражаться хореем. Но совершенно верно, что и тот и другой факт нуждаются в особом объяснении и это объяснение может дать только психология искусства.
В pendant к этому стоит привести и другую аналогичную характеристику метра, данную профессором Ермаковым: «В стихотворении “Зимняя дорога”… поэт, пользуясь размером грустным, ямбическим в повышенном по своему содержанию произведении, создает внутренний разлад, щемящую тоску…» (49, с. 190). На этот раз опровергнуть психологическое построение автора можно просто фактической ссылкой на то, что стихотворение «Зимняя дорога» написано чистым четырехстопным хореем, а вовсе не «грустным ямбическим размером». Таким образом, те психологи, которые пытаются понять грусть Пушкина из его ямба, а бодрое настроение из его хорея, заблудились в этих ямбах и хореях как в трех соснах и не учли того давно установленного наукой и формулированного Гершензоном факта, что «для Пушкина размер стиха, по-видимому, безразличен; тем же размером он описывает и расставание с любимой женщиной (“Для берегов отчизны дальней”), и охоту кота за мышью (в “Графе Нулине”), встречу ангела с демоном — и пленного чижика…» (34, с. 17).
34 Без специального психологического исследования мы никогда не поймем, какие законы управляют чувствами в художественном произведении, и рискуем всякий раз впасть в самые грубые ошибки. При этом замечательно то, что и социологические исследования искусства не в состоянии до конца объяснить нам самый механизм действия художественного произведения. Очень много выясняет здесь «начало антитезы», которое, вслед за Дарвином, Плеханов привлекает для объяснения многих явлений в искусстве (87, с. 37 – 59). Все это говорит о той колоссальной сложности испытываемых искусством влияний, которые никак нельзя сводить к простой и однозначной форме отражения. В сущности говоря, это тот же вопрос сложного влияния надстройки, который ставит Маркс, когда говорит, что «определенные периоды его расцвета [искусства. — Л. В.] отнюдь не находятся в соответствии с общим развитием общества», что «в области самого искусства известные значительные формы его возможны только на низкой ступени развития искусств… Однако трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос связаны с известными формами общественного развития. Трудность состоит в том, что они еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном отношении служить нормой и недосягаемым образцом» (1, с. 736 – 737).
Вот совершенно точная постановка психологической проблемы искусства. Не происхождение в зависимости от хозяйства надо выяснить, а смысл действия и значения того обаяния, которое «не находится в противоречии с той неразвитой общественной ступенью, на которой оно выросло» (1, с. 737 – 738). Таким образом, отношение между искусством и вызывающими его к жизни экономическими отношениями оказывается чрезвычайно сложным.
Это отнюдь не означает, что социальные условия не до конца или не в полной мере определяют собой характер и действие художественного произведения, но только они определяют его не непосредственно. Самые чувства, которые вызывает художественное произведение, суть чувства, социально обусловленные. Это прекрасно подтверждается на примере египетской живописи. Здесь форма (стилизация человеческой фигуры) совершенно явно несет функцию сообщения социального чувства, которое в 35 самом изображаемом предмете отсутствует и придается ему искусством. Обобщая эту мысль, можно сопоставить действие искусства с действием науки и техники. И опять вопрос для психологической эстетики решается по тому же самому образцу, что и для эстетики социологической. Мы готовы повторить вслед за Гаузенштейном, всегда заменяя слово «социология» словом «психология», его утверждение: «Чисто научная социология искусства является математической фикцией» (32, с. 28). «Так как искусство есть форма, то и социология искусства, в конце концов, только тогда заслуживает этого названия, когда она является социологией формы. Социология содержания возможна и нужна, но она не является социологией искусства в собственном смысле слова, так как социология искусства, в точном понимании, может быть только социологией формы. Социология же содержания есть, в сущности, общая социология и относится скорее к гражданской, чем к эстетической истории общества. Тот, кто рассматривает революционную картину Делакруа с точки зрения социологии содержания, занимается, в сущности, историей июльской революции, а не социологией формального элемента, обозначаемого великим именем Делакруа» (32, с. 27), для того предмет его изучения не является предметом психологии искусства, но общей психологией. «Социология стиля ни в коем случае не может быть социологией художественного материала… для социологии стиля дело идет… о влиянии на форму» (31, с. 12).
Вопрос, следовательно, заключается в том, можно ли установить какие-либо психологические законы воздействия искусства на человека или это оказывается невозможным. Крайний идеализм склонен отрицать всякую закономерность в искусстве и в психологической жизни. «И теперь, как и прежде, и потом, как и теперь, душа остается и останется вовеки непостижимой… Законы для души не писаны, а потому не писаны и для искусства» (6, с. VII – VIII). Если же мы допустим закономерность в нашей психологической жизни, мы непременно должны будем ее привлечь для объяснения действия искусства, потому что это действие совершается всегда в связи со всеми остальными формами нашей деятельности.
Поэтому эстопсихологический метод Геннекена заключал в себе ту верную мысль, что только социальная психология может дать верную опорную точку и направление 36 исследователю искусства. Однако этот метод застрял вне очерченной им с достаточной ясностью промежуточной области между социологией и психологией. Таким образом, психология искусства требует, прежде всего, совершенно ясного и отчетливого сознания сущности психологической проблемы искусства и ее границ. Мы совершенно согласны с Кюльпе, который показывает, что, в сущности, никакая эстетика не избегает психологии: «Если это отношение к психологии иногда оспаривается, то это вытекает, по-видимому, лишь из внутренне несущественного разногласия: одни усматривают специальные задачи эстетики в пользовании своеобразной точкой зрения при рассмотрении психических явлений, другие — в изучении своеобразной области фактов, исследуемых вообще чисто психологически. В первом случае мы получаем эстетику психологических фактов, во втором — психологию эстетических фактов» (64, с. 98 – 99).
Однако задача заключается в том, чтобы совершенно точно отграничить психологическую проблему искусства от социологической. На основании всех прежних рассуждений мне думается, что это правильнее всего сделать, пользуясь психологией отдельного человека. Совершенно ясно, что общераспространенная формула о том, что переживания отдельного человека не могут служить материалом для социальной психологии, здесь неприменима. Неверно то, что психология переживания искусства отдельным человеком столь же мало обусловлена социально, как минерал или химическое соединение; и столь же очевидно, что генезис искусства и его зависимость от социального хозяйства будет изучать специально история искусства. Искусство как таковое — как определившееся направление, как сумма готовых произведений — есть такая же идеология, как и всякая другая.
Вопросом быть или не быть для объективной психологии является вопрос метода. До сих пор психологическое исследование искусства всегда производилось в одном из двух направлений: либо изучалась психология творца, создателя по тому, как она выразилась в том или ином произведении, либо изучалось переживание зрителя, читателя, воспринимающего это произведение. Несовершенство и бесплодность обоих этих методов достаточно очевидны. Если принять во внимание необычайную сложность творческих процессов и полное отсутствие всякого 37 представления о законах, руководящих выражением психики творца в его произведении, станет совершенно ясна невозможность восходить от произведения к психологии его создателя, если мы не хотим остаться навсегда только при догадках. К этому присоединяется еще то, что всякая идеология, как это показал Энгельс, совершается всегда с ложным сознанием или, в сущности, бессознательно. «Как об отдельном человеке нельзя судить на основании того, что сам он о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию. Наоборот, это сознание надо объяснить из противоречий материальной жизни», — говорит Маркс (2, с. 7). И Энгельс пояснил это в одном из писем так: «Идеология — это процесс, который совершает так называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием ложным. Истинные побудительные силы, которые приводят его в движение, остаются ему неизвестными, в противном случае это не было бы идеологическим процессом. Он создает себе, следовательно, представления о ложных или кажущихся побудительных силах» (4, с. 228).
Равным образом бесплодным оказывается и анализ переживаний зрителя, поскольку он скрыт тоже в бессознательной сфере психики. Поэтому, мне думается, следует предложить другой метод для психологии искусства, который нуждается в известном методологическом обосновании. Против него очень легко возразить то, что обычно возражали против изучения бессознательного психологией: указывали, что бессознательное, по самому смыслу этого слова, есть нечто несознаваемое нами и нам неизвестное, а потому не может быть предметом научного изучения. При этом исходили из ложной предпосылки, что «мы можем изучать только то (и вообще можем знать только о том), что мы непосредственно сознаем». Однако предпосылка эта неосновательна, так как мы знаем и изучаем многое такое, чего мы непосредственно не сознаем, о чем знаем только при помощи аналогии, построений, гипотез, выводов, умозаключений и т. д. — вообще лишь косвенным путем. Так создаются, например, все картины прошлого, восстанавливаемые нами при помощи разнообразнейших выкладок и построений на основании материала, который нередко совершенно непохож на эти картины, «когда зоолог по кости вымершего животного определяет размеры этого животного, внешний вид, образ 38 его жизни, говорит нам, чем это животное питалось и т. д., — все это непосредственно зоологу не дано, им прямо не переживается как таковое, а составляет выводы на основании некоторых, непосредственно сознаваемых признаков костей и т. п.» (57, с. 199).
На основании этих рассуждений можно выдвинуть тот новый метод психологии искусства, который в классификации методов Мюллер-Фрейенфельса получил название «объективно аналитического метода»14 (154, S. 42 – 43). Надо попытаться за основу взять не автора и не зрителя, а самое произведение искусства. Правда, оно само по себе никак не является предметом психологии, и психика как таковая в нем не дана. Однако если мы припомним положение историка, который точно так же изучает, скажем, французскую революцию по материалам, в которых самые объекты его изучения не даны и не заключены, или геолога, — мы увидим, что целый ряд наук стоит перед необходимостью раньше воссоздать предмет своего изучения при помощи косвенных, то есть аналитических, методов. Разыскание истины в этих науках напоминает очень часто процесс установления истины в судебном разбирательстве какого-либо преступления, когда само преступление отошло уже в прошлое и в распоряжении судьи имеются только косвенные доказательства: следы, улики, свидетельства. Плох был бы тот судья, который стал бы выносить приговор на основании рассказа обвиняемого или потерпевшего, то есть лица заведомо пристрастного и по самому существу дела извращающего истину. Так точно поступает психология, когда она обращается к показаниям читателя или зрителя. Но отсюда вовсе не следует, что судья должен вовсе отказаться выслушать заинтересованные стороны, раз он их заранее лишает доверия. Так точно и психолог никогда не откажется воспользоваться тем или иным материалом, хотя он заранее может быть признан ложным. Только сопоставляя целый ряд ложных положений, проверяя их объективными уликами, вещественными доказательствами и т. п., судья устанавливает истину. И историку почти всегда приходится пользоваться заведомо ложными и пристрастными материалами, и, совершенно подобно тому, как историк и геолог прежде воссоздают предмет своего изучения и только после подвергают его исследованию, психолог вынужден обращаться чаще всего именно к вещественным 39 доказательствам, к самим произведениям искусства и по ним воссоздавать соответствующую им психологию, чтобы иметь возможность исследовать ее и управляющие ею законы. При этом всякое произведение искусства естественно рассматривается психологом как система раздражителей, сознательно и преднамеренно организованных с таким расчетом, чтобы вызвать эстетическую реакцию. При этом, анализируя структуру раздражителей, мы воссоздаем структуру реакции. Простейший пример может пояснить это. Мы изучаем ритмическое строение какого-нибудь словесного отрывка, мы имеем все время дело с фактами не психологическими, однако, анализируя этот ритмический строй речи как разнообразно направленный на то, чтобы вызвать соответственно функциональную реакцию, мы через этот анализ, исходя из вполне объективных данных, воссоздаем некоторые черты эстетической реакции. При этом совершенно ясно, что воссоздаваемая таким путем эстетическая реакция будет совершенно безличной, то есть она не будет принадлежать никакому отдельному человеку и не будет отражать никакого индивидуального психического процесса во всей его конкретности, но это только ее достоинство. Это обстоятельство помогает нам установить природу эстетической реакции в ее чистом виде, не смешивая ее со всеми случайными процессами, которыми она обрастает в индивидуальной психике.
Этот метод гарантирует нам и достаточную объективность получаемых результатов и всей системы исследования, потому что он исходит всякий раз из изучения твердых, объективно существующих и учитываемых фактов. Общее направление этого метода можно выразить следующей формулой: от формы художественного произведения через функциональный анализ ее элементов и структуры к воссозданию эстетической реакции и к установлению ее общих законов.
В зависимости от нового метода задачи и план настоящей работы должны быть определены как попытка сколько-нибудь обстоятельно и планомерно осуществить этот метод на деле. Совершенно понятно, что это обстоятельство не позволяло задаваться какими-либо систематическими целями. В области методологии, критики самого исследования, теоретического обобщения результатов и прикладного их значения — везде пришлось отказаться 40 от задачи фундаментального и систематического пересмотра всего материала, что могло бы составить предмет многих и многих исследований.
Везде приходилось выдвигать задачу намечения путей для решения самых основных и простейших вопросов, для испытания метода. Поэтому мною вынесены некоторые отдельные исследования басни, новеллы, трагедии вперед для того, чтобы с исчерпывающей ясностью показать приемы и характер применяемых мною методов.
Если бы в результате этого исследования составился самый общий и ориентировочный очерк психологии искусства — этим была бы выполнена стоящая перед автором задача.
41 Критика
Глава II
Искусство как познание
Принципы критики. Искусство как познание. Интеллектуализм этой формулы.
Критика теории образности. Практические результаты этой теории. Непонимание
психологии формы. Зависимость от ассоциативной и сенсуалистической психологии.
В психологии было выдвинуто чрезвычайно много различных теорий, из которых каждая по-своему разъясняла процессы художественного творчества или восприятия. Однако чрезвычайно немногие попытки были доведены до конца. Мы не имеем почти ни одной совершенно законченной и сколько-нибудь общепризнанной системы психологии искусства. Те авторы, которые пытаются свести воедино все наиболее ценное, созданное в этой области, как Мюллер-Фрейенфельс, по самому существу дела обречены на эклектическую сводку самых разных точек зрения и взглядов. Большей частью психологи отрывочно и фрагментарно разрабатывали только отдельные проблемы интересующей нас теории искусства, причем вели это исследование часто в совершенно разных и непересекающихся плоскостях, так что без какой-либо объединяющей идеи или методологического принципа было бы трудно подвергнуть систематической критике все, что психология сделала в этом направлении.
42 Предметом нашего рассмотрения могут служить только те психологические теории искусства, которые, во-первых, доведены до сколько-нибудь законченной систематической теории, а во-вторых, лежат в одной плоскости с предпринимаемым нами исследованием. Иначе говоря, нам придется критически столкнуться только с теми психологическими теориями, которые оперируют при помощи объективно аналитического метода, то есть в центр своего внимания ставят объективный анализ самого художественного произведения и, исходя из этого анализа, воссоздают соответствующую ему психологию. Те системы, которые построены на других методах и приемах исследования, оказываются в совершенно другой плоскости, и для того, чтобы проверить результаты нашего исследования при помощи прежде установленных фактов и законов, нам придется подождать самых конечных итогов нашего исследования, так как только крайние выводы могут быть сопоставлены с выводами других исследований, которые шли другим путем.
Благодаря этому очень ограничивается и суживается круг подлежащих критическому рассмотрению теорий и становится возможным свести их к трем основным типическим психологическим системам, из которых каждая объединяет вокруг себя множество отдельных частных исследований, несогласованных взглядов и т. п.
Остается еще прибавить, что самая критика, которую мы намерены развить ниже, по самому смыслу поставленной перед ней задачи должна исходить из чисто психологической состоятельности и достоверности каждой теории. Заслуги каждой из рассматриваемых теорий и ее специальной области, например в языкознании, теории литературы и т. п., остаются здесь вне учета.
Первая и наиболее распространенная формула, с которой приходится встретиться психологу, когда он подходит к искусству, определяет искусство как познание. Восходя к В. Гумбольдту, эта точка зрения была блестяще развита в трудах Потебни и его школы и послужила основным принципом в целом ряде его плодотворных исследований. Она же в несколько модифицированном виде подходит чрезвычайно близко к общераспространенному и из далекой древности идущему учению о том, что искусство есть познание мудрости и что поучение и наставление — одна из главных его задач. Основным 43 взглядом этой теории является аналогия между деятельностью и развитием языка и искусством. В каждом слове, как показала это психологическая система языкознания, мы различаем три основных элемента: во-первых, внешнюю звуковую форму, во-вторых, образ или внутреннюю форму и, в-третьих, значение. Внутренней формой называется при этом ближайшее этимологическое значение слова, при помощи которого оно приобретает возможность означать вкладываемое в него содержание. Во многих случаях эта внутренняя форма забылась и вытеснилась под влиянием все расширяющегося значения слова. Однако в другой части слов эту внутреннюю форму обнаружить чрезвычайно легко, а этимологическое исследование показывает, что даже в тех случаях, в которых сохранились только внешние формы и значение, внутренняя форма была и только забылась в процессе развития языка. Так, мышь когда-то обозначала — «вор»15, и только через внутреннюю форму эти звуки сумели сделаться обозначением мыши. В таких словах, как «молокосос», «чернила», «конка», «летчик» и т. п., эта внутренняя форма еще до сих пор ясна и совершенно ясен процесс постепенного вытеснения образа все расширяющимся содержанием слова, тот конфликт, который возникает между первоначальным, узким, и последующим, более широким, его применением. Когда мы говорим «паровая конка» или «красные чернила», мы ощущаем этот конфликт совершенно ясно. Чтобы понять значение внутренней формы, играющей самую существенную роль в аналогии с искусством, чрезвычайно полезно остановиться на таком явлении, как синонимы. Два синонима имеют разную звуковую форму при одном и том же содержании только благодаря тому, что внутренняя форма каждого из этих слов совершенно различна. Так, слова «луна» и «месяц» обозначают в русском языке одно и то же при помощи разных звуков, благодаря тому, что этимологически слово «луна» обозначает нечто капризное16, изменчивое, непостоянное, прихотливое (намек на лунные фазы), а слово «месяц» означает нечто служащее для измерения (намек на измерение времени по фазам).
Таким образом, разница между обоими этими словами оказывается чисто психологической. Они приводят к одному и тому же результату, но при помощи разных процессов мысли. Так точно мы при помощи двух разных 44 намеков догадываемся об одной и той же вещи, но путь догадки будет всякий раз отличным. Потебня формулирует это, когда говорит: «Внутренняя форма каждого из этих слов иначе направляет мысль…» (93, с. 146).
Те же самые три элемента, которые мы различаем в слове, эти психологи находят и в каждом произведении искусства, утверждая, следовательно, что и психологические процессы восприятия и творчества художественного произведения совпадают с такими же процессами при восприятии и творчестве отдельного слова. «Те же стихии, — говорит Потебня, — и в произведении искусства, и не трудно будет найти их, если будем рассуждать таким образом: “Это — мраморная статуя (внешняя форма) женщины с мечом и весами (внутренняя форма), представляющая правосудие (содержание)”. Окажется, что в произведении искусства образ относится к содержанию, как в слове представление к чувственному образу или понятию17. Вместо “содержание” художественного произведения можем употребить более обыкновенное выражение, именно “идея”» (93, с. 146).
Таким образом, механизм психологических процессов, соответствующих произведению искусства, намечается из этой аналогии, причем устанавливается, что символичность или образность слова равняется его поэтичности, то есть основой художественного переживания становится образность, а общим его характером — обычные свойства интеллектуального и познавательного процесса. Ребенок, впервые увидевший стеклянный шар, назвал его арбузиком, объясняя новое и неизвестное для него впечатление шара при помощи прежнего и известного представления об арбузе. Прежнее представление «арбузик» помогло ребенку апперципировать и новое. «Шекспир создал образ Отелло, — говорит Овсянико-Куликовский, — для апперцепции идеи ревности, подобно тому, как ребенок вспомнил и сказал: “арбузик” для апперцепции шара… “Стеклянный шар — да это арбузик”, — сказал ребенок. “Ревность — да это Отелло”, — сказал Шекспир. Ребенок — худо ли, хорошо ли — объяснил самому себе шар. Шекспир отлично объяснил ревность сначала самому себе, а потом уже — всему человечеству» (80, с. 18 – 20).
Таким образом, оказывается, что поэзия или искусство есть особый способ мышления18, который, в конце концов, приводит к тому же самому, к чему приводит и научное 45 познание (объяснение ревности у Шекспира), но только другим путем. Искусство отличается от науки только своим методом, то есть способом переживания, то есть психологически. «Поэзия, как и проза, — говорит Потебня, — есть, прежде всего и главным образом, “известный способ мышления и познания…”» (91, с. 97). «Без образа нет искусства, в частности поэзии» (91, с. 83).
Чтобы до конца формулировать взгляд этой теории на процесс художественного понимания, следует указать, что всякое художественное произведение с этой точки зрения может применяться в качестве сказуемого к новым, непознанным явлениям или идеям и апперципировать их, подобно тому как образ в слове помогает апперципировать новое значение. То, чего мы не в состоянии понять прямо, мы можем понять окольным путем, путем иносказания, и все психологическое действие художественного произведения без остатка может быть сведено на эту окольность пути.
«В современном русском слове “мышь”, — говорит Овсянико-Куликовский, — мысль идет к цели, то есть к обозначению понятия, прямым путем и делает один шаг; в санскритском “муш” она шла как бы окольным путем, сперва в направлении к значению “вор”, а оттуда уже к значению “мышь”, и, таким образом, делала два шага. Это движение сравнительно с первым, прямолинейным, представляется более ритмическим… В психологии языка, то есть в мышлении фактическом, реальном (а не формально логическом), вся суть не в том, что сказано, что подумано, а в том, как сказано, как подумано, каким образом представлено известное содержание» (80, с. 26, 28).
Таким образом, совершенно ясно, что мы имеем дело здесь с чисто интеллектуальной теорией. Искусство требует только работы ума, работы мысли, все остальное есть случайное и побочное явление в психологии искусства. «Искусство есть известная работа мысли» (80, с. 63), — формулирует Овсянико-Куликовский. То же обстоятельство, что искусство сопровождается известным и очень важным волнением, как в процессе творчества, так и в процессе восприятия, объясняется этими авторами как явление случайное и не заложенное в самом процессе. Оно возникает как награда за труд, потому что образ, необходимый для понимания известной идеи, сказуемое к этой идее «дано мне заранее художником, оно было 46 даровое» (8, с. 36). И вот это даровое ощущение относительной легкости, паразитического удовольствия от бесплатного использования чужого труда и есть источник художественного наслаждения. Грубо говоря, Шекспир потрудился за нас, отыскивая к идее ревности соответствующий ей образ Отелло. Все наслаждение, которое мы испытываем, читая Отелло, без остатка сводится к приятному пользованию чужим трудом и к даровому употреблению чужого творческого труда. Чрезвычайно интересно отметить, что этот односторонний интеллектуализм системы совершенно открыто признают и все виднейшие представители этой школы. Так, Горнфельд прямо говорит, что определение искусства как познания «захватывает одну лишь сторону художественного процесса» (35, с. 9). Он же указывает на то, что при таком понимании психологии искусства стирается грань между процессом научного и художественного познания, что в этом отношении «великие научные истины сходны с художественными образами» и что, следовательно, «данное определение поэзии нуждается в более тонкой differentia specifica, найти которую не так легко» (35, с. 8).
Чрезвычайно интересно отметить, что в этом отношении указанная теория идет вразрез со всей психологической традицией в этом вопросе. Обычно исследователи исключали почти вовсе интеллектуальные процессы из сферы эстетического анализа. «Многие теоретики так односторонне подчеркивали, что искусство — дело восприятия, или фантазии, или чувства, искусство противопоставляли так резко науке, как области познания, что может показаться почти несовместимым с теорией искусства утверждением, если мы скажем, что и мыслительные акты составляют часть художественного наслаждения» (153, S. 180).
Так оправдывается один из авторов, включая в анализ эстетического наслаждения мыслительные процессы. Здесь же мысль поставлена во главу угла при объяснении явлений искусства.
Этот односторонний интеллектуализм обнаружился чрезвычайно скоро, и уже второму поколению исследователей пришлось внести чрезвычайно существенные поправки в теорию их учителя, поправки, которые, строго говоря, с психологической точки зрения сводят на нет это утверждение. Не кто иной, как Овсянико-Куликовский, 47 вынужден был выступить с учением о том, что лирика представляет собой совершенно особый вид творчества (см. 79), который обнаруживает «принципиальное психологическое различие» с эпосом. Оказывается, что сущность лирического искусства никак не может быть сведена к процессам познания, к работе мысли, но что определяющую роль в лирическом переживании играет эмоция, эмоция, которая может быть совершенно точно отделена от побочных эмоций, возникающих в процессе научного философского творчества. «Во всяком человеческом творчестве есть свои эмоции. При анализе психологии, например, математического творчества найдется непременно особая “математическая эмоция”. Однако ни математик, ни философ, ни естествоиспытатель не согласятся с тем, чтобы их задача сводилась к созданию специфических эмоций, связанных с их специальностью. Ни науку, ни философию мы не назовем деятельностями эмоциональными… Огромную роль играют эмоции в творчестве художественном — образном. Они вызываются здесь самим содержанием и могут быть какие угодно: эмоциями скорби, грусти, жалости, негодования, соболезнования, умиления, ужаса и т. д. и т. д., — только они сами по себе не являются лирическими. Но к ним может примешиваться лирическая эмоция — со стороны, именно со стороны формы, если данное художественное произведение облечено в ритмическую форму, например, в стихотворную или такую прозаическую, в которой соблюден ритмический каданс речи. Вот сцена прощания Гектора с Андромахой. Вы можете испытать, читая ее, сильную эмоцию и прослезиться. Без всякого сомнения, эта эмоция, поскольку она вызвана трогательностью самой сцены, не заключает в себе ничего лирического. Но к этой эмоции, вызванной содержанием, присоединяется ритмическое воздействие плавных гекзаметров, и вы, в придачу, испытываете еще и легкую лирическую эмоцию. Эта последняя была гораздо сильнее в те времена, когда гомеровские поэмы не были книгою для чтения, когда слепые рапсоды пели эти песни, сопровождая пение игрою на кифаре. К ритму стиха присоединялся ритм пения и музыки. Лирический элемент усугублялся, усиливался, а может быть, иной раз и заслонял эмоцию, вызывавшуюся содержанием. Если хотите получить эту эмоцию в ее чистом виде, без всякой примеси лирической 48 эмоции, — переложите сцену в прозу, лишенную ритмического каданса, представьте себе, например, прощание Гектора с Андромахой, рассказанное Писемским. Вы переживете подлинную эмоцию сочувствия, сострадания, жалости и даже прольете слезу — но ничего по существу лирического тут не будет» (79, с. 173 – 175).
Таким образом, целая громадная область искусства — вся музыка, архитектура, поэзия — оказывается совершенно исключенной из теории, объясняющей искусство как работу мысли. Приходится выделить эти искусства не только в особый подвид внутри самих же искусств, но даже в особый совершенно вид творчества, столь же чуждый образным искусствам, как и научному и философскому творчеству, и стоящий к ним в том же отношении. Однако оказывается, что крайне трудно провести границу между лирическим и между нелирическим внутри самого искусства. Иначе говоря, если признать, что лирические искусства требуют не работы мысли, а чего-то другого, приходится признать вслед за этим, что и во всяком другом искусстве есть громадные области, которые никак не могут быть сведены к работе мысли. Например, оказывается, что такие вещи, как «Фауст» Гете, «Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери» Пушкина, мы должны будем отнести к синкретическому, или смешанному, искусству, полуобразному, полулирическому, и над ними не всегда можно сделать такую операцию, как со сценой прощания Гектора. По учению самого же Овсянико-Куликовского нет никакой принципиальной разницы между прозой и стихом, между речью размеренной и неразмеренной, и, следовательно, нельзя указать во внешней форме признака, который позволил бы отличить образное искусство от лирического. «Стих — это только педантическая проза, в которой соблюдено однообразие размера, а проза — это вольный стих, в котором ямбы, хореи и т. д. чередуются свободно и произвольно, что отнюдь не мешает иной прозе (например, тургеневской) быть гармоничнее иных стихов» (80, с. 55).
Далее мы видели, что в сцене прощания Гектора с Андромахой наши эмоции протекают как бы в двух планах: с одной стороны, эмоции, вызванные содержанием, те, которые остались бы и в том случае, если бы эту сцену переложил Писемский, и — другие, вызванные гекзаметрами, которые у Писемского пропали бы невозвратно. 49 Спрашивается, есть ли хоть одно произведение искусства, в котором этих добавочных эмоций формы не было бы? Иначе говоря, можно ли представить себе такое произведение, которое, будучи пересказано Писемским так, что от него сохранится только содержание и совершенно исчезнет всякая форма, тем не менее, ничего не потеряет в этом. Напротив того, анализ и повседневное наблюдение убеждают нас, что в образном произведении нерасторжимость формы совершенно совпадает с нерасторжимостью формы в любом лирическом стихотворении. Овсянико-Куликовский относит к чисто эпическим произведениям, например, «Анну Каренину» Толстого. Но вот что писал сам Толстой о своем романе и, в частности, о его формальной стороне: «Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен бы был написать роман тот самый, который я написал, сначала… И если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю и смело могу уверить qu’ils en savent plus long que mol9*. И если близорукие критики думают, что я хотел описывать только то, что мне нравится, как обедает Облонский и какие плечи у Карениной, то они ошибаются. Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя; а можно только посредственно — словами описывая образы, действия, положения» (108, с. 268 – 269).
Здесь совершенно ясно Толстой указывает на служебность мысли в художественном произведении и на совершенную невозможность той операции для «Анны Карениной», которую Овсянико-Куликовский применяет к сцене прощания Гектора с Андромахой. Казалось бы, что, переложив «Анну Каренину» своими словами или словами Писемского, мы сохраним все ее интеллектуальные достоинства, лирической же добавочной эмоции ей не полагается, так как она написана не плавными гекзаметрами 50 и в результате она не должна ничего потерять от такой операции. Между тем оказывается, что нарушить сцепление мыслей и сцепление слов в этом романе, то есть разрушить его форму, значит так же убить самый роман, как переложить лирическое стихотворение по Писемскому. И другие произведения, называемые Овсянико-Куликовским, как «Капитанская дочка», «Война и мир», вероятно, не выдержали бы такой операции. Надо сказать, что в этом разрушении формы — действительном или воображаемом — и заключается основная операция психологического анализа. И отличие действия самого точного пересказа от самого произведения служит исходной точкой для анализа особой эмоции формы. В интеллектуализме этой системы как нельзя ярче сказалось совершенное непонимание психологии формы художественного произведения. Ни Потебня, ни его ученики ни разу не показали, чем объясняется совершенно особое и специфическое действие художественной формы. Вот что говорит по этому поводу Потебня: «Каково бы ни было, в частности, решение вопроса, почему поэтическому мышлению более (в его менее сложных формах), чем прозаическому, сродна музыкальность звуковой формы, то есть темп, размер, созвучие, сочетание с мелодией; оно не может подорвать верности положений, что поэтическое мышление может обходиться без размера и пр., как, наоборот, прозаическое может быть искусственно, хотя и не без вреда, облечено в стихотворную форму» (91, с. 97). Что стихотворный размер не обязателен для поэтического произведения, это совершенно очевидно, как очевидно и то, что изложенное в стихах математическое правило или грамматическое исключение не составят еще предмет поэзии. Но это поэтическое мышление может быть совершенно независимо от всякой внешней формы, что именно и утверждает в приведенных строках Потебня, — это есть основное противоречие с первой аксиомой психологии художественной формы, утверждающей, что только в данной своей форме художественное произведение оказывает свое психологическое воздействие. Интеллектуальные процессы оказываются только частичными и составными, служебными и вспомогательными в том сцеплении мыслей и слов, которое и есть художественная форма. Самое же это сцепление, то есть самая форма, как говорит Толстой, составлена не мыслью, а чем-то другим. Иначе 51 говоря, если в психологию искусства и входит мысль, то вся она в целом не есть все же работа мысли. Эту необычную психологическую силу художественной формы совершенно точно отметил Толстой, когда указывал на то, что нарушение этой формы в ее бесконечно малых элементах немедленно ведет к уничтожению художественного эффекта. «Я уже приводил где-то, — говорит Толстой, — глубокое изречение русского живописца Брюллова об искусстве, но не могу не привести его еще раз, потому что оно лучше всего показывает, чему можно и чему нельзя учить в школах. Поправляя этюд ученика, Брюллов в нескольких местах чуть тронул его, и плохой, мертвый этюд вдруг ожил. “Вот, чуть-чуть тронули, и все изменилось”, — сказал один из учеников. “Искусство начинается там, где начинается чуть-чуть”, — сказал Брюллов, выразив этими словами самую характерную черту искусства. Замечание это верно для всех искусств, но справедливость его особенно заметна на исполнении музыки… Возьмем три главных условия — высоту, время и силу звука. Музыкальное исполнение только тогда есть искусство и тогда заражает, когда звук будет ни выше, ни ниже того, который должен быть, то есть будет взята та бесконечно малая середина той ноты, которая требуется, и когда протянута будет эта нота ровно столько, сколько нужно, и когда сила звука будет ни сильнее, ни слабее того, что нужно. Малейшее отступление в высоте звука в ту или другую сторону, малейшее увеличение или уменьшение времени и малейшее усиление или ослабление звука против того, что требуется, уничтожает совершенство исполнения и вследствие того заразительность произведения. Так что то заражение искусством музыки, которое, кажется, так просто и легко вызывается, мы получаем только тогда, когда исполняющий находит те бесконечно малые моменты, которые требуются для совершенства музыки. То же самое и во всех искусствах: чуть-чуть светлее, чуть-чуть темнее, чуть-чуть выше, ниже, правее, левее — в живописи; чуть-чуть ослаблена или усилена интонация — в драматическом искусстве, или сделана чуть-чуть раньше, чуть-чуть позже; чуть-чуть недосказано, пересказано, преувеличено — в поэзии, и нет заражения. Заражение только тогда достигается и в той мере, в какой художник находит те бесконечно малые моменты, из которых складывается произведение искусства. И научить 52 внешним образом нахождению этих бесконечно малых моментов нет никакой возможности: они находятся только тогда, когда человек отдается чувству. Никакое обучение не может сделать того, чтобы пляшущий попадал в самый такт музыки и поющий или скрипач брал самую бесконечно малую середину ноты и чтобы рисовальщик проводил единственную из всех возможных нужную линию и поэт находил единственно нужное размещение единственно нужных слов. Все это находит только чувство» (106, с. 127 – 128).
Совершенно ясно, что различие между гениальным дирижером и посредственным при исполнении одной и той же музыкальной вещи, различие между гениальным художником и совершенно точным копиистом его картины всецело сводится на эти бесконечно малые элементы искусства, которые принадлежат к соотношению составляющих его частей, то есть к элементам формальным, Искусство начинается там, где начинается чуть-чуть, — это все равно, что сказать, что искусство начинается там, где начинается форма.
Таким образом, поскольку форма присуща всякому решительно художественному произведению, будь то лирическое или образное, особая эмоция формы есть необходимое условие художественного выражения, и поэтому падает самое различение Овсянико-Куликовского, который считает, что в одних искусствах эстетическое наслаждение «возникает скорее как результат процесса, как своего рода награда — за творчество — для художника, за понимание и повторение чужого творчества для всякого, кто воспринимает художественное произведение. Другое дело — архитектура, лирика и музыка, где эти эмоции не только имеют значение “результата” или “награды”, но, прежде всего, выступают в роли основного душевного момента, в котором сосредоточен весь центр тяжести произведения. Эти искусства могут быть названы эмоциональными — в отличие от других, которые назовем интеллектуальными или “образными”… В последних душевный процесс подводится под формулу: от образа к идее и от идеи к эмоции. В первых его формула иная: от эмоции, производимой внешней формою, к другой, усугубленной эмоции, которая возгорается в силу того, что внешняя форма стала для субъекта символом идеи» (80, с. 70 – 71).
53 Обе эти формулы совершенно неверны. Правильней было бы сказать, что душевный процесс при восприятии и образного и лирического искусства подводится под формулу: от эмоции формы к чему-то следующему за ней. Во всяком случае, начальный и отправной момент, без которого понимание искусства не осуществляется вовсе, есть эмоция формы. Это наглядным образом подтверждается той самой психологической операцией, которую автор проделал над Гойером, а эта операция, в свою очередь, совершенно опровергает утверждение, что искусство есть работа мысли. Эмоция искусства никак не может быть сведена к эмоциям, сопровождающим «всякий акт предицирования и в особенности акт грамматического предицирования. Дан ответ на вопрос, найдено сказуемое, — субъект ощущает род умственного удовлетворения. Найдена идея, создан образ, — и субъект чувствует своеобразную интеллектуальную радость» (79, с. 199).
Этим, как уже было показано выше, совершенно стирается всякая психологическая разница между интеллектуальной радостью от решения математической задачи и от прослушанного концерта. Совершенно прав Горнфельд, когда говорит, что «в этой насквозь познавательной теории обойдены эмоциональные элементы искусства, и в этом — пробел теории Потебни, пробел, который он чувствовал и, верно, заполнил бы, если бы продолжал свою работу» (35, с. 63).
Что сделал бы Потебня, если бы продолжал свою работу, мы не знаем, но к чему пришла его система, последовательно разрабатываемая его учениками, мы знаем: она должна была исключить из формулы Потебни едва ли не большую половину искусства и должна была стать в противоречие с очевиднейшими фактами, когда захотела сохранить влияние этой формулы для другой половины.
Для нас совершенно очевидно, что те интеллектуальные операции, те мыслительные процессы, которые возникают у каждого из нас при помощи и по поводу художественного произведения, не принадлежат к психологии искусства в тесном смысле этого слова. Это есть как бы результат, следствие, вывод, последействие художественного произведения, которое может осуществиться не иначе, как в результате его основного действия. И та теория, которая начинает с этого последействия, поступает, 54 по остроумному выражению Шкловского, так, как всадник, собирающийся вскочить на лошадь, когда перепрыгивает через нее. Эта теория бьет мимо цели и не дает разъяснения психологии искусства как таковой. Что это действительно так, мы можем убедиться из следующих чрезвычайно простых примеров. Так, Валерий Брюсов, принимая эту точку зрения, утверждал, что всякое художественное произведение приводит особенным методом к тем же самым познавательным результатам, к которым приводит и ход научного доказательства. Например, то, что переживаем мы, читая пушкинское стихотворение «Пророк», можно доказать и методами науки. «Пушкин доказывает ту же мысль методами поэзии, то есть, синтезируя представления. Так как вывод ложен, то должны быть ошибки и в доказательствах. И действительно: мы не можем принять образ серафима, не можем примириться с заменой сердца углем и т. д. При всех высоких художественных достоинствах стихотворения Пушкина… оно может быть нами воспринимаемо только при условии, если мы станем на точку зрения поэта. “Пророк” Пушкина уже только исторический факт, подобно, например, учению о неделимости атома» (22, с. 19 – 20). Здесь интеллектуальная теория доведена до абсурда, и потому ее психологические несуразности особенно очевидны. Выходит так, что если художественное произведение идет вразрез с научной истиной, оно сохраняет для нас такое же значение, как и учение о неделимости атома, то есть оставленная и неверная научная теория. Но в таком случае 0,99 в мировом искусстве оказалось бы выброшенным за борт и принадлежащим только истории.
Если Пушкин одно из великолепных своих стихотворений начинает словами:
Земля недвижна: неба своды,
Творец, поддержаны тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой, —
в то время, как каждый школьник первой ступени знает, что земля не недвижна, а вращается, — выходит, что эти стихи не могут иметь никакого серьезного смысла для культурного человека. Зачем же тогда поэты обращаются к явно неверным и ложным идеям? В полном несогласии с этим, Маркс указывает как на важнейшую проблему искусства на разъяснение того, почему греческий 55 эпос и трагедии Шекспира, возникшие в давно ушедшую в прошлое эпоху, сохраняют до сих пор значение нормы и недосягаемого образца, несмотря на то, что та почва идей и отношений, на которых они выросли, давно уж для нас не существует более. Только на почве греческой мифологии могло возникнуть греческое искусство, однако оно продолжает волновать нас, хотя эта мифология утратила для нас всякое реальное значение, кроме исторического. Лучшим доказательством того, что эта теория оперирует, по существу, с внеэстетическим моментом искусства, является судьба русского символизма, который в своих теоретических предпосылках всецело совпадает с рассматриваемой теорией.
Выводы, к которым пришли сами символисты, прекрасно сконцентрированы Вячеславом Ивановым в его формуле, гласящей: «Символизм лежит вне эстетических категорий» (55, с. 154). Так же точно вне эстетических категорий и вне психологических переживаний искусства как такового лежат исследуемые этой теорией мыслительные процессы. Вместо того чтобы объяснить нам психологию искусства, они сами нуждаются в объяснении, которое может быть дано только на почве научно разработанной психологии искусства.
Но легче всего судить всякую теорию по тем крайним выводам, которые упираются уже в совершенно другую область и позволяют проверить найденные законы на материале фактов совершенно другой категории. Интересно проследить такие выводы, упирающиеся в область истории идеологий, критикуемой нами теории. С первого взгляда она как будто бы как нельзя лучше согласуется с теорией постоянной изменчивости общественной идеологии в зависимости от изменения производственных отношений. Она как будто совершенно ясно показывает, как и почему меняется психологическое впечатление от одного и того же произведения искусства, несмотря на то, что форма этого произведения остается одной и той же. Раз все дело не в том содержании, которое вложил в произведение автор, а в том, которое привносит от себя читатель, то совершенно ясно, что содержание этого художественного произведения является зависимой и переменной величиной, функцией от психики общественного человека и изменяется вместе с последней. «Заслуга художника не в том minimum содержания, какое думалось 56 ему при создании, а в известной гибкости образа, в силе внутренней формы возбуждать самое разнообразное содержание. Скромная загадка: “Одно каже "свитай боже", друге каже "не дай боже", третье каже "менi все одно"” (окно, двери и сволок) — может вызвать мысль об отношениях разных слоев народа к расцвету политической, нравственной, научной идеи, и такое толкование будет ложно только в том случае, когда мы выдадим его за объективное значение загадки, а не за наше личное состояние, возбужденное загадкой. В незамысловатом рассказе, как бедняк хотел было набрать воды из Савы, чтобы развести глоток молока, который был у него в чашке, как волна без следа унесла из сосуда его молоко и как он сказал: “Саво, Саво! Себе не забиjели, а мене зацрни” (то есть опечалила). В этом рассказе может кому-нибудь почудиться неумолимое, стихийно-разрушительное действие потока мировых событий, несчастье отдельных лиц, вопль, который вырывается из груди невозвратными и, с личной точки, незаслуженными потерями. Легко ошибиться, навязав народу то или другое понимание, но очевидно, что подобные рассказы живут по целым столетиям не ради своего буквального смысла, а ради того, который в них может быть вложен. Этим объясняется, почему создания темных людей и веков могут сохранять свое художественное значение во времена высокого развития, и вместе почему, несмотря на мнимую вечность искусства, настает пора, когда с увеличением затруднений при понимании, забвением внутренней формы, произведения искусства теряют свою цену» (93, с. 153 – 154).
Таким образом, как будто бы объяснена историческая изменчивость искусства. «Лев Толстой сравнивал действие художественного произведения с заражением; это сравнение здесь особенно уясняет дело: я заразился тифом от Ивана, но у меня мой тиф, а не тиф Ивана. И у меня мой Гамлет, а не Гамлет Шекспира. А тиф вообще есть абстракция, необходимая для теоретической мысли и ею созданная. Свой Гамлет у каждого поколения, свой Гамлет у каждого читателя» (38, с. 114).
Как будто историческая обусловленность искусства разъясняется этим хорошо, но самое сравнение с формулой Толстого совершенно разоблачает это мнимое объяснение. В самом деле, для Толстого искусство перестает существовать, если нарушается один из самых малых 57 его элементов, если исчезнет одно из его «чуть-чуть». Для Толстого всякое произведение искусства есть полнейшая формальная тавтология. Оно в своей форме всегда равно само себе. «Я сказал, что сказал» — вот единственный ответ художника на вопрос о том, что он хотел сказать своим произведением. И проверить себя он не может иначе, как вновь повторить теми же самыми словами весь свой роман. Для Потебни произведение искусства есть всегда аллегория, иносказание: «Я сказал не то, что сказал, а нечто иное» — вот его формула для произведения искусства. Отсюда совершенно ясно, что эта теория разъясняет не изменение психологии искусства само по себе, а только изменение пользования художественным произведением. Эта теория показывает, что каждое поколение и каждая эпоха пользуется художественным произведением по-своему, но для того, чтобы воспользоваться, нужно, прежде всего, пережить, а как оно переживается каждой из эпох и каждым из поколений, на это теория эта дает далеко не исторический ответ. Так, говоря о психологии лирики, Овсянико-Куликовский отмечает следующую ее особенность, именно то, что она вызывает не работу мысли, а работу чувства. При этом он выставляет следующие положения:
«1) психология лирики характеризуется особыми признаками, которыми она резко отличается от психологии других видов творчества; … 3) отличительные психологические признаки лирики должны быть признаны вечными: они обнаруживаются уже в древнейшем, доступном изучению фазисе лиризма, проходят через всю историю его, и все изменения, каким они подвергаются в процессе эволюции, не только не нарушают их психологической природы, но лишь содействуют ее упрочению и полноте ее выражения» (79, с. 165).
Отсюда совершенно ясно, что, поскольку речь идет о психологии искусства в собственном смысле слова, она окажется вечной; несмотря на все изменения, она полнее выражает свою природу и кажется как будто изъятой из общего закона исторического развития, во всяком случае в своей существенной части. Если мы припомним, что лирическая эмоция есть для нашего автора вообще художественная эмоция по существу, то есть эмоция формы, — то мы увидим, что психология искусства, поскольку она есть психология формы, остается вечной и неизменной, 58 а изменяется и развивается от поколения к поколению только употребление ее и пользование ею. Чудовищная натяжка мысли, которая сама собой бросается в глаза, когда мы пытаемся вслед за Потебней вложить огромный смысл в скромную загадку, является прямым следствием того, что исследование все время ведется не в области загадки самой по себе, а в области пользования и применения ее. Осмыслить можно решительно все. У Горнфельда мы найдем множество примеров тому, как мы совершенно непроизвольно осмысливаем всякую бессмыслицу (38, с. 139), а опыты с чернильными пятнами, в последнее время применяющиеся Роршахом, дают наглядное доказательство тому, что мы привносим от себя смысл, строй и выражение в самое случайное и бессмысленное нагромождение форм.
Иначе говоря, само по себе произведение никогда не может быть ответственно за те мысли, которые могут появиться в результате его. Сама по себе мысль о политическом расцвете и о различном к нему отношении различных взглядов ни в какой степени не содержится в скромной загадке. Если мы ее буквальный смысл (окно, двери и сволок) заменим аллегорическим, загадка перестанет существовать как художественное произведение. Иначе не было бы никакой разницы между загадкой, басней и самым сложным произведением, если каждое из них могло бы вместить в себя самые великие мысли. Трудность заключается не в том, чтобы показать, что пользование произведениями искусства в каждую эпоху имеет свой особый характер, что «Божественная комедия» в нашу эпоху имеет совершенно не то общественное назначение, что в эпоху Данте, — трудность заключается в том, чтобы показать, что читатель, находящийся и сейчас под воздействием тех же самых формальных эмоций, что и современник Данте, по-иному пользуется теми же самыми психологическими механизмами и переживает «Божественную комедию» по-иному.
Иначе говоря, задача состоит в том, чтобы показать, что мы не только толкуем по-разному художественные произведения, но и по-разному их переживаем. Недаром Горнфельд статью о субъективности и изменчивости понимания назвал «О толковании художественного произведения» (38, с. 95 – 153). Важно показать, что самое объективное и, казалось бы, чисто образное искусство, как 59 это Гюйо показал для пейзажа, и есть, в сущности говоря, та же самая лирическая эмоция в широком смысле слова, то есть специфическая эмоция художественной формы. «Мир “Записок охотника”, — говорит Гершензон, — ни дать, ни взять крестьянство Орловской губернии 40-х годов; но если присмотреться внимательно, легко заметить, что это — маскарадный мир, именно — образы душевных состояний Тургенева, одетые в плоть, в фигуры, в быт и психологию орловских крестьян, а также — в пейзаж Орловской губернии» (34, с. 11).
Наконец, что самое важное, субъективность понимания, привносимый нами от себя смысл ни в какой мере не является специфической особенностью поэзии — он есть признак всякого вообще понимания. Как совершенно правильно формулировал Гумбольдт: всякое понимание есть непонимание, то есть процессы мысли, пробуждаемые в нас чужой речью, никогда вполне не совпадают с теми процессами, которые происходят у говорящего. Всякий из нас, слушая чужую речь и понимая ее, по-своему апперципирует слова и их значение, и смысл речи будет всякий раз для каждого субъективным не в большей мере и не меньше, чем смысл художественного произведения.
Брюсов вслед за Потебней видит особенность поэзии в том, что она пользуется синтетическими суждениями в отличие от аналитических суждений науки. «Если суждение “человек смертен” по существу аналитично, хотя к нему и пришли путем индукции, через наблюдение, что все люди умирают, то выражение поэта (Ф. Тютчева) “звук уснул” есть суждение синтетическое. Сколько ни анализировать понятие “звук”, в нем нельзя открыть “сна”; надо к “звуку” придать нечто извне, связать, синтезировать с ним, чтобы получить сочетание “звук уснул”» (22, с. 14). Но вся беда в том, что подобными синтетическими суждениями положительно переполнена наша обыденная, обывательская и газетная деловая речь, и при помощи таких суждений мы никогда не найдем специфического признака психологии искусства, который отличает ее от всех других видов переживаний. Если газетная статья говорит: «Министерство пало», в этом суждении оказывается ровно столько же синтетики, как и в выражении «звук уснул». И наоборот, в поэтической речи мы найдем целый ряд таких суждений, которые никак нельзя будет признать суждениями синтетическими в только что 60 названном смысле; когда Пушкин говорит: «Любви все возрасты покорны», он дает суждение совершенно не синтетическое, но вместе с тем очень поэтическую строку, Мы видим, что, останавливаясь на интеллектуальных процессах, возбуждаемых художественным произведением, мы рискуем потерять точный признак, отличающий их от всех других интеллектуальных процессов.
Если остановиться на другом признаке поэтического переживания, выдвигаемом этой теорией в качестве специфического отличия поэзии, придется назвать образность или чувственную наглядность представления. Согласно этой теории произведение тем поэтичнее, чем нагляднее, полнее и отчетливее вызывается им чувственный образ и представление в сознании читающего. «Если, Например, мысля понятие лошади, я дал себе время восстановить в памяти образ, скажем, вороного коня, скачущего галопом, с развевающеюся гривою, и т. д., то моя мысль, несомненно, станет художественной — она будет актом маленького художественного творчества» (80, с. 10).
Выходит так, что всякое наглядное представление вместе с тем является уже и поэтическим. Надо сказать, что здесь как нельзя ярче выступает та связь, которая существует между теорией Потебни и ассоциативным и сенсуалистическим направлением психологии, на котором основываются все построения этой школы. Тот колоссальный переворот, который произошел в психологии со времен жесточайшей критики обоих этих направлений в применении к высшим процессам мышления и воображения, не оставляет камня на камне от прежней психологической системы, а вместе с ними падают совершенно и все основанные на нем утверждения Потебни. В самом деле, новая психология совершенно точно показала, что самое мышление совершается в своих высших формах совершенно без помощи наглядных представлений. Традиционное учение, говорящее, что мысль есть только связь образов или представлений, кажется совершенно оставленным после капитальных исследований Бюлера, Мессера, Аха, Уота и других психологов вюрцбургской школы. Отсутствие наглядных представлений в других мыслительных процессах может считаться совершенно незыблемым завоеванием новой психологии, и недаром Кюльпе пытается сделать чрезвычайно важные выводы и для эстетики. Он указывает на то, что все традиционное 61 представление о наглядном характере поэтической картины совершенно падает в связи с новыми открытиями: «Следует только обратиться к наблюдениям читателей и слушателей. Нередко мы знаем, о чем идет речь, понимаем положение, поведение и характеры действующих лиц, но соответствующее или наглядное представление мыслим лишь случайно» (65, с. 73).
Шопенгауэр говорит: «Неужто мы переводим выслушиваемую нами речь в образы фантазии, мчащейся молниеносно мимо нас, сцепляющейся, превращающейся сообразно притекающим словам и их грамматическим оборотам. Какой сумбур был бы у нас в голове при выслушивании речи или при чтении книг. Во всяком случае, так не бывает». И в самом деле, жутко себе представить, какое уродливое искажение художественного произведения могло бы получиться, если бы мы реализовали в чувственных представлениях каждый образ поэта.
На воздушном океане
Без руля и без ветрил
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил.
Если попробовать представить себе наглядно все, что здесь перечислено, так, как это советует сделать Овсянико-Куликовский с понятием лошадь, — и океан, и руль, и туман, и эфир, и светила, — получится такой сумбур, что следа не останется от лермонтовского стихотворения. Можно с совершенной ясностью показать, что почти все художественные описания строятся с таким расчетом, что делают совершенно невозможным перевод каждого выражения и слова в наглядное представление. Как можно себе представить следующее двустишие Мандельштама19:
А на губах как черный лед горит
Стигийского воспоминанье звона.
Для наглядного представления это есть явная бессмыслица: «черный лед горит» — это непредставимо для нашей прозаической мысли, и плох был бы тот читатель, который стих «Песни песней» — «Твои волосы, как стадо коз, что сошли с гор Галоада; твои зубы, как стадо овец остриженных, что вышли из умывальни» — попробовал бы реализовать в наглядном представлении. С ним случилось бы то, что в пародийном стихотворении одного из русских юмористов произошло с мастером, пытавшимся отлить 62 статую Суламифи с намерением дать наглядную реализацию метафорам «Песни песней»: получилось — «медный в шесть локтей болван».
Интересно, что в применении к загадке именно такая удаленность образа от того, что он должен означать, является непременным залогом ее поэтического действия. Пословица совершенно верно говорит: загадка — разгадка, а семь верст правды (или неправды). Оба варианта выражают одну и ту же мысль: что и правды и неправды между загадкой и разгадкой семь верст. Если мы эти семь верст уничтожим, весь эффект загадки пропадет. Так поступали те учителя, которые, желая заменить мудреные и трудные народные загадки рациональными и воспитывающими детскую мысль, задавали детям пресные загадки вроде следующих: что такое, что стоит в углу и чем метут комнату. Ответ: метла. Такая загадка именно в силу того, что она поддается полнейшей наглядной реализации, лишена всякого поэтического действия. В. Шкловский совершенно правильно указывает, что отношение образа к означаемому им слову совершенно не оправдывает закона Потебни, гласящего, что «образ есть нечто гораздо более простое и ясное, чем объясняемое», то есть «так как цель образности есть приближение образа к нашему пониманию и так как без этого образность лишена смысла, то образ должен нам быть более известен, чем объясняемое им» (91, с. 314). Шкловский говорит: «Этого “долга” не исполняют тютчевское сравнение зарниц с глухонемыми демонами, гоголевское сравнение неба с ризами господа и шекспировские сравнения, поражающие своей натянутостью» (131, с. 5).
Прибавим к этому, что всякая решительно загадка, как это указано выше, всегда идет от простого к более сложному, а не наоборот. Когда загадка спрашивает, что такое: «В мясном горшке железо кипит», и отвечает: «Удила» — она, конечно, дает образ, поражающий своей сложностью по сравнению с простой отгадкой. И так всегда. Когда Гоголь в «Страшной мести» дает знаменитое описание Днепра, он не только не содействует образному и отчетливо наглядному представлению этой реки, но создает явно фантастическое представление какой-то, чудесной реки, нимало не похожей на настоящий Днепр и нимало не реализуемой в наглядных представлениях. Когда Гоголь утверждает, что Днепр — нет 63 ему равном реки в мире — в то время как он на деле не принадлежит к числу величайших рек, или когда он говорит, что «редкая птица долетит до середины Днепра», между тем как любая птица перелетит Днепр несколько раз туда и обратно, — он не только не приводит нас к наглядному представлению Днепра, но уводит нас от него в согласии с общими целями и задачами своей фантастической и романтической «Страшной мести». В том сцеплении мыслей, которое составляет эту повесть, Днепр действительно необыкновенная и фантастическая река.
Этим примером очень часто пользуются школьные учебники для того, чтобы выяснить отличие поэтического описания от прозаического, и в полном согласии с теорией Потебни утверждают, что разница между описанием гоголевским и описанием в учебнике географии только в том и состоит, что Гоголь дает образное, картинное, наглядное представление о Днепре, а география — сухое, точное понятие о нем. Между тем из простейшего анализа ясно, что и звуковая форма этого ритмического отрывка и его гиперболическая, немыслимая образность направлены к тому, чтобы создать совершенно новое значение, которое нужно для целого той повести, в которой он представляет часть.
Все это можно привести к совершенной ясности, если напомнить, что само по себе слово, которое является настоящим материалом поэтического творчества, отнюдь не обладает обязательно наглядностью и что, следовательно, коренная психологическая ошибка заключается в том, что на место слова сенсуалистическая психология подставляет наглядный образ. «Материалом поэзии являются не образы и не эмоции, а слово» (53, с. 131), — говорит В. М. Жирмунский, вызываемые словом чувственные образы могут и не быть, во всяком случае они будут лишь субъективным добавлением воспринимающего к смыслу воспринимаемых им слов. «На этих образах построить искусство невозможно: искусство требует законченности и точности и потому не может быть предоставлено произволу воображения читателя: не читатель, а поэт создает произведение искусства» (53, с. 130).
Легко убедиться в том, что по самой психологической природе слова оно почти всегда исключает наглядное представление. Когда поэт говорит «лошадь», в его слове не заключена ни развевающаяся грива, ни бег и т. п. Все 64 это привносится читателем от себя и совершенно произвольно. Стоит только применить к таким читательским добавлениям знаменитое выражение «чуть-чуть», и мы увидим, как мало эти случайные, расплывчатые, неопределенные элементы могут быть предметом искусства. Обычно говорят, что читатель или зритель своей фантазией дополняет данный художником образ. Однако Христиансен блестяще разъяснил, что это имеет место только тогда, когда художник остается господином движения нашей фантазии и когда элементы формы совершенно точно предопределяют работу нашего воображения. Так бывает при изображении на картине глубины или дали. Но художник никогда не предоставляет произвольного дополнения нашей фантазии. «Гравюра передает все предметы в черных и белых цветах, но их вид не таков, и, рассматривая гравюру, мы вовсе не получаем впечатления черных и белых вещей, мы не воспринимаем деревья черными, луга зелеными, а небо белым. Но зависит ли это от того, что наша фантазия, как полагают, дополняет краски ландшафта в образном представлении, подставляет ли она на место того, что на самом деле показывает гравюра, образ красочного ландшафта с зелеными деревьями и лугами, пестрыми цветами и синим небом? Я думаю, художник сказал бы — благодарю покорно за такую работу профанов над его произведением. Возможная дисгармония дополненных цветов могла бы погубить его рисунок. Но следите сами за собой: разве мы на самом деле видим цвета; конечно у нас есть впечатление совершенно нормального ландшафта, с естественными красками, но мы его не видим, впечатление остается внеобразным» (124, с. 95).
Теодор Мейер в обстоятельном исследовании, которое сразу приобрело большую известность, с исчерпывающей обстоятельностью показал, что самый материал, которым пользуется поэзия, исключает образное и наглядное представление изображаемого ею20, и определил поэзию «как искусство не наглядного словесного представления» (152, S. IV).
Анализируя все формы словесного изображения и возникновения представлений, Мейер приходит к выводу, что изобразительность и чувственная наглядность не составляют психологического свойства поэтического переживания и что содержание всякого поэтического описания по 65 самому существу внеобразно. То же самое путем чрезвычайно острой критики и анализа показал Христиансен, когда установил, что «целью изображения предметного в искусстве является не чувственный образ объекта, но безóбразное впечатление предмета» (124, с. 90), причем особенную заслугу Христиансена представляет то, что он доказал это положение для изобразительных искусств, в которых этот тезис наталкивается на самые большие возражения. «Ведь укоренилось мнение, что цель изобразительных искусств служить взорам, что они хотят давать и еще усиливать зрительное качество вещей. Как, неужели и здесь искусство стремится не к чувственному образу объекта, а к чему-то безобразному, когда оно создает “картины” и само называется изобразительным» (124, с. 92). Анализ, однако, показывает, «что и в изобразительном искусстве, так же как и в поэзии, безобразное впечатление является конечной целью изображения предмета…» (124, с. 97).
«Итак, повсюду мы вынуждены были вступить в противоречие с догмой, утверждающей самоцель чувственного содержания в искусстве. Развлекать наши чувства не составляет конечной цели художественного замысла. Главное в музыке — это неслышное, в пластическом искусстве — невидимое и неосязаемое» (124, с. 109); там же, где образ возникает намеренно или случайно, он никогда не может служить признаком поэтичности. Говоря о подобной теории Потебни, Шкловский замечает: «В основу этого построения положено уравнение: образность равна поэтичности. В действительности же такого равенства не существует. Для его существования было бы необходимо принять, что всякое символическое употребление слова непременно поэтично, хотя бы только в первый момент создания данного символа. Между тем мыслимо употребление слова в непрямом его значении, без возникновения при этом поэтического образа. С другой стороны, слова, употребленные в прямом смысле и соединенные в предложения, не дающие никакого образа, могут составлять поэтическое произведение, как, например, стихотворение Пушкина “Я вас любил: любовь еще, быть может…”. Образность, символичность не есть отличие поэтического языка от прозаического» (131, с. 4).
И, наконец, самой существенной и сокрушительной критике подверглась в последнее десятилетие традиционная 66 теория воображения как комбинации образов. Школа Мейнонга и других исследователей с достаточной глубиной показала, что воображение и фантазия должны рассматриваться как функции, обслуживающие нашу эмоциональную сферу, и что даже тогда, когда они обнаруживают внешнее сходство с мыслительными процессами, в корне этого мышления всегда лежит эмоция. Генрих Майер наметил важнейшие особенности этого эмоционального мышления, установив, что основная тенденция в фактах эмоционального мышления существенно иная, чем в мышлении дискурсивном. Здесь отодвинут на задний план, оттеснен и не опознан познавательный процесс. В сознании происходит «eine Vorstellungsgestaltung, nicht Auffassung». Основная цель процесса совершенно иная, хотя внешние формы часто совпадают. Деятельность воображения представляет собой разряд аффектов, подобно тому как чувства разрешаются в выразительных движениях. Среди психологов существует два мнения по поводу того, усиливается или ослабляется эмоция под влиянием аффективных представлений. Вундт утверждал, что эмоция делается слабее, Леман полагал, что она усиливается. Если применить к этому вопросу принцип однополюсной траты энергии, введенный проф. Корниловым в толкование интеллектуальных процессов, станет совершенно ясно, что и в чувствованиях, как и в актах мысли, всякое усиление разряда в центре приводит к ослаблению разряда в периферических органах. И там и здесь центральный и периферический разряды стоят в обратном отношении друг к другу, и, следовательно, всякое усиление от аффективных представлений, в сущности говоря, представляет собою акт эмоции, аналогичный актам усложнения реакции путем привнесения в него интеллектуальных моментов выбора, различения и т. п. Подобно тому, как интеллект есть только заторможенная воля, вероятно, следует представить себе фантазию как заторможенное чувство. Во всяком случае, видимое сходство с интеллектуальными процессами не может затенить принципиального отличия, которое здесь существует. Даже чисто познавательные суждения, которые относятся к произведению искусства и составляют Verständis-Urteile, являются не суждениями, но эмоционально аффективными актами мысли. Так, если при взгляде на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» у меня возникает мысль: «Вон 67 этот там — это Иуда; он, очевидно, в испуге, опрокинул солонку» — это есть по Майеру не что иное, как следующее: «То, что я вижу, есть для меня Иуда только в силу аффективно эстетического способа представления» (см. 151). Все это согласно указывает на то, что теория образности, как и утверждение об интеллектуальном характере эстетической реакции, встречает сильнейшие возражения со стороны психологии. Там же, где образность имеет место как результат деятельности фантазии, она оказывается подчиненной совершенно другим законам, нежели законы обычного воспроизводящего воображения и обычного логически-дискурсивного мышления. Искусство есть работа мысли, но совершенно особенного эмоционального мышления, и, даже введя эти поправки, мы еще не решили стоящей перед нами задачи. Нужно не только выяснить совершенно точно, чем отличаются законы эмоционального мышления от прочих типов этого процесса, нужно еще дальше показать, чем отличается психология искусства от других видов того же эмоционального мышления.
Ни на чем бессилие интеллектуалистической теории не обнаруживается с такой исчерпывающей полнотой и леностью, как на тех практических результатах, к которым она привела. В конечном счете, всякую теорию легче всего проверить по рождаемой ею же самой практике. Лучшим свидетельством того, насколько та или иная теория правильно познает и понимает изучаемые ею явления, служит та мера, в которой она овладевает этими явлениями. И если мы обратимся к практической стороне дела, мы увидим наглядную манифестацию совершенного бессилия этой теории в деле овладения фактами искусства. Ни в области литературы, ни в области ее преподавания, ни в области общественной критики, ни, наконец, в области теории и психологии творчества она не создала ничего такого, что бы могло свидетельствовать о том, что она овладела тем или иным законом психологии искусства. Вместо истории литературы она создавала историю русской интеллигенции (Овсянико-Куликовский), историю общественной мысли (Иванов-Разумник) и историю общественного движения (Пыпин). И в этих поверхностных и методологически ложных трудах она в одинаковой мере искажала и литературу, которая служила ей материалом, и ту общественную историю, которую 68 она пыталась познать при помощи литературных явлений. Когда интеллигенцию 20-х годов пытались вычитать из «Евгения Онегина», тем самым одинаково ложно создавали впечатление и о «Евгении Онегине» и об интеллигенции 20-х годов. Конечно, в «Евгении Онегине» есть известные черты интеллигенции 20-х годов прошлого века, но эти черты до такой степени изменены, преображены, дополнены другими, приведены в совершенно новую связь со всем сцеплением мыслей, что по ним так же точно нельзя составить себе верного представления об интеллигенции 20-х годов, как по стихотворному языку Пушкина нельзя написать правил и законов русской грамматики.
Плох был бы тот исследователь, который, исходя из тех фактов, что в «Евгении Онегине» «отразился русский язык», вывел бы заключение, что в русском языке слова располагаются в размере четырехстопного ямба и рифмуются так, как рифмуются строфы у Пушкина. До тех пор, пока мы не научились отделять добавочные приемы искусства, при помощи которых поэт перерабатывает взятый им из жизни материал, остается методологически ложной всякая попытка познать что-либо через произведение искусства.
Остается показать последнее: что всеобщая предпосылка такого практического применения теории — типичность художественного произведения — должна быть взята под величайшее критическое сомнение. Художник вовсе не дает коллективной фотографии жизни, и типичность вовсе не есть обязательно преследуемое им качество. И поэтому тот, кто, ожидая найти повсюду в литературе эту типичность, будет пытаться изучать историю русской интеллигенции по Чацким и Печориным, рискует остаться при совершенно ложном понимании изучаемых явлений. При такой установке научного исследования мы рискуем попасть в цель только один раз из тысячи. А это лучше всяких теоретических соображений говорит о неосновательности той теории, по расчетам которой мы наметили свой прицел.
69 Глава III
Искусство как прием
Реакция на интеллектуализм. Искусство как прием. Психология сюжета, героя,
литературных идей, чувств. Психологическое противоречие формализма. Непонимание
психологии материала. Практика формализма. Элементарный гедонизм.
Уже из предыдущего мы видели, что непонимание психологии формы было основным грехом господствовавшей у нас психологической теории искусства и что ложные в своей основе интеллектуализм и теория образности породили целый ряд очень далеких от истины и запутанных представлений. Как здоровая реакция против этого интеллектуализма возникло у нас формальное течение, которое начало создаваться и осознавать себя только из оппозиции к прежней системе. Это новое направление попыталось в центр своего внимания поставить находившуюся раньше в пренебрежении художественную форму; оно исходило при этом не только из неудач прежних попыток понять искусство, отбросивши его форму, но и из основного психологического факта, который, как увидим ниже, лежит в основе всех психологических теорий искусства. Этот факт заключается в том, что художественное произведение, если разрушить его форму, теряет свое эстетическое действие. Отсюда соблазнительно было заключить, что вся сила его действия связана исключительно с его формой. Новые теоретики так и формулировали свой взгляд на искусство, что оно есть чистая форма, совершенно не зависящая ни от какого содержания. Искусство было объявлено приемом, который служит сам себе целью, и там, где прежние исследователи видели сложность мысли, там новые увидели просто игру художественной формы. Искусство при этом повернулось к исследователям совсем не той стороной, которой оно было обращено к науке прежде. Шкловский формулировал этот новый взгляд, когда заявил: «Литературное произведение есть чистая форма, оно есть не вещь, не материал, а отношение материалов. И как всякое отношение, и это — отношение пулевого измерения. Поэтому безразличен 70 масштаб произведения, арифметическое значение его числителя и знаменателя, важно их отношение. Шутливые, трагические, мировые, комнатные произведения, противопоставления мира миру или кошки камню — равны между собой» (134, с. 4).
В зависимости от этой перемены взгляда формалисты должны были отказаться от обычных категорий формы и содержания и заменить их двумя новыми понятиями — формы и материала. Все то, что художник находит готовым, будь то слова, звуки, ходячие фабулы, обычные образы и т. п., — все это составляет материал художественного произведения вплоть до тех мыслей, которые заключены в произведении. Способ расположения и построения этого материала обозначается как форма этого произведения, опять-таки независимо от того, прилагается ли это понятие к расположению звуков в стихе или к расположению событий в рассказе или мысли в монологе. Таким образом, чрезвычайно плодотворно и с психологической точки зрения существенно было расширено обычное понятие формы. В то время как прежде под формой в науке понимали нечто весьма близкое к обывательскому употреблению этого слова, то есть исключительно внешний, чувственно воспринимаемый облик произведения, как бы его внешнюю оболочку, относя за счет формы чисто звуковые элементы поэзии, красочные сочетания в живописи и т. п., — новое понимание расширяет это слово до универсального принципа художественного творчества. Под формой оно понимает всякое художественное расположение готового материала, сделанное с таким расчетом, чтобы вызвать известный эстетический эффект. Это и называется художественным приемом. Таким образом, всякое отношение материала в художественном произведении будет формой или приемом. Так, с этой точки зрения, стих есть не совокупность составляющих его звуков, а есть последовательность или чередование их соотношения. Стоит переставить слова в стихе, сумма составляющих его звуков, то есть материал его, останется ненарушенной, но исчезнет его форма, стих. Точно так же, как в музыке сумма звуков не составляет мелодии, а последняя является результатом соотношения звуков, так же и всякий прием искусства есть, в конечном счете, построение готового материала или его формирование.
С этой точки зрения формалисты подходят к сюжету 71 художественного произведения, который прежними исследователями обозначался как содержание. Поэт большей частью находит готовым тот материал событий, действии, положений, которые составляют материал его рассказа, и его творчество заключается только в формировании этого материала, придании ему художественного расположения, совершенно аналогично тому, как поэт не изобретает слова, только располагает их в стих. «Методы и приемы сюжетосложения сходны и в принципе одинаковы с приемами хотя бы звуковой инструментовки. Произведения словесности представляют собой сплетение звуков, артикуляционных движении и мыслей. Мысль в литературном произведении или такой же материал, как произносительная и звуковая сторона морфемы, или же инородное тело» (132, с. 143). И дальше: «Сказка, новелла, роман — комбинация мотивов; песня — комбинация стилистических мотивов; поэтому сюжет и сюжетность являются такой же формой, как и рифма. В понятии “содержание” при анализе произведения искусства с точки зрения сюжетности надобности не встречается» (132, с. 144).
Таким образом, сюжет определяется новой школой в отношении к фабуле так, как стих в отношении к составляющим его словам, как мелодия в отношении к составляющим ее нотам, как форма к материалу. «Фабуле противостоит сюжет: те же события, но в их изложении, в том порядке, в каком они сообщены в произведении, в той связи, в какой даны в произведении сообщения о них…». Кратко выражаясь, фабула — это то, «что было на самом деле», сюжет — то, «как узнал об этом читатель» (110, с. 137).
«… Фабула есть лишь материал для сюжетного оформления, — говорит Шкловский. — Таким образом, сюжет “Евгения Онегина” не роман героя с Татьяной, а сюжетная обработка этой фабулы, произведенная введением перебивающих отступлений» (133, с. 39).
С этой же точки зрения подходят формалисты и к психологии действующих лиц. И эту психологию мы должны понимать только как прием художника, который заключается в том, что заранее данный психологический материал искусственно и художественно перерабатывается и оформляется художником в соотношении с его эстетическим заданием. Таким образом, объяснение психологии 72 действующих лиц и их поступков мы должны искать не в законах психологии, а в эстетической обусловленности заданиями автора. Если Гамлет медлит убить короля, то причину этого надо искать не в психологии нерешительности и безволия, а в законах художественного построения. Медлительность Гамлета есть только художественный прием трагедии, и Гамлет не убивает короля сразу только потому, что Шекспиру нужно было затянуть трагическое действие по чисто формальным законам, как поэту нужно подобрать слова под рифму не потому, что таковы законы фонетики, но потому, что таковы задания искусства. «Не потому задерживается трагедия, что Шиллеру надо разработать психологию медлительности, а как раз наоборот — потому Валленштейн медлит, что трагедию надо задерживать, а задержание это скрыть. То же самое — и в “Гамлете”» (138, с. 81).
Таким образом, ходячее представление о том, что по «Скупому рыцарю» можно изучить психологию скупости, а по «Сальери» — психологию зависти, окончательно дискредитируется, как и другие столь же популярные и гласящие, будто задачей Пушкина было изобразить скупость и зависть, а задачей читателя — познать их. И скупость, и зависть с новой точки зрения есть только такой же материал для художественного построения, как звуки в стихе и как гамма рояля.
«Зачем король Лир не узнает Кента? Почему Кент и Лир не узнают Эдгара?.. Почему мы в танце видим просьбу после согласия. Что развело и разбросало по свету Глана и Эдварду в “Пане” Гамсуна, хотя они любили друг друга?» (132, с. 115). На все эти вопросы было бы нелепо искать ответ в законах психологии, потому что все это имеет одну мотивировку — мотивировку художественного приема, и кто не понимает этого, тот равным образом не понимает, для чего слова в стихе располагаются не в том порядке, как в обычной речи, и какой совершенно новый эффект дает это искусственное расположение материала.
Такое же изменение претерпевает и обычное воззрение на чувство, якобы заключенное в произведении искусства. И чувства оказываются только материалом или приемом изображения. «Сентиментальность не может быть содержанием искусства, хотя бы потому уже, что в искусстве нет содержания. Изображение вещей с “сентиментальной 73 точки зрения” есть особый метод изображения, такой же, например, как изображение их с точки зрения лошади (Толстой, “Холстомер”) или великана (Свифт).
По существу своему искусство внеэмоционально… Искусство безжалостно или внежалостно, кроме тех случаев, когда чувство сострадания взято как материал для построения. Но и тут, говоря о нем, нужно рассматривать его с точки зрения композиции, точно так же, как нужно, если вы желаете понять машину, смотреть на приводной ремень как на деталь машины, а не рассматривать его с точки зрения вегетарианца» (133, с. 22 – 23).
Таким образом, и чувство оказывается только деталью художественной машины, приводным ремнем художественной формы.
Совершенно ясно, что при такой перемене крайнего взгляда на искусство «вопрос идет не о методах изучения литературы, а о принципах построения литературной науки», как говорит Эйхенбаум (137, с. 2). Речь идет не об изменении способа изучения, а об изменении самого основного объяснительного принципа. При этом сами формалисты исходят из того факта, что они покончили с дешевой и популярной психологической доктриной искусства, а потому склонны рассматривать свой принцип как принцип антипсихологический по существу. Одна из их методологических основ в том и заключается, чтобы отказаться от всякого психологизма при построении теории искусства. Они пытаются изучать художественную форму как нечто совершенно объективное и независимое от входящих в ее состав мыслей и чувств и всякого другого психологического материала. «Художественное творчество, — говорит Эйхенбаум, — по самому существу своему сверхпсихологично — оно выходит из ряда обыкновенных душевных явлений и характеризуется преодолением душевной эмпирики. В этом смысле душевное, как нечто пассивное, данное, необходимо надо отличать от духовного, личное — от индивидуального» (136, с. 11).
Однако с формалистами происходит то же самое, что и со всеми теоретиками искусства, которые мыслят построить свою науку вне социологических и психологических основ. О таких же критиках Г. Лансон совершенно правильно говорит: «Мы, критики, делаем то же, что господин Журден. Мы “говорим прозой”, то есть, сами того 74 не ведая, занимаемся социологией», и так же как знаменитый герой Мольера только от учителя должен был узнать, что он всю жизнь говорил прозой, так всякий исследователь искусства узнает от критика, что он, сам того не подозревая, фактически занимался социологией и психологией, потому что слова Лансона с совершенной точностью могут быть отнесены и к психологии.
Показать, что в основе формального принципа так же точно, как в основе всяких других построений искусства, лежат известные психологические предпосылки и что формалисты на деле вынуждены быть психологами и говорить подчас запутанной, но совершенно психологической прозой, чрезвычайно легко. Так, исследование Томашевского, основанное на этом принципе, начинается следующими словами: «Невозможно дать точное объективное определение стиха. Невозможно наметить основные признаки, отделяющие стих от прозы. Стихи мы узнаем по непосредственному восприятию. Признак “стихотворности” рождается не только из объективных свойств поэтической речи, но и из условий ее художественного восприятия, из вкусового суждения о ней слушателя» (109, с. 7).
Что это означает, как не признание, что без психологического объяснения у формальной теории нет никаких объективных данных для основного определения природы стиха и прозы — этих наиболее отчетливых и ясных формальных приемов. То же самое становится совершенно ясно и из самого поверхностного анализа выдвигаемой формалистами формулы. Формула формалистов «искусство как прием» естественно вызывает вопрос: «прием чего?» Как совершенно правильно указывал в свое время Жирмунский, прием ради приема, прием, взятый сам для себя, ни на что не направленный, — есть не прием, а фокус. И сколько формалисты ни стараются оставить этот вопрос без ответа, они опять, как Журден, дают на него ответ, хотя сами и не сознают его. Этот ответ заключается в том, что у приема искусства оказывается своя цель, которой он всецело определяется и которая не может быть определена иначе, как в психологических понятиях. Основой этой психологической теории оказывается учение об автоматизме всех наших привычных переживаний. «Если мы станем разбираться в общих законах восприятия, то увидим, что, становясь привычными, действия 75 делаются автоматическими. Так уходят, например, в среду бессознательно-автоматического все наши навыки; если кто вспомнит ощущение, которое он имел, держа в первый раз перо в руках или говоря в первый раз на чужом языке, и сравнит это ощущение с тем, которое он испытывает, проделывая это в десятитысячный раз, то согласится с нами. Процессом обавтоматизации объясняются законы нашей прозаической речи, с ее недостроенной фразой и с ее полувыговоренным словом… При таком алгебраическом методе мышления вещи берутся счетом и пространством, они не видятся нами, а узнаются по первым чертам. Вещь проходит мимо нас как бы запакованной, мы знаем, что она есть, по месту, которое она занимает, но видим только ее поверхность… И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства является дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание: приемом искусства является прием “остранения” вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен; искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве не важно» (129, с. 104 – 105).
Оказывается, следовательно, что у того приема, из которого слагается художественная форма, есть своя цель, и при определении этой цели теория формалистов впадает в удивительное противоречие сама с собой, когда она начинает с утверждения, что в искусстве важны не вещи, не материал, не содержание, а кончает тем, что утверждает: целью художественной формы является «прочувствовать вещь», «сделать камень каменным», то есть сильнее и острее пережить тот самый материал, с отрицания которого мы начали. Благодаря этому противоречию теряется все истинное значение найденных формалистами законов остранения21 и т. п., так как целью этого остранения, в конце концов, оказывается то же восприятие вещи, и этот основной недостаток формализма — непонимание психологического значения материала — приводит его к такой же сенсуалистической односторонности, как непонимание формы привело потебнианцев к односторонности интеллектуалистической. Формалисты полагают, что в искусстве материал не играет никакой 76 роли и что поэма разрушения мира и поэма о кошке и камне совершенно равны с точки зрения их поэтического действия. Вслед за Гейне они думают, что «в искусстве форма все, а материал не имеет никакого значения»: «Штауб (портной) считает за фрак, который он шьет из своего сукна, ровно столько же, сколько за фрак, который он шьет из сукна заказчика. Он просит оплатить ему только форму, а материал отдает даром». Однако сами же исследователи должны были убедиться, что не только все портные не похожи на Штауба, но и в том, что в художественном произведении мы оплачиваем не только форму, но и материал. Сам же Шкловский утверждает, что подбор материала далеко не безразличен. Он говорит: «Выбирают величины значимые, ощутимые. Каждая эпоха имеет свой индекс, свой список запрещенных за устарелостью тем» (134, с. 8 – 9). Однако легко убедиться, что каждая эпоха имеет список не только запрещенных, но и разрабатываемых ею тем и что, следовательно, самая тема или материал построения оказываются далеко не безразличными в смысле психологического действия целого художественного произведения.
Жирмунский совершенно правильно различает два смысла формулы «искусство как прием». Ее первый смысл заключается в том, что она предписывает рассматривать произведение «как эстетическую систему, обусловленную единством художественного задания, то есть как систему приемов» (52, с. 158).
Но совершенно ясно, что в таком случае всякий прием есть не самоцель, а получает смысл и значение в зависимости от того общего задания, которому он подчинен. Если же под этой формулой, как гласит ее второй смысл, мы будем понимать не метод, а конечную задачу исследования, и будем утверждать: «Все в искусстве есть только художественный прием, в искусстве на самом деле нет ничего, кроме совокупности приемов» (52, с. 159), мы, конечно, впадем в противоречие с самыми очевидными фактами, гласящими, что и в процессе творчества, и в процессе восприятия есть много заданий внеэстетического порядка и что все так называемое «прикладное» искусство одной стороной представляет прием, а другой — практическую деятельность. Вместо формальной теории мы рискуем здесь получить «формалистические принципы» и совершенно ложное представление о том, что тема, 77 материал и содержание не играют роли в художественном произведении. Совершенно правильно отмечает Жирмунский, что самое понятие о поэтическом жанре, как об особом композиционном единстве, связано с тематическими определениями. Ода, поэма и трагедия — каждая имеет свой характерный круг тем.
К таким выводам могли прийти формалисты, только исходя в своих построениях из искусств неизобразительных, беспредметных, как музыка или декоративный орнамент, толкуя по аналогии с узором все решительно художественные произведения. Как в орнаменте у линии нет другой задачи, кроме формальной, так и во всех остальных произведениях отрицается формалистами всякая внеформальная реальность. «Отсюда, — говорит Жирмунский, — отождествление сюжета “Евгения Онегина” с любовью Ринальдо и Анджелики во “Влюбленном Роланде” Боярдо: все различие в том, что у Пушкина “причины неодновременности увлечения их друг другом даны в сложной психологической мотивировке”, а у Боярдо “тот же прием мотивирован чарами”… Мы могли бы присоединить сюда же известную басню о журавле и цапле, где осуществляется та же сюжетная схема в “обнаженной” форме: “А любит Б, Б не любит А; когда же Б полюбил А, то А уже не любит Б”. Думается, однако, что для художественного впечатления “Евгения Онегина” это сродство с басней является весьма второстепенным и что гораздо существеннее то глубокое качественное различие, которое создается благодаря различию темы (“арифметического значения числителя и знаменателя”), в одном случае — Онегина и Татьяны, в другом случае — журавля и цапли» (124, с. 171 – 172).
Исследования Христиансена показали, что «материал художественного произведения участвует в синтезе эстетического объекта» (52, с. 58) и что он отнюдь не подчиняется закону геометрического отношения, совершенно не зависящего от абсолютной величины входящих в него членов. Это легко заметить при сохранении одной и той же формы и изменении абсолютной величины материала. «Музыкальное произведение кажется независимым от высоты тона, скульптура — от абсолютной величины; лишь тогда, когда изменения достигают крайних пределов, деформация эстетического объекта становится заметной всем» (124, с. 176).
78 Операция, которую надо проделать, чтобы убедиться в значимости материала, совершенно аналогична с той, посредством которой мы убеждаемся в значимости формы. Там мы разрушаем форму и убеждаемся в уничтожении художественного впечатления; если мы, сохранив форму, перенесем ее на совершенно другой материал, мы опять убедимся в искажении психологического действия произведения. Христиансен показал, как важно это искажение, если мы ту же самую гравюру отпечатаем на шелку, японской или голландской бумаге, если ту же статую высечем из мрамора или отольем из бронзы, тот же роман переведем с одного языка на другой. Больше того, если мы уменьшим или увеличим сколько-нибудь значительно абсолютную величину картины или высоту тона мелодии, мы получим совершенно явную деформацию. Это станет еще яснее, если мы примем во внимание, что под материалом Христиансен разумеет материал в узком смысле слова, самое вещество, из которого сделано произведение, и отдельно выделяет предметное содержание искусства, относительно которого приходит к такому же точно выводу. Это, однако, не значит, что материал или предметное содержание имеет значение благодаря своим внеэстетическим качествам, например, благодаря стоимости бронзы или мрамора и т. п. «Хотя влияние предмета не зависит от его внеэстетических ценностей, он все же может оказаться важной составной частью синтезированного объекта… Хорошо нарисованный пучок редьки выше скверно нарисованной мадонны, стало быть, предмет совершенно не важен… Тот самый художник, который пишет хорошую картину на тему “пучок редьки”, может быть, не сумеет справиться с темой мадонны… Будь предмет совершенно безразличен, что могло бы помешать художнику на одну тему создать столь же прекрасную картину, как и на другую» (124, с. 67).
Чтобы уяснить себе действие и влияние материала, нужно принять во внимание следующие два чрезвычайно важных соображения: первое заключается в том, что восприятие формы в его простейшем виде не есть еще сам по себе эстетический факт. Мы встречаемся с восприятием форм и отношений на каждом шагу в нашей повседневной деятельности, и, как это показали недавно блестящие опыты Кёлера, восприятие формы спускается очень глубоко по лестнице развития животной психики. 79 Его опыты заключались в том, что он дрессировал курицу на восприятие отношений или форм. Курице предъявлялось два листа бумаги А и В, из которых А был светло-серого, а В темно-серого цвета. На листе А зерна были приклеены, на листе В наложены свободно, и курица после ряда опытов приучалась подходить прямо к темно-серому листу бумаги В и клевать. Тогда курице были предъявлены однажды два листа бумаги: один прежний В, темно-серый, и другой новый С, еще более темно-серый.
Таким образом, в новой паре был оставлен один член прежний, но только он играл роль более светлого, то есть ту, которую в прежней паре играл лист А. Казалось бы, курица, выдрессированная на то, чтобы клевать зерна с листа В, должна была бы и сейчас обратиться прямо к нему, так как другой, новый лист является для нее неизвестным. Так было бы, если бы дрессировка производилась на абсолютное качество цвета. Но опыт показывает, что курица обращается к новому листу С и обходит прежний лист В, потому что выдрессирована она не на абсолютное качество цвета, а на его относительную силу. Она реагирует не на лист В, а на члена пары, на более темный, и так как в новой паре В играет не ту роль, что в прежней, он оказывает совершенно иное действие (23, с. 203 – 205).
Эти исторические для психологии опыты показывают, что и восприятие форм и отношений оказывается довольно элементарным и, может быть, даже первичным актом животной психики.
Отсюда совершенно ясно, что далеко не всякое восприятие формы будет непременно актом художественным.
Второе соображение не менее важно. Оно исходит из самого же понятия формы и должно разъяснить нам, что и форма в ее конкретном значении не существует вне того материала, который она оформляет. Отношения зависят от того материала, который соотносится. Одни отношения мы получим, если вылепим фигуру из папье-маше, и совершенно другие, если отольем из бронзы. Масса папье-маше не может прийти в такое же точно соотношение, как масса бронзы. Точно так же известные звуковые соотношения возможны только в русском языке, другие возможны только в немецком. Сюжетные отношения 80 несовпадения в любви будут одни, если возьмем Глана и Эдварду, другие — Онегина и Татьяну, третьи — журавля и цаплю. Таким образом, всякая деформация материала есть вместе с тем и деформация самой формы. И мы начинаем понимать, почему именно художественное произведение безвозвратно искажается, если мы его форму перенесем на другой материал. Эта форма оказывается на другом материале уже другой.
Таким образом, желание избегнуть дуализма при рассмотрении психологии искусства приводит к тому, что и единственный из оставленных здесь факторов получает неверное освещение. «Наиболее явственно обнаруживается значимость формы для содержания на тех последствиях, которые обнаруживаются, когда ее отнять, например, когда сюжет просто рассказать. Художественная значимость содержания тогда, конечно, обесценивается, но вытекает ли из этого, что тот эффект, который раньше исходил из формы и содержания, слитых в художественном единстве, зависел исключительно от формы? Такое заключение было бы так же ошибочно, как мысль — что все признаки и свойства воды зависят от присоединения к кислороду водорода, потому что если его отнять, то в кислороде мы не найдем уже ничего, напоминающего воду» (9, с. 312 – 313).
Не касаясь материальной правильности этого сравнения и не соглашаясь с тем, что форма и содержание образуют единство наподобие того, как кислород и водород образуют воду, нельзя все же не согласиться с логической правильностью того, как здесь вскрыта ошибка в суждениях формалистов. «То, что форма чрезвычайно значима в художественном произведении, что без специфической в этом отношении формы нет художественного произведения, это, думается, признано давно всеми, и об этом нет спора. Но значит ли из этого, что форма одна его создает? Конечно, не значит. Ведь это можно было бы доказать, если бы можно было взять одну лишь форму и показать, что те или иные бесспорно художественные произведения состоят из нее одной. Но этого, утверждаем мы, не сделано и не может быть сделано» (9, с. 327).
Если продолжить эту мысль, надо будет дополнить ее указанием на то, что делались такие попытки представить одну форму, лишенную всякого содержания, но они всегда оканчивались такой же психологической неудачей, 81 как и попытки создать художественное содержание вне формы.
Первая группа таких попыток заключается в том психологическом эксперименте, который мы проделываем с произведением искусства, перенося его на новый материал и наблюдая происходящую в нем деформацию.
Другие попытки представляет так называемый вещественный эксперимент, блестящая неудача которого лучше всяких теоретических соображений опровергает одностороннее учение формалистов.
Здесь, как и всегда, мы проверяем теорию искусства его практикой. Практическими выводами из идей формализма была ранняя идеология русского футуризма, проповедь заумного языка22, бессюжетности и т. д. Мы видим, что на деле практика привела футуристов к блестящему отрицанию всего того, что они утверждали в своих манифестах, исходя из теоретических предположений: «Нами уничтожены знаки препинания, — чем роль словесной массы — выдвинута впервые и осознана» (98, с. 2), — утверждали они в § 6 своего манифеста.
На деле это привело к тому, что футуристы не только не обходятся без интерпункции в своей стихотворной практике, но вводят целый ряд новых знаков препинания, например изломанную строку стиха Маяковского, «Нами сокрушены ритмы», — объявляли они в § 8, — и в поэзии Пастернака дали давно невиданный в русской поэзии образчик изысканных ритмических построений.
Они проповедовали заумный язык, утверждая в § 5, что заумь пробуждает и дает свободу творческой фантазии, не оскорбляя ее ничем конкретным, «от смысла слово сокращается, корчится, каменеет» (см. 63), — а на деле довели смысловой элемент в искусстве до невиданного еще господства23, когда тот же Маяковский занят сочинением стихотворных реклам для Моссельпрома.
Они проповедовали бессюжетность, а на деле строят исключительно сюжетные и осмысленные вещи. Они отвергали все старьте темы, а Маяковский начал и кончает разработкой темы трагической любви, которая едва ли может быть отнесена к темам новым. Итак, в практике русского футуризма на деле был создан естественный эксперимент для формалистических принципов, и этот эксперимент явно показывает ошибочность выдвинутых воззрений24.
82 То же самое можно показать, если осуществить формалистический принцип в тех крайних выводах, к которым он приходит. Мы указывали на то, что, определяя цель художественного приема, он запутывается в собственном противоречии и приходит к утверждению того, с отрицания чего он начал. Оживить вещи объявляется основной задачей приема, какова же цель этих оживленных ощущений, теория дальше не поясняет, и сам собой напрашивается вывод, что дальнейшей цели нет, что этот процесс восприятия вещей приятен сам по себе и служит самоцелью в искусстве. Все странности и трудные построения искусства, в конце концов, служат нашему удовольствию от ощущения приятных вещей. «Воспринимательный процесс в искусстве самоценен», как утверждает Шкловский. И вот это утверждение самоцельности воспринимательного процесса, определение ценности искусства по той сладости, которую оно доставляет нашему чувству, неожиданно обнаруживает всю психологическую бедность формализма и обращает нас назад к Канту, который формулировал, что «прекрасно то, что нравится независимо от смысла». И по учению формалистов выходит так, что восприятие вещи приятно само по себе, как само по себе приятно красивое оперение птиц, краски и форма цветка, блестящая окраска раковины (примеры Канта). Этот элементарный гедонизм — возврат к давно оставленному учению о наслаждении и удовольствии, которые мы получаем от созерцания красивых вещей, составляет едва ли не самое слабое место в психологической теории формализма25. И точно так же, как нельзя дать объективное определение стиха и его отличия от прозы, не обращаясь к психологическому объяснению, так же точно нельзя решить и вопроса о смысле и структуре всей художественной формы, не имея никакой определенной идеи в области психологии искусства.
Несостоятельность теории, говорящей, что задачей искусства является создание красивых вещей и оживление их восприятия, обнаружена в психологии с достоверностью естественнонаучной и даже математической истины. Из всех обобщений Фолькельта, думается, нет более бесспорного и более плодотворного, чем его лаконическая формула: «Искусство состоит в развеществлении изображаемого» (117, с. 69).
Можно показать не только на отдельных произведениях 83 искусства, но и на целых областях художественной деятельности, что форма в конечном счете развоплощает тот материал, которым она оперирует, и удовольствие от восприятия этого материала никак не может быть признано удовольствием от искусства. Но гораздо большая ошибка заключается в том, чтобы вообще удовольствие какого бы то ни было сорта и рода признавать основным и определяющим моментом психологии искусства. «Люди поймут смысл искусства только тогда, — говорит Толстой, — когда перестанут считать целью этой деятельности красоту, то есть наслаждение» (106, с. 61).
Он же на чрезвычайно примитивном примере показывает, как сами по себе красивые вещи могут создать невообразимо пошлое произведение искусства. Он рассказывает о том, как некая неумная, но цивилизованная дама читала ему сочиненный ею роман. «В романе этом дело начиналось с того, что героиня в поэтическом лесу, у воды, в поэтической белой одежде, с поэтическими распущенными волосами, читала стихи. Дело происходило в Россия, и вдруг из-за кустов появлялся герой в шляпе с пером à la Guillaume Tell (так и было написано) и с двумя сопутствующими ему поэтическими белыми собаками. Автору казалось, что все это очень поэтично» (106, с. 113).
Вот этот роман с белыми собаками и составленный сплошь из красивых вещей, восприятие которых может доставить только удовольствие, неужели был пошлым и плохим только потому, что сочинительница не сумела вывести восприятие этих вещей из автоматизма и сделать камень каменным, то есть заставить ясно почувствовать белую собаку и распущенные волосы и шляпу с пером. Не кажется ли скорей наоборот, что чем острее почувствовали бы мы все эти вещи, тем нестерпимо пошлее был бы самый роман. Прекрасную критику эстетического гедонизма дает Кроче, когда говорит, что формальная эстетика, в частности фехнеровская, задается целью исследовать объективные условия прекрасного. «Каким физическим фактам соответствует прекрасное? Каким из них соответствует безобразное? Это похоже на то, как если бы в политической экономии стали искать законов обмена — в физической природе тех объектов, которые участвуют в обмене» (62, с. 123).
У того же автора находим два чрезвычайно важных 84 соображения все по тому же поводу. Первое — это совершенно откровенное признание, что проблему влияния материала и формы вместе, как и, в частности, проблему поэтического жанра, комического, нежного, юмористического, торжественного, возвышенного, безобразного и т. п., в искусстве можно решить только на почве психологии. Сам Кроче далеко не сторонник психологизма в эстетике, однако он сознает совершенное бессилие и эстетики и философии при разрешении этих вопросов. А много ли, спрашивается, поймем мы в психологии искусства, если мы не сумеем разъяснить хотя бы проблему трагического и комического и не сумеем найти между ними различия. «… Так как той естественнонаучной дисциплиной, которая задается целью построить типы и схемы для духовной жизни человека, является психология (чисто эмпирический и описательный характер которой действительно все больше и больше подчеркивается в наши дни), то все эти понятия не подлежат ведению ни эстетики, ни философии вообще и должны быть отданы именно психологии» (62, с. 101 – 102).
То же самое видели мы на примере формализма, который без психологических объединений оказался не в состоянии правильно учесть действие художественной формы. Другое соображение Кроче касается уже непосредственно психологических методов разрешения этой проблемы, и здесь он совершенно справедливо решительно высказывается против того формального направления, которое сразу приняла индуктивная эстетика, или эстетика снизу, именно потому, что она начала с конца, с выяснения момента удовольствия, то есть с того момента, на котором споткнулся и формализм. «Она начала сознательно собиранием красивых предметов, например, стала собирать конверты для писем, — различной формы и различного размера, и затем старалась установить, какие из них производят впечатление красоты, а какие вызывают впечатление безобразности… Грубый желтый конверт, безобразнейший в глазах того, кто должен вложить в него любовное послание, в высшей степени подходит к повестке, заштемпелеванной рукою привратника и содержащей вызов в суд… Но не тут-то было. Они [индуктивисты] обратились к помощи такого средства, в соответствии которого строгости естественных наук трудно не усомниться. Они пустили в ход свои конверты и объявили referendum, 85 стремясь установить простым большинством голосов, в чем состоит прекрасное и безобразное… Индуктивная эстетика, несмотря на все свои усилия, не открыла до сих пор ни одного закона» (62, с. 124).
В самом деле, формальная экспериментальная эстетика со времени Фехнера видела в большинстве голосов решающее доказательство в пользу истины того или иного психологического закона. Таким же критерием достоверности пользуются часто в психологии при субъективных опросах, и многие авторы до сих пор полагают, что если огромное большинство испытуемых, поставленных в одни и те же условия, дадут совершенно сходные положения — это может служить доказательством их истинности. Нет никакого более опасного заблуждения для психологии, чем это. В самом деле, стоит только предположить, что есть какое-нибудь обстоятельство, присутствующее у всех опрашиваемых людей, которое почему-либо искажает результаты их высказываний и делает их неверными, и все наши поиски истины окажутся безрезультатными. Психолог знает, сколько таких заранее искажающих истину влечений, всеобщих социальных предрассудков, влияний моды и т. п. существует у каждого испытуемого. Получить психологическую истину таким путем так же трудно, как трудно таким путем получить правильную самооценку человека, потому что громадное большинство опрошенных стало бы утверждать, что они принадлежат к числу умных людей, а психолог, поступивший таким образом, вывел бы странный закон, что глупых людей не существует вовсе. Так же поступает психолог, когда он полагается на высказывание испытуемого об удовольствии, не учитывая заранее, что самый момент этого удовольствия, поскольку он является необъясненным для самого субъекта, направляется непонятными ему причинами и нуждается еще в глубоком анализе для установления истинных фактов. Бедность и ложность гедонического понимания психологии искусства показал еще Вундт, когда он с исчерпывающей ясностью доказал, что в психологии искусства нам приходится иметь дело с чрезвычайно сложным видом деятельности, в котором момент удовольствия играет непостоянную и часто ничтожную роль. Вундт применяет в общем развитое Р. Фишером и Липпсом понятие вчувствования и считает, что психология искусства «лучше всего объясняется выражением “вчувствование”, потому 86 что, с одной стороны, оно совершенно справедливо указывает, что в основании этого психического процесса лежат чувства, а с другой стороны, указывает на то, что чувства в данном случае переносятся воспринимающим субъектом на объект» (29, с. 226).
Однако Вундт отнюдь не сводит к чувству все переживания. Он дает понятию вчувствования очень широкое и в основе своей до сих пор глубоко верное определение, из которого мы и будем исходить впоследствии, анализируя художественную деятельность. «Объект действует как возбудитель воли, — говорит он, — но он не производит действительного волевого акта, а вызывает только стремление и задержки, из которых составляется развитие действия, и эти стремления и задержки переносятся на самый объект, так что он представляется предметом, действующим в разных направлениях и встречающим сопротивление от посторонних сил. Перенесясь таким образом в предмет, волевые чувства как бы одушевляют его и освобождают зрителя от исполнения действия» (29, с. 223).
Вот какой сложной действительностью оказывается для Вундта даже процесс элементарного эстетического чувства, и в полном согласии с этим анализом Вундт презрительно отзывается о работе К. Ланге и других психологов, утверждающих, что «в сознании и художника и воспринимающего его творение нет другой цели, кроме удовольствия… Имел ли Бетховен цель доставить себе и другим удовольствие, когда он в Девятой симфонии излил в звуках все страсти человеческой души, от глубочайшего горя до самой светлой радости?» (29, с. 245). Спрашивая так, Вундт, конечно, хотел показать, что если мы в обыденной речи неосторожно называем впечатление от Девятой симфонии удовольствием, то для психолога это есть непростительная ошибка.
На отдельном примере легче всего показать, как бессилен формальный метод сам по себе, не поддержанный психологическим объяснением, и как всякий частный вопрос художественной формы при некотором развитии утыкается в вопросы психологические и сейчас же обнаруживает совершенную несостоятельность элементарного гедонизма. Я хочу показать это на примере учения о роли звуков в стихе в том виде, как оно развито формалистами.
Формалисты начали с подчеркивания первенствующего 87 значения звуковой стороны стиха. Они стали утверждать, что звуковая сторона в стихе имеет первенствующее значение и что даже «восприятия стихотворения обыкновенно тоже сводятся к восприятию его звукового прообраза. Всем известно, как глухо мы воспринимаем содержание самых, казалось бы, понятных стихов» (130, с. 22).
Основываясь на этом совершенно правильном наблюдении, Якубинский пришел к совершенно правильным выводам: «В стихотворно-языковом мышлении звуки всплывают в светлое поле сознания; в связи с этим возникает эмоциональное к ним отношение, которое в свою очередь влечет установление известной зависимости между “содержанием” стихотворения и его звуками; последнему способствуют также выразительные движения органов речи» (141, с. 49).
Таким образом, из объективного анализа формы, не прибегая к психологии, можно установить только то, что звуки играют какую-то эмоциональную роль в восприятии стихотворения, но установить это — значит явно обратиться за объяснением этой роли к психологии. Вульгарные попытки определить эмоциональные свойства звуков из непосредственного воздействия на нас не имеют под собой решительно никакой почвы. Когда Бальмонт определял эмоциональный смысл русской азбуки, говоря, что «а» самый ясный, влажный, ласковый звук, «м» — мучительный звук, «и» — «звуковой лик изумления, испуга» (11, с. 59 – 62 и далее), он все эти утверждения мог подтвердить более или менее убедительными отдельными примерами. Но ровно столько же можно было привести примеров, говорящих как раз обратное: мало ли есть русских слов с «и», которые никакого удивления не выражают. Теория эта стара как мир и бесконечное число раз подвергалась самой решительной критике26.
И те подсчеты, которые делает Белый, указывая на глубокую значительность звуков «р», «д», «т» в поэзии Блока (14, с. 282 – 283), и те соображения, которые высказывает Бальмонт, одинаково лишены всякой научной убедительности. Горнфельд приводит по этому поводу умное замечание Михайловского по поводу подобной же теории, указывавшей, что звук «а» заключает в себе нечто повелительное. «Достойно внимания, что акать по конструкции языка приходится главным образом женщинам: 88 я, Анна, была бита палкой; я, Варвара, заперта была в тереме и проч. Отсюда повелительный характер русских женщин» (35, с. 135, 136).
Вунд показал, что звуковая символика27 встречается в языке чрезвычайно редко и что количество таких слов в языке ничтожно по сравнению с количеством слов, не имеющих никакой звуковой значимости; а такие исследователи, как Нироп и Граммон28, вскрыли даже психологический источник происхождения звуковой выразительности отдельных слов. «Все звуки в языке, гласные и согласные, могут приобретать выразительное значение, когда тому способствует самый смысл того слова, где они встречаются. Если смысл слова в этом отношении содействия не оказывает, звуки остаются невыразительными. Очевидно, что если в стихе имеется скопление известных звуковых явлений, эти последние, смотря по выражаемой ими идее, станут выразительными, либо наоборот. Один и тот же звук может служить для выражения довольно далеких друг от друга идей» (146, р. 206).
Точно то же устанавливает и Нирон, приводя громадное количество слов выразительных и невыразительных, но построенных на том же самом звуке. «Существовала мысль, что между тремя “о” слова monotone и его смыслом имеется таинственная связь. Ничего подобного нет на самом деле. Повторение одной и той же глухой гласной наблюдается и в других словах, совершенно различного значения: protocole, monopole, chronologic, zoologien т. д.». Что же касается до выразительных слов, то, чтобы лучше передать нашу мысль, нам не остается ничего другого, как привести следующее место из Шарля Балли: «Если звучание слова может ассоциироваться с его значением, то некоторые звукосочетания способствуют чувственному восприятию и вызывают конкретное представление; сами по себе звуки не способны произвести подобное действие» (10, с. 75). Таким образом, все исследователи согласно сходятся на одном, что звуки сами по себе никакой эмоциональной выразительностью не обладают и из анализа свойств самих звуков мы никогда не сумеем вывести законов их воздействия на нас. Звуки становятся выразительными, если этому способствует смысл слова. Звуки могут сделаться выразительными, если этому содействует стих29. Иначе говоря, самая ценность звуков в стихе оказывается вовсе не самоцелью воспринимающего процесса, 89 как полагает Шкловский, а есть сложный психологический эффект художественного построения. Любопытно, что и сами формалисты приходят к сознанию необходимости выдвинуть на место эмоционального действия отдельных звуков значение звукообраза, утверждая, как это сделано, например, в исследовании Д. Выгодского о «Бахчисарайском фонтане», что этот звукообраз и основанный на нем подбор звуков имеет своей целью отнюдь не чувственное удовольствие от восприятия звуков самих по себе, а известное доминирующее значение, «заполняющее в данный момент сознание поэта» и связанное, как можно предположить, со сложнейшими личными переживаниями поэта, — так что исследователь решается высказать догадку, будто в основании звукообраза пушкинской поэмы лежало имя Раевской (95, с. 50 и далее).
Так же точно Эйхенбаум критикует выдвигаемое Белым положение, будто «инструментовка поэтов бессознательно выражает аккомпанирование внешней формою идейного содержания поэзии» (14, с. 283).
Эйхенбаум совершенно справедливо указывает, что ни звукоподражание, ни элементарная символика не присущи звукам стиха (138, с. 204 и далее). И отсюда сам собой напрашивается вывод, что задача звукового построения в стихе выходит за пределы простого чувственного удовольствия, которое мы получаем от звуков. И то, что мы хотели обнаружить здесь на частном примере учения о звуках, в сущности говоря, может быть распространено на все решительно вопросы, решаемые формальным методом. Везде и всюду мы натыкаемся на игнорирование соответствующей исследуемому произведению искусства психологии и, следовательно, неумение правильно его истолковать, исходя только из анализа его внешних и объективных свойств.
И в самом деле, основной принцип формализма оказывается совершенно бессильным для того, чтобы вскрыть и объяснить исторически меняющееся социально-психологическое содержание искусства и обусловленный им выбор темы, содержания или материала. Толстой критиковал Гончарова, как совершенно городского человека, который говорил, что из народной жизни после Тургенева писать нечего, «жизнь же богатых людей, с ее влюблениями и недовольством собою, ему казалась полною бесконечного содержания. Один герой поцеловал свою даму 90 в ладонь, а другой в локоть, а третий еще как-нибудь. Один тоскует от лени, а другой оттого, что его не любят. И ему казалось, что в этой области нет конца разнообразию… Мы думаем, что чувства, испытываемые людьми нашего времени и круга, очень значительны и разнообразны, а между тем в действительности почти все чувства людей нашего круга сводятся к трем, очень ничтожным и несложным чувствам: к чувству гордости, половой похоти и к чувству тоски жизни. И эти три чувства и их разветвления составляют почти исключительное содержание искусства богатых классов» (106, с. 86 – 87).
Можно не соглашаться с Толстым в том, что все содержание искусства сводится именно к этим трем чувствам, но что каждая эпоха имеет свою психологическую гамму, которую перебирает искусство, — это едва ли станет отрицать кто-нибудь после того, как исторические исследования в достаточной степени разъяснили справедливость этого факта.
Мы видим, что формализм пришел к той же самой идее, но только с другой стороны, к которой подходили и потебнианцы: он оказался тоже бессилен перед идеей изменения психологического содержания искусства и выдвинул такие положения, которые не только ничего не разъяснили в психологии искусства, но сами нуждаются в объяснении со стороны последней. В русском потебнианстве и в формализме, в их теоретической и практической неудаче, несмотря на все частичные огромные заслуги того и другого течения, сказался основной грех всякой теории искусства, которая попытается исходить только из объективных данных художественной формы или содержания и не будет опираться в своих построениях ни на какую психологическую теорию искусства.
91 Глава IV
Искусство и психоанализ
Бессознательное в психологии искусства. Психоанализ искусства. Непонимание
социальной психологии искусства. Критика пансексуализма и инфантильности. Роль
сознательных моментов в искусстве. Практическое применение психоаналитического
метода.
Уже рассмотренные нами прежде две психологические теории искусства показали с достаточной ясностью, что до тех пор, пока мы будем ограничиваться анализом процессов, происходящих в сознании, мы едва ли найдем ответ на самые основные вопросы психологии искусства. Ни у поэта, ни у читателя не сумеем мы узнать, в чем заключается сущность того переживания, которое связывает их с искусством, и, как легко заметить, самая существенная сторона искусства в том и заключается, что и процессы его создания и процессы пользования им оказываются как будто непонятными, необъяснимыми и скрытыми от сознания тех, кому приходится иметь с ними дело.
Мы никогда не сумеем сказать точно, почему именно понравилось нам то или другое произведение; словами почти нельзя выразить сколько-нибудь существенных и важных сторон этого переживания, и, как отмечал еще Платой (в диалоге «Ион») (см. 86), сами поэты меньше всего знают, каким способом они творят.
Не надо особой психологической проницательности для того, чтобы заметить, что ближайшие причины художественного эффекта скрыты в бессознательном30 и что, только проникнув в эту область, мы сумеем подойти вплотную к вопросам искусства. С анализом бессознательного в искусстве произошло то же самое, что вообще с введением этого понятия в психологию. Психологи склонны были утверждать, что бессознательное, по самому смыслу этого слова, есть нечто находящееся вне нашего сознания, то есть скрытое от нас, неизвестное нам, и, следовательно, по самой природе своей оно есть нечто непознаваемое. Как только мы познаем бессознательное, оно сейчас же перестанет быть бессознательным, 92 и мы опять имеем дело с фактами нашей обычной психики.
Мы уже указывали в первой главе, что такая точка зрения ошибочна и что практика блестяще опровергла эти доводы, показав, что наука изучает не только непосредственно данное и сознаваемое, но и целый ряд таких явлений и фактов, которые могут быть изучены косвенно, посредством следов, анализа, воссоздания и при помощи материала, который не только совершенно отличен от изучаемого предмета, но часто заведомо является ложным и неверным сам по себе. Так же точно и бессознательное делается предметом изучения психолога не само по себе, но косвенным путем, путем анализа тех следов, которые оно оставляет в нашей психике. Ведь бессознательное не отделено от сознания какой-то непроходимой стеной. Процессы, начинающиеся в нем, имеют часто свое продолжение в сознании, и, наоборот, многое сознательное вытесняется нами в подсознательную сферу. Существует постоянная, ни на минуту не прекращающаяся, живая динамическая связь между обеими сферами нашего сознания. Бессознательное влияет на наши поступки, обнаруживается в нашем поведении, и по этим следам и проявлениям мы научаемся распознавать бессознательное и законы, управляющие им.
Вместе с этой точкой зрения отпадают прежние приемы толкования психики писателя и читателя, и за основу приходится брать только объективные и достоверные факты, анализируя которые можно получить некоторое знание о бессознательных процессах. Само собой разумеется, что такими объективными фактами, в которых бессознательное проявляется всего ярче, являются сами произведения искусства и они-то и делаются исходной точкой для анализа бессознательного.
Всякое сознательное и разумное толкование, которое дает художник или читатель тому или иному произведению, следует рассматривать при этом как позднейшую рационализацию, то есть как некоторый самообман, как некоторое оправдание перед собственным разумом, как объяснение, придуманное постфактум.
Таким образом, вся история толкований и критики как история того явного смысла, который читатель последовательно вносил в какое-нибудь художественное 93 произведение, есть не что иное, как история рационализации, которая всякий раз менялась по-своему, и те системы искусства, которые сумели объяснить, почему менялось понимание художественного произведения от эпохи к эпохе, в сущности, очень мало внесли в психологию искусства как таковую, потому что им удалось объяснить, почему менялась рационализация художественных переживании, но как менялись самые переживания — этого такие системы открыть не в силах.
Совершенно правильно говорят Ранк и Сакс, что основные эстетические вопросы остаются неразрешимыми, «пока мы при нашем анализе ограничиваемся только процессами, разыгрывающимися в сфере нашего сознания… Наслаждение художественным творчеством достигает своего кульминационного пункта, когда мы почти задыхаемся от напряжения, когда волосы встают дыбом от страха, когда непроизвольно льются слезы сострадания и сочувствия. Все это ощущения, которых мы избегаем в жизни и странным образом ищем в искусстве. Действие этих аффектов, очевидно, совсем иное, когда они исходят из произведений искусства, и это эстетическое изменение действия аффекта от мучительного к приносящему наслаждение является проблемой, решение которой может быть дано только при помощи анализа бессознательной душевной жизни» (156, с. 127 – 128).
Психоанализ и является такой психологической системой, которая предметом своего изучения избрала бессознательную жизнь и ее проявления. Совершенно понятно, что для психоанализа было особенно соблазнительно попробовать применить свой метод к толкованию вопросов искусства. До сих пор психоанализ имел дело с двумя главными фактами проявления бессознательного — сновидением и неврозом. И первую и вторую форму он понимал и толковал как известный компромисс или конфликт между бессознательным и сознательным. Естественно было попытаться взглянуть и на искусство в свете этих двух основных форм проявления бессознательного. Психоаналитики с этого и начали, утверждая, что искусство занимает среднее место между сновидением и неврозом и что в основе его лежит конфликт, который уже «перезрел для сновидения, но еще не сделался патогенным» (157, S. 53). 94 В нем так же, как и в этих двух формах, проявляется бессознательное, но только несколько иным способом, хотя оно совершенно той же природы. «Таким образом, художник в психологическом отношении стоит между сновидцем и невротиком; психологический процесс в них по существу одинаков, он только различен по степени…» (157, S. 53). Легче всего представить себе психоаналитическое объяснение искусства, если последовательно проследить объяснение творчества поэта и восприятие читателя при помощи этой теории. Фрейд указывает на две формы проявления бессознательного и изменения действительности, которые подходят к искусству ближе, чем сон и невроз, и называет детскую игру и фантазии наяву. «Несправедливо думать, — говорит он, — что ребенок смотрит на созданный им мир несерьезно; наоборот, он относится к игре очень серьезно, вносит в нее много одушевления. Противоположение игре не серьезность, но — действительность. Ребенок прекрасно отличает, несмотря на все увлечения, созданный им мир от действительного и охотно ищет опоры для воображаемых объектов и отношений в осязаемых и видимых предметах действительной жизни… Поэт делает то же, что и играющее дитя, он создает мир, к которому относится очень серьезно, то есть вносит много увлечения, в то же время резко отделяя его от действительности» (121, с. 18). Когда ребенок перестает играть, он не может, однако, отказаться от того наслаждения, которое ему прежде доставляла игра. Он не может найти в действительности источник для этого удовольствия, и тогда игру ему начинают заменять сны наяву или те фантазии, которым предается большинство людей в мечтах, воображая осуществление своих часто любимых эротических или каких-либо иных влечений. «… Вместо игры он теперь фантазирует. Он строит воздушные замки, творит то, что называют “снами наяву”» (121, с. 19). Уже фантазирование наяву обладает двумя существенными моментами, которые отличают его от игры и приближают к искусству. Эти два момента следующие: во-первых, в фантазиях могут проявляться в качестве их основного материала и мучительные переживания, которые тем не менее доставляют удовольствие, случай как будто напоминает изменение аффекта в искусстве. Ранк говорит, что в них даются 95 «ситуации, которые в действительности были бы чрезвычайно мучительны; они рисуются фантазией, тем не менее с тем же наслаждением. Наиболее частый тип таких фантазий — собственная смерть, затем другие страдания и несчастья. Бедность, болезнь, тюрьма и позор представлены далеко не редко; не менее редко в таких снах выполнение позорного преступления и его обнаружение» (157, с. 131).
Правда, Фрейд в анализе детской игры показал, что и в играх ребенок претворяет часто мучительные переживания, например, когда он играет в доктора, причиняющего ему боль, и повторяет те же самые операции в игре, которые в жизни причиняли ему только слезы и горе (см. 143).
Однако в снах наяву мы имеем те же явления в неизмеримо более яркой и резкой форме, чем в детской игре.
Другое существенное отличие от игры Фрейд замечает в том, что ребенок никогда не стыдится своей игры31 и не скрывает своих игр от взрослых, «а взрослый стыдится своих фантазий и прячет их от других, он скрывает их, как свои сокровеннейшие тайны, и охотнее признается в своих проступках, чем откроет свои фантазии. Возможно, что он вследствие этого считает себя единственным человеком, который имеет подобные фантазии, и не имеет представления о широком распространении подобного же творчества среди других».
Наконец, третье и самое существенное для понимания искусства в этих фантазиях заключается в том источнике, из которого они берутся. Нужно сказать, что фантазирует отнюдь не счастливый, а только неудовлетворенный. Неудовлетворенные желания — побудительные стимулы фантазии. Каждая фантазия — это осуществление желания, корректив к неудовлетворяющей действительности. Поэтому Фрейд полагает, что в основе поэтического творчества, так же как в основе сна и фантазий, лежат неудовлетворенные желания, часто такие, «которых мы стыдимся, которые мы должны скрывать от самих себя и которые поэтому вытесняются в область бессознательного» (121, с. 20, 23).
Механизм действия искусства в этом отношении совершенно напоминает механизм действия фантазии. Так, фантазия возбуждается обычно сильным, настоящим 96 переживанием, которое «будит в писателе старые воспоминания, большей частью относящиеся к детскому переживанию, исходному пункту желания, которое находит осуществление в произведении… Творчество, как “сон наяву”, является продолжением и заменой старой детской игры» (121, с. 26, 27). Таким образом, художественное произведение для самого поэта является прямым средством удовлетворить неудовлетворенные и неосуществленные желания, которые в действительной жизни не получили осуществления. Как это совершается, можно понять при помощи теории аффектов, развитой в психоанализе. С точки зрения этой теории аффекты «могут остаться бессознательными, в известных случаях должны остаться бессознательными, причем отнюдь не теряется действие этих аффектов, неизменно входящее в сознание. Попадающее таким путем в сознание наслаждение или же чувство ему обратное скрепляется с другими аффектами или же с относящимися к ним представлениями… Между обоими должна существовать тесная ассоциативная связь, и по пути, проложенному этой ассоциацией, перемещается наслаждение и соединенная с этим энергия. Если эта теория правильна, то должно быть возможно и ее применение на нашей проблеме. Вопрос разрешался бы приблизительно так: художественное произведение вызывает наряду с сознательными аффектами также и бессознательные, гораздо большей интенсивности и часто противоположно окрашенные. Представления, с помощью которых это совершается, должны быть так избраны, чтобы у них наряду с сознательными ассоциациями были бы достаточные ассоциации с типичными бессознательными комплексами аффектов. Способность выполнить эту сложную задачу художественное произведение приобретает в силу того, что при своем возникновении оно играло в душевной жизни художника ту же роль, что для слушателя при репродукции, то есть давало возможность отвода и фантастического удовлетворения общих им бессознательных желаний» (156, с. 132 – 134).
На этом основании целый ряд исследователей развивает теорию поэтического творчества, в которой сопоставляет художника с невротиком, хотя вслед за Штеккелем называет смехотворным построение Ломброзо и проводимое им сближение между гением и сумасшедшим. 97 Для этих авторов поэт совершенно нормален. Он невротик и «осуществляет психоанализ на своих поэтических образах. Он чужие образы трактует как зеркало своей души. Он предоставляет своим диким наклонностям вести довлеющую жизнь в построенных образах фантазии». Вслед за Гейне они склонны думать, что поэзия есть болезнь человека, спор идет только о том, к какому типу душевной болезни следует приравнять поэта. В то время как Ковач приравнивает поэта к параноику, который склонен проецировать свое «я» вовне, а читателя уподобляет истерику, который склонен субъективировать чужие переживания, Ранк склонен в самом художнике видеть не параноика, а истерика. Во всяком случае, все согласны с тем, что поэт в творчестве высвобождает свои бессознательные влечения при помощи механизма переноса или замещения, соединяя прежние аффекты с новыми представлениями. Поэтому, как говорит один из героев Шекспира, поэт выплакивает собственные грехи в других людях, и знаменитый вопрос Гамлета: что ему Гекуба или он ей, что он так плачет о ней, — Ранк разъясняет в том смысле, что с представлением Гекубы у актера соединяются вытесненные им массы аффекта, и в слезах, оплакивающих как будто несчастье Гекубы, актер на самом деле изживает свое собственное горе. Мы знаем знаменитое признание Гоголя, который утверждал, что он избавлялся от собственных недостатков и дурных влечений, наделяя ими героев и отщепляя таким образом в своих комических персонажах собственные пороки. Такие же признания засвидетельствованы целым рядом других художников, и Ранк отмечает, отчасти совершенно справедливо, что, «если Шекспир видел до основания душу мудреца и глупца, святого и преступника, он не только бессознательно был всем этим — таков, быть может, всякий, — но он обладал еще отсутствующим у всех нас остальных дарованием видеть свое собственное бессознательное и из своей фантазии создавать, по-видимому, самостоятельные образы» (156, с. 17).
Совершенно серьезно психоаналитики утверждают, как говорит Мюллер-Фрейенфельс, что Шекспир и Достоевский потому не сделались преступниками, что изображали убийц в своих произведениях и таким образом изживали свои преступные наклонности. При этом искусство 98 оказывается чем-то вроде терапевтического лечения32 для художника и для зрителя — средством уладить конфликт с бессознательным, не впадая в невроз. Но так как психоаналитики склонны все влечения сводить к одному и Ранк даже берет эпиграфом к своему исследованию слова поэта Геббеля: «Удивительно, до какой степени можно свести все человеческие влечения к одному», у них по необходимости вся поэзия сводится к сексуальным переживаниям, как лежащим в основе всякого поэтического творчества и восприятия; именно сексуальные влечения, по учению психоанализа, составляли основной резервуар бессознательного, и тот перевод фондов психической энергии, который совершается в искусстве, есть по преимуществу сублимация половой энергии, то есть отклонение ее от непосредственно сексуальных целей и превращение в творчество. В основе искусства лежат всегда бессознательные и вытесненные, то есть несоглашающиеся с нашими моральными, культурными и т. п. требованиями, влечения и желания. Именно потому запретные желания при помощи искусства достигают своего удовлетворения в наслаждении художественной формой.
Но именно при определении художественной формы сказывается самая слабая сторона рассматриваемой нами теории — как она понимает форму. На этот вопрос психоаналитики никак не дают исчерпывающего ответа33, а те попытки решения, которые они делают, явно указывают на недостаточность их отправных принципов. Подобно тому как во сне пробуждаются такие желания, которых мы стыдимся, так же, говорят они, и в искусстве находят свое выражение только такие желания, которые не могут быть удовлетворены прямым путем. Отсюда понятно, что искусство всегда имеет дело с преступным, стыдным, отвергаемым. И подобно тому как во сне подавленные желания проявляются в сильно искаженном виде, так же точно в художественном произведении они проявляются замаскированные формой.
«После того как научным изысканиям, — говорит Фрейд, — удалось установить искажение снов, нетрудно увидеть, что сны представляют такое же осуществление желаний, как и “сны наяву”, всем нам хорошо знакомые фантазии» (121, с. 23 – 24). Так же точно и 99 художник, для того чтобы дать удовлетворение своим вытесненным желаниям, должен облечь их в художественную форму, которая с точки зрения психоанализа имеет два основных значения.
Во-первых, эта форма должна давать неглубокое и поверхностное, как бы самодовлеющее удовольствие чисто чувственного порядка и служить приманкой, обещанной премией или, правильнее сказать, предварительным наслаждением, заманивающим читателей в трудное и тяжелое дело отреагирования бессознательного.
Другое ее назначение состоит в том, чтобы создать искусственную маскировку, компромисс, позволяющий и обнаружиться запретным желаниям и тем не менее обмануть вытесняющую цензуру сознания.
С этой точки зрения форма исполняет ту же самую функцию, что искажение в сновидениях. Ранк прямо говорит, что эстетическое удовольствие равно у художника, как и воспринимающего, есть только Vorlust, которое скрывает истинный источник удовольствия, чем обеспечивает и усиливает его основной эффект. Форма как бы заманивает читателя и зрителя и обманывает его, так как он полагает, что все дело в ней, и обманутый этой формой читатель получает возможность изжить свои вытесненные влечения.
Таким образом, психоаналитики различают два момента удовольствия в художественном произведении: один момент — предварительного наслаждения и другой — настоящего. К этому предварительному наслаждению аналитики и сводят роль художественной формы. Следует внимательно разобраться в том, насколько исчерпывающе и согласно с фактами эта теория трактует психологию художественной формы. Сам Фрейд спрашивает: «Как это удается писателю? — это его сокровеннейшая тайна; в технике преодоления того, что нас отталкивает… лежит истинная poetica. Мы можем предположить двух родов средства: писатель смягчает характер эгоистических “снов наяву” изменениями и затушевываниями и подкупает нас чисто формальными, то есть, эстетическими, наслаждениями, которые он дает при изображении своих фантазий… Я того мнения, что всякое эстетическое наслаждение, данное нам писателем, носит характер этого “преддверия наслаждения” и что настоящее наслаждение от поэтического произведения 100 объясняется освобождением от напряжения душевных сил» (121, с. 28).
Таким образом, и Фрейд спотыкается на том же самом месте о пресловутое художественное наслаждение, и как он разъясняет в своих последних работах, «хотя искусство, как трагедия, возбуждает в нас целый ряд мучительных переживаний, тем не менее конечное его действие подчинено принципу удовольствия так же точно, как и детская игра» (см. 143).
Однако при анализе этого удовольствия теория впадает в невероятный эклектизм. Помимо двух уже указанных нами источников удовольствия многие авторы называют еще целый ряд других. Так, Ранк и Сакс указывают на экономию аффекта, которому художник не дает моментально бесполезно разгореться, но заставляет медленно и закономерно повышаться. И эта экономия аффекта оказывается источником наслаждения. Другим источником оказывается экономия мысли, которая, сберегая энергию при восприятии художественного произведения, опять-таки источает удовольствие. И, наконец, чисто формальный источник чувственного удовольствия эти авторы видят в рифме, в ритме, в игре словами, которую сводят к детской радости. Но и это удовольствие, оказывается, опять дробится на целый ряд отдельных форм: так, например, удовольствие от ритма объясняется и тем, что ритм издавна служит средством для облегчения работы, и тем, что важнейшие формы сексуального действия и сам половой акт ритмичны и что «таким путем определенная деятельность при помощи ритма приобретает известное сходство с сексуальными процессами, сексуализируется» (156, с. 139 – 140).
Все эти источники переплетаются в самой пестрой и ничем не обоснованной связи и в целом оказываются совершенно бессильными объяснить значение и действие художественной формы. Она объясняется только как фасад, за которым скрыто действительное наслаждение, а действие этого наслаждения основывается в конечном счете скорее на содержании произведения, чем на его форме. «Неоспоримой истиной считается, что вопрос: “Получит ли Ганс свою Грету?” — является главной темой поэзии, бесконечно повторяющейся в бесконечных вариантах и никогда не утомляющей ни поэта, ни его публики» (156, с. 141), и различие между отдельными 101 родами искусства в конечном счете сводится психоанализом к различию форм детской сексуальности. Так, изобразительное искусство объясняется и понимается при этом как сублимирование инстинкта сексуального разглядывания, а пейзаж возникает из вытеснения этого желания. Из психоаналитических работ мы знаем, что «… у художников стремление к изображению человеческого тела заменяет интерес к материнскому телу и что интенсивное вытеснение этого желания инцестуозного переносит интерес художника с человеческого тела на природу. У писателя, не интересующегося природой и ее красотами, мы находим сильное вытеснение страсти к разглядыванию» (76, с. 71).
Другие роды и виды искусства объясняются приблизительно так же, совершенно аналогично с другими формами детской сексуальности, причем общей основой всякого искусства является детское сексуальное желание, известное под именем комплекса Эдипа, который является «психологическим базисом искусства. Особенное значение в этом отношении имеет комплекс Эдипа, из сублимированной инстинктивной силы которого почерпнуты образцовые произведения всех времен и народов» (156, с. 142).
Сексуальное лежит в основе искусства и определяет собой и судьбу художника, и характер его творчества. Совершенно непонятным при этом истолковании делается действие художественной формы; она остается каким-то придатком, несущественным и не очень важным, без которого, в сущности говоря, можно было бы и обойтись. Наслаждение составляет только одновременное соединение двух противоположных сознаний: мы видим и переживаем трагедию, но сейчас же соображаем, что это происходит не в самом деле, что это только кажется. И в таком переходе от одного сознания к другому и заключается основной источник наслаждения. Спрашивается, почему всякий другой, не художественный рассказ не может исполнить той же самой роли? Ведь и судебная хроника, и уголовный роман, и просто сплетня, и длинные порнографические разговоры служат постоянно таким отводом для неудовлетворенных и неисполненных желаний. Недаром Фрейд, когда говорит о сходстве романов с фантазиями, должен взять за образец откровенно плохие романы, сочинители которых 102 угождают массовому и довольно невзыскательному вкусу, давая пищу не столько для эстетических эмоций, сколько для открытого изживания скрытых стремлений.
И становится совершенно непонятным, почему «поэзия пускает в ход… всевозможные ласки, изменение мотивов, превращение в противоположность, ослабление связи, раздробление одного образа в многие, удвоение процессов, опоэтизирование материала, в особенности же символы» (156, с. 134).
Гораздо естественнее и проще было бы обойтись без всей этой сложной деятельности формы и в откровенном и простом виде отвлечь и изжить соответствующее желание. При таком понимании чрезвычайно снижается социальная роль искусства, и оно начинает казаться нам только каким-то противоядием, которое имеет своей задачей спасать человечество от пороков, но не имеет никаких положительных задач для нашей психики.
Ранк указывает, что художники «принадлежат к вождям человечества в борьбе за усмирение и облагораживание враждебных культуре инстинктов», что они «освобождают людей от вреда, оставляя им в то же время наслаждение» (156, с. 147 – 148). Ранк совершенно прямо заявляет: «Надо прямо сказать, что по крайней мере в нашей культуре искусство в целом слишком переоценивается» (157, S. 55). Актер — это только врач, и искусство только спасает от болезни. Но гораздо существеннее то непонимание социальной психологии искусства, которое обнаруживается при таком подходе. Действие художественного произведения и поэтического творчества выводится всецело и без остатка из самых древних инстинктов, остающихся неизменными на всем протяжении культуры, и действие искусства ограничивается всецело узкой сферой индивидуального сознания. Нечего и говорить, что это роковым образом противоречит всем самым простейшим фактам действительного положения искусства и его действительной роли. Достаточно указать на то, что и самые вопросы вытеснения — что именно вытесняется, как вытесняется — обусловливаются всякий раз той социальной обстановкой, в которой приходится жить и поэту и читателю. И поэтому, если взглянуть на искусство с точки зрения психоанализа, сделается совершенно непонятным историческое развитие искусства, изменение его социальных функций, потому 103 что с этой точки зрения искусство всегда и постоянно, от своего начала и до наших дней, служило выражением самых древних и консервативных инстинктов. Если искусство отличается чем-либо от сна и от невроза, то прежде всего тем, что его продукты социальны в отличие от сновидений и от симптомов болезни, и это совершенно верно отмечает Ранк. Но он оказывается совершенно бессильным сделать какие-либо выводы из этого факта и оценить его по достоинству, указать и объяснить, что именно делает искусство социально ценным и каким образом через эту социальную ценность искусства социальное получает власть над нашим бессознательным. Поэт просто оказывается истериком, который как бы вбирает в себя переживания множества совершенно посторонних людей, и оказывается совершенно неспособным выйти из узкого круга, который создан его собственной инфантильностью. Почему все действующие лица в драме непременно должны рассматриваться как воплощение отдельных психологических черт самого художника? (175, S. 78). Если это понятно для невроза и для сна, то это делается совершенно непонятным для такого социального симптома бессознательного, каким является искусство. Психоаналитики сами не могут справиться с тем огромным выводом, который получился из их построения. То, что они нашли, в сущности, имеет только один смысл, чрезвычайно важный для социальной психологии. Они утверждают, что искусство по своему существу есть превращение нашего бессознательного в некие социальные формы, то есть имеющие какой-то общественный смысл и назначение формы поведения. Но описать и объяснить эти формы в плане социальной психологии психоаналитики отказались. И чрезвычайно легко показать, почему это случилось именно так: два основных греха заключает в себе психоаналитическая теория с точки зрения социальной психологии.
Первым является ее желание свести во что бы то ни стало все решительно проявления человеческой психики к одному сексуальному влечению. Этот пансексуализм кажется совершенно необоснованным в особенности тогда, когда он применяется к искусству. Может быть, это было бы и верно для человека, рассматриваемого вне общества, когда он замкнут в узком круге своих собственных инстинктов. Но как можно согласиться с тем, 104 что у общественного человека, участвующего в очень сложных формах социальной деятельности, не могут возникать и существовать всевозможного рода другие влечения и стремления, которые не менее, чем сексуальные, могут определять его поведение и даже господствовать над ним? Чрезмерное преувеличение роли полового чувства кажется особенно очевидным, как только мы от масштаба индивидуальной психологии переходим к психологии социальной. Но даже для личной психики кажутся чрезмерной натяжкой те допущения, которые делает психоанализ. «По утверждению некоторых психоаналитиков, там, где художник рисует прекрасный портрет своей матери или в поэтическом образе воплощает любовь к матери, скрыто исполненное страха инцестуозное желание (комплекс Эдипа). Когда скульптор создает фигуры мальчиков или поэт воспевает горячую юношескую дружбу, психоаналитик сейчас же готов усмотреть в этом гомосексуализм в самых крайних формах… При чтении таких аналитиков создается впечатление, будто вся душевная жизнь состоит только из дочеловеческих страшных влечений, как будто все представления, волевые движения, сознание только мертвые куклы, которые тянут за ниточки ужасные инстинкты» (154, S. 183).
И в самом деле, психоаналитики, указывая на чрезмерно важную роль бессознательного, сводят совершенно на нет всякое сознание, которое, по выражению Маркса, составляет единственное отличие человека от животного: «Человек отличается от барана лишь тем, что сознание заменяет ему инстинкт, или же — что его инстинкт осознан» (3, с. 30). Если прежние психологи чрезмерно преувеличивали роль сознания, утверждая его всемогущество, то психоаналитики перегибают палку в другой конец, сводя роль сознания к нулю и утверждая за ним только способность служить слепым орудием в руках бессознательного. Между тем элементарнейшие исследования показывают, что и в сознании могут происходить совершенно такие же процессы. Так, экспериментальные исследования Лазурского о влиянии различного чтения на ход ассоциаций показали, что «уже тотчас после прочтения рассуждения наступает в уме распадение прочитанного отрывка, комбинации различных его частей с находившимся ранее в уме запасом 105 мыслей, понятий и представлений» (66, с. 108). Здесь мы имеем совершенно аналогичный процесс распадения и ассоциативного комбинирования прочитанного с прежним душевным запасом. Неучет сознательных моментов в переживании искусства стирает совершенно грань между искусством как осмысленной социальной деятельностью и бессмысленным образованием болезненных симптомов у невротиков или беспорядочным нагромождением образов во сне.
Легче и проще всего обнаружить все эти коренные недостатки рассматриваемой теории на тех практических применениях психоаналитического метода, которые сделаны исследователями в иностранной и русской литературе. Здесь сейчас же открывается необычайная бедность этого метода и его полная несостоятельность с точки зрения социальной психологии. В исследовании о Леонардо да Винчи Фрейд пытается вывести всю его судьбу и все его творчество из его основных детских переживаний, относящихся к самым ранним годам его жизни. Он говорит, что ему хотелось показать, «каким образом художественная деятельность проистекает из первоначальных душевных влечений» (118, с. 111). И когда он заканчивает это исследование, он говорит, что боится услышать приговор, что он просто написал психологический роман, и сам должен сознаться, что он не переоценивает достоверности своих выводов. Для читателя достоверность эта положительно приближается к нулю, поскольку от начала и до самого конца ему приходится иметь дело с догадками, с толкованиями, с сопоставлениями фактов творчества и фактов биографии, между которыми прямой связи установить нельзя. Создается такое впечатление, что психоанализ располагает каким-то каталогом сексуальных символов, что символы эти всегда — во все века и для всех народов — остаются одни и те же и что стоит на манер снотолкователя найти соответствующие символы в творчестве того или другого художника, чтобы по ним восстановить Эдипов комплекс, страсть к разглядывайте и т. п. Получается дальше впечатление, что каждый человек прикован к своему Эдипову комплексу и что в самых сложных и высоких формах нашей деятельности мы вынуждены только вновь и вновь переживать свою инфантильность, и, таким образом, все самое высокое творчество 106 оказывается фиксированным на далеком прошлом. Человек как бы раб своего раннего детства, он всю жизнь разрешает и изживает те конфликты, которые создались в первые месяцы его жизни. Когда Фрейд утверждает, что у Леонардо «ключ ко всей разнообразной деятельности духа и неудачливости таился в детской фантазии о коршуне» (118, с. 118) и что эта фантазия в свою очередь раскрывает в переводе на эротический язык символику полового акта, — против такого упрощенного толкования восстает всякий исследователь, который видит, как мало в творчестве Леонардо эта история с коршуном способна раскрыть. Правда, и Фрейд должен признать «известную долю произвольности, которую психоанализом нельзя раскрыть» (118, с. 116). Но если исключить эту известную долю, вся остальная жизнь и все остальное творчество окажутся всецело закабаленными детской половой жизнью. С исчерпывающей ясностью этот недостаток обнаруживается в исследовании о Достоевском Нейфельда: «Как жизнь, так и творчество Достоевского, — говорит он, — загадочны… Но волшебный ключ психоанализа раскрывает эти загадки… Точка зрения психоанализа разъясняет все противоречия и загадки: вечный Эдип жил в этом человеке и создавал эти произведения» (76; с. 12). Поистине гениально! Не волшебный ключ, а какая-то психоаналитическая отмычка, которой можно раскрыть все решительно тайны и загадки творчества. В Достоевском жил и творил вечный Эдип, но ведь основным законом психоанализа считается утверждение, что Эдип живет в каждом решительно человеке. Значит ли это, что, назвав Эдипа, мы разрешили загадку Достоевского? Почему должны мы допустить, что конфликты детской сексуальности, столкновения ребенка с отцом оказались более влиятельными в жизни Достоевского, чем все позднейшие травмы и переживания? Почему не могли мы допустить, что такие, например, переживания, как ожидание казни, как каторга и т. п., не могли служить источником новых и сложных мучительных переживаний? Если мы даже допустим вместе с Нейфельдом, «что писатель ничего иного и не может изобразить, как свои собственные бессознательные конфликты» (76, с. 28), то все же мы никак не поймем, почему эти бессознательные конфликты могут образоваться только из 107 конфликтов раннего детства. «Рассматривая жизнь этого большого писателя в свете психоанализа, мы видим, что его характер, сложившийся под влиянием его отношений к родителям, его жизнь и судьба зависели и целиком определялись его комплексом Эдипа. Извращенность и невроз, болезнь и творческая сила — качество и особенность его характера, все можем мы свести на родительский комплекс и только на него» (76, с. 71 – 72). Нельзя представить себе более яркого опровержения защищаемой Нейфельдом теории, чем сказанное только что. Вся жизнь оказывается нулем по сравнению с ранним детством, и из комплекса Эдипа исследователь берется вывести все решительно романы Достоевского. Но беда в том, что при этом один писатель окажется роковым образом похожим на другого, потому что тот же Фрейд учит, что Эдипов комплекс есть всеобщее достояние. Только совершенно отвернувшись от социальной психологии и закрыв глаза на действительность, можно решиться утверждать, что писатель в творчестве преследует исключительно бессознательные конфликты, что всякие сознательные социальные задания не выполняются автором в его творчестве вовсе. Удивительный пробел окажется тогда в психологической теории, когда она захочет подойти с этим методом и с этими взглядами ко всей области неизобразительного искусства. Как будет она толковать музыку, декоративную живопись, архитектуру, все то, где простого и прямого эротического перевода с языка формы на язык сексуальности сделать нельзя? Эта громадная зияющая пустота самым наглядным образом отвергает психоаналитический подход к искусству и заставляет думать, что настоящая психологическая теория сумеет объединить те общие элементы, которые, несомненно, существуют у поэзии и музыки, и что этими элементами окажутся элементы художественной формы, которую психоанализ считал только масками и вспомогательными средствами искусства. Но нигде чудовищные натяжки психоанализа не бросаются в глаза так, как в русских работах по искусству. Когда профессор Ермаков поясняет, что «Домик в Коломне» надо понимать, как домик колом мне (50, с. 27), или что александрийский стих означает Александра (50, с. 33), а Мавруша означает самого Пушкина, который происходит от мавра (50, с. 26), — то во 108 всем этом ничего, кроме нелепой натяжки и ничего не объясняющей претензии, при всем желании увидеть нельзя. Вот для примера сопоставление, делаемое автором между пророком и домиком. «Как труп в пустыне лежал пророк; вдова, увидев бреющуюся Маврушу, — “ах, ах” и шлепнулась.
Упал измученный пророк — и нет серафима, упала вдова — и простыл след Мавруши…
Бога глас взывает к пророку, заставляя его действовать: “Глаголом жги сердца людей!” Глас вдовы — “ах, ах” — вызывает постыдное бегство Мавруши.
После своего преображения пророк обходит моря и земли и идет к людям; после того как открылся обман, Мавруше не остается ничего другого, как бежать за тридевять земель от людей» (50, с. 162).
Совершенная произвольность и очевидная бесплодность таких сопоставлений, конечно, способна только подорвать доверие к тому методу, которым пользуется профессор Ермаков. И когда он поясняет, что «Иван Никифорович близок к природе: — как велит природа — он Довгочхун, то есть долго чихает, Иван Иванович искусственен, он Перерепенко, он, может быть, вырос сверх репы» (49, с. 111), — он окончательно подрывает доверие к тому методу, который не может избавить нас от совершенно абсурдного истолкования двух фамилий, одной — в смысле близости к природе, другой — в смысле искусственности. Так изо всего можно вывести решительно все. Классическим образцом таких толкований останется навсегда толкование пушкинского стиха Передоновым в классе на уроке словесности: «С своей волчицею голодной выходит на дорогу волк…» «Постойте, это надо хорошенько понять. Тут аллегория скрывается. Волки попарно ходят. Волк с волчицею голодной: волк сытый, а она голодная. Жена всегда после мужа должна есть, жена во всем должна подчиняться мужу». Психологических оснований для такого толкования есть ровно столько же, сколько и у толкований Ермакова. Но небрежность к анализу формы составляет почти всеобщий недостаток всех психоаналитических исследований, и мы знаем только одно исследование, близкое к совершенству в этом отношении: это исследование — «Остроумие» Фрейда, которое тоже исходит из сближения остроты со сновидением. Это исследование, к сожалению, стоит 109 только на грани психологии искусства, потому что сами по себе комический юмор и остроумие, в сущности говоря, принадлежат скорей к общей психологии, чем к специальной психологии искусства. Однако произведение это может считаться классическим образцом всякого аналитического исследования. Фрейд исходит из чрезвычайно тщательного анализа техники остроумия и уже от этой техники, то есть от формы, восходит к соответствующей этой остроте безличной психологии, при этом он отмечает, что при всем сходстве острота для психолога коренным образом отличается от сновидения. «Важнейшее отличие заключается в их социальном соотношении. Сновидение является совершенно асоциальным душевным продуктом; оно не может ничего сказать другому человеку… Острота является, наоборот, самым социальным из всех душевных механизмов, направленных на получение удовольствия» (120, с. 241). Этот тонкий точный анализ позволяет Фрейду не валить в одну кучу все решительно произведения искусства, но даже для таких трех близко стоящих форм, как остроумие, комизм и юмор, указать, три совершенно разных источника удовольствия. Единственной погрешностью самого Фрейда является попытка толковать сновидения вымышленные, которые видят герои литературного произведения как действительные. В этом сказывается тот же наивный подход к произведению искусства, который обнаруживает исследователь, когда по «Скупому рыцарю» хочет изучить действительную скупость.
Так, практическое применение психоаналитического метода ждет еще своего осуществления, и мы можем только сказать, что оно должно реализовать на деле и в практике те громадные теоретические ценности, которые заложены в самой теории. Эти ценности в общем сводятся к одному: к привлечению бессознательного, к расширению сферы исследования, к указанию на то, как бессознательное в искусстве становится социальным34.
Нам придется еще иметь дело с положительными сторонами психоанализа при попытке наметить систему воззрений, которые должны лечь в основу психологии искусства. Однако практическое применение сможет принести какую-либо реальную пользу только в том случае, если оно откажется от некоторых основных и первородных грехов самой теории, если наряду с бессознательным 110 оно станет учитывать и сознание не как чисто пассивный, но и как самостоятельно активный фактор, если оно сумеет разъяснить действие художественной формы, разглядевши в ней не только фасад, но и важнейший механизм искусства; если, наконец, отказавшись от пансексуализма и инфантильности, оно сможет внести в круг своего исследования всю человеческую жизнь, а не только ее первичные и схематические конфликты.
И, наконец, последнее: если оно сможет дать правильное, социально-психологическое истолкование и символике искусства и его историческому развитию и поймет, что искусство никогда не может быть объяснено до конца из малого круга личной жизни, но непременно требует объяснения из большого круга жизни социальной.
Искусство как бессознательное есть только проблема; искусство как социальное разрешение бессознательного — вот ее наиболее вероятный ответ.
111 Анализ эстетической реакции
Глава V
Анализ басни
Басня, новелла, трагедия. Теория басни Лессинга и Потебни. Прозаическая и
поэтическая басня. Элементы построения басни: аллегория, употребление зверей,
мораль, рассказ, поэтический стиль и приемы.
При переходе от критической к положительной части нашего исследования нам казалось более уместным вынести вперед некоторые частные исследования с тем, чтобы наметить важнейшие точки для подведения будущей теоретической линии. Нам казалось нужным подготовить психологический материал для последующих обобщений, поэтому наиболее удобным было расположить исследование от простого к более сложному, и мы намерены предварительно рассмотреть басню, новеллу и трагедию как три постепенно усложняющиеся и возвышающиеся одна над другой литературные формы. Начинать приходится именно с басни, потому что она стоит именно на грани поэзии и всегда выдвигалась исследователями как самая элементарная литературная форма, на которой легче и ярче всего могут быть обнаружены все особенности поэзии. Не боясь преувеличения, можно сказать, что большинство теоретиков во всех своих истолкованиях поэзии исходило из определенного понимания басни. Разъяснив басню, они затем всякое вышестоящее произведение рассматривали уже как более 112 усложненную, но в основе совершенно сходную с басней форму. Поэтому, если познакомиться с тем, как исследователь толкует басню, можно легче всего составить себе представление о его общей концепции искусства.
В сущности, мы имеем только две законченные психологические системы басни: теорию Лессинга и Потебни. Оба эти автора смотрят на басню как на самый элементарный случай и из понимания басни исходят при объяснении всей литературы. Для Лессинга басня определяется следующим образом: если низвести всеобщее нравственное утверждение к частному случаю и рассказать этот случай как действительный, то есть не как пример или сравнение, притом так, чтобы этот рассказ служил наглядному познанию общего утверждения, то это сочинение будет басней.
Очень легко заметить, что именно такой взгляд на художественное произведение как на иллюстрацию известной общей идеи и составляет чрезвычайно распространенное до сих пор отношение к искусству, когда в каждом романе, в каждой картине читатель и зритель хотят разыскать раньше всего главную мысль художника, то, что хотел автор этим сказать, то, что это выражает, и т. п. Басня при таком понимании является только наиболее наглядной формой иллюстрации общей идеи.
Потебня, который исходит из критики этого взгляда и, в частности, системы Лессинга, в согласии с общей своей теорией приходит к выводу, что басня обладает способностью быть «постоянным сказуемым к переменчивым подлежащим, взятым из области человеческой жизни» (92, с. 11). Басня для Потебни является быстрым ответом на вопрос, подходящей схемой для сложных житейских отношений, средством познания или уяснения каких-нибудь запутанных житейских, политических или других отношений. При этом Потебня опять видит в басне ключ к разгадке всей поэзии и утверждает, что «всякое поэтическое произведение и даже всякое слово, в известный момент его существования, состоит из частей, соответственных тем, которые мы замечали в басне. Я постараюсь показать после, что иносказательность есть непременная принадлежность поэтического произведения» (92, с. 12). «… Басня есть один из способов познания житейских отношений, характера человека, одним словом, всего, что относится к нравственной стороне 113 жизни людей» (92, с. 73). Любопытно, что при всем резком различии, которое подчеркивают сторонники формальной теории между своими взглядами и взглядами Потебни, они все же легко соглашаются с формулой Потебни и, критикуя его во всех остальных областях, признают его полнейшую правоту в этой области. Уже это одно делает басню исключительно интересным предметом для формально психологического анализа, как объект, как будто находящийся на самой границе поэзии и для одних представляющий прототип всякого поэтического произведения, а для других — разительное исключение из всего царства искусства. «Теория Потебни, — говорит Шкловский, — меньше всего противоречила сама себе при разборе басни, которая и была исследована Потебней с его точки зрения до конца. К художественным, “вещным” произведениям теория не подошла, а потому и книга Потебни не могла быть дописана…» (129, с. 106). «Система Потебни оказалась состоятельной только в очень узкой области поэзии: в басне и в пословице. Поэтому эта часть труда Потебни была им разработана до конца. Басня и пословица оказались действительно “быстрым ответом на вопрос”. Их образы в самом деле оказались “способом мышления”. Но понятия басни и пословицы весьма мало совпадают с понятием поэзии» (131, с. 5 – 6). На такой же точке зрения стоит, видимо, и Томашевский: «Басня развилась из аполога — системы доказательств общего положения на примерах (анекдоте или сказке)… Басня, будучи построена на фабуле, дает повествование как некоторую аллегорию, из которой извлекается общий вывод — мораль басни…» (110, с. 195).
Такое определение возвращает нас назад к Лессингу и даже к теориям еще более архаическим, к определениям басни Де-ля-Моттом и другими. Любопытно, что и теоретическая эстетика смотрит на басню с той же точки зрения и охотно сопоставляет басню с рекламным искусством. «К рекламной поэзии, — говорит Гаман, — нужно отнести все басни, в которых эстетический интерес к захватывающей истории так искусно использован для морали этой истории; ведению эстетики рекламы подлежит вообще вся тенденциозная поэзия; сюда относится далее вся область риторики…» (30, с. 80 – 81).
За теоретиками и философами следуют критики и 114 широкое общественное мнение, расценивающее басню весьма низко, как произведение неполноправное в поэзии. Так издавна за Крыловым установилась репутация моралиста, выразителя идей среднего человека, певца житейской практичности и здравого смысла. Отсюда оценка переносится и на самую басню, и многие вслед за Айхенвальдом полагают, что, начитавшись этих басен, «можно хорошо приспособить себя к действительности. Не этому учат великие учителя. Этому учить и вообще не приходится… Отсюда басня поневоле мелка… Басня только приблизительна. Она скользит по поверхности» (6, с. 7). И только Гоголь как-то вскользь и невзначай, сам не вполне сознавая, что это означает, обмолвился о невыразимой духовности басен Крылова, хотя в целом истолковал его в согласии с общим мнением, как здоровый и крепкий практический ум и пр.
Чрезвычайно поучительно обратиться к теории басни, которая понимает ее таким образом, и на деле увидеть, что же отличает басню от поэзии и в чем же заключаются эти особенности поэзии, явно отсутствующие в басне. Однако мы напрасно стали бы с этой целью рассматривать теорию Лессинга или Потебни, потому что основная тенденция того и другого направлена совершенно в другую сторону. Можно с неоспоримой ясностью показать, что тот и другой имеют все время в виду два совершенно различных по происхождению и по художественной функции рода басни. История и психология учат нас тому, что следует строго различать басню поэтическую и прозаическую.
Начнем с Лессинга. Он прямо говорит, что басня относилась древними к области философии, а не к области поэзии, и что именно эту философскую басню он и избрал предметом своего исследования. «У древних басня принадлежала к области философии, и отсюда ее заимствовали учителя риторики. Аристотель разбирает ее не в своей “Поэтике”, а в своей “Риторике”. И то, что Афтониус и Теон говорят о ней, они равным образом говорят в риторике. Также и у новых авторов вплоть до времен Лафонтена следует искать в риторике все, что нужно узнать об эзоповской басне. Лафонтену удалось сделать басни приятной поэтической игрушкой… Все начали трактовать басню, как детскую игру… Кто-либо, принадлежащий к школам древних, где все время внушалось 115 безыскусственное изображение в басне, не поймет, в чем дело, когда, к примеру, у Батте он прочитает длинный список украшений, которые должны быть присущи басенному рассказу. Полный удивления, он спросит: неужели у новых авторов совершенно изменилось существо вещей? Потому что все эти украшения противоречат действительному существу басни» (150, S. 73 – 74). Таким образом, Лессинг совершенно откровенно имеет в виду басню до Лафонтена, басню как предмет философии и риторики, а не искусства.
Совершенно сходную позицию занимает и Потебня. Он говорит: «Для того чтобы заметить, из чего состоит басня, нужно рассматривать ее не так, как она является на бумаге, в сборнике басен, и даже не в том виде, когда она из сборника переходит в уста, причем самое появление ее недостаточно мотивировано, когда, например, прочитывает ее актер, чтобы показать свое умение декламировать; или, что бывает очень комично, когда она является в устах ребенка, который важно выступает и говорит: “Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна…” Отрешенная от действительной жизни, басня может оказаться совершенным празднословием. Но эта поэтическая форма является и там, где дело идет о вещах вовсе не шуточных — о судьбе человека, человеческих обществ, где не до шуток и не до празднословия» (91, с. 4).
Потебня прямо ссылается на приведенное место из Лессинга и говорит, что «все прикрасы, которые введены Лафонтеном, произошли именно оттого, что люди не хотели, не умели пользоваться басней. И в самом деле — басня, бывшая некогда могущественным политическим памфлетом, во всяком случае сильным публицистическим орудием, и которая, несмотря на свою цель, благодари даже своей цели, оставалась вполне поэтическим произведением, басня, которая играла такую видную роль к мысли, сведена на ничто, на негодную игрушку» (91, с. 25 – 26). В подтверждение своей мысли Потебня ссылается на Крылова для того, чтобы показать, как не следует писать басню.
Из этого совершенно ясно, что и Потебня, и Лессинг одинаково отвергают поэтическую басню, басню в сборнике, которая кажется им только детской игрушкой, и все время имеют дело не с басней, а с апологом, почему 116 их анализы и относятся больше к психологии логического мышления, чем к психологии искусства. Уже благодаря установлению этого можно было бы произвести формальный отвод одного и другого мнения, поскольку они сознательно и умышленно рассматривают не поэтическую, а прозаическую басню. Мы вправе были бы сказать обоим авторам: «Все, что вы говорите, совершенно справедливо, но только все это относится не к поэтической, а к риторической и прозаической басне». Уже один тот факт, что высший расцвет басенного искусства у Лафонтена и Крылова кажется обоим нашим авторам величайшим упадком басенного искусства, наглядным образом свидетельствует о том, что их теория относится никак не к басне как к явлению в истории искусства, а к басне как к системе доказательств. И в самом деле, мы знаем, что басня по происхождению своему несомненно двойственна, что ее дидактическая и описательная часть, иначе говоря, поэтическая и прозаическая, часто боролись друг с другом и в историческом развитии побеждала то одна, то другая. Так главным образом на византийской почве басня почти совершенно утеряла свой художественный характер и превратилась почти исключительно в морально-дидактическое произведение. Наоборот, на латинской почве она произрастила из себя басню поэтическую, стихотворную, хотя надо сказать, что все время мы имеем в басне два параллельных течения и басня прозаическая и поэтическая продолжают существовать все время как два разных литературных жанра.
К прозаическим басням следует отнести басни Эзопа, Лессинга, Толстого и других. К басням поэтическим — Лафонтена, Крылова и их школы. Одним этим указанием можно было бы опровергнуть теорию Потебни и Лессинга, но это было бы аргументом чисто формальным, а не по существу, и скорее напоминало бы юридический отвод, чем психологическое исследование. Для нас соблазнительно, напротив того, вникнуть в обе эти системы и в ходы их доказательств. Может быть, те самые доводы, которые они приводят против искажения басни, окажутся в состоянии пролить свет на самую природу поэтической басни, если мы те же самые соображения с измененным знаком с минуса на плюс приложим к басне поэтической. Основной психологический тезис, объединяющий 117 и Потебню и Лессинга, гласит, что на басню не распространяются те психологические законы искусства, которые мы находим в романе, в поэме, в драме. Мы видели, почему это происходит и почему авторам удается это доказать, раз они имеют дело все время с прозаической басней.
Нашим тезисом будет как раз противоположный. Задача состоит в том, чтобы доказать, что басня всецело принадлежит к поэзии и что на нее распространяются все те законы психологии искусства, которые в более сложном виде мы можем обнаружить в высших формах искусства. Иначе говоря, путь наш будет обратным, как обратна и цель. Если эти авторы шли в своих рассуждениях снизу вверх, от басни к высшим формам, мы поступим как раз обратным образом и попробуем начать анализ сверху, то есть применить к басне все те психологические наблюдения, которые сделаны над высшими формами поэзии.
Для этого следует рассмотреть те элементы построения басни, на которых останавливаются оба автора. Первым элементом построения басни естественно считать аллегорию. Хотя Лессинг и оспаривает мнение Деля-Мотта относительно того, что басня есть поучение, скрытое под аллегорией, однако он эту аллегорию вводит в свое объяснение вновь, но в несколько ином виде. Надо сказать, что самое понятие аллегории претерпело в европейской теории очень существенное изменение. Квинтилиан определяет аллегорию как инверсию, которая выражает одно словами и другое смыслом, иногда даже противоположное. Позднейшие авторы понятие противоположного заменили понятием сходного и, начиная от Фоссиуса, стали исключать это понятие противоположного выражения из аллегории. Аллегория говорит «не то, что она выражает словами, но нечто сходное» (150, S. 16).
Уже здесь видим мы коренное противоречие с истинной природой аллегории. Лессинг, который видит в басне только частный случай некоторого общего правила, утверждает, что единичный случай не может быть похож на общее правило, которому он подчинен, и поэтому утверждает, что «басня, как простая басня, ни в каком случае не может быть аллегорической» (150, S. 18). Она делается аллегорической только в том случае, если мы 118 эту басню применим к тому или иному случаю и когда под каждым действием и под каждым героем басни начнем разуметь другое действие и другое лицо. Все становится здесь аллегорическим.
Таким образом, аллегоризм есть, по Лессингу, не первоначальное свойство басни, а только ее вторичное приобретенное свойство, которое она приобретает только в том случае, если она начинает применяться к действительности. Но так как именно из этого исходит Потебня, поскольку основное его утверждение к тому и сводится, что басня по существу своему есть схема, применяющаяся к разного рода событиям и отношениям с целью их уяснить, то естественно, что для него басня есть по самому своему существу аллегория. Однако его же собственный пример опровергает его психологически как нельзя лучше. Он ссылается на то место в «Капитанской дочке» Пушкина, когда Гринев советует Пугачеву образумиться и надеяться на помилование государыни. «Слушай, — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением. — Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего на всего только тридцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь, спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон, чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст!» На основании этого примера Потебня различает в басне две части: «… одну, которая представляет басню в том виде, как она вошла в сборник, если бы ее оторвать от тех корней, на которых она находится; и другую — эти самые корни. Первая из этих частей — или случай вымышленный… (ворон говорит с орлом), или же случай, который не имеет ничего фантастического… Где подлежащее и где сказуемое в этой… басне? Подлежащее в этом случае есть вопрос, почему Пугачев предпочел избранную им жизнь мирной жизни обыкновенного казака, а сказуемое — ответ на этот вопрос, то есть басня, которая является, следовательно, уяснением 119 подлежащего… Пример ясно показывает, что она непосредственного отношения к воле может и не иметь» (92, с. 9 – 11).
Таким образом, басня разъясняется здесь как совершеннейшая аллегория: орел — это сам Пугачев, ворон — это мирный казак или Гринев. Действие басни совершенно аналогично происходящему разговору. Однако уже и в том, как описывает это Пушкин, мы замечаем две психологические несуразности, которые заставляют нас задуматься относительно верности приведенного объяснения. Первое, что для нас непонятно, — это почему Пугачев рассказал басню «с каким-то диким вдохновением». Если басня представляет из себя самый обыкновенный акт мысли, соединение подлежащего со сказуемым, уяснение известных житейских отношений, спрашивается, при чем здесь дикое вдохновение? Не указывает ли оно скорее на то, что для Пугачева басня была в данном случае чем-то иным и чем-то большим, чем простым ответом на заданный ему вопрос?
Второе сомнение заключается в эффекте, который басня произвела: согласно приведенному объяснению, вы ожидаете, что она уяснила отношение, что она так блестяще подошла к тому случаю, который ее вызвал, что она прекратила всякий спор. Однако не так было в повести: выслушав басню, Гринев применил ее по-своему и обернул острием против Пугачева. Он сказал, что питаться падалью — это и значит быть разбойником. Эффект получился такой, которого и следовало, в сущности, ожидать. В самом деле, разве не ясно с самого начала, что басня может служить одним из приемов развития мысли у оратора, но что служить значительным разъяснением сложных отношений, актом значительной мысли она никогда не может. Если басня убеждает кого-либо в чем-либо, то это значит, что и до басни и без басни это произошло бы само собой. Если же басня, как в данном случае, бьет мимо цели, это значит, что при помощи басни сдвинуть мысль с той точки, на которую она направлена более значительными аргументами, почти невозможно. Мы скорее имеем здесь дело с тем определением аллегории, которое дал Квинтилиан, когда басня неожиданно получила смысл, совершенно противоположный тому, который выражали ее слова. Если же мы возьмем за основу аллегории обыкновенное сходство, 120 мы очень легко убедимся, что чем сильнее это сходство, тем более плоской делается сама басня. Вот два примера, которые я заимствую у Лессинга и Потебни: один — эзоповская басня о курице и жадной хозяйке. «У одной вдовы была курица, которая каждый день несла по яйцу. “Попробую я давать птице ячменю, авось она будет нестись два раза в день”, — думает хозяйка. Сказано — сделано. Но курица ожирела и перестала нестись даже по разу в день.
Кто из жадности гонится за большим — лишается последнего» (92, с. 12).
Другой пример — басня, обработанная Федром, относительно собаки с куском мяса: собака плыла с куском мяса по реке, но увидела в воде свое отражение, захотела отобрать у другой собаки кусок мяса, но выпустила изо рта свой и осталась ни при чем. Мораль та же самая, что и прежде. Следовательно, категория этих случаев, в которых может применяться аллегорически эта басня, опять совершенно одна и та же для обоих случаев. Спрашивается, какая из двух басен более аллегорична и какая поэтичнее? Я думаю, нет двух мнений о том, что неизмеримо интереснее и поэтичнее басня о собаке, потому что ничего более плоского, напоминающего обыкновенный, пресный житейский рассказ, чем первая басня, и представить себе нельзя. Таких аллегорических рассказов можно придумать бесчисленное количество и каждый из них наделить особой аллегорией. Что рассказывает первая басня кроме того, что курица неслась, после ожирела и перестала нестись? Чем может заинтересовать это даже ребенка и что, кроме ненужной морали, можно получить от чтения этой басни? Между тем столь же бесспорно, что как аллегория она стоит неизмеримо выше своей соперницы и недаром именно ее выбрал Потебня для иллюстрации основного закона басни. Большая аллегоричность заключается в том, что в этой басне неизмеримо больше сходства с теми житейскими случаями, к которым она может применяться, в то время как у первой басни, в сущности говоря, сходства большого с этими случаями нет.
Лессинг критикует Федра за то, что при изложении этой басни он позволил себе изобразить дело так, будто собака с мясом в зубах плыла по реке. «Это невозможно, — говорит Лессинг, — если собака плыла по реке, 121 тогда она, конечно, так взволновала вокруг себя воду, что для нее было совершенно невозможно увидеть свое собственное отражение в воде.
Греческие басни говорят: собака, которая несла мясо, проходила через реку; это, конечно, означает, что она шла через реку» (150, S. 77 – 78).
Даже такое несоблюдение житейской правдоподобности кажется Лессингу нарушением законов басни. Что же он сказал бы о самой сущности этого сюжета, который, строго говоря, совершенно не подходит ни к какому случаю человеческой жадности? Ведь вся соль сюжета и этой конкретной истории о собаке заключается в том, что она увидела собственное же отражение, что она погналась за призраком того самого мяса, которое было у нее в зубах, и поэтому его потеряла. В этом соль басни, иначе эту басню можно было рассказать так: собака, которая несла в зубах мясо, увидела другую собаку с мясом в зубах, бросилась к ней, чтобы отнять у той мясо, для этого выпустила свой кусок изо рта, в результате она осталась без мяса. Совершенно очевидно, что басня по своему логическому строю во всем совпадает тогда с басней Эзопа. Из жадности герой басни гонится вместо одного за двумя яйцами или кусками мяса и остается без одного. Ясно, что тогда пропадает вся поэтичность этого рассказа, он делается плоским и пресным.
Здесь в виде небольшого отступления я позволю себе сказать несколько слов о том приеме, которым я здесь воспользовался. Этот прием экспериментальной деформации, то есть изменения того или иного элемента в целом басни и исследования тех результатов, к которым это приводит, — один из самых психологически плодотворных приемов, к которому бесконечно часто прибегают все исследователи. Он по своему значению стоит наряду с сопоставлением разработки одного и того же басенного сюжета у разных авторов и изучением тех изменений, которые каждый из них вносит, и с изучением вариантов одной и той же басни у писателя.
Однако он превосходит их, как всякий экспериментальный метод, необычной доказательностью своего действия. Нам придется не один раз еще прибегать к помощи такого эксперимента над формой, как равно и к сравнительному изучению формальных построений одной и той же басни.
122 Уже этот краткий анализ показывает, что аллегоричность и поэтичность сюжета оказываются в прямо противоположном отношении. Чем определеннее то сходство, которое должно служить основой аллегории, тем более плоским, пресным становится самый сюжет. Он все более и более начинает напоминать обыденный житейский пример, лишенный всякой остроты, но именно в этой емкости и аллегоричности басни видит Потебня залог ее жизненности. Верно ли это, не смешивает ли он в данном случае притчу с басней, строго различая их теоретически, не переносит ли он на басню психологического приема и пользования притчей? «Каким образом живет басня? Чем объясняется то, что она живет тысячелетия? Это объясняется тем, что она постоянно находит новые и новые применения» (92, с. 34 – 35). Опять совершенно ясно, что это относится только к непоэтической басне или к басенному сюжету. Что касается басни как поэтического произведения, она подчинена обыкновенным законам всякого произведения искусства. Она не живет тысячелетия. Басни Крылова и всяких других авторов в свою эпоху имеют существенное значение, затем они начинают все более и более вымирать. Спрашивается, неужели потому вымирали крыловские басни, что не оказалось больше новых применений для прежних тем. Потебня сам указывает только на одну причину умирания басни, именно на ту, когда басня делается непонятной, благодаря тому что заключенный в ней образ выходит из всеобщего употребления и сам начинает нуждаться в объяснении. Однако басни Крылова понятны сейчас всякому. Они умирали, видимо, из-за какой-то другой причины и сейчас, вне всякого сомнения, в общем и целом стоят вне жизни и вне литературы. И вот этот закон влияния и смерти поэтической басни опять как будто стоит в полном различии с той аллегоричностью, на которую ссылается Потебня. Аллегоричность может сохраняться, а басня умирает, и наоборот. Больше того, если мы приглядимся внимательно к басням Лафонтена или Крылова, мы увидим, что они совершают процесс, совершенно обратный тому, на который указывает Потебня. Он считает, что басня применяется к действительным случаям, для того чтобы объяснить последние. Из примера так называемой составной или сложной басни мы почти всегда можем вывести 123 как раз обратное заключение. Поэт приводит жизненный или похожий на жизненный случай, для того чтобы им пояснить свою басню. Так, в басне Эзопа и Крылова о Паве и Вороне, которую Потебня приводит как образец составной басни, читаем: «Я эту басенку вам былью поясню». Таким образом, выходит, что быль пояснит басню, а не басня быль, как полагал Потебня, и поэтому Потебня совершенно последовательно, вслед за Лессингом, видел в составной басне ложный и незаконный вид басни, потому что Лессинг полагал, что басня при этом становится аллегорической, благодаря чему затуманивается заключенная в ней общая идея, а Потебня указывал на то, что благодаря своей составной части такая басня ограничивается или суживается в том применении, которое ей может быть дано, так как на эту вторую басню следует смотреть только как на частный случай ее возможных применений. Такая составная басня имеет значение некоторого рода надписи. «Это можно сравнить в языке с тем, когда мы, чтобы выразить лучше нашу мысль, нагромождаем слова, которые значат приблизительно одно и то же» (92, с. 47). Такой параллелизм кажется Потебне совершенно лишним, потому что он ограничивает емкость основной басни. Потебня уподобляет автора такой басни продавцу игрушек, «который говорит ребенку, что этой игрушкой играют так-то…» (92, с. 54). Между тем при внимательном анализе составной басни бросается в глаза, что две части басни носят всегда характер некоторого дополнения, орнамента, разъяснения первой и никогда не наоборот. Иначе говоря, теория аллегории и здесь терпит неудачу.
Вторым элементом, с которым приходится иметь дело при построении басни, является тот необычный выбор героев, на который уже издавна обращали внимание исследователи. В самом деле, почему басня имеет дело предпочтительно с животными, вводя иногда и неодушевленные предметы и очень редко прибегая к людям. Какой смысл заключен в этом? На это исследователи давали совершенно разные ответы. Брейтингер полагал, что это делается для того, чтобы вызвать удивление: «Возбуждение удивления причина тому, почему в басне заставляют разговаривать животных и других низших творений» (150, S. 48).
124 Лессинг совершенно справедливо подверг это новой критике и указал, что удивление в жизни и в искусстве совершенно не совпадают, и если в действительности нас удивило бы разговаривающее животное, в искусстве все зависит от той формы, в какой этот разговор введен: если он введен явно как стилистическая условность, к которой мы совершенно привыкаем как к литературному приему, если автор, как утверждали древние теоретики, стремится возможно уменьшить впечатление удивительного, — тогда мы, читая самые удивительные происшествия, удивляемся им не более, чем нашим ежедневным событиям. Блестящий пример Лессинга поясняет, в чем здесь дело: «Когда я читаю в писании: когда разверз господь рот ослице и она сказала Валааму… — тогда я читаю о чем-то удивительном; но когда я читаю Эзопа: тогда, когда звери умели еще разговаривать, сказала овца своему пастуху, — тогда совершенно ясно, что баснописец не хочет мне сказать ничего удивительного, но скорее совершенно другое, что в то время, которое он с согласия своих читателей допускает, все это было сообразно с законами природы» (150, S. 50).
Дальше совершенно правильно Лессинг указывает на то психологическое соображение, что употребление зверей в басне могло бы нас удивить один-два раза, но когда оно становится постоянным явлением и когда автор начинает с него, как с чего-то само собой разумеющегося, тогда оно, конечно, никогда не может рассчитывать вызвать в нас удивление. Однако какое-то чрезвычайно важное значение за этим обычаем несомненно следует установить, и совершенно прав Аксель, когда проделывает эксперимент с басней, заменяя в ней животное человеком, и указывает, что при этом басня лишается всякого смысла: «Басня получает благодаря употреблению этих обыденных героев удивительный оттенок. Была бы неплохая басня, если рассказать так: один человек заметил на дереве прекрасные груши, которые вызвали в нем желание съесть их. Он долго трудился, стараясь взлезть на дерево, но все было напрасно, и он должен был оставить свои попытки. Уходя, он сказал: “Мне гораздо полезнее, если я оставлю их висеть подольше, они еще не вполне созрели”. Но эта историйка недостаточно действует на нас, она слишком плоска» (150, S. 52 – 53).
И в самом деле, стоило только лисицу в этой знаменитой 125 басне о винограде заменить человеком, и басня потеряла как будто бы весь свой смысл. Лессинг видит причину употребления животных в басне в двух особенностях: первая — в том, что животные обладают наибольшей определенностью и постоянством их характера, достаточно назвать то или иное животное, как мы немедленно себе представим то понятие или ту силу, которую оно означает. Когда баснописец говорит «волк», мы сразу имеем в виду сильного и хищного человека. Когда он говорит: «лисица», мы видим перед собою хитреца. Стоит ему заменить волка и лисицу человеком, и он будет сразу поставлен перед необходимостью либо подробно и долго пояснять нам, что за характер у этого человека, либо басня потеряет всю свою выразительность. Лессинг видит причину употребления животных во «всей известной определенности их характера» (150, S. 50), и он прямо упрекает Лафонтена в том, что он начинает пояснять характер своих действующих лиц. Когда Лафонтен в трех стихах определяет характер лисы, Лессинг видит в этом злейшее нарушение поэтики басни. Он говорит: «Баснописцу лисица нужна для того, чтобы с помощью одного слова дать индивидуальный образ умного хитреца, а поэт предпочитает забыть об этом удобстве, отказаться от него, только чтобы не упустить возможность сделать ловкое описание предмета, единственное преимущество которого на этом месте заключается в том, что он не нуждается ни в каком описании» (150, S. 74).
Здесь мимоходом стоит опять отметить то противопоставление между баснописцем и поэтом, которое делает Лессинг. Оно, конечно, впоследствии объяснит нам, почему совершенно разное значение имеют звери для поэтической и прозаической басни.
Вслед за Лессингом и Потебня склонен думать, что звери употребляются в басне главным образом вследствие их характеристичности. «Третье свойство образа басни, — говорит он, — вытекающее из ее назначения, это то, что она, чтобы не останавливаться долго на характеристике лиц, берет такие лица, которые одним своим названием достаточно определяются для слушателя, служат готовым понятием. Как известно, в басне пользуются для этого животными… Практическая польза для басни от соблюдения такого обычая может быть сравнена 126 с тем, что в некоторых играх, например в шахматах, каждая фигура имеет определенный ход действий: конь ходит так-то, король и королева так-то; это знает всякий приступающий к игре, и это очень важно, что всякий это знает, потому что в противном случае приходилось бы каждый раз уславливаться в этом, и до самой игры дело бы не дошло» (92, с. 26 – 27).
Другим не менее важным основанием для употребления зверей в басне Лессинг считает то обстоятельство, что они дают возможность исключить всякое эмоциональное действие басни на читателя. Он прекрасно поясняет это, когда говорит, что на это соображение он никогда не набрел бы при помощи заключений, если бы на это не толкнуло его собственное чувство. «Басня имеет целью ясное и живое познание морального правила; ничто не затемняет так наше познание, как страсти; следовательно, баснописец должен избегать насколько возможно возбуждения страстей. Но как может он иначе избегать возбуждения, например, сострадания, чем делая его объекты более несовершенными и вместо людей выводя зверей или еще более низкие существа? Припомним еще раз басню о волке и овце, как она выше превращена в басню о священнике и о бедном человеке. Мы сострадаем овце, но это сострадание так слабо, что оно не причиняет никакого заметного вреда нашему наглядному познанию морального правила. Совсем обратное произошло бы с бедным человеком: казалось ли бы нам это только или бы это произошло на самом деле, — но мы имели бы много, слишком много сострадания к нему и много, слишком много недоброжелательства испытывали бы к священнику, чтобы наглядное познание морального правила могло быть столь же ясным, как и в первом случае» (150. S. 55). Здесь мы попадаем в самый центр идеи Лессинга. Он применил эксперимент замены животных священником и бедным человеком для того, чтобы показать, что при этой замене басня проигрывает только в том случае, если она теряет при этом всякую определенность характера своих героев. Если же мы вместо животных употребляем не просто человека, а какого-нибудь определенного человека, скажем, бедного и священника, о стяжательстве которого мы знаем по обычным рассказам о духовенстве, басня ничего не потеряет в определенности 127 своих характеров, но при этом обнаружится, как показывает Лессинг, вторая причина употребления животных: именно басня вызовет в нас слишком сильное эмоциональное отношение к рассказу и тем самым затемнит его истинный смысл. Таким образом, животные нужны для того, чтобы затемнить эмоцию. Опять здесь с чрезвычайной резкостью выступает разница между поэтической и прозаической басней. Совершенно верно, что оба эти соображения не имеют ничего общего с задачами поэтической басни. Чтобы это обнаружить, проще всего остановиться на тех конкретных примерах, которые приводят и Лессинг и Потебня. Потебня говорит: «Если бы действующие лица басни привлекали к себе наше внимание и возбуждали бы наше сочувствие или неудовольствие в той степени, в какой это имеет место в обширном произведении: в повести, романе, эпической поэме, то басня перестала бы достигать своей цели, перестала бы быть сама собой, то есть быстрым ответом на предложенный вопрос…
Возьмем, например, обширную общеизвестную поэму “Илиаду”, или не самую поэму, а тот крут событий, который не весь вошел в нее… В таком виде рассказанный ряд событий может служить темой для басни, то есть, понимая ее в обширном смысле, ответом на тему, которая выражается латинской пословицей: “Delirant reges, plectuntur Achaei”, то есть: “Сумасбродствуют цари, а наказываются ахейцы”, или малоросской: “Паны с кубуться, а у мужиков чубы трещать”.
Но придайте этому ряду событий те подробности, ради которых эти события привлекательны в самой поэме, наше внимание будет задерживаться на каждом шагу мелочными подробностями и другими требующими объяснения образами — и басня становится невозможною.
… Басня, ради годности ее для употребления, не должна останавливаться на характеристике действующих лиц, на подробном изображении действий, сцен» (92, с. 22, 24).
Здесь совершенно ясно Потебня показывает, что он все время говорит о басне как о фабуле всякого произведения. Если мы из «Илиады» выделим ее прозаическую часть, тот ход событий, который вошел в эту поэму, и если мы отбросим все то, чем эти события привлекательны в поэме, мы получим басню на тему — паны 128 дерутся, а у мужиков чубы трещат. Иначе говоря, стоит отнять у поэтического произведения его поэтичность, как оно превращается в басню. Здесь совершенно ясно проводится сплошь и рядом равенство между басней и между прозаическим произведением.
Вопрос сам собой здесь несколько раздвигается, и аргументация переходит от героев к новому элементу басни, к рассказу. Однако прежде чем перейти к рассмотрению этого нового элемента, следует в двух словах остановиться на той роли, которую употребление животных играет в басне поэтической, а не прозаической.
Совершенно ясно, что тенденция поэта как раз обратна тенденции прозаика. Поэт, как это видно уже из примера, приведенного Лессингом, заинтересован в том именно, чтобы привлечь наше внимание к герою, возбудив наше сочувствие или неудовольствие, конечно, не в той степени, как это имеет место в романе или в поэме, но в зачаточном виде именно те самые чувства, которые возбуждает роман, поэма и драма.
Мы постараемся показать ниже, что в басне заложено зерно лирики, эпоса и драмы и что герои басни такие же прототипы всякого героя эпического и драматического, как все другие элементы построения басни. В самом деле, нам нетрудно разглядеть, что, когда Крылов рассказывает о двух голубках, при выборе своих героев он именно рассчитывает вызвать наше сочувствие к несчастьям голубков. А когда он рассказывает о несчастье вороны, он хочет вызвать нашу насмешку. Мы видим, что здесь выбор животных определяется не столько их характером, сколько той эмоциональной краской, которой обладает каждый из них. Таким образом, если мы приглядимся к любой басне Лафонтена или Крылова, то мы везде сумеем обнаружить далеко не равнодушное отношение автора и читателя к героям и мы увидим, что, вызывая в нас другие, по существу, чувства, чем вызывают люди, эти герои все же все время вызывают сильную аффективную окраску нашего отношения к ним, и можно сказать, что одна из важнейших причин, заставляющая поэтов прибегать в басне к изображению животных и неодушевленных предметов, есть именно та возможность, которую они получают благодаря этому приему: возможность изолировать и 129 сконцентрировать один какой-нибудь аффективный момент в таком условном герое.
Тем же самым, как мы увидим ниже, объясняется выбор животных и неодушевленных символов в самой возвышенной лирике. Лермонтовский «Парус», «Горы», «Три пальмы», «Утес» и «Тучи», гейневская «Сосна и пальма» окажутся героями того же самого порядка я героями, выросшими, из этих же басенных животных.
Другая причина употребления животных в басне заключается в том, что они представляют собой наиболее удобные условные фигуры, которые создают сразу же совершенно нужную и необходимую для эстетического впечатления изоляцию от действительности35. Еще Гаман указывал на эту изоляцию как на наипервейшее условие эстетического действия. В самом деле, когда нам рассказывают про хозяйку, которая перекормила свою курицу, мы решительно не знаем, как относиться к этому рассказу: как к действительности или как к художественному происшествию, и из-за этого отсутствия должной изоляции немедленно же теряется эстетическое действие. Это все равно как лишить картину всякой рамы на стене и слить ее с окружающей обстановкой так, что зритель не может сразу догадаться, что он видит перед собой — действительные или нарисованные фрукты.
Таким образом, литературность, условность этих героев гарантирует необходимую для художественного действия изоляцию, и это же свойство мы найдем впоследствии и у всех прочих героев литературных произведений. Оно стоит в самом тесном отношении к третьему элементу басни, к самому рассказу и к его характеру.
Здесь Потебня, продолжая свою мысль о героях, прямо заявляет, что относительно рассказа «существует две школы. Одна, известная нам с детства, — школа Лафонтена и его подражателей, к которым принадлежит и Крылов. Она может быть охарактеризована басней “Осел и Соловей”… Многие… находили такой способ изложения, то есть введение таких подробностей и живописных описаний в басне, очень уместным и поэтичным» (92, с. 24 – 25). Сам Потебня считает, что эта басня может служить доказательством того, как люди не хотели и не умели пользоваться басней. По его словам, такие подробности и поэтические описания губят 130 совершенно басню, лишают ее самого основного качества. Того же взгляда придерживается и Лессинг, когда он сравнивает Лафонтена, введшего в употребление поэтическую басню, с охотником, который заказал художнику вырезать на луке сцену охоты; художник превосходно справился со своей задачей и очень искусно изобразил охоту, однако когда стрелок захотел выстрелить из этого лука, он натянул тетиву, и лук сломался (150, S. 75). Поэтому Лессинг полагает, что если Платон, изгоняя из своей республики Гомера, оставил в ней Эзопа, не причисляя его к поэтам и к создателям вымыслов, то сейчас, увидев Эзопа в том виде, какой придал ему Лафонтен, он сказал бы ему: «Друг, мы больше не знаем друг друга, уходи своей дорогой» (150, S. 75). Таким образом, и Лессинг полагает, что поэтическая красота и практическая польза басни находятся в обратном отношении и что чем поэтичнее и живописнее описание в басне и чем формально более совершенно обработан ее рассказ, тем меньше басня отвечает своему назначению. Нигде так не обнаруживается совершенное расхождение поэтической и прозаической басни, как именно здесь. Лессинг возражает Рише, критикуя его определение басни как небольшой поэмы, и говорит: «Если он считает необходимым качеством поэмы поэтический язык и определенный размер, я не могу присоединиться к его мнению» (150, S. 22).
Таким образом, все то, что характеризует поэзию как таковую, кажется Лессингу несовместимым с басней.
Второй момент, который отталкивает его в определении Рише, — это утверждение последнего, что басня преподносит свое правило в форме картины или образа, и это Лессинг считает совершенно несовместимым с истиной задачей басни. Батте выдвигает он в качеству упрека то, что тот «слишком смешивает действие эзоповской басни с действием эпопеи или драмы… Героический или драматический писатель имеет своей конечной целью возбуждение страстей, но он может их возбудить, только подражая страстям; подражать же страстям он может, только если будет ставить им известные цели, к которым они стремятся приблизиться или которых они избегают… Баснописец, наоборот, не имеет никакого дела с нашими страстями, но исключительно с нашим познанием» (150, S. 35. — 36).
131 Басня оказывается принципиально противоположной всякому другому произведению, она не принадлежит больше к области поэзии, и все те достоинства, которые привыкли считать плюсом для художественного произведения, неизменно обращаются у басни в недостаток. В согласии с античным взглядом Лессинг полагает, что «краткость — это душа басни» и что Федр совершил первую измену, когда стал в стихах обрабатывать эзоповские басни, и что только «стихотворный размер и поэтический стиль» заставили его отклониться от эзоповского правила (150, S. 70). Федр, по его мнению, выбрал средний путь между поэтической и прозаической басней и рассказывал ее в изящной краткости римлян, но все же в стихах. С точки зрения Лессинга, нет большего греха у Лафонтена, чем применение поэтического стиля и поэтической формы к разработке басни. «Рассказ в басне должен быть проще, он должен быть сжат и удовлетворять одной только ясности, избегая, насколько это возможно, всяких прикрас и фигур» (150, S. 72).
Параллельно с этим направлением басня развилась в совершенно противоположном. Она стала себя осознавать и утверждать как особый поэтический жанр, ничем не отличающийся от других видов и форм поэзии. Лафонтен с наивной трогательностью в предисловии к своим басням приводит рассказ Платона о том, что Сократ перед смертью, когда боги во сне позволили ему заняться музыкой, принялся перекладывать в метры эзоповские басни, то есть попытался объединить басню и поэзию через музыкальный размер, иначе говоря, начал то дело, которое впоследствии довершили Лафонтен, Крылов и другие поэты. «Как только басни, приписываемые Эзопу, увидели свет, так Сократ нашел нужным одеть их в одежды муз… Сократ был не единственным, кто рассматривал поэзию и басню как сестер. Федр заявлял, что он придерживался того же самого мнения».
Лафонтен дальше указывает на то, что он не мог совершенно намеренно и сознательно придать своим басням ту исключительную краткость, которая присуща басне Федра, но что в вознаграждение он пытался сделать занимательным рассказ больше, чем это делал Федр. При этом приводит чрезвычайно веское и остроумное соображение: «Я полагал, что так как эти басни известны всему свету, я не сделаю решительно ничего, 132 если не придам им чего-либо нового посредством некоторых черт, которые бы сообщили им вкус; это то, чего теперь требуют. Все хотят новизны и веселости. Я называю веселостью не то, что возбуждает смех, но некоторый шарм, некоторую приятную форму, которую можно придать всякого рода сюжету, даже самому серьезному» (148, р. 12 – 13).
И в самом деле, этот знаменательный рассказ о Сократе, который понял позволение заняться музыкой в том смысле, что это означало заниматься поэзией, и который боялся взяться за поэзию, потому что она требует непременно вымысла и неправды, — проливает очень много света на тот основной узел, с которого дорога басни разделилась: по одному пути басня окончательно пошла в поэзию, по другому — в проповедь и голую дидактику. Очень легко показать, что почти с самого начала басня поэтическая и прозаическая, из которых каждая шла своим путем и подчинялась своим особым законам развития, требовала каждая различных психологических приемов для своей обработки. В самом деле, если нельзя согласиться с Лессингом и Потебней в том, что употребление животных в прозаической басне мотивировалось главным образом определенностью характера и служило главным образом для рассудочных и внеэмоциональных целей, то, с другой стороны, нельзя не увидеть, что этот же самый факт приобретает совершенно другой смысл и другое значение в басне поэтической. Стоит только спросить себя, какой же определенный характер приписывает баснописец лебедю, раку и щуке, синице, журавлю, лошади, муравью, льву, комару, мухе, курице, — мы сейчас увидим, что не только у всех этих героев нет никакого определенного характера, но что даже у таких классических басенных героев, как лев, слон, собака и т. д., постоянного и определенного характера вовсе нет. Очевидно, какая-то совсем другая причина заставляет поэтов прибегать все же к этим животным, а совсем не определенность их характера, которой вовсе у них нет. Мы уже указывали мимоходом на то, что эмоциональные соображения играют очень большую роль при выборе этих героев в поэтической басне. Каковы же те основания, которые заставляют и поэтическую басню прибегать к животным?
Это чрезвычайно легко показать, если посмотреть, 133 чтó еще наряду с животными занимает место героев в такой басне. Мы увидим, что это будут неодушевленные предметы, большей частью орудия и домашняя утварь, например бритвы, бочки, булат, бумага, змей, гребень, топор, пирог, пушки и паруса, червонец, цветы и т. п. С другой стороны, мы будем иметь мифологических героев или известных героев древности и людей с более или менее определенным кругом действий; так, это будет крестьянин, вельможа, философ, разбойник, работник, купец, писатель, извозчик, лжец, любопытный и т. п. Уже из одного этого сопоставления можно сделать чрезвычайно плодотворное для поэтической басни заключение: очевидно, животные привлекаются к поэтической басне не потому, что они наделены каким-нибудь определенным характером, заранее известным читателю (скорее самый этот характер уже выводился на основе басни читателем и являлся, так сказать, вторичным фактом), а совсем по другой причине. Эта причина заключается в том, что каждое животное представляет заранее известный способ действия, поступка, оно есть раньше всего действующее лицо не в силу того или иного характера, а в силу общих свойств своей жизни36. Тогда для нас станет совершенно понятным, почему бритва, топор, бочка могут стать наряду с этими героями — потому что они тоже суть преимущественно носители действия, они суть по преимуществу те шахматные фигуры, о которых говорит Потебня, но только определенность их заключается не в известных чертах их характера, а в известном характере их действия, именно поэтому такие определенные люди, как мужик, философ, вельможа, лжец, и такие орудия, как топор, бритва и т. п., могут вполне с успехом заменить басенных зверей.
Чрезвычайно легко показать это на примере в знаменитой басне о лебеде, раке и щуке. В самом деле, какой характер у всех трех героев и благодаря каким заранее известным читателю чертам их душевного склада выбраны все эти трое животных автором, к каким житейским случаям могут они применяться и что из человеческих характеров могут они иллюстрировать? Не ясно ли, что никаких черт характера у этих героев нет, что они выбраны здесь исключительно для олицетворения действия и той невозможности действия, которая 134 возникает при их совместных усилиях. Всякий знает, что лебедь летает, рак пятится, а щука плавает. Поэтому все эти три героя могут служить прекрасным материалом для развертывания известного действия, для построения сюжета, в частности идеального басенного сюжета, но никто, вероятно, не сумеет показать, что жадность и хищность — единственная характерная черта, приписываемая из всех героев одной щуке, — играет хоть какую-нибудь роль в построении этой басни. Интересно, что эта идеальная с поэтической точки зрения басня встретила целый ряд очень суровых возражений со стороны целого ряда критиков. Так, например, указывали (Геро), что у Крылова страдает, в отличие от Лафонтена, «вероятность действия, столь необходимая в басне, что без нее обман воображения становится невозможным». «Можно ли, — продолжает Геро, — чтобы щука ходила с котом на ловлю мышей, чтобы мужик нанял осла стеречь свой огород, чтобы у другого мужика змея бралась воспитывать детей, чтобы щука, лебедь и рак впрягались в один воз?» (60, с. 265 – 266).
Другой из критиков (кажется, итальянский) указал на то, что нелепой является мысль заставить лебедя, рака и щуку везти воз, в то время как все они втроем принадлежат к водным животным и с гораздо большей правдой могли взяться везти лодку. Но рассуждать подобным образом значит в корне не понимать тех задач, которые стояли перед поэтической басней в данном случае и которые заставили пользоваться всеми теми определениями, заслуживающими самого сурового осуждения с точки зрения прозаической.
Остановимся на этом примере: уже из вступления совершенно ясно, что задачей басни и было показать некоторую невозможность, некоторые внутренние противоречия ситуации в том сюжете, который автор взялся развить: «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело — только мука». Если рассуждать с точки зрения прозаической басни, то для того, чтобы иллюстрировать эту мысль, надо было бы выбрать таких животных, самый характер которых исключал бы всякую возможность согласия, указывал бы на те ссоры, которые вытекают из их совместного труда, одним словом, басню следовало бы написать по рецепту Лессинга. Тогда не было бы этих несуразностей 135 с прозаической точки зрения, о которых отчасти говорено выше. К ним прибавим еще мнение Измайлова, приводимое у Кеневича: «Измайлов находит неестественным соединение этих действующих лиц за одним делом: “Если, действительно, поклажа была легка, то лебедь мог поднять на воздух и воз, и щуку, и рака”» (60, с. 144). Дело не в конечном соображении нашего критика, но в его основной мысли, что соединение этих трех героев за общим делом есть противоестественное, следовательно, самый рассказ иллюстрирует не то, что в товарищах согласия нет, напротив, мы в басне не находим и намека на то, чтобы между животными существовало какое-нибудь несогласие, напротив того, мы видим, что все они стараются чрезмерно, «из кожи лезут вон», и даже невозможно указать, кто из них виноват, кто прав. Таким образом, ясно, что басня совершенно не осуществляет Лессингова рецепта — в частном случае показать верность общего нравственного утверждения, но идет с ним прямо вразрез, показывая, согласно определению Квинтилиана, нечто совершенно противоположное своими словами и своим смыслом. Мы увидим ниже, что самый этот момент невозможности, противоречия есть необходимое условие при построении басни, и если бы при иллюстрации общего правила нам потребовалась хорошая басня, мы могли бы ее составить чрезвычайно просто, придумавши какой-нибудь случай, где двое или несколько товарищей, ссорясь между собой, не могли довести какого-нибудь дела до конца. Поэт поступает совершенно иначе: он, с одной стороны, напрягает до крайности струну полного согласия, он развивает до гиперболизма мотив необычайно твердого намерения — «из кожи лезут вон»; нарочно отбрасывает все внешние мотивы, которые могли бы помешать, — «поклажа бы для них казалась и легка», и параллельно с этим и в той же мере он до крайности натягивает другую струну, противоположную струну разброда и разнонаправленности действий своих героев. Мы видим, что именно на этом противоречии держится басня, и впоследствии мы, пожалуй, постараемся уяснить себе смысл этого противоречия, которое окажется присущим не только этой одной басне, но, как мы попытаемся показать ниже, окажется психологической основой всякой поэтической басни.
Соответственным образом следует понимать и всех 136 литературных героев, которые развились из басенных животных. Первоначально всякий герой был вовсе не какой-нибудь характер, и мы увидим впоследствии, что герои трагедий Шекспира, которые почему-то считаются трагедиями характера по преимуществу, в сущности говоря, этого характера не имеют. Мы везде увидим, что герой есть только шахматная фигура37 для определенного действия, и в этом отношении басенные герои не представляют никакого исключения из всех остальных литературных жанров. Мы уже видели на многих примерах, что то же самое относится и ко всему остальному рассказу, что везде и всюду басня начинает прибегать к таким же точно приемам, к каким прибегают и остальные литературные произведения, что она пользуется описанием действующих лиц, что она нарушает хваленую лаконическую краткость, что она вводит прикрасы стиля, что она предпочитает стих, рифму и т. п.
Краткий перечень тех обвинений, которые выдвигаются Лессингом против Лафонтена и Потебней против Крылова, может служить точным списком тех поэтических приемов, которые начинает вводить у себя басня. Для нас важно сейчас констатировать основную тенденцию всех этих приемов и формулировать ее в окончательном виде. В то время как прозаическая басня всячески противополагает себя поэтическому произведению и отказывается привлекать внимание к своим героям и вызывать какое-нибудь эмоциональное отношение к своему рассказу и хочет пользоваться исключительно прозаическим языком мысли, — басня поэтическая, по легенде с времен Сократа, обнаруживает противоположную тенденцию к музыке и, как мы постараемся сейчас это показать, самую логическую мысль, лежащую в ее основе, склонна употреблять только либо в виде материала, либо в виде поэтического приема.
Чтобы показать это последнее, следует остановиться на следующем элементе построения басни, на так называемой морали. Этот вопрос имеет очень длинную историю, но почему-то от первой басни и до наших времен у всех утвердилась такая мысль, что мораль есть неотъемлемая и самая важная сторона басни. Ее сравнивали с душой басни, а самый рассказ — с ее телом. Лессинг, например, категорически возражает против определения Рише, который утверждал, что мораль должна 137 быть скрыта за аллегорической картиной, и даже против мысли Де-ля-Мотта, что она должна быть только прикрыта рассказом (одета в рассказ) (150, S. 22). Для него было совершенно ясно, что мораль должна быть абсолютно наглядно дана в этом рассказе, а никак не скрываться за ним, так как она составляет истинную и конечную цель действия басни.
Однако и здесь мы видим, что, поскольку басня обнаружила тенденцию к тому, чтобы сделаться поэтическим жанром, она стала всячески искажать эту мораль, и если современные исследователи, как Томашевский, до сих пор считают, что мораль составляет неотъемлемую часть поэтической басни, — это является просто результатом их неосведомленности и результатом неучета того, что исторические пути развития басни раскололись надвое.
Уже Лессинг указал на то, что с моралью дело обстоит неблагополучно даже у древних авторов. Так, он приводит эзоповскую басню о человеке и Сатире: «Человек дует в свою холодную руку, чтобы согреть ее своим дыханием, и затем дует в горячую кашу, чтобы остудить ее. “Как — говорит Сатир, — ты дуешь из одного рта и холодом и теплом? Уходи, с тобой я не могу иметь ничего общего”. Эта басня учит, что следует избегать дружбы двуличных людей» (150, S. 20).
Лессинг говорит, что басня, конечно, в высшей степени плохо справляется со своей задачей. Она решительно не учит тому, что человек, который дышит теплом и холодом из одного рта, хоть сколько-нибудь напоминает двуличного или фальшивого человека. Скорей мораль была бы совершенно обратной, и мы должны были бы удивиться непониманию Сатира. Как видите, уже здесь заключено чрезвычайное противоречие между общим моральным утверждением и между тем рассказом, который призван иллюстрировать это.
В другой раз Лессинг указывает на такое же точно неблагополучие в федровской басне о волке и ягненке. Он приводит мнение Батте: «Именно, он говорит, что мораль, которая вытекает из этой басни, следующая: что слабый часто бывает притеснен более сильным. Как бледно! Как фальшиво! Если бы она не учила ничему другому, тогда оказалось бы, что поэт совершенно напрасно и только для скуки сочинил “вымышленные доводы” 138 волка; его басня говорила бы больше, чем он хотел ею сказать, и, одним словом, она была бы плоха» (150, S. 33). Интересно, что этот приговор окажется впоследствии, как мы увидим, единственным и для всякой решительно морали. Всякая басня говорит всегда больше, чем то, что заключено в ее морали, и мы найдем в ней такие лишние элементы, которые оказались бы, как и вымышленное обвинение волка, совершенно лишними для выражения известной мысли. Мы уже показали, как остаются совершенно лишними такие моменты в басне о собаке, увидевшей свое отражение в воде. Если бы мы захотели дать рассказ в басне, которая бы совершенно исчерпывала мораль и при этом ничего решительно не прибавляла от себя, мы всякий раз должны были бы сочинять совершенно непоэтический рассказ, который, как простейший житейский случай, вполне исчерпал бы это явление. Недаром Лессингу приходится отмечать и непристойности у древних, и ничтожность морали, и комическое несоответствие между рассказом басни и между той моралью, которая из него вытекает. Он спрашивает: «Разве не все может быть понято как аллегория? Пусть мне назовут самую безвкусную сказку, в которую я посредством аллегории не мог бы вложить морального смысла… Товарищам Эзопа приглянулись отменные фиги их господина, они съедают их, но, когда дело доходит до расспросов, говорят, что это сделал Эзоп. Чтобы оправдаться, Эзоп выпивает большой бокал тепловатой воды, и его товарищи должны сделать то же самое. Тепловатая вода оказывает свое действие, и лакомки оказываются уличенными. Чему учит нас эта историйка? Собственно говоря, ничему больше, чем тому, что тепловатая вода, выпитая в большом количестве, служит рвотным средством, и все же один персидский поэт сделал гораздо более высокое употребление из этого рассказа. “Когда вас, — говорит он, — в великий день суда заставят выпить этой горячей или кипящей годы, тогда обнаружится все то, что с такой заботой скрывали в течение своей жизни от света. И лицемер, которого здесь притворство сделало уважаемым человеком, будет там стоять подавленный стыдом и смущением”» (150, S. 21).
Уже из этого видна вся слабость тех позиций, которые все еще пытается защищать Лессинг. Раз всякую, 139 самую глупую историю можно при аллегорическом ее понимании наполнить каким угодно моральным смыслом, разве этим одним уже не сказано, что мораль к поэтическому рассказу не имеет никакого отношения? Таким образом, Лессинг сам устанавливает те два положения, из которых исходит поэтическая басня, именно: первое — рассказ никогда не исчерпывается весь в морали, и всегда остаются известные его стороны, которые с точки зрения морали оказываются ненужными; и второе — мораль может быть помещена в какой угодно рассказ, и мы никогда не можем сказать, будет ли здесь достаточно убедительной связь рассказа и морали.
И Лессинг и Потебня развивают дальше критику этой теории, и она заставляет Потебню вовсе отказаться от морали басни, но опять уклониться в другую сторону. Так, оба автора пользуются примером басни Федра «Вор и Светильник» и показывают, что сам автор указывает целых три моральных вывода, которые отсюда проистекают: «Отсюда такое сложное нравоучение, что сам автор должен его изложить так: во-первых, это часто обозначает, что злейший враг нередко тот, которого сами вспоили и вскормили; во-вторых, что преступник наказывается не в момент гнева божества, но в час, назначенный роком; в-третьих, эта басня увещевает добрых, чтобы они ни для какой выгоды не соединялись с преступником. Применений сам автор нашел слишком много, чтобы неавтор нашел хотя бы одно из сделанных им» (92, с. 18).
К тому же выводу приходит Потебня из анализа басни Федра о человеке и мухе. Он говорит: «Мы видели, какая цель басни: она должна быть постоянным сказуемым переменчивых подлежащих. Как же эта басня может служить ответом на известный вопрос, когда она в себе заключает разнообразные ответы? Иногда сам баснописец (а именно это делает Федр) весьма наивно указывает на сложность своих басен, то есть их практическую негодность» (92, с. 17). Тот же вывод получается из анализа индийской басни о Турухтане и море: «Эта басня знаменита, потому что оставила после себя огромное потомство. Здесь басня разбивается на две части. В первой половине море похищает яйца самки кулика (есть другие басни на тему, что бороться со стихиями невозможно); другая же половина доказывает, что 140 слабый может бороться с сильным и может его побеждать. Следовательно, две половины басни противоречат одна другой не по содержанию: море унесло яйца самки кулика, муж решается отомстить морю и отмщает — тут противоречия нет. Но если обратить внимание на возможность применения басни как сказуемого к переменчивым подлежащим, о которых я говорил, то вы увидите, что характер тех случаев, которые подходят к первой половине басни, совершенно противоположен характеру тех, которые подходят ко второй. К первой половине подходят те случаи, которые доказывают, что бороться со стихийными силами невозможно; ко второй половине будут подходить те случаи, когда личность, несмотря на свою видимую слабость, борется и одерживает над ними победу. Следовательно, внутри нашей басни содержится логический порок38. Единства действия, которое мы видим в других примерах, она не имеет» (92, с. 20). Здесь опять Потебня совершенно точно формулирует как недостаток прозаической басни то, что является основным признаком басни поэтической: ту противоположность, то противоречие, которое существует не в самом содержании, но при попытке толковать эту басню. Мы увидим впоследствии, что это противоречие, — то, что под басню подходят самые противоположные случаи, — и составляет истинную природу басни. И в самом деле, всякая басня, заключающая в себе больше одного действия, больше одного мотива, непременно будет уже обладать несколькими выводами и заключать в себе логический порок. Потебня расходится с Лессингом только в том, что отрицает, будто мораль появляется до басни. Он склонен думать, что басня применяется к частным случаям в жизни, а не к общим моральным правилам в мысли, и что эти общеморальные правила возникают уже как результат обобщения в тех случаях житейских, к которым применяется басня. Но, однако, и он требует того, чтобы известный круг этих случаев был заранее определен самим построением басни. Мы видели, что, если таких случаев много или если одна и та же басня может прилагаться к совершенно противоположным случаям, она оказывается несовершенной. Между тем в полном противоречии с этой своей мыслью Потебня дальше показывает, что в басне может быть не одно, а много нравственных положений, и что 141 она может применяться к совершенно разным случаям и что это вовсе не является пороком басни.
Так, анализируя басню «Мужик и аист» из Бабрия, он указывает, что на вопрос: «Какое общее положение низведено в ней или какое обобщение из нее вытекает, можно ответить, что это будет, смотря по применению басни, или положение, которое высказывает Бабрий устами мужика: “с кем попался, с тем и ответишь”, или положение: “человеческое правосудие своекорыстно, слепо”, или “нет правды на свете”, или “есть высшая справедливость: справедливо, чтобы при соблюдении великих интересов не обращали внимания на вытекающее из этого частное зло”. Одним словом, чего хочешь, того и просишь, и доказать, что все эти обобщения ошибочны, очень трудно» (92, с. 55).
И в полном согласии с этим Потебня поясняет, «что, кто предлагает басню в отвлеченном виде, какою она обыкновенно бывает в сборнике, тот по-настоящему должен снабжать ее не одним обобщением, а указанием на возможность многих ближайших обобщений, ближайших потому, что обобщения будут кончаться очень далеко» (92, с. 55).
И отсюда сам собой напрашивается вывод, что обобщение не может предшествовать басне, потому что тогда у басни не могло бы оказаться ошибочного обобщения, которое мы встречаем часто у баснописцев, и что «образ… рассказанный в басне, — это поэзия; а обобщение, которое прилагается к ней баснописцем, — это проза» (92, с. 58).
Но и это решение вопроса, казалось бы, совершенно противоположное Лессингову, столь же неверно для поэтической басни, как и предыдущее. Уже Лафонтен указал, что, хотя он придал эзоповским басням только форму, их следует оценивать, однако, вовсе не за это, а за ту пользу, которую они приносят. И здесь он говорит: «Они не только нравственные, они дают еще и другие знания. Здесь выражены свойства животных, их различные характеры и т. д.».
Уже достаточно сопоставить эти естественноисторические сведения о характере животных с моралью, для того чтобы увидеть, что в поэтической басне они занимают одно и то же место, как правильно указывает Лафонтен, или, иначе говоря, не занимают никакого места.
142 Вслед за этой самозащитой и воздавая должное морали как душе басни, он, однако, должен признаться, что часто вынужден предпочесть душе тело и обойтись вовсе без всякой души там, где она не может уместиться так, чтобы не нарушить грациозности, или там, где она противоречила форме, говоря проще, там, где она была просто не нужна. Он признает, что это есть грех против правил древних. «Во времена Эзопа басня рассказывала просто, мораль была отделена и всегда находилась в конце. Федр пришел и не подчинился этому порядку. Он украсил рассказ и перенес кое-где мораль с конца в начало».
Лафонтен вынужден был пойти еще дальше и оставить ее только там, где он мог найти для нее место. Он ссылается на Горация, который советует писателю не противиться неспособности своего духа или своего предмета. Поэтому он видит себя вынужденным оставлять то, из чего он не может извлечь пользы, иначе говоря — мораль.
Значит ли это, что действительно мораль была отнесена к прозе и не нашла себе никакого места в поэтической басне? Убедимся сперва в том, что поэтический рассказ действительно не завысит от морали в своем логическом течении и структуре, и тогда мы, может быть, сумеем найти то значение, которое имеет мораль, которую мы все же часто встречаем и в поэтической басне. Мы уже говорили о морали в басне «Волк и Ягненок», и здесь не лишне было бы напомнить мнение Наполеона, что «она грешит в своем принципе и в нравоучении… Несправедливо, que la raison du plus forte fût toujours la meilleuse10*, и если так случается на самом деле, то это зло… злоупотребление, достойное порицания. Волк должен был бы подавиться, пожирая ягненка» (60, с. 41).
Как ясно и грубо здесь выражена та мысль, что если бы рассказ басни должен был бы действительно подчиняться моральному правилу, он бы никогда не следовал своим собственным законам и, конечно, волк всегда в басне, пожирая ягненка, подавился бы.
Однако если мы рассмотрим поэтическую басню с точки зрения тех целей, которые она себе ставит, мы увидим, что это добавление к басне было бы полным 143 уничтожением всякого поэтического смысла. Рассказ, видимо, имеет свои собственные законы, которыми он направляется, не считаясь с законами морали. Измайлов заканчивал басню «Стрекоза и Муравей» следующими стихами: «Но это только в поучение ей муравей сказал, а сам на прокормление из жалости ей хлеба дал». Измайлов был, видимо, добрый человек, который дал стрекозе хлеба и заставил муравья поступить согласно правилам морали. Однако он был весьма посредственный баснописец, который не понимал тех требований, которые предъявлялись ему сюжетом его рассказа. Он не видел, что сюжет и мораль расходятся здесь совершенно и что который-нибудь из двух должен остаться неудовлетворенным. Измайлов выбрал для этой участи сюжет. То же самое видим мы на примере знаменитой басни Хемницера «Метафизик». Мы все знаем ту нехитрую мораль, которую автор выводил из насмешки над глупым философом, попавшим в яму. Однако уже Одоевский понимал эту басню совершенно иначе. «Хемницер, несмотря на свой талант, был в этой басне рабским отголоском нахальной философии своего времени… В этой басне лицо, заслуживающее уважение, есть именно Метафизик, который не видал ямы под своими ногами и, сидя в ней по горло, забывая о себе, спрашивает о снаряде для спасения погибающих и о том, что такое время» (81, с. 41 – 42).
Вы видите, что и здесь мораль оказывается весьма шаткой и подвижной в зависимости от оценки, которую мы привносим. Один и тот же сюжет прекрасно вмещает и два совершенно противоположных нравственных суждения.
Наконец, если мы перейдем к примерам того, как положительно пользуются моралью поэты в басне, мы увидим, что она играет у них разную роль. Иногда она отсутствует вовсе, часто она живет формулированная или в отдельных словах, или в житейском примере, или, чаще всего, в общем тоне рассказа, в интонациях автора, в которых чувствуется морализирующий и поучающий старик, рассказывающий басню не зря, а с назидательной целью. Но уже у Федра, который украсил рассказ и перенес нравоучение в начало басни, соотношение сил между этими двумя составными частями басни серьезно изменилось, С одной стороны, рассказ предъявлял 144 свои особые требования, которые, как мы видели, увели его в сторону от морали, а с другой — сама мораль, вынесенная вперед, стала часто играть не ту роль, которую она играла прежде. И уже окончательно растворилась и ассимилировалась в поэтическом рассказе мораль у Лафонтена и Крылова. Очень легко показать, что рассказ протекает у этих авторов настолько независимо от морали, что, как жаловался Водовозов, дети часто понимают басню в самом, так сказать, безнравственном смысле, то есть вопреки всякой морали. Но еще легче показать, что мораль превращается у этих авторов в один из поэтических приемов39, роль и значение которого определить несложно. Она играет большей частью роль или шуточного введения, или интермедии, или концовки, или, еще чаще, так называемой «литературной маски». Под этим следует понимать тот особый тон рассказчика40, который часто вводится в литературу, когда автор рассказывает не от своего имени, а от имени какого-нибудь вымышленного им лица, преломляя все происшествия и события через известный условный тон и стиль. Так, Пушкин рассказывает в своей повести от имени Белкина или в «Евгении Онегине» выводит себя как автора и как действующее лицо, знакомое с Онегиным. Так, часто у Гоголя рассказ ведется от чужого имени; так, у Тургенева всегдашний NN, закурив трубку, начинает какую-нибудь историю. Такой же литературной маской является мораль в басне. Баснописец никогда не говорит от своего имени, а всегда от имени назидательного и морализирующего, поучающего старика, и часто баснописец совершенно откровенно обнажает этот прием и как бы играет им. Так, например, в басне Крылова «Ягненок» большую половину басни занимает длинное нравоучение, напоминающее традиционные условные рассуждения и «сказовый» ввод в действие. Он приводит воображаемый разговор с красавицами и всю басню мысленно произносит к девочке, которую все время как бы имеет перед своими глазами.
Анюточка, мой друг!
Я для тебя и для твоих подруг
Придумал басенку. Пока еще ребенком,
Ты вытверди ее; не ныне, так вперед
С нее сберешь ты плод.
145 Послушай, что случилося с Ягненком.
Поставь свою ты куклу в уголок:
Рассказ мой будет короток.
Или прежде:
Ужели не глядеть? Ужель не улыбаться?
Не то я говорю; но только всякий шаг
Вы свой должны обдумать так,
Чтоб было не к чему злословью и придраться.
Здесь совершенно явно басня рассказывается в приеме литературной маски, и, если взять ту мораль, которую автор выводит из своей басни, мы увидим, что она ни в малой степени не вытекает из самого рассказа и скорей служит шуточным дополнением к тону всего рассказа. Прибавим к этому, что, несмотря на трагическое содержание рассказа, он весь передан все же в явно комическом стиле и тоне. Таким образом, ни содержание рассказа, ни мораль его ни в малой степени не определяют характера обобщения, а оно, наоборот, показывает совершенно ясно свою роль — маски.
Или в другой басне Крылов говорит:
Вот, милый друг, тебе сравненье и урок:
Он и для взрослого хорош и для ребенка.
Ужли вся басня тут? — ты спросишь; погоди,
Нет, это только побасенка,
А басня будет впереди,
И к ней я наперед скажу нравоученье.
Вот вижу новое в глазах твоих сомненье:
Сначала краткости, теперь уж ты
Боишься длинноты.
Что ж делать, милый друг: возьми терпенье!
Я сам того ж боюсь.
Но как же быть? Теперь я старе становлюсь.
Погода к осени дождливей,
А люди к старости болтливей.
Опять явная игра с этим литературным приемом, явное указание на то, что басенный рассказ есть известная литературная условность стиля, тона, точки зрения, что показано здесь с необычайной ясностью. Последний элемент построения басни и теории Лессинга, или, вернее сказать, свойство ее рассказа, заключается в требовании, чтобы этот рассказ представлял собой единичный случай, а не общий рассказ. И на этом последнем элементе, как и на предыдущих трех, видна все та же двойственность обсуждаемого предмета. Он получает 146 совершенно разное истолкование, возьмем ли мы поэтическую или прозаическую басни.
И Лессинг и Потебня выдвигают требование, чтобы рассказ в басне непременно относился к единичному и частному случаю. «Вспомните басню Нафана. Обратите внимание на то свойство, о котором я говорю: Нафан говорит: “один человек”. Почему он не мог сказать “некоторые люди” или “все люди”? Если он действительно не мог этого сказать, по самому свойству басни, то этим будет доказано, что образ басни должен быть единичным» (92, с. 28).
Потебня совершенно ясно говорит, что для него затруднительно объяснить это требование и мотивировать его, потому что «здесь мы выходим из области рассматриваемого, то есть из области поэзии, и сталкиваемся с теми произведениями, которые называются прозою…» (92, с. 28).
Иначе говоря, причина этого требования заключается, по мнению Потебни, в некоторых свойствах нашей логической мысли, в том, что всякое обобщение наше ведет нас к частностям, в нем же заключенным, но не к частностям другого круга. Не более удовлетворительно объясняет этот случай и Лессинг. По его словам, знаменитый пример Аристотеля относительно избрания магистрата, подобно тому как владелец корабля стал бы по выбору назначать кормчего, только тем отличается от басни, что он представляет все дело, как если бы оно произошло, оно осознается как возможное, а здесь оно приобретает действительность, здесь это определенный, это тот владелец корабля: «В этом суть дела. Единичный случай, из которого состоит басня, должен быть представлен как действительный. Если бы я удовлетворялся только возможностью его, это был бы пример, парабола» (150, S. 39).
Суть басни, следовательно, заключается в том, что она должна быть рассказана как некий частный случаи. «Басня требует действительного случая, потому что в действительном случае мы можем лучше и отчетливее различить причины поступков, потому что действительность дает более живое доказательство, чем возможное» (150, S. 43). Необоснованность этого утверждения сама собой бросается в глаза. Никакой коренной, принципиальной разницы между единичным и всеобщим случаем 147 здесь не оказывается, и мы можем положительна утверждать, что всякое общее естественнонаучное положение, рассказанное как басня, может служить прекрасным материалом для вывода из него известного морального положения. Еще больше не можем мы понять, почему басенному рассказу непременно должна принадлежать действительность и имеет ли в виду здесь басня действительность в точном смысле этого слова или же нет. Напротив того, мы можем легко показать в целом ряде случаев, что басня намечает как бы свою особую действительность и часто ссылается на то, что «так рассказывается в басне», и вообще басня описывает действительность случая не с большей реалистичностью, чем рассказ.
Не помню, у какой реки,
Злодеи царства водяного,
Приют имели рыбаки.
И очень часто автор ссылается на такую сказочность того происшествия, которое он собирается предложить вниманию читателя. Очень часто он прямо противопоставляет ее действительности:
У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим.
Но мы Истории не пишем;
А вот о том, как в Баснях говорят…
Здесь прямо история басенная противопоставляется истории действительной, между тем в рассуждениях Лессинга и в рассуждениях Потебни заключена та несомненная фактическая правда, что в действительности басня всегда имеет дело именно с единичным случаем и притом случай этот бывает рассказан как действительный. Но они оказываются бессильными объяснить причину этого факта. Стоит только подойти к поэтической басне со всеми присущими ей особенностями искусства, как и этот элемент или свойство басни станет для нас совершенно непонятным. Возьмем тот самый пример, которым пользуются и наши авторы. Вот басня, приписываемая Эзопу: «Говорят, обезьяны рождают по два детеныша; одного из них мать любит и лелеет, а другого ненавидит; первого она удушает своими объятиями, так что доживает до зрелого возраста только нелюбимый». Для того чтобы эта басня из естественноисторического рассказа 148 превратилась в басню, необходимо рассказывать ее так: одна обезьяна родила двух детей, одного из них любила и т. д. Спрашивается, почему такое превращение сделает басню действительно басенной, что нового придадим мы этой басне при таком ее превращении? С точки зрения Потебни, «из этого рассказа про обезьяну следует непосредственно для меня то, что сказанное вообще про обезьяну должно быть сказано о каждой из них порознь. Нет никакого импульса, толчка мысли, чтобы перейти от обезьяны к чему-нибудь другому. А нам в басне именно это самое и нужно» (92, с. 31).
Между тем эта басня, рассказанная как единичный случай, естественно обращает нашу мысль на аналогию с человеческими родителями, которые часто любят своих собственных детей, заласкивая их сверх меры. По мнению Лессинга, при таком превращении из общего в единичный рассказ из параболы делается басня.
Рассмотрим, так ли это? Для Лессинга, следовательно, это превращение есть только превращение степени отчетливости и ясности рассказа; для Потебни оно есть превращение логического порядка. Между тем совершенно очевидно, что в поэтической басне то же самое свойство — единичность и краткость рассказа — имеет совершенно другой смысл и назначение: ближайший смысл этого свойства заключается в том, что оно придает всему поэтическому рассказу совершенно другую направленность, другое устремление внимания и гарантирует нам ту необходимую для эстетической реакции изоляцию от реальных раздражителей, о которых мы говорили уже выше. В самом деле, когда мне рассказывают общий рассказ про обезьян, моя мысль совершенно естественно направляется на действительность, и этот рассказ я сужу с точки зрения правды или неправды, обрабатывая его при помощи всего того интеллектуального аппарата, при помощи которого я усваиваю всякую новую мысль. Когда мне рассказывают про случай с одной обезьяной, у меня сразу получается другое направление восприятия, я изолирую этот случай из всего того, о чем идет речь, обычно я ставлю себя к этому случаю в отношения, делающие возможной эстетическую реакцию. Другой, более отдаленный смысл этой единичности заключается, конечно, в том, что, как мы видели, поэтический рассказ вообще стремится усилить 149 плоть или тело басни, как говорил Лафонтен, за счет ее души и что, следовательно, он стремится подчеркнуть и усилить конкретность и действительность описываемого, потому что только при этом она приобретает над нами свое аффективное действие. Но эта действительность или конкретность басенного рассказа ни в какой мере не должна смешиваться с действительностью и обычном смысле этого слова. Это есть особая, чисто условная, так сказать, действительность добровольной галлюцинации, в которую ставит себя читатель.
Глава VI
«Тонкий яд» Синтез
Зерно лирики, эпоса и драмы в басне. Басни Крылова. Синтез басни.
Аффективное противоречие как психологическая основа басни. Катастрофа басни.
Он тонкий разливал в своих твореньях яд.
Подведем итоги всему сказанному. Мы везде при рассмотрении каждого из элементов построения басни в отдельности вынуждены были вступить в противоречие с тем объяснением, которое давалось этим элементам в прежних теориях. Мы старались показать, что басня по историческому своему развитию и по психологической своей сущности разбилась на два совершенно различных жанра и что все рассуждения Лессинга всецело относятся к басне прозаической и потому его нападки на поэтическую басню как нельзя лучше указывают на те элементарные свойства поэзии, которые стала присваивать себе басня, как только она превратилась в поэтический жанр. Однако все это только разрозненные элементы, смысл и значение которых мы старались показать каждого порознь, но смысл которых в целом нам еще непонятен, как непонятно самое существо поэтической басни. Ее, конечно, нельзя вывести из ее элементов, поэтому нам необходимо от анализа обратиться к синтезу, исследовать несколько типических басен и уже из целого уяснить себе смысл отдельных частей. Мы опять встретимся все с теми же элементами, с которыми 150 имели дело и прежде, но смысл и значение каждого из них уже будет определяться строем всей басни. В качестве предмета исследования мы остановились на баснях Крылова41, синтетическому разбору которых и посвящена настоящая глава.
«Ворона и лисица»
Водовозов указывает на то, что дети, читая эту басню, никак не могли согласиться с ее моралью (27, с. 72 – 73).
Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
И в самом деле, эта мораль, которая идет от Эзопа, Федра, Лафонтена, в сущности говоря, совершенно не совпадает с тем басенным рассказом, которому она предпослана у Крылова. Мы с удивлением узнаем, что существуют сведения, по которым Крылов уподоблял сам себя этой лисице в своих отношениях к графу Хвостову, стихи которого он долго и терпеливо выслушивал, похваливал, а затем выпрашивал у довольного графа деньги взаймы (60, с. 19).
Верно или неверно это сообщение — совершенно безразлично. Достаточно того, что оно возможно. Уже из него следует, что едва ли басня действительно представляет действия лисицы как гнусные и вредные. Иначе едва ли кому-нибудь могла бы закрасться мысль, что Крылов себя уподобляет лисице. И в самом деле, стоит вчитаться в басню, чтобы увидеть, что искусство льстеца представлено в ней так игриво и остроумно; издевательство над вороной до такой степени откровенно и язвительно; ворона, наоборот, изображена такой глупой, что у читателя создается впечатление совершенно обратное тому, которое подготовила мораль42. Он никак не может согласиться с тем, что лесть гнусна, вредна, басня скорей убеждает его или, вернее, заставляет его чувствовать так, что ворона наказана по заслугам, а лисица чрезвычайно остроумно проучила ее. Чему мы обязаны этой переменой смысла? Конечно, поэтическому рассказу, потому что, расскажи мы то же самое в прозе по рецепту Лессинга и не знай мы тех слов, которые приводила лисица, не сообщи нам автор, что у вороны от радости в зобу дыханье сперло, — и оценка нашего 151 чувства была бы совершенно другая. Именно картинность описания, характеристика действующих лиц, все то, что отвергали Лессинг и Потебня у басни, все это является тем механизмом, при помощи которого наше чувство судит не просто отвлеченно рассказанное ему событие с чисто моральной точки зрения, а подчиняется всему тому поэтическому внушению, которое исходит от тона каждого стиха, от каждой рифмы, от характера каждого слова. Уже перемена, которую допустил Сумароков, заменивший ворона прежних баснописцев вороной, уже эта небольшая перемена содействует совершенной перемене стиля, а между тем едва ли от перемены пола переменился существенно характер героя. Что теперь занимает наше чувство в этой басне — это совершенно явная противоположность тех двух направлений, в которых заставляет его развиваться рассказ. Наша мысль направлена сразу на то, что лесть гнусна, вредна, мы видим перед собой наибольшее воплощение льстеца, однако мы привыкли к тому, что льстит зависимый, льстит тот, кто побежден, кто выпрашивает, и одновременно с этим наше чувство направляется как раз в противоположную сторону: мы все время видим, что лисица по существу вовсе не льстит, издевается, что это она — господин положения, и каждое слово ее лести звучит для нас совершенно двойственно: и как лесть и как издевательство.
Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!..
Какие перушки! какой носок!
и т. д.
И вот на этой двойственности нашего восприятия все время играет басня. Эта двойственность все время поддерживает интерес и остроту басни, и мы можем сказать наверно, что, не будь ее, басня потеряла бы всю свою прелесть. Все остальные поэтические приемы, выбор слов и т. п., подчинены этой основной цели. Поэтому нас не трогает, когда Сумароков приводит слова лисицы в следующем виде:
И попугай ничто перед тобой, душа;
Прекраснее сто крат твои павлиньи перья
и т. д.
К этому надо еще прибавить то, что самая расстановка 152 слов и самое описание поз и интонация героев только подчеркивают эту основную цель басни. Поэтому Крылов смело отбрасывает заключительную часть басни, которая состоит в том, что, убегая, лисица, говорит ворону: «О ворон, если бы ты еще обладал разумом».
Здесь одна из двух черт издевательства вдруг получает явный перевес. Борьба двух противоположных чувств прекращается, и басня кончается у Лафонтена, когда лисица, убегая, насмехается над вороном и замечает ему, что он глуп, когда верит льстецам. Ворон клянется впредь не верить льстецам. Опять одно из чувств получает слишком явный перевес, и басня пропадает.
Точно так же самая лесть лисицы представлена совсем не так, как у Крылова: «Как ты прекрасен. Каким ты мне кажешься красивым». И, передавая речь лисицы, Лафонтен пишет: «Лисица говорит приблизительно следующее». Все это настолько лишает басню того противочувствия, которое составляет основу ее эффекта, что она как поэтическое произведение перестает существовать.
«Волк и ягненок»
Мы уже указали на то, что, начиная эту басню, Крылов с самого начала противопоставляет свою басню действительной истории. Таким образом, его мораль совершенно не совпадает с той, которая намечена в первом стихе: «У сильного всегда бессильный виноват».
Мы уже цитировали Лессинга, который говорит, что при такой морали в рассказе делается ненужной самая существенная его часть, именно — обвинение волка. Опять легко увидеть, что басня протекает все время в двух направлениях. Если бы она действительно должна была показать только то, что сильный часто притесняет бессильного, она могла бы рассказать простой случай о том, как волк растерзал ягненка. Очевидно, весь смысл рассказа именно в тех ложных обвинениях, которые волк выдвигает. И в самом деле, басня развивается все время в двух планах: в одном плане юридических препирательств, и в этом плане борьба все время клонится в пользу ягненка. Всякое новое обвинение волка ягненок парализует с возрастающей силой; он как бы бьет 153 всякий раз ту карту, которой играет противник. И наконец, когда он доходит до высшей точки своей правоты, у волка не остается никаких аргументов, волк в споре побежден до самого конца, ягненок торжествует.
Но параллельно с этим борьба все время протекает в другом плане: мы помним, что волк хочет растерзать ягненка, мы понимаем, что эти обвинения только придирка, и та же самая игра имеет для нас и как раз обратное течение. С каждым новым доводом волк все больше и больше наступает на ягненка, и каждый новый ответ ягненка, увеличивая его правоту приближает его к гибели. И в кульминационный момент, когда волк окончательно остается без резонов, обе нити сходятся — и момент победы в одном плане означает момент поражения в другом43. Опять мы видим планомерно развернутую систему элементов, из которых один все время вызывает в нас чувство, совершенно противоположное тому, которое вызывает другой. Басня все время как бы дразнит наше чувство, со всяким новым аргументом ягненка нам кажется, что момент его гибели оттянут, а на самом деле он приближен. Мы одновременно сознаем и то и другое, одновременно чувствуем и то и другое, и в этом противоречии чувства опять заключается весь механизм обработки басни. И когда ягненок окончательно опроверг аргументы волка, когда, казалось бы, он окончательно спасся от гибели, — тогда его гибель обнаруживается перед нами совершенно ясно.
Чтобы показать это, достаточно сослаться на любой из приемов, к которым прибегает автор. Как величественно, например, звучит речь ягненка о волке:
Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит…
Дистанция между ничтожеством ягненка и всемогуществом волка показана здесь с необычайной убедительностью чувства, и дальше каждый новый аргумент волка делается все более и более гневным, ягненка — все более и более достойным, — и маленькая драма, вызывая разом полярные чувства, спеша к концу и тормозя каждый свой шаг, все время играет на этом противочувствии.
154 «Синица»
Этот рассказ имеет в своей основе как раз ту самую басню о Турухтане, с которой мы встретились у Потебни. Мы помним, что уже там Потебня указывал на противоречивость этой басни, что она разом выражает две противоположные мысли: первую — ту, что слабым людям нельзя бороться со стихиями, другую — ту, что слабые люди могут иногда побеждать стихию. Кирпичников сближает обе басни (61, с. 194). Следы этого противоречия сохранены и в крыловской басне: гиперболичность и неверность этой истории могла бы дать повод многим критикам для того, чтобы указать на всю невероятность и неестественность, которую Крылов допустил в сюжете этой басни. И в самом деле, она совершенно явно не гармонирует с той моралью, которой она кончается:
Примолвить к речи здесь годится,
Но ничьего не трогая лица:
Что делом, не сведя конца,
Не надобно хвалиться.
В самом деле, этого никак не следует из басни. Синица затеяла такое дело, в котором она не только не свела конца, но и не могла начать начала. И совершенно ясно, что смысл этого образа — синица хочет зажечь море — заключается вовсе не в том, что синица похвасталась, не доведя дело до конца, а в самой грандиозной невозможности того предприятия, которое она затеяла.
Это совершенно ясно из варианта одного стиха, который впоследствии был выброшен:
Как басню эту толковать? —
Не худо выше сил нам дел не затевать…
и т. д.
Речь, следовательно, идет действительно о непосильном предприятии, и стоит только обратиться к самому рассказу, чтобы увидеть, что острота басни в том я заключается, что, с одной стороны, подчеркивается необычайная реальность затеянного предприятия, с другой стороны, читатель все время подготовлен к тому, что предприятие это вдвойне невозможно. Самые слова «сжечь море» указывают на то внутреннее противоречие, которое заключено в этой басне. И вот эти бессмысленные 155 слова Крылов, несмотря на их бессмыслицу, реализует и заставляет зрителя переживать как реальные в ожидании этого чуда.
Всмотритесь в то, как описывает Крылов поведение зверей, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к фабуле.
Летят стадами птицы;
И звери из лесов сбегаются смотреть,
Как будет Океан и жарко ли гореть.
И даже, говорят, на слух молвы крылатой,
Охотники таскаться по пирам
Из первых с ложками явились к берегам,
Чтоб похлебать ухи такой богатой,
Какой-де откупщик и самый тароватый
Не давывал секретарям.
Толпятся: чуду всяк заранее дивится,
Молчит и, на море глаза уставя, ждет;
Лишь изредка иной шепнет:
«Вот закипит, вот тотчас загорится!»
Не тут-то: море не горит.
Кипит ли хоть? И не кипит…
Уже из этих описаний совершенно ясно, что Крылов взялся в басне за реализацию бессмыслицы, но обставил ее так, точно речь идет о самом обыденном и естественном деле. Опять описание и предприятие находятся в самом дисгармоничном несоответствии и возбуждают в нас совершенно противоположное к себе отношение, которое оканчивается удивительным результатом. Каким-то незаметным для нас громоотводом молния нашей насмешки отводится с самой синицы и поражает — кого же? — конечно, всех тех зверей, которые шептали друг другу: «Вот закипит, вот тотчас загорится» и которые с ложками явились к берегам. Это убедительно явствует из заключительных стихов, в которых автор серьезно заявляет:
Наделала Синица славы,
А море не зажгла.
Как будто автор должен нам сообщить о том, что затея синицы не удалась, — до такой степени всерьез взята и описана эта затея во всех предыдущих стихах. И конечно, предметом этой басни являются «затеи величавы», а вовсе не скромное правило: не хвалиться делом, не сведя конца…
156 «Два голубя»
Эта басня может служить примером того, как мы можем самые различные жанры разыскать в басне. Эта одна из немногих басен, написанная с необычайным сочувствием к тем, о ком она рассказывает; и взамен классического злорадства, которым обычно сопровождается нравоучительный вывод, эта басня питает свою мораль на сентиментальном чувстве умиления, жалости и грусти. Рассказ построен так, что автор все время старается вызвать у читателя сочувствие к тем приключениям, которые испытывает голубок, и, в сущности говоря, это единственная любовная история, рассказанная в басне. Стоит прочитать эту басню, чтобы увидеть что она воспроизводит эту историю совершенно в стиле сентиментального романа или рассказа о любовной разлуке двух любящих сердец.
Хоть подожди весны лететь в такую даль:
Уж я тебя тогда удерживать не буду.
Теперь еще и корм и скуден так и мал;
Да, чу! и ворон прокричал:
Ведь это, верно, к худу.
Недаром, как показывают исследователи, басня эта заимствована Лафонтеном из древнего рассказа, где эта басня рассказывается визирем царю, намеревающемуся предпринять дальнее путешествие для отыскания сокровищ, о которых он был извещен в сновидении. Таким образом, романтическая и сентиментальная основа этой басни совершенно ясна, и это показывает нам, как зерно сентиментального романа прорастает из нашей басни. Таковы, например, первые строчки:
Где видишь одного, другой уж, верно, там;
И радость и печаль — все было пополам.
Не видели они, как время пролетало;
Бывало грустно им, а скучно не бывало.
Ну, кажется, куда б хотеть
Или от милой, иль от друга?
Чем ни начало сентиментальной повести в стихах! И Жуковский совершенно прав, когда он говорит, что эти стихи «милы тем простодушием, с каким выражается в них нежное чувство» (60, с. 56).
Ничего специфически басенного здесь нет, и недаром Жуковский приводит стих «под ним, как океан, синеет 157 степь кругом» как образец живописного изображения бури, то есть такого изображения, которое, с точки зрения Лессинга, было бы совершенно вредным и ненужным в басне.
«Стрекоза и муравей»
Тот же Водовозов упоминает, что в этой басне детям казалась очень черствой и непривлекательной мораль муравья и все их сочувствие было на стороне стрекозы, которая хоть лето, да прожила грациозно и весело, а не муравья, который казался детям отталкивающим и прозаическим. Может быть, дети были бы не так уж неправы при такой оценке басни. В самом деле, казалось бы, если силу басни Крылов полагает в морали муравья, то почему тогда вся басня посвящена описанию стрекозы и ее жизни и вовсе в басне нет описания мудрой жизни муравья. Может быть, и здесь детское чувство ответило на построение басни — дети прекрасно почувствовали, что истинной героиней всего этого небольшого рассказа является именно стрекоза, а не муравей. И в самом деле, в достаточной мере убедительно уже то, что Крылов, почти не изменяющий своему ямбу, вдруг переходит на хорей, который, конечно же, соответствует изображению стрекозы, а не муравья. «Благодаря этим хореям, — говорит Григорьев, — сами стихи как бы прыгают, прекрасно изображая попрыгунью-стрекозу» (94, с. 131). И опять вся сила басни заключается в том контрасте, который положен в ее основу, когда все время перебивающиеся картины прежнего веселья и беззаботности сопоставляются и перебиваются картинами теперешнего несчастья стрекозы. Мы могли бы сказать так, как прежде, что мы воспринимаем басню все время в двух планах, что сама стрекоза все время перед нами поворачивается то одним, то другим своим лицом и злая тоска в этой басне так легко перепрыгивает на мягкую резвость, что басня благодаря этому получает возможность развить свое противочувствие, которое лежит у нее в основе. Можно показать, что по мере усиления одной картины сейчас же усиливается и противоположная. Всякий вопрос муравья, напоминающий о теперешнем бедствии, перебивается как раз обратным по смыслу восторженным рассказом стрекозы, и муравей нужен, конечно, 158 только для того, чтобы довести эту двойственность до апогея и там обернуть ее в замечательной двусмысленности.
«А, так ты…» (Муравей готовится поразить стрекозу.)
«Я без души
Лето целое все пела» (Стрекоза отвечает невпопад, она опять припоминает
лето.)
«Ты все пела? это дело:
Так поди же, попляши!»
Здесь двусмысленность достигает своего апогея в слове «попляши», которое зараз относится к одной и другой картине, объединяет в одном звуке всю ту двусмысленность и те два плана, в которых до сих пор развивалась басня: с одной стороны, это слово, примыкая по своему прямому смыслу к «ты все пела», явно означает один план, с другой стороны, по своему смысловому значению слово «попляши» вместо «погибни» означает окончательное разоблачение второго плана, окончательного бедствия. И эти два плана чувства, с гениальной силой объединенные в одном слове, когда в результате басни слово «попляши» означает для нас одновременно и «погибни» и «порезвись», составляют истинную сущность басни.
«Осел и соловей»
В этой басне Крылов дает такое подробное и живописное описание пения соловья, что многие критики считают это образцовым описанием, превосходящим все то, что до сих пор было дано в русской поэзии. Потебня недаром приводит эту басню как лучшее доказательство того, к чему сводятся приемы так называемой новой школы Лафонтена и Крылова. Подробная характеристика действующих лиц, описание самых действий и т. д. — вот что кажется Потебне недостатком и что составляет самую сущность поэтической басни. «Подобные фантазии, — говорит М. Лобанов, — рождаются только в головах таких людей, каков был Крылов. Очарование полное, нечего, кажется, более прибавить: но наш поэт был живописец» (60, с. 82). Само собой понятно, что по причине такого подробного описания не могла не отодвинуться на второй план самая мораль этой басни, лукаво прикрытая традиционным пониманием 159 басни, которая будто бы не имеет другой цели, как обнаружить глупость осла. Но если бы басня действительно не имела никакой другой цели, к чему было бы такое подробное описание соловьиного пения; разве басня не выиграла бы в выразительности, если бы баснописец просто рассказал нам, что, выслушав песнь соловья, осел остался им недоволен? Вместо этого Крылов находит нужным подробнейшим образом дать картину соловьиного пения, заставляя нас, по выражению Жуковского, как бы мысленно присутствовать при этой сцене, и дает понять нам не только то, что соловей пел хорошо, но и заставляет нас в определенном эмоциональном тоне понять это сладкопевчество и сладкогласие соловья. Соловьиное пение изображено именно как искусное сладкогласие, описание выдержано совершенно в тоне сентиментальной пасторали, и все дано в приторно-нежной гамме, доводящей до чудовищного преувеличения томность и негу идиллической сцены. В самом деле, когда мы читаем, что под звуки соловьиного пения «прилегли стада», мы не можем не подивиться тому тонкому яду, который Крылов искусно вводит в описание этой томной свирели: мелкая дробь, переливы, щелканье и свисты. Интересно, что даже прежние критики хулили Крылова за те стихи, где он говорит о пастухе и пастушке. Галахов писал, что всей этой картиной соловьиного пения «Крылов испортил картину и производимое ею впечатление». О следующих затем трех стихах:
Чуть-чуть дыша, пастух им любовался
И только иногда,
Внимая Соловью, пастушке улыбался, —
замечает: «Если можно еще допустить первые четыре стиха как прикрасу, хотя она и придает мифическое значение соловьиному голосу, то последние три неприятно вырывают читателя из русской среды и переносят его в пасторальный мир Фонтенеля и мадам Дезульер» (60, с. 83). С этим, конечно, нельзя не согласиться.
И в самом деле, здесь критику удалось обнаружить совершенно истинное значение этой картины. Он прав, когда указывает на то, что Крылов изобразил донельзя приторную пастораль, и следовательно, дальнейшее противопоставление петуха соловью нами воспринимается 160 уже как резкий диссонанс, врывающийся в эту мармеладную картину, а отнюдь не как доказательство невежественности осла. Стоюнин, поддерживавший в общем традиционное толкование этой басни, все же удивительно проницательно замечает: «Петух здесь выбран для того, чтобы без лишних слов изобразить ослиный вкус: в чем может быть больше противоположности, как не в пении соловья и петушином крике?
В этом изображении главным образом и сосредоточивается ирония писателя» (94, с. 83).
И в самом деле, даже для простейшего анализа открывается та простая мысль, что Крылов в своей басне имел в виду нечто неизмеримо большее, чем простое обнаружение невежества осла. Достаточно только приглядеться к тому, какой резкой противоположностью вдруг оборачивается вся картина, когда под маской одобрительных слов осла вдруг упоминается петух. Стоюнин совершенно прав, когда видит смысл упоминания о петухе в той чрезвычайной противоположности, которой ничего не может быть больше и которую составляет это упоминание. И действительно, мы видим в этой басне те же два плана чувства, которые нам удалось обнаружить и во всех предыдущих баснях. Перед нами развивается все время пастораль, необычайно широко и пространно развернутая. У самого конца мы вдруг оборачиваем всю картину и освещаем ее совершенно противоположным светом. Впечатление получается приблизительно такое же, как если бы действительно мы услышали резкий и пронзительный крик петуха, врывающийся в идиллическую картину, между тем легко заметить, что второй план только на время ушел от нашего внимания, но он был подготовлен с самого начала этими, совершенно не идущими соловью увеличительными кличками «дружище», «великий мастерище» и самым вопросом осла: «Велико ль, подлинно, твое уменье?» Этот второй план в грубой, резко пронзительной музыке сразу противопоставляется праздничному и пряничному пению соловья, но только уходит временно из поля нашего внимания с тем, чтобы обнаружиться в заключении басни с необычайным эффектом взрывающейся бомбы. Трудно не заметить, что пение соловья утрировано до крайности, как и ответы осла, который не просто обнаруживает непонимание этого пения, а 161 под маской полного понимания, то есть закрепляя этот пасторальный план басни еще раз в заключительных стихах, вдруг прорывает его планом совершенно противоположным.
Если обратиться к поэтике соловья и петуха и употреблению этих образов в мировой литературе, мы увидим, что оба эти образа противопоставляются друг другу довольно часто и что в этом противопоставлении заключается соль вещи, а осел есть не более как служебная фигура, которая под маской глупости должна произнести нужное для автора суждение. Напомним только, что в таких стилистически высокообработанных вещах, как евангельский рассказ об отречении Петра, упоминается о петушьем пении, что возвышеннейшая трагедия не отказывалась вводить крик петуха в самые сильные из своих сцен, например в «Гамлете». Было бы совершенно немыслимым со стороны стилистической представить себе, что в евангельской сцене и в сцене «Гамлета» могло бы вдруг появиться соловьиное пение, напротив, крик петуха там оказывается уместным44, потому что он всецело по эмоциональному его действию лежит в плане изображаемых событий и их объективного тона.
Стоит еще упомянуть о недавней попытке в русском языке противопоставить оба эти образа в поэме Блока «Соловьиный сад», где сопоставление любовного блаженства означено знаком соловья, а жизнь в ее суровой и грубой трезвости ознаменована образом осла; мы не имеем в виду, конечно, сопоставить крыловские басни с поэмой Блока, но мы хотим указать на то, что истинный смысл этой басни, конечно же, заключается не в изображении суда невежды, а опять в противоборстве и сопоставлении двух противоположных планов, в которых развивается басня, причем развитие и нарастание каждого из этих планов одновременно усиливают эффект другого. Чем сложнее и сладкогласнее изображается пение соловья, тем резче и пронзительнее кричит упоминаемый в конце петух.
Опять в основе басни противочувствие, но только способ его протекания и завершительное его разгорание дано в несколько иных формах.
162 «Демьянова уха»
Басню эту стоит припомнить как один из образцов безусловно чистого комизма, который с такой охотой культивирует баснописец. Однако и эта басня чрезвычайно ясно и просто обнаруживает то же самое психологическое строение, что и все прочие. И здесь действие протекает все время в двух планах: знаменитый Демьян в припадке какого-то гостеприимства все добрее и добрее к своему гостю, но с каждой новой тарелкой, как это ясно для читателя, он все больше и больше становится мучителем своего гостя, и это мучительство растет и обнаруживается перед читателем ровно в такой же мере, в какой растет его гостеприимство; так что реплика его имеет два совершенно противоположных психологических значения и одновременно означает две совершенно противоположные вещи. Всякое его приглашение «ешь до дна» означает одновременно и раскрытие какой-то гиперболической и патетической доброты и столь же патетического мучительства. И только необычайному слиянию и сплетению этих двух мотивов и на глазах читателя происходящему превращению доброты в мучительство обязана басня тем густым комизмом, который составляет ее истинную суть. И в самом заключении этой басни, когда гость без памяти бежит из гостей домой, оба плана опять сливаются для того, чтобы с крайней остротой подчеркнуть всю нелепость и противоречивость тех двух мотивов, из которых басня соткана.
«Тришкин кафтан»
На эту басню тоже жаловался Водовозов. Он указывал на то, что детям никак не удавалось втолковать, будто автор имел здесь в виду изобразить попавших в беду помещиков и неумных хозяев: дети, напротив того, видели в Тришке героя, сказочного ловкого портняжку, который, попадая каждый раз в новую и новую беду, выпутывается из нее с новой находчивостью и новым остроумием (27, с. 74). Два плана басни, о которых мы говорим все время, обнаруживаются здесь чрезвычайно просто и ясно, так как они заложены в самой теме рассказа. Всякая заплата, которую кладет Тришка, есть одновременно новая прореха, и совершенно 163 равномерно с каждой новой заплатой растет и прореха. Получается действительно сказочное чередование кромсания и починки кафтана. Кафтан на наших глазах переживает две совершенно противоположные операции, которые слиты неразъединимо и которые противоположны по своему значению. Тришка надставляет новые рукава, но он обрезает фалды и полы, и мы одновременно радуемся новой Тришкиной находчивости и соболезнуем новому Тришкину горю.
Заключительная сцена опять соединяет оба плана, подчеркивая их нелепость и несоединимость и давая, несмотря на противоречие, видимое их согласование: «И весел Тришка мой, хоть носит он кафтан такой, которого длиннее и камзолы».
Таким образом, мы сразу узнаем, что кафтан окончательно починен и вместе с тем окончательно испорчен и что та и другая операции доведены до самого конца.
«Пожар и алмаз»
В этой басне Крылов противопоставляет вредный блеск пожара полезному блеску алмаза, и смысл ее, конечно, во славу добродетели, указывает на достоинство тихого и безвредного блеска. Однако в комментариях к этой басне мы наталкиваемся уже на внушающие психологу подозрение сведения. «Как известно, Крылов очень любил пожары, благодаря чему изображение их у него отличается особенною яркостью». «Здесь кстати припомним, что пожар для Крылова был занимательнейшим зрелищем. Он не пропускал ни одного значительного пожара и о каждом сохранил самые живые воспоминания». «Без сомнения, — замечает Плетнев, — от этой странной черты любопытства его произошло и то, что в его баснях все описания пожаров так поразительно точны и оригинально хороши» (60, с. 139).
Оказывается, что Крылов любил пожары и его личное пристрастие идет вразрез с тем общим смыслом, который он придает своей басне. Уже это одно способно навести нас на раздумье, что смысл выражен здесь несколько лукаво и что под этим основным смыслом, может быть, таится другой, прямо его уничтожающий. И в самом деле, стоит проглядеть описание пожара 164 для того, чтобы увидеть, что он действительно описан со всем величием и окраска восторженного чувства, которая ему присуща, нисколько не уничтожается всеми последующими рассуждениями алмаза. Замечательно и то, что басня все время разыгрывается, как спор и состязание между пожаром и алмазом:
«Как ты, со всей своей игрой, —
Сказал Огонь, — ничтожен предо мной!..»
И когда алмаз говорит пожару:
«… И чем ты яростней пылаешь,
Тем ближе, может быть, к концу», —
он выражает тем самым смысл не только этой единичной басни, но смысл всякой другой басни, где всякое действие развивается одновременно в двух противоположных направлениях. И чем яростней пылает, разгорается один план басни, тем ближе он к концу и тем ближе подходит и вступает в свои права другой план.
«Мор зверей»
В этой прекраснейшей басне Крылов поднялся почти до уровня поэмы, и то, что Жуковский говорил о картине моровой язвы, можно распространить на всю басню в целом. «Вот прекрасное изображение моровой язвы… Крылов занял у Лафонтена искусство смешивать с простым и легким рассказом картины истинно стихотворные.
Смерть рыщет по полям, по рвам, по высям гор;
Везде разметаны ее свирепства жертвы, —
два стиха, которые не испортили бы никакого описания моровой язвы в эпической поэме» (54, с. 513).
И в самом деле, басня подымается здесь на высоту эпической поэмы. Истинный смысл этой басни раскрывается в тех глубоко серьезных картинах, которые здесь развертываются, причем очень легко показать, что басня эта, и действительно равная по величине небольшой поэме имеющая только струнку нравоучения, прибавленную явно как концовка, конечно, не исчерпывает своего смысла в этой морали:
И в людях, также говорят!
Кто посмирней, так тот и виноват.
165 Два плана нашей басни сложно психологические: сначала идет картина необычайного свирепства смерти, и это создает давящий и глубоко трагический фон для всех происходящих дальше событий: звери начинают каяться, в речи льва звучит все время лицемерный и хитрый иезуит, и все решительно речи зверей развертываются в плане лицемерного преуменьшения своих грехов при необычайном объективном их значении, например:
«… Притом же, наш отец!
Поверь, что это честь большая для овец,
Когда ты их изволишь кушать…»
Или покаяние льва:
«… Покаемся, мои друзья!
Ох, признаюсь — хоть это мне и больно, —
Не прав и я!
Овечек бедненьких — за что? — совсем безвинно
Дирал бесчинно;
А иногда — кто без греха? —
Случалось, драл и пастуха…»
Здесь противоположность тяжести греха и этих лицемерно смягчающих вставок и оправданий лицемерно покаянного тона совершенно очевидна. Противоположный план басни обнаруживается в замечательной речи вола, равной которой в своем роде не создала еще второй раз русская поэзия. В своей речи —
Смиренный Вол им так мычит: «И мы
Грешны. Тому лет пять, когда зимой кормы
Нам были худы,
На грех меня лукавый натолкнул:
Ни от кого себе найти не могши ссуды,
Из стога у попа я клок сенца стянул».
Это «и мы грешны», конечно, блестящая противоположность всему тому, что дано было прежде. Если прежде огромный грех был представлен в оправе самооправдания, то здесь ничтожный грех дан в такой патетической оправе самообвинения, что у читателя создается чувство, будто самая душа вола обнажается перед нами в этих мычащих и протяжных звуках.
Наши школьные учебники уже давно цитируют эти стихи, утверждая, что Крылов достигает в них чуда звукоподражания, но, конечно, не звукоподражание было задачей Крылова в данном случае, а совсем другое. 166 И что басня действительно заключает весь смысл в этом противоположении двух планов, взятых со всей серьезностью и развиваемых в этой обратно пропорциональной зависимости, которую мы находим везде выше, — можно убедиться из одной чрезвычайно интересной стилистической замены, которую Крылов внес в лафонтеновскую басню. У Лафонтена роль вола исполняет осел. Речь его напоминает речь глупца и лакомки и совершенно чужда той эпической серьезности и глубины, которую крыловским стихам придает неразложимая на элементы поэтичность, которая звучит хотя бы в том множественном числе, в котором изъясняется вол.
М. Лобанов по этому поводу замечает: «У Лафонтена осел в свою очередь кается в грехах прекрасными стихами; но Крылов заменил его волом, не глупым, каким всегда принимается осел, но только простодушным животным. Эта перемена и тем уже совершеннее, что в речи вола мы слышим мычание и столь естественное, что слов его нельзя заменить другими звуками; а эта красота, которою наш поэт пользуется и везде с крайним благоразумием, везде приносит читателю истинное удовольствие» (60, с. 65).
Вот точный перевод лафонтеновских стихов: осел в свою очередь говорит: «Я вспоминаю, что в один из прежних месяцев голод, случай, нежная трава и — я думаю, — какой-то дьявол толкнули меня на это — я щипнул с луга один глоток. Я не имел на это никакого права, так как надо говорить честно». Из этого сопоставления совершенно ясно, до какой степени глубока и серьезна та перемена, которую Крылов внес в свою басню, и насколько она переиначила весь эмоциональный строй басни. В ней есть все то, что находим мы обычно в эпической поэме, возвышенность и важность общего эмоционального строя и языка, истинная героичность, противопоставленная чему-либо противоположному, и в заключение, так сказать в катастрофе басни, опять оба плана объединяются вместе, и заключительные слова означают как раз два совершенно противоположных смысла:
Приговорили —
И на костер Вола взвалили.
167 Это одновременно означает и высший жертвенный героизм вола и высшее лицемерие прочих зверей.
Особенно замечательно в этой басне то, как в ней искусно и хитро скрыто и затаенное в ней противоречие. С внешнего взгляда противоречия нет вовсе: вол сам себя приговорил к смерти своей речью, звери только подтвердили его самообвинение; таким образом, налицо как будто нет борьбы между волом и другими животными; но это видимое согласие только прикрывает еще более раздирающее противоречие басни. Оно состоит в тех двух совершенно противоположных психологических планах, где одни движимы исключительно желанием спастись и сберечься от жертвы, а другие охвачены неожиданной и противоположной жаждой героического подвига, мужества и жертвы.
«Волк на псарне»
Эта удивительнейшая из крыловских басен не имеет себе равных ни по общему эмоциональному впечатлению, которое она производит, ни по внешнему строго, которому она подчинена. В ней вовсе нет морали и выводов; тут шутка и насмешка не нашли себе почти места в ее суровых стихах. И когда она однажды как будто прозвучала в речи ловчего, она одновременно впитала в себя и такой противоположный жуткий смысл, что она кажется уже не шуткой вовсе.
Перед нами, в сущности говоря, в этой басне мелкая драма, как называл иногда Белинский крыловские басни. Или, если нельзя ближе определить ее психологический смысл, перед нами настоящее зерно трагедии «Волк на псарне».
Справедливо говорит Водовозов: «“Волк на псарне” — одна из удивительных басен Крылова. Таких сокровищ между ними весьма мало. Не греша против истины, басню “Волк на псарне” можно назвать гениальнейшим творением словесного искусства; ни один баснописец — ни наш, ни иноземный — не создал ничего подобного» (90, с. 129).
Оценка Водовозова совершенно справедлива, вывод его точен, но если вы поинтересуетесь узнать, что заставляет критика дать такую высокую оценку этой басне, — 168 вы узнаете, что и Водовозов в понимании ее ушел недалеко от всех прочих критиков. «Если хотите видеть весь глубокий и потрясающий истиною смысл названной басни Крылова, то читайте ее вместе с историей войны 1812 г.» (90, с. 129).
Этим сказано все. Басню эту издавна толковали и понимали не иначе, как прилагая к тем историческим событиям, которые она якобы должна изображать. Рассказывают, что Кутузов сам указал на себя, как на ловчего, и, снявши шапку, провел рукой по седым волосам, читая слова: «А я, приятель, сед». Волк — это, конечно, Наполеон, и вся ситуация басни якобы воспроизводит то затруднительное положение, в котором очутился Наполеон после своей победы под Бородином.
Не станем разбираться в сложном и запутанном вопросе, так ли это или не так, а если так, то в какой мере верно и точно сказалась зависимость басни от исторической действительности. Скажем прямо, что исторический повод никогда и ничего не может нам разъяснить в басне. Басня, возникшая по любому поводу, как и всякое художественное произведение, подчинена своим собственным законам развития, и эти законы никогда, конечно, не будут объяснены из простого зеркального отражения исторической действительности. Этот повод может служить в лучшем случае отправной точкой для нашей догадки, он сможет помочь нам развернуть нить нашего толкования, даже в лучшем случае он только намек и ничего больше.
Однако воспользуемся этим намеком. Уже самый намек этот, самое сопоставление басни с трагическим положением победившего Наполеона указывает нам на серьезный и, главное, двойственный характер, на внутренне противоречивое строение того сюжета, который лежит в ее основе. Обратимся к самой басне. Попытаемся вскрыть заложенное в ней противочувствие, различить те два плана, в которых она развивается в противоположном направлении. Первое, что бросается нам в глаза, — это необычная тревога, близкая к панике, которая так непередаваемо мастерски набросана в первой части басни. Удивительно то, что впечатление от ошибки волка раньше всего сказывается не растерянностью самого волка, а необычайным смятением самой псарни.
169 Поднялся
вдруг весь псарный двор —
Почуя серого так близко забияку,
Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку;
Псари кричат: «Ахти, ребята, вор!» —
И вмиг ворота на запор;
В минуту псарня стала адом.
Бегут: иной с дубьем,
Иной с ружьем.
«Огня! — кричат, — огня!» Пришли с огнем.
Здесь что ни слово, то ад. Весь этот шумливый, кричащий, бегающий, бьющий, смятенный стих, который как лавина обрушивается на волка, вдруг принимает совершенно другой план — стих делается длинным, медленным и спокойным, как только переходит к описанию волка.
Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом,
Зубами щелкая и ощетиня шерсть,
Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть;
Но видя то, что тут не перед стадом
И что приходит наконец
Ему расчесться за овец. —
Пустился мой хитрец
В переговоры!..
Уже необычайный контраст движения на псарне и забившегося в угол волка настраивает нас определенным образом: мы видим, что борьба невозможна, что волк затравлен с самой первой минуты, что его гибель не только обозначилась, но и почти уже свершилась на наших глазах, — и вместо растерянности, отчаяния, просьб мы слышим величественное начало стиха, точно заговорил император: «И начал так: “Друзья, к чему весь этот шум?”» Здесь не только величественно это «и начал так», точно речь идет о спокойном и очень торжественном начале, но потрясающе серьезно по контрасту с предыдущим и обращение «друзья» к этой ораве, бегущей с ружьем и дубьем, и особенно это ироническое «к чему весь этот шум». Назвать шумом этот описанный прежде ад и еще спросить, к чему он, — это значит с такой необыкновенной поэтической смелостью уничтожить, умалить и свести одной презрительной нотой на нет все противостоящее волку до такой степени, что по смелости очень трудно назвать какой-либо подобный прием в русской поэзии. Уже это одно настолько противоречит тому истинному смыслу обстановки, которая создалась; уже это одно настолько извращает 170 уже с самого начала ясную для читателя картину вещей, что одними этими словами явно создается и в течение басни врывается ее второй план, столь необходимый для ее развития. И дальнейшие слова волка продолжают развивать этот новый, второй план с необычайной смелостью.
«… Пришел мириться к вам совсем не ради ссоры;
Забудем прошлое, уставим общий лад!
А я не только впредь не трону здешних стад,
Но сам за них с другими грызться рад,
И волчьей клятвой утверждаю,
Что я…»
Здесь все построено на интонации величия и все противоречит истинному положению вещей: глазами он хочет всех съесть — словами он обещает им покровительство; на деле он жалко забился задом в угол — на словах он пришел к ним мириться и милостиво обещает больше не обижать стад; на деле собаки готовы растерзать его каждую секунду — на словах он обещает им защиту; на деле перед нами вор — на словах он волчьей клятвой утверждает свое необычайно подчеркнутое перерывом речи «я». Здесь полное противоречие между двумя планами в переживаниях самого волка и между истинной и ложной картиной вещей продолжает осуществляться и дальше. Ловчий, прерывая речь волка, отвечает ему явно в другом стиле и тоне. Если язык волка совершенно правильно назвал один из критиков возвышенным простонародным наречием, неподражаемым в своем роде, то язык ловчего явно противоположен ему как язык житейских дел и отношений. Его фамильярные «сосед», «приятель», «натуру» и т. д. составляют полнейший контраст с торжественностью речи волка. Но по смыслу этих слов они продолжают развивать переговоры, ловчий согласен на мировую, он отвечает волку в прямом смысле на его предложение о мире согласием. Но только эти слова одновременно означают и совершенно противоположное. И в гениальном противоположении «ты сер, а я, приятель, сед» разница в звучащем «р» и в тупом «д» никогда еще не связывалась с такой богатой смысловой ассоциацией, как здесь. Мы говорили однажды, что эмоциональная окраска звуков зависит все-таки от той смысловой картины, в которой они принимают участие. Звуки приобретают эмоциональную 171 выразительность от смысла того целого, в котором они разыгрывают свои роли, и вот, насыщенное всеми предыдущими контрастами, это звуковое несовпадение как бы дает звучащую формулу этим двум различным смыслам.
И опять катастрофа басни, в сущности говоря, объединяет оба плана вместе, когда в словах ловчего они обнаруживаются одновременно:
«… А потому обычай мой:
С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой».
И тут же выпустил на Волка гончих стаю».
Переговоры закончились мировой, травля закончилась смертью. Одна строка рассказывает о том и о другом вместе.
Таким образом, мы могли бы формулировать свою мысль приблизительно так: наша басня, как и все прочие, развивается в двух противоположных эмоциональных планах. С самого начала для нас ясно то стремительное нападение на волка, которое равносильно его гибели и смерти. Эта стремительная угроза, не прекращаясь ни на одну минуту, продолжает существовать во все время течения басни. Но параллельно с ней и как бы над ней развивается противоположный план басня — переговоры, где речь идет о мире и где одна сторона просит заключить мир, а другая отвечает согласием, где роли героев удивительно переменились, где волк обещает покровительствовать и клянется волчьей клятвой. Что эти два плана даны в басне со всей поэтической реальностью, в этом можно убедиться, если приглядеться к той двойственной оценке, которую естественно автор дает каждому своему герою. Разве скажет кто, что волк жалок в этих величественных переговорах, в этом необычайном мужестве и совершенном спокойствии. Разве можно не удивиться тому, что смятение и тревога приписаны не волку, а псарям и псам. Если обратиться к традиционной критике, разве не двусмысленно звучит ее сопоставление калужских дворян и купцов с псарями и псами из крыловской басни. Приведу слова Водовозова: «Калужское купечество собрало в двое суток 150000 руб. Дворяне калужские в течение месяца выставили ополчение в 15000 ратников. Теперь понятны слова Крылова:
172 В минуту
псарня стала адом.
Бегут: иной с дубьем,
Иной с ружьем.
Картина народного вооружения: кто брал вилы, кто топоры, дубины, рогатины, косы».
И если согласиться, что басня «Волк на псарне» художественно воспроизводит перед нами нашествие Наполеона на Россию и великую борьбу с ним нашего народа, то это еще, конечно, никак не уничтожит того совершенно явного героического настроения басни, которое мы пытались охарактеризовать выше.
Нам думается, что впечатление от этой басни может быть названо без всяких прикрас трагическим, потому что соединение тех двух планов, о которых мы говорили выше, создает переживание, которое характерно для трагедии. В трагедии мы знаем, что два развивающихся в ней плана замыкаются в одной общей катастрофе, которая одновременно знаменует и вершину гибели и вершину торжества героя. Трагическим обычно называли психологи и эстетики именно такое противоречивое впечатление, когда высшие минуты торжества нашего чувства падали на окончательные минуты гибели. То противоречие, которое выразил Шиллер в известных словах трагического героя: «Ты возвышаешь мой дух, ниспровергая меня», применимо к нашей басне. Разве кто скажет, что в этой басне против волка обращено острие насмешки? Напротив, наше чувство организовано и направлено таким образом, что нам делаются понятными слова одного критика, который говорит, что Крылов, выводя своего волка на гибель, мог, пародируя евангельский текст и слова Пилата, выводившего на гибель Христа, сказать: «Ecce lupus».
Попробуем подвести итоги нашему синтетическому разбору отдельных басен. Эти итоги естественно расположатся тремя ступенями: мы хотим подытожить наши впечатления от поэзии Крылова в целом, мы хотим узнать ее характер, ее общий смысл; после, на основании этих первых итогов, нам нужно как-то обобщить наши мысли относительно природы и существа самой басни, и, наконец, нам останется заключить психологическими выводами относительно того, каково же строение той эстетической реакции, которой реагируем мы на поэтическую басню, каковы те общие механизмы психики 173 общественного человека, которые приводятся в движение колесами басни, и каково то действие, которое при помощи басни совершает над собой человек.
Прежде всего мы обнаруживаем плоскость и существенную неверность тех ходячих представлений о Крылове и о его поэзии, о которых мы упоминали как-то в начале нашей главы. Даже хулители Крылова вынуждены признать, что у Крылова есть «красивый и поэтический пейзаж», что у него «неподражаемая форма и сверкающий юмор» (6, с. 6, 10).
Но только авторы наши никак не могут понять, что же эти отдельные черты поэзии вносят в мелкую и прозаическую, по их понятиям, басню. Гоголь прекрасно описывает стих Крылова, говоря: «Стих Крылова звучит там, где предмет у него звучит, движется там, где предмет движется, крепчает, где крепнет мысль, и становится вдруг легким, где уступает легковесной болтовне дурака». И, конечно, самые злые критики не могли бы назвать плоскими такие сложные стихи, как, например,
Одобрили Ослы ослово
Красно-хитро сплетенно слово…
Но только значения этого, как и других крыловских стихов, не могли объяснить критики, впадая всякий раз в противоречие, восхищаясь поэтичностью крыловского письма и глубокой прозаичностью природы его басни. Не заключена ли некоторая загадка в этом писателе, до сих пор не понятая и не разгаданная исследователями, как это верно отмечает один из его биографов? Не кажется ли удивительным тот факт, что Крылов, как это засвидетельствовано не однажды, питал искреннее отвращение к самой природе басни, что его жизнь представляла собой все то, что можно выдумать противоположного житейской мудрости и добродетели среднего человека. Это был исключительный во всех отношениях человек — и в своих страстях, и в своей лени, и в своем скепсисе, и не странно ли, что он сделался всеобщим дедушкой, по выражению Айхенвальда, безраздельно завладел детской комнатой и так удивительно пришелся всем по вкусу и по плечу, как воплощенная практическая мудрость. «Процесс перерождения сатирика в баснописца совершался далеко не безболезненно. Близко 174 знавший Крылова Плетнев еще при жизни баснописца писал: “Может быть, этот тесный горизонт идей, из-за которого мудрено с первого шага предвидеть обширное поле, некогда породил в нем то отвращение к апологической поэзии, о котором не забыл он до сих пор”. Любопытно слушать, когда он вспоминает, что предшественник его, другой знаменитый баснописец, Дмитриев, начал первый убеждать его заниматься сочинением басен, прочитав переведенные Крыловым в праздное время три басни Лафонтена. Преодолев отвращение свое от этого рода и заглушив раннюю страсть к драматической поэзии, Крылов несколько времени ограничивался то подражанием, то переделкою известных басен» (см. 59).
Неужели в его баснях не сказалось и это первоначальное отвращение и заглушенная страсть к драматической поэзии? Как можем мы предположить, что этот болезненный процесс перерождения в баснописца остался совершенно бесследным в его поэзии? Для этого надо было бы предположить первоначально, что поэзия и жизнь, творчество и психика представляют собой две совершенно не сообщающиеся между собой области, что, конечно, противоречит всяким фактам. Очевидно, что и то и другое отразилось, сказалось как-то в поэзии Крылова, и мы, может быть, не удивим, если выскажем такое предположение: отвращение к басне и страсть к драматической поэзии сказались, конечно, в том, втором смысле его басен, который мы везде старались вскрыть. И, может быть, окажется психологически небезосновательным наше предположение, что именно этот второй смысл его басен разрушил тесный горизонт идей прозаической басни, которая внушала ему отвращение, и помог ему развернуть то обширное ноле драматической поэзии, которая была его страстью и которая составляет истинную сущность басни поэтической. Во всяком случае, к Крылову можно было бы применить замечательный стих, сказанный им о писателе:
Он тонкий разливал в своих твореньях яд, —
и этот тонкий яд мы везде старались вскрыть как второй план, который присутствует в каждой его басне, углубляет, заостряет и придает истинное поэтическое действие его рассказу.
175 Но мы не настаиваем, что таков именно был сам Крылов. Для этого нет у нас достаточных данных, чтобы судить с уверенностью. Однако мы можем с уверенностью сказать, что такова природа басни. Любопытно сослаться на Жуковского, для которого была уже совершенно ясна противоположность между поэтической и прозаической басней: «Вероятно, что прежде она была собственностью не стихотворца, а оратора и философа… В истории басни можно заметить три главные эпохи: первая, когда она была не иное что, как простой риторический способ, пример, сравнение; вторая, когда получила бытие отдельное и сделалась одним из действительнейших способов предложения моральной истины для оратора или философа нравственного, — таковы басни, известные нам под именем Эзоповы, Федровы и в наше время Лессинговы; третья, когда из области красноречия перешла она в область поэзии, то есть получила ту форму, которой обязана в наше время Лафонтену и его подражателям, а в древности Горацию» (54, с. 509).
Он прямо говорит, что древних баснописцев скорее надлежит причислить к простым моралистам, нежели к поэтам. «Но, сделавшись собственностию стихотворца, басня переменила и форму: что прежде было простою принадлежностию, — я говорю о действии, — то сделалось главным… Что же я от него требую? Чтобы он пленял мое воображение верным изображением лиц; чтобы он своим рассказом принудил меня принимать в них живое участие; чтобы овладел и вниманием моим и чувством, заставляя их действовать согласно с моральными свойствами, им данными; чтобы волшебством поэзии увлек меня вместе с собою в тот мысленный мир, который создан его воображением, и сделал на время, так сказать, согражданином его обитателей…». Если перевести эти поэтические сравнения на простой язык, то будет совершенно ясно одно: что действие в баснях должно овладеть чувством и вниманием, что автор должен принудить читателя принимать живое участие в резвости и в горестях стрекозы и в гибели и в величии волка. «Из всего сказанного выше следует, что басня… может быть естественно: или прозаическая, в которой вымысел без всяких украшений, ограниченный одним только простым рассказом, служит только прозрачным 176 покровом нравственной истины; или стихотворная, в которой вымысел украшен всеми богатствами поэзии, в которой главный предмет стихотворца, запечатлевая в уме нравственную истину, нравиться воображению и трогать чувство» (54, с. 510).
Таким образом, разделение на прозаическую и поэтическую басню становится как будто очевидной для всех истиной, и законы, приложимые к басне прозаической, оказываются совершенно противоположны тем, которым подчинена поэтическая басня. Жуковский дальше говорит, что поэт должен «рассказывать языком стихотворным, то есть украшая без всякой натяжки простой рассказ выражениями высокими, поэтическими вымыслами, картинами и разнообразя его смелыми оборотами». Он прекрасно говорит: «Найдите в басне “Ястреба и Голуби”… описание сражения; читая его, можете вообразить, что дело идет о римлянах и германцах: так много в нем поэзии; но тон стихотворца нимало не покажется вам неприличным его предмету. Отчего это? Оттого, что он воображением присутствует при том происшествии, которое описывает, первый уверен в его важности; не мыслит вас обманывать, но сам обманут». Задача поэтического стиля в применении к басне обрисовывается здесь совершенно ясно. Мы видим, что описание басенное вызывает у нас такое же чувство, когда мы читаем о сражении ястребов и голубей, как если бы перед нами было сражение германцев и римлян. Басня вызывает важное и сильное чувство, и на это направлены все поэтические средства писателя. «Читатель точно присутствует мысленно при том действии, которое описывает стихотворец» (54, с. 512).
С этой точки зрения становится совершенно ясным, что если те два плана в басне, о которых мы все время говорим, поддержаны и изображены всей силой поэтического приема, то есть существуют не только как противоречие логическое, но гораздо больше, как противоречие аффективное, — переживание читателя басни есть в основе своей переживание противоположных чувств, развивающихся с равной силой, но совершенно вместе. И все те похвалы, которые Жуковский и все другие расточают крыловскому стиху, в сущности, означают для психолога только одно: что переживание 177 это обставлено всей гарантией его силы и вызывается с принудительной необходимостью самой организацией поэтического материала. Жуковский приводит стих Крылова и заключает: «Живопись в самых звуках! Два длинных слова: ходенем и трясинно, прекрасно изображают потрясение болота… В последнем стихе, напротив, красота состоит в искусном соединении односложных слов, которые своей гармониею представляют скачки и прыганье…» (54, с. 514). О другой басне он говорит: «Стихи летают вместе с мухою. Непосредственно за ними следуют другие, изображающие противное, медлительность медведя, здесь все слова длинные, стихи тянутся… Все эти слова… прекрасно изображают медлительность и осторожность: за пятью длинными, тяжелыми стихами следует быстро полустишие: “Хвать друга камнем в лоб”. Это молния, это удар! Вот истинная живопись, и какая противоположность последней картины с первою».
Из всего этого следует только один вывод: читая поэтическую басню, мы отнюдь не подчиняемся правилу, которое считал обязательным Потебня: «Когда же басня дана нам не в том конкретном виде, о котором я говорил, а в отвлеченном, в сборнике, то она требует для понимания, чтобы слушатель или читатель нашел в собственном воспоминании известное количество возможных применений, возможных случаев. Без этого понимание ее не будет возможно, а такой подбор возможных случаев требует времени. Этим объясняется, между прочим, тот совет… Тургенева — читать их медленно…
Дело не в медленном чтении, а в том подборе возможных случаев, применений, о котором я только что упомянул» (92, с. 81 – 82).
Дело вовсе не в этом. Совершенно ложно представлять себе дело так, будто читатель, читая басню в сборнике, мысленно вспоминает те житейские случаи, к которым эта басня подходит. Напротив того, можно с уверенностью сказать, что, читая басню, он не занят ничем другим, кроме того, что эта басня ему рассказывает. Он всецело отдается тому чувству, которое басня в нем вызывает, и ни о каких других случаях и не вспоминает. Именно это получили мы в итоге рассмотрения каждой басни.
Таким образом, мы видим, что в басне не только 178 нет противоположностей со всеми остальными видами поэзии, на которых все время настаивают Лессинг и Потебня, как на отличительных ее свойствах, но, напротив того, что в ней, как в элементарном виде поэзии, есть зерно и лирики, и эпоса, и драмы. Белинский недаром называл отдельные басни Крылова маленькими драмами. Этим он определял верно не только диалогическую внешность, но и психологическую сущность басни. Как маленькую поэму басню определяли многие, и мы видели, что не кто иной, как Жуковский, подчеркивал близость басни к эпической поэме. Было бы величайшей ошибкой думать, что басня есть непременно насмешка, или сатира, или шутка. Она бесконечно разнообразна по своим психологическим жанрам, и в ней действительно заложено зерно всех видов поэзии. Напомним мнение Кроче, что проблема жанра и есть, в сущности говоря, проблема психологическая по самому существу. Наряду с такими баснями, как «Кошка и Соловей» или «Рыбья пляска», которые можно назвать самой жестокой общественной и даже политической сатирой, мы видели у Крылова и психологическое зерно трагизма в «Волке на псарне», и психологическое зерно героического эпоса в «Море зверей», и зерно лиризма в «Стрекозе и Муравье». Мы уже говорили как-то, что вся такая лирика, как лермонтовский «Парус», «Тучи» и т. п., то есть лирика, имеющая дело с неодушевленными предметами, несомненно выросла из басни, и Потебня прав в том единственном месте своей книги, где он именно такие лирические стихотворения сопоставляет с басней, хотя и дает ложное объяснение этому сопоставлению. В сущности говоря, мы пришли к тому бедному выводу относительно природы басни, который мы могли вычитать в Энциклопедическом словаре, не произведя никакой работы. Басня, говорится там, «может отличаться эпическим, лирическим или сатирическим тоном» (140, с. 150). И как будто мы не нашли ничего нового по сравнению с той истиной, которая словно была с самого начала всеобщим достоянием. Но если мы припомним, какие большие выводы мы сумели сделать из этого, как нам удалось поставить эту природу басни в зависимость от общих законов поэзии, в какое противоречие мы впали с традиционными учениями, развитыми Лессингом и Потебней, мы, 179 может быть, должны будем признать, что наш анализ обогатил эту истину совершенно новым содержанием. Маленький пример пояснит это. Лессинг приводит басню о рыбаке. «Рыбак, вытащив сеть из моря, поймал больших рыб, лопавших в нее, маленькие же проскочили через сеть и счастливо опять попали в море… Этот рассказ находится среди эзоповских басен, но это совсем не басня или, во всяком случае, очень посредственная. Она не имеет никакого действия. Она содержит простой один-единичный факт, который вполне может быть нарисован, и когда я этот единичный факт — то, что остались большие и выскользнули мелкие рыбки, дополню целым рядом других обстоятельств, то все же именно в нем одном, а не в других обстоятельствах будет заключена мораль» (150, S. 26).
Если мы рассмотрим эту самую басню с той точки зрения, которую мы выдвигаем, мы придем как раз к обратным выводам. Мы увидим, что рассказ этот представляет собой прекрасный басенный сюжет, который очень легко поддается развертыванию в двух планах. Наше ожидание напрягается тем, что большие рыбы, попавшие в одинаковую беду с малыми, конечно, имеют больше шансов на спасение, чем малые. Малые, напротив того, кажутся беспомощными в беде. Если бы ход действия был развернут так, что с каждым усилением этого плана одновременно подготовлялся и нарастал план как раз противоположный, то есть возрастала бы беспомощность больших и шансы малых на спасение, — это было бы неплохой басней.
Так, на практике мы видим, какие противоположные две психологические точки зрения возможны на басню. Но этого мало. Мы склонны утверждать, что в таком виде это не есть еще поэтическая басня. Она может его стать только в том случае, если поэт разовьет заключенное в ней противоречие и заставит нас на деле как бы мысленно присутствовать при этом действии, развивающемся в одном и в другом плане, и если он сумеет стихами и всеми стилистическими приемами воздействия возбудить в нас два стилистически противоположно направленных и окрашенных чувства и затем разрушить их в той катастрофе басен, в которой оба эти тока как бы соединяются в коротком замыкании.
Остается только назвать и формулировать то психологическое 180 обобщение относительно эстетической нашей реакции на басню, к которому мы подошли вплотную. Мы можем его формулировать так: всякая басня и, следовательно, наша реакция на басню развивается все время в двух планах, причем оба плана нарастают одновременно, разгораясь и повышаясь так, что в сущности оба они составляют одно и объединены в одном действии, оставаясь все время двойственными.
В «Вороне и Лисице» чем сильнее лесть, тем сильнее издевательство; и лесть и издевательство заключены в одной и той же фразе, которая одновременно есть и лесть и издевательство и которая эти два противоположных смысла объединяет в одно.
В «Волке и Ягненке» чем сильнее правота ягненка, которая, казалось бы, должна его отодвигать, отдалять от смерти, тем сильнее, напротив, близость смерти. В «Стрекозе и Муравье» чем сильнее беззаботность, тем именно острее и ближе гибель. На этом примере особенно легко это пояснить. Здесь речь идет не о простой временной последовательности, которая заключена в самом факте и материале повествования стрекозы — сперва пела, потом попала в беду, раньше лето, потом зима, — но, вся суть здесь в формальной зависимости обеих частей. Басня построена так, что чем беззаботнее было ее лето, чем острее дана ее резвость, — тем ужаснее и ощутительнее постигшая ее беда. Каждая фраза, которую произносит она в разговоре с муравьем, в совершенно одинаковой степени развивает оба плана картины. «Я без души лето целое все пела». Это развивает дальше картину резвости и это же окончательно означает грозящую ей гибель. То же самое в «Волке на псарне», где чем спокойнее, величественнее текут переговоры, тем ужаснее и страшнее действительная гибель, и когда мир заключен, тогда начинается травля. То же самое в «Тришкином кафтане» и во всех остальных баснях, и мы вправе сказать, что аффективное противоречие, вызываемое этими двумя планами басни, есть истинная психологическая основа нашей эстетической реакции.
Однако этой двойственностью нашей реакции дело далеко не ограничивается. Каждая басня заключает в себе непременно еще особый момент, который мы условно называли все время катастрофой басни по аналогии 181 с соответствующим моментом трагедии и который, может быть, правильнее было бы назвать по аналогии с теорией новеллы pointe (по Брику — шпилька) — ударное место новеллы — обычно короткая фраза, характеризуемая остротой и неожиданностью. С точки зрения сюжетного ритма pointe — «окончание на неустойчивом моменте, как в музыке окончание на доминанте» (96, с. 11).
Такой катастрофой или шпилькой басни является заключительное ее место, в котором объединяются оба плана в одном акте, действии или фразе, обнажая свою противоположность, доводя противоречия до апогея и вместе с тем разряжая ту двойственность чувств, которая все время нарастала в течение басни. Происходит как бы короткое замыкание двух противоположных токов, в котором самое противоречие это взрывается, сгорает и разрешается. Так происходит это разрешение аффективного противоречия в нашей реакции. Мы уже указали целый ряд мест в басне, где такая катастрофа и ее психологическое значение не подлежат никакому сомнению. В катастрофе басня собирается как бы в одну точку и, напрягаясь до крайности, разрешает одним ударом лежащий в ее основе конфликт чувств. Напоминаем эти катастрофы, эти короткие замыкания чувств в басне: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», — говорит напоследок волк ягненку. В сущности, это нелепость, потому что эта фраза составлена из двух совершенно разных планов басни, которые до сих пор протекали порознь. В одном плане — юридических препирательств с ягненком и возводимых на него обвинений — эта фраза по своему прямому смыслу означает полную правоту ягненка и его полную победу, знаменуя полное поражение волка. В другом плане это означает для ягненка полнейшую гибель. Объединенное вместе, это в прямом смысле нелепо, а в плане развития басни катастрофично в том смысле, как это мы разъяснили выше. Это — внутреннее противоречие, которым двигалась басня: с одной стороны, правота спасает от смерти, отдаляет ее, если ягненок оправдается, он спасется, — вот он оправдался начисто, волк признал, что у него обвинений нет, ягненок спасся; с другой стороны, чем правее, тем ближе к смерти, то есть чем больше разоблачается ничтожество обвинений волка, тем больше раскрывается лежащая в 182 их основе истинная причина гибели и тем больше, значит, гибель нарастает.
То же самое в «Вороне и Лисице». В катастрофе читаем: «Ворона каркнула» — это кульминационный пункт лести. Лесть сделала все, что она могла, она дошла до апогея. Но тот же самый акт есть, конечно, верх издевательства, благодаря ему ворона лишается сыра, лисица торжествует победу. В коротком замыкании лесть и издевательство дают взрыв и уничтожаются.
То же самое в басне «Стрекоза и Муравей», когда в заключительном «так поди же, попляши» опять дается короткое замыкание этой прыгающей, как бы веселящейся, в самом стихе выраженной беззаботной легкой резвости и окончательной безнадежности. Мы уже говорили, что когда одно и то же слово «попляши» означает в этом месте одновременно и «погибни» и «резвись», — здесь мы имеем налицо ту катастрофу, то короткое замыкание чувств, о котором говорим все время.
Таким образом, подводя итоги, мы нашли, что тонкий яд составляет, вероятно, истинную природу крыловской поэзии, что басня представляет собой зерно лирики, эпоса и драмы и заставляет нас силой поэзии, заключенной в ней, реагировать чувством на то действие, которое она развивает. Мы нашли, наконец, что аффективное противоречие и его разрешение в коротком замыкании противоположных чувств составляет истинную природу нашей психологической реакции на басню. Это первый шаг нашего исследования. Однако мы не можем не заглянуть вперед и не указать на удивительное совпадение, которое имеет найденный нами психологический закон с теми законами, которые многие исследователи уже давно указывали для высших форм поэзии.
Разве не то же самое разумел Шиллер, когда говорил о трагедии, что настоящий секрет художника заключается в том, чтобы формой уничтожить содержание?45 И разве поэт в басне не уничтожает художественной формой, построением своего материала того чувства, которое вызывает самым содержанием своей басни? Это многозначительное совпадение кажется нам полным психологического смысла, но об этом нам придется еще много говорить впереди.
183 Глава VII
Легкое дыхание
«Анатомия» и «физиология» рассказа. Диспозиция и композиция. Характеристика
материала. Функциональное значение композиции. Вспомогательные приемы.
Аффективное противоречие и уничтожение содержания формой.
От басни переходим сразу к анализу новеллы. В этом неизмеримо более высоком и сложном художественном организме мы встречаемся с композицией материала в полном смысле этого слова и мы находимся в гораздо более удобных условиях для анализа, чем тогда, когда разговор идет о басне.
Основные элементы, из которых складывается построение всякой новой новеллы, можно считать в самой необходимой степени уже выясненными46 теми морфологическими исследованиями, которые произведены в европейской поэтике за последние десятилетия, а также и в русской. Два основных понятия, с которыми приходится иметь дело при анализе структуры какого-нибудь рассказа, всего удобнее обозначить, как это обычно делается, как материал и форму этого рассказа. Под материалом, как мы уже говорили, следует разуметь все то, что поэт взял как готовое — житейские отношения, истории, случаи, бытовую обстановку, характеры, все то, что существовало до рассказа и может существовать вне и независимо от этого рассказа, если это толково и связно пересказать своими словами. Расположение этого материала по законам художественного построения следует называть в точном смысле этого слова формой этого произведения.
Мы уже выяснили, что под этими словами никак не следует понимать только внешнюю, звуковую, зрительную или какую-нибудь иную чувственную форму, открывающуюся нашему восприятию. В этом понимании форма меньше всего напоминает внешнюю оболочку, как бы кожуру, в которую облечен плод. Форма, напротив, раскрывается при этом как активное начало переработки и преодоления материала в его самых косных и элементарных свойствах. Применительно к рассказу или новелле форма и материал обычно берутся из области каких-нибудь человеческих отношений, событий или происшествий, 184 и здесь, если мы будем выделять самое происшествие, которое легло в основу какого-нибудь рассказа, — мы получим материал этого рассказа. Если мы будем говорить о том, в каком порядке и в каком расположении частей материал этот преподнесен читателю, как рассказано об этом происшествии, — мы будем иметь дело с его формой. Надо сказать, что до сих пор в специальной литературе нет согласия и общей терминологии применительно к этому вопросу: так, одни, как Шкловский и Томашевский, называют фабулой материал рассказа, лежащие в его основе житейские события; а сюжетом называют формальную обработку этого рассказа. Другие авторы, как Петровский, употребляют эти слова как раз в обратном значении и понимают под сюжетом то событие, которое послужило поводом для рассказа, а под фабулой — художественную обработку этого события. «Я склонен применять слово “сюжет” в смысле материи художественного произведения. Сюжет есть как бы система событий, действий (или единое событие, простое и сложное в своем составе), предстоящая поэту в том или ином оформлении, которое, однако, не является еще результатом его собственной творческой индивидуальной поэтической работы. Поэтически же обработанный сюжет я согласен именовать термином “фабула”» (84, с. 197).
Так или иначе понимать эти слова — во всяком случае, необходимо разграничивать эти два понятия, и в этом согласны решительно все. Мы в дальнейшем будем придерживаться терминологии формалистов, обозначающих фабулой, в согласии с литературной традицией, именно лежащий в основе произведения материал. Соотношение материала и формы в рассказе есть, конечно, соотношение фабулы и сюжета. Если мы хотим узнать, в каком направлении протекало творчество поэта, выразившееся в создании рассказа, мы должны исследовать, какими приемами и с какими заданиями данная в рассказе фабула переработана поэтом и оформлена в данный поэтический сюжет. Мы, следовательно, вправе приравнять фабулу ко всякому материалу построения в искусстве. Фабула для рассказа — это то же самое, что слова для стиха, что гамма для музыки, что сами по себе краски для живописца, линии для графика и т. п. Сюжет для рассказа то же самое, что для поэзии стих, для музыки мелодия, для живописи картина, для графики рисунок. Иначе 185 говоря, мы всякий раз имеем здесь дело с соотношением отдельных частей материала, и мы вправе сказать, что сюжет так относится к фабуле рассказа, как стих к составляющим его словам, как мелодия к составляющим ее звукам, как форма к материалу.
Надо сказать, что такое понимание развивалось с величайшими трудностями, потому что благодаря тому удивительному закону искусства, что поэт обычно старается дать формальную обработку материала в скрытом от читателя виде, очень долгое время исследование никак не могло различить эти две стороны рассказа и всякий раз путалось, когда пыталось устанавливать те или иные законы создания и восприятия рассказа. Однако уже давно поэты знали, что расположение событий рассказа, тот способ, каким знакомит поэт читателя со своей фабулой, композиция его произведения представляет чрезвычайно важную задачу для словесного искусства. Эта композиция была всегда предметом крайней заботы — сознательной или бессознательной — со стороны поэтов и романистов, но только в новелле, развившейся несомненно из рассказа, она получила свое чистое развитие. Мы можем смотреть на новеллу как на чистый вид сюжетного произведения, главным предметом которого является формальная обработка фабулы и трансформация ее в поэтический сюжет. Поэзия выработала целый ряд очень искусных и сложных форм построения и обработки фабулы, и некоторые из писателей отчетливо сознавали роль и значение каждого такого приема. Наибольшей сознательности это достигло у Стерна, как показал Шкловский. Стерн совершенно обнажил приемы сюжетного построения и в конце своего романа дал пять графиков хода фабулы романа «Тристрам Шенди». «Я начинаю, — говорит Стерн, — теперь совсем добросовестно приступать к делу, и я не сомневаюсь, что… мне удастся продолжать дяди Тобину повесть, так же как и мою собственную, довольно-таки прямолинейно.
Вот эти четыре линии47, по которым я подвигался в моем первом, втором, третьем и четвертом томе (см. рис. 1 – 4, с. 192). В пятом я вел себя вполне благопристойно; точная, описанная мною линия такова (см. рис. 5, там же).
Из нее явствует, что кроме кривой, обозначенной А, где я завернул в Наварру, и зубчатой кривой В, соответствующей 186 короткому отдыху, который я позволил себе в обществе госпожи Бонер и ее пажа, — я не позволил себе ни малейшего отклонения до тех пор, пока дьяволы Джона де-ла-Касса не завели меня в круг, отмеченный Д; ибо что касается ( ( ( (, то это лишь скобки — обычные повороты то туда, то сюда, обычные даже в жизни важнейших слуг государства; в сравнении же с поступками других людей — или хотя бы моими собственными грехами под литерами А, В, Д — они расплываются в ничто» (133, с. 38 – 39). Таким образом сам автор графически изображает как кривую линию развертывание сюжета. Если взять житейское событие в его хронологической последовательности, мы можем условно обозначить его развертывание в виде прямой линии, где каждый последующий момент сменяет предыдущий и в свою очередь сменяется дальнейшим. Так же точно прямой линией мы могли бы графически обозначить порядок звуков, составляющих гамму, синтаксическое расположение слов в обычном синтаксисе и т. д. Иначе говоря, материал в естественных свойствах его развертывания может быть условно записан как прямая линия. Напротив того, то искусственное расположение слов, которое превращает их в стих48 и меняет нормальный порядок их синтаксического развертывания; то искусственное расположение звуков, которое превращает их из простого звукового ряда в музыкальную мелодию и опять-таки изменяет порядок их основного следования; то искусственное расположение событий, которое превращает их в художественный сюжет и отступает от хронологической последовательности, — все это мы можем обозначить условно кривой линией, описанной вокруг нашей прямой, и эта кривая стиха, мелодии или сюжета и будет кривой художественной формы. Те кривые, которые, по словам Стерна, описывают отдельные томы его романа, как нельзя лучше поясняют эту мысль. Здесь, естественно, возникает только один вопрос, который необходимо разъяснить с самого начала. Этот вопрос совершенно ясен, когда речь идет о такой привычной нам и явной художественной форме, как мелодия или стих, но он кажется существенно запутанным, когда речь начинает идти о рассказе. Этот вопрос можно формулировать так: для чего художник, не довольствуясь простой хронологической последовательностью событий, отступает от прямолинейного развертывания 187 рассказа и предпочитает описывать кривую линию, вместо того чтобы продвигаться по кратчайшему расстоянию между двумя точками вперед. Это легко может показаться причудой или капризом писателя, лишенными всякого основания и смысла. И в самом деле, если мы обратимся к традиционному пониманию и толкованию сюжетной ком позиции, то мы увидим, что эти сюжетные кривые вызывали всегда непонимание и ложное толкование у критиков. Так, например, в русской поэтике издавна утвердилось мнение, что «Евгений Онегин» — эпическое произведение, написанное с целым рядом лирических отступлений, причем эти отступления понимались именно как таковые, как отход автора в сторону от темы своего повествования, и именно лирически, то есть как наиболее лирические отрывки, вкрапленные в эпическое целое, но не имеющие органической связи с этой эпической тканью, ведущие самостоятельное существование и играющие роль эпической интермедии, то есть междудействия, роль лирического антракта между двумя актами повествования. Нет ничего более ложного, чем такое понимание: оно оставляет совершенно в стороне чисто эпическую роль, которую играют такие «отступления», и, если приглядеться к экономии всего романа в целом, легко открыть, что именно эти отступления представляют собой важнейшие приемы для развертывания и раскрытия сюжета; признать их за отступления так же нелепо, как принять за отступления повышения и понижения в музыкальной мелодии, которые, конечно же, являются отступлениями от нормального течения гаммы, но для мелодии эти отступления — все. Точно так же так называемые отступления в «Евгении Онегине» составляют, конечно, самую суть и основной стилистический прием построения всего романа, это его сюжетная мелодия49. «Один остроумный художник (Владимир Миклашевский), — говорит Шкловский, — предлагает иллюстрировать в этом романе главным образом отступления (“ножки”, например) — с точки зрения композиционной это будет правильно» (133, с. 39). На примере легче всего пояснить, какое значение имеет такая кривая сюжета. Мы уже знаем, что основой мелодии является динамическое соотношение составляющих ее звуков. Так же точно стих есть не просто сумма составляющих его звуков, а есть динамическая их последовательность, определенное их соотношение. Так же точно, 188 как два звука, соединяясь, или два слова, располагаясь одно за другим, образуют некоторое отношение, всецело определяющееся порядком последовательности элементов, так же точно два события или действия, объединяясь, вместе дают некоторое новое динамическое соотношение, всецело определяющееся порядком и расположением этих событий. Так, например, звуки a, b, c, или слова a, b, c, или события a, b, c совершенно меняют свой смысл и свое эмоциональное значение, если мы их переставим в таком порядке, скажем: b, c, a; b, a, c. Представьте себе, что речь идет об угрозе и затем об исполнении ее — об убийстве; одно получится впечатление, если мы раньше познакомим читателя с тем, что герою угрожает опасность, и будем держать читателя в неизвестности относительно того, сбудется она или не сбудется, и только после этого напряжения расскажем о самом убийстве. И совершенно иное получится, если мы начнем с рассказа об обнаруженном трупе и только после этого, в обратном хронологическом порядке, расскажем об убийстве и об угрозе. Следовательно, самое расположение событий в рассказе, самое соединение фраз, представлений, образов, действий, поступков, реплик подчиняются тем же самым законам художественных сцеплений, каким подчиняются сцепления звуков в мелодию или сцепление слов в стих. Еще одно вспомогательное методическое замечание необходимо сделать до того, как перейти к анализу новеллы. Чрезвычайно полезно различать, как это делают некоторые авторы, статическую схему конструкции рассказа, как бы его анатомию, от динамической схемы его композиции, как бы его физиологии. Мы уже разъяснили, что всякий рассказ имеет свою особую структуру, отличающуюся от структуры того материала, который лежит в его основе. Но совершенно ясно, что каждый поэтический прием оформления материала является целесообразным, или направленным; он вводится с какой-то целью, ему отвечает какая-то исполняемая им в целом функция рассказа. И вот, исследование телеологии приема, то есть функции каждого стилистического элемента, целесообразной направленности, телеологической значимости каждого из компонентов, объяснит нам живую жизнь рассказа и превратит его мертвую конструкцию в живой организм.
Для исследования мы остановились на рассказе Бунина «Легкое дыхание», текст которого воспроизведен полностью в приложении к настоящей работе.
189 Рассказ этот удобен для анализа по многим причинам: прежде всего на него можно смотреть как на типический образчик классической и современной новеллы, в котором все основные стилистические черты, присущие этому жанру, раскрываются с необычайной ясностью. По своим художественным достоинствам рассказ этот принадлежит, вероятно, к лучшему из всего того, что создано повествовательным искусством, и недаром по единогласному признанию, кажется, всех писавших о нем он почитается образцом художественного рассказа. Наконец, его последнее достоинство заключается в том, что он не подвергся еще чрезвычайно сильной общественной рационализации, то есть шаблонному и привычному истолкованию, с которым приходится бороться как с предубеждением и предрассудком почти при всяком исследовании привычного и знакомого текста, имея дело с такими общеизвестными вещами, как басни Крылова и трагедии Шекспира. Мы считали чрезвычайно важным включить в круг нашего исследования и такие художественные произведения, впечатление от которых не было бы ни в какой мере предопределено предвзятыми и заранее затверженными рассуждениями, мы хотели найти литературный раздражитель, так сказать, совершенно свежего порядка, который не успел еще сделаться привычным и вызывать в нас готовую эстетическую реакцию совершенно автоматически, так, как мы реагируем на известную уже нам с детства басню или трагедию.
Обратимся к самому рассказу.
Анализ этого рассказа следует, конечно, начать с выяснения той мелодической кривой, которая нашла свое осуществление в словах его текста. Для этого всего проще сопоставить положенные в основу этого рассказа действительные события (или, во всяком случае, возможные и имевшие в действительности свой образец), как бы материал рассказа, с той художественной формой, которая придана этому материалу. Так поступает исследователь стиха, когда он хочет выяснить законы ритма50, как они сказались в оформлении словесного ряда. Мы попытаемся сделать то же самое в отношении нашего рассказа. Выделим лежащее в его основе действительное происшествие; оно сведется приблизительно к следующему: рассказ повествует о том, как Оля Мещерская, провинциальная, видимо, гимназистка, прошла свой жизненный путь, ничем 190 почти не отличавшийся от обычного пути хорошеньких, богатых и счастливых девочек, до тех пор пока жизнь не столкнула ее с несколько необычными происшествиями. Ее любовная связь с Малютиным, старым помещиком и другом ее отца, ее связь с казачьим офицером, которого она завлекла и которому обещала быть его женой, — все это «свело ее с пути» и привело к тому, что любивший ее и обманутый казачий офицер застрелил ее на вокзале среди толпы народа, только что прибывшей с поездом. Классная дама Оли Мещерской, рассказывается дальше, приходила часто на могилу Оли Мещерской, и избрала ее предметом своей страстной мечты и поклонения. Вот и все так называемое содержание рассказа. Попробуем обозначить все события, нашедшие себе место в этом рассказе, в том хронологическом порядке, в каком они действительно протекали или могли протекать в жизни. Для этого, естественно, нужно разбить все события на две группы, потому что одна из них связана с жизнью Оли Мещерской, а другая — с историей жизни ее классной дамы (см. схему диспозиции)51.
СХЕМА ДИСПОЗИЦИИ
I. Оля Мещерская
A. Детство.
B. Юность.
C. Эпизод с Шеншиным.
D. Разговор о легком дыхании.
E. Приезд Малютина.
F. Связь с Малютиным.
G. Запись в дневнике.
H. Последняя зима.
I. Эпизод с офицером.
K. Разговор с начальницей.
L. Убийство.
M. Похороны.
N. Допрос у следователя.
O. Могила.
II. Классная дама
a. Классная дама.
b. Мечта о брате.
c. Мечта об идейной труженице.
d. Разговор о легком дыхании.
e. Мечта об Оле Мещерской.
f. Прогулки на кладбище.
g. На могиле.
То, что мы получаем при таком хронологическом расположении эпизодов, составляющих рассказ, если обозначим их последовательно буквами латинской азбуки, принято называть в поэтике диспозицией рассказа, то есть естественным расположением событий, тем самым, который мы условно можем обозначить графически 191 прямой линией. Если мы проследим за тем, в каком порядке эти события даны в рассказе, мы вместо диспозиции получим композицию рассказа и сейчас же заметим, что если в схеме диспозиции события шли в порядке азбуки, то есть в порядке хронологической последовательности, то здесь эта хронологическая последовательность совершенно нарушена. Буквы как будто без всякого видимого порядка располагаются в новый искусственный ряд, и это, конечно, означает, что в этот новый искусственный ряд располагаются те события, которые мы условно обозначили через эти буквы. Если мы диспозицию рассказа обозначим двумя противоположными линиями и отложим в порядке последовательного чередования все отдельные моменты диспозиции рассказа об Оле Мещерской на одной прямой, а рассказа о классной даме — на другой, мы получим две прямые, которые будут символизировать диспозицию нашего рассказа.
Попытаемся теперь схематически обозначить то, что автор проделал с этим материалом, придав ему художественную форму, то есть спросим себя, как тогда на нашем рисунке обозначится композиция этого рассказа? Для этого соединим в порядке композиционной схемы отдельные точки этих прямых в такой последовательности, в какой события даны действительно в рассказе. Все это изображено на графических схемах (см. с. 192). При этом мы условно будем обозначать кривой снизу всякий переход к событию хронологически более раннему, то есть всякое возвращение автора назад, и кривой сверху всякий переход к событию последующему, хронологически более отдаленному, то есть всякий скачок рассказа вперед. Мы получим две графические схемы: что изображает эта сложная и путаная на первый взгляд кривая, которая вычерчена на рисунке? Она означает, конечно, только одно: события в рассказе развиваются не по прямой линии52, как это имело бы место в житейском случае, а развертываются скачками. Рассказ прыгает то назад, то вперед, соединяя и сопоставляя самые отдаленные точки повествования, переходя часто от одной точки к другой, совершенно неожиданно. Другими словами, наши кривые наглядно выражают анализ фабулы и сюжета данного рассказа, и, если следить по схеме композиции за порядком следования отдельных элементов, мы поймем нашу кривую от начала до конца как условное
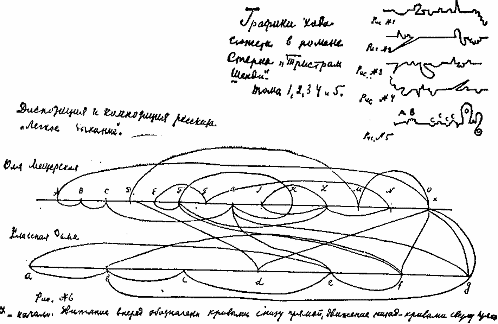
193 обозначение движения рассказа. Это и есть мелодия нашей новеллы. Так, например, вместо того чтобы рассказать приведенное выше содержание в хронологической последовательности — как Оля Мещерская была гимназисткой, как она росла, как она превратилась в красавицу, как совершилось ее падение, как завязалась и как протекала ее связь с офицером, как постепенно нарастало и вдруг разразилось ее убийство, как ее похоронили, какова была ее могила и т. п., — вместо этого автор начинает сразу с описания ее могилы, затем переходит к ее раннему детству, потом вдруг говорит о ее последней зиме, вслед за этим сообщает нам во время разговора с начальницей о ее падении, которое случилось прошлым летом, вслед за этим мы узнаем о ее убийстве, почти в самом конце рассказа мы узнаем об одном незначительном, казалось бы, эпизоде ее гимназической жизни, относящемся к далекому прошлому. Вот эти отступления и изображает наша кривая. Таким образом, графически наши схемы изображают то, что мы выше назвали статической структурой рассказа или его анатомией. Остается перейти к раскрытию его динамической композиции или его физиологии, то есть выяснить, для чего автор оформил этот материал именно так, с какой целью он начинает с конца и в конце говорит как будто о начале, ради чего переставлены у него все эти события.
Мы должны определить функцию этой перестановки, то есть мы должны найти целесообразность и направленность той, казалось бы, бессмысленной и путаной кривой, которая у нас символизирует композицию рассказа. Чтобы сделать это, необходимо перейти от анализа к синтезу и попытаться разгадать физиологию новеллы из смысла и из жизни ее целого организма.
Что представляет собой содержание рассказа или его материал, взятый сам по себе — так, как он есть? Что говорит нам та система действий и событий, которая выделяется из этого рассказа как его очевидная фабула? Едва ли можно определить яснее и проще характер всего этого, как словами «житейская муть». В самой фабуле этого рассказа нет решительно ни одной светлой черты, и, если взять эти события в их жизненном и житейском значении, перед нами просто ничем не замечательная, ничтожная и не имеющая смысла жизнь провинциальной гимназистки, жизнь, которая явно всходит на 194 гнилых корнях и, с точки зрения оценки жизни, дает гнилой цвет и остается бесплодной вовсе. Может быть, эта жизнь, эта житейская муть хоть сколько-нибудь идеализирована, приукрашена в рассказе, может быть, ее темные стороны затенены, может быть, она возведена в «перл создания», и, может быть, автор попросту изображает ее в розовом свете, как говорят обычно? Может быть, он даже, сам выросший в той же жизни, находит особенное очарование и прелесть в этих событиях, и, может быть, наша оценка попросту расходится с той, которую дает своим событиям и своим героям автор?
Мы должны прямо сказать, что ни одно из этих предположений не оправдывается при исследовании рассказа. Напротив того, автор не только не старается скрыть эту житейскую муть — она везде у него обнажена, он изображает ее с осязательной ясностью, как бы дает нашим чувствам коснуться ее, ощупать, ощутить, воочию убедиться, вложить наши персты в язвы этой жизни. Пустота, бессмысленность, ничтожество этой жизни подчеркнуты автором, как это легко показать, с осязательной силой. Вот как автор говорит о своей героине: «… незаметно упрочилась ее гимназическая слава, и уже пошли толки, что она ветрена, что она не может жить без поклонников, что в нее безумно влюблен гимназист Шеншин, что будто бы и она его любит, но так изменчива в обращении с ним, что он покушался на самоубийство…» Или вот в каких грубых и жестких выражениях, обнажающих неприкрытую правду жизни, говорит автор о ее связи с офицером: «… Мещерская завлекла его, была с ним в связи, поклялась быть его женой, а на вокзале, в день убийства, провожая его в Новочеркасск, вдруг сказала, что она и не думала никогда любить его, что все эти разговоры о браке — одно ее издевательство над ним…» Или вот как безжалостно опять показана та же самая правда в записи в дневнике, рисующей сцену сближения с Малютиным: «Ему пятьдесят шесть лет, но он еще очень красив и очень всегда хорошо одет, — мне не понравилось только, что он приехал в крылатке, — весь пахнет английским одеколоном, и глаза совсем молодые, черные, а борода изящно разделена на две длинные части и совершенно серебряная».
Во всей этой сцене, как она записана в дневнике, нет ни одной черты, которая могла бы намекнуть нам о движении 195 живого чувства и могла бы сколько-нибудь осветить ту тяжелую и беспросветную картину, которая складывается у читателя при ее чтении. Слово любовь даже не упоминается, и, кажется, нет более чуждого и неподходящего к этим страницам слова. И так, без малейшего просвета, в одном мутном тоне дан весь решительно материал о жизненной, бытовой обстановке, взглядах, понятиях, переживаниях, событиях этой жизни. Следовательно, автор не только не скрывает, но, наоборот, обнажает и дает нам почувствовать во всей ее реальности ту правду, которая лежит в основе рассказа. Еще раз повторяем: суть его, взятая с этой стороны, может быть определена как житейская муть, как мутная вода жизни. Однако не таково впечатление рассказа в целом.
Рассказ недаром называется «Легкое дыхание», и не надо долго приглядываться к нему особенно внимательно для того, чтобы открыть, что в результате чтения у нас создается впечатление, которое никак нельзя охарактеризовать иначе, как сказать, что оно является полной противоположностью тому впечатлению, которое дают события, о которых рассказано, взятые сами по себе. Автор достигает как раз противоположного эффекта, и истинную тему его рассказа, конечно, составляет легкое дыхание, а не история путаной жизни провинциальной гимназистки. Это рассказ не об Оле Мещерской, а о легком дыхании; его основная черта — это то чувство освобождения, легкости, отрешенности и совершенной прозрачности жизни, которое никак нельзя вывести из самих событий, лежащих в его основе. Нигде эта двойственность рассказа не представлена с такой очевидностью, как в обрамляющей весь рассказ истории классной дамы Оли Мещерской. Эта классная дама, которую приводит в изумление, граничащее с тупостью, могила Оли Мещерской, которая отдала бы полжизни, лишь бы не было перед ее глазами этого мертвого венка, и которая в глубине души все же счастлива, как все влюбленные и преданные страстной мечте люди, — вдруг придает совершенно новый смысл и тон всему рассказу. Эта классная дама давно живет какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь, и Бунин с беспощадной безжалостностью истинного поэта совершенно ясно говорит нам о том, что это идущее от его рассказа впечатление 196 легкого дыхания есть выдумка, заменяющая ему действительную жизнь. И в самом деле, здесь поражает то смелое сопоставление, которое допускает автор. Он называет подряд три выдумки, которые заменяли этой классной даме действительную жизнь: сперва такой выдумкой был ее брат, бедный и ничем не замечательный прапорщик — это действительность, а выдумка была в том, что жила она в странном ожидании, что ее судьба как-то сказочно изменится благодаря ему. Затем она жила мечтой о том, что она идейная труженица, и опять это была выдумка, заменявшая действительность. «Смерть Оли Мещерской пленила ее новой мечтой», — говорит автор, совершенно вплотную придвигая эту новую выдумку к двум прежним. Он этим приемом опять совершенно раздваивает наше впечатление, и, заставляя весь рассказ преломиться и отразиться как в зеркале в восприятии новой героини, он разлагает, как в спектре, его лучи на их составные части. Мы совершенно явно ощущаем и переживаем расщепленную жизнь этого рассказа, то, что в нем есть от действительности и что от мечты. И отсюда наша мысль легко переходит сама собой к тому анализу структуры, который нами был сделан выше. Прямая линия — это и есть действительность, заключенная в этом рассказе, а та сложная кривая построения этой действительности, которой мы обозначили композицию новеллы, есть его легкое дыхание. Мы догадываемся: события соединены и сцеплены так, что они утрачивают свою житейскую тягость и непрозрачную муть; они мелодически сцеплены друг с другом, и в своих нарастаниях, разрешениях и переходах они как бы развязывают стягивающие их нити; они высвобождаются из тех обычных связей, в которых они даны нам в жизни и во впечатлении о жизни; они отрешаются от действительности, они соединяются одно с другим, как слова соединяются в стихе. Мы решаемся уже формулировать нашу догадку и сказать, что автор для того чертил в своем рассказе сложную кривую, чтобы уничтожить его житейскую муть, чтобы превратить ее прозрачность, чтобы отрешить ее от действительности, чтобы претворить воду в вино, как это делает всегда художественное произведение. Слова рассказа или стиха несут его простой смысл, его воду, а композиция, создавая над этими словами, поверх их, новый смысл, располагает 197 все это в совершенно другом плане и претворяет это в вино. Так житейская история о беспутной гимназистке претворена здесь в легкое дыхание бунинского рассказа.
Это не трудно подтвердить совершенно наглядными объективными и бесспорными указаниями, ссылками на самый рассказ. Возьмем основной прием этой композиции и мы сейчас же увидим, какой цели отвечает тот первый скачок, который позволяет себе автор, когда он начинает с описания могилы. Это можно пояснить, несколько упрощая дело и низводя сложные чувства к элементарным и простым, приблизительно так: если бы нам была рассказана история жизни Оли Мещерской в хронологическом порядке, от начала к концу, каким необычайным напряжением сопровождалось бы наше узнавание о неожиданном ее убийстве! Поэт создал бы то особенное напряжение, ту запруду нашего интереса, какую немецкие психологи, как Липпс, назвали законом психологической запруды, а теоретики литературы называют «Spannung». Этот закон и этот термин означают только то, что если какое-нибудь психологическое движение наталкивается на препятствие, то напряжение наше начинает повышаться именно в том месте, где мы встретили препятствие, и вот это напряжение нашего интереса, которое каждый эпизод рассказа натягивает и направляет на последующее разрешение, конечно, переполнило бы наш рассказ. Он весь был бы исполнен невыразимого напряжения. Мы узнали бы приблизительно в таком порядке: как Оля Мещерская завлекла офицера, как вступила с ним в связь, как перипетии этой связи сменяли одна другую, как она клялась в любви и говорила о браке, как она потом начинала издеваться над ним; мы пережили бы вместе с героями и всю сцену на вокзале и ее последнее разрешение и мы, конечно, с напряжением и тревогой остались бы следить за ней те короткие минуты, когда офицер с ее дневником в руках, прочитавши запись о Малютине, вышел на платформу и неожиданно застрелил ее. Такое впечатление произвело бы это событие в диспозиции рассказа; оно сопоставляет истинный кульминационный пункт всего повествования, и вокруг него расположено все остальное действие. Но если с самого начала автор ставит нас перед могилой и если мы все время узнаем 198 историю уже мертвой жизни, если дальше мы уж знаем, что она была убита, и только после этого узнаем, как это произошло, — для нас становится понятным, что эта композиция несет в себе разрешение того напряжения, которое присуще этим событиям, взятым сами по себе; и что мы читаем сцену убийства и сцену записи в дневнике уже с совершенно другим чувством, чем мы сделали бы это, если бы события развертывались перед нами по прямой линии. И так, шаг за шагом, переходя от одного эпизода к другому, от одной фразы к другой, можно было бы показать, что они подобраны и сцеплены таким образом, что все заключенное в них напряжение, все тяжелое и мутное чувство разрешено, высвобождено, сообщено тогда и в такой связи, что это производит совершенно не то впечатление, какое оно произвело бы, взятое в естественном ходе событий.
Можно, следя за структурой формы, обозначенной в нашей схеме, шаг за шагом показать, что все искусные прыжки рассказа имеют в конечном счете одну цель — погасить, уничтожить то непосредственное впечатление, которое исходит на нас от этих событий, и превратить, претворить его в какое-то другое, совершенно обратное и противоположное первому.
Этот закон уничтожения формой содержания можно очень легко иллюстрировать даже на построении отдельных сцен, отдельных эпизодов, отдельных ситуаций. Вот, например, в каком удивительном сцеплении узнаем мы об убийстве Оли Мещерской. Мы уже были вместе с автором на ее могиле, мы только что узнали из разговора с начальницей о ее падении, только что была назвала первый раз фамилия Малютина, — «а через месяц после этого разговора казачий офицер, некрасивый и плебейского вида, не имевший ровно ничего общего с тем кругом, к которому принадлежала Оля Мещерская, застрелил ее на платформе вокзала, среди большой толпы народа, только что прибывшей с поездом». Стоит приглядеться к структуре одной только этой фразы, для того чтобы открыть решительно всю телеологию стиля этого рассказа. Обратите внимание на то, как затеряно самое главное слово в нагромождении обставивших его со всех сторон описаний, как будто посторонних, второстепенных и не важных; как затеривается слово «застрелил», самое страшное и жуткое слово всего рассказа, а 199 не только этой фразы, как затеривается оно где-то на склоне между длинным, спокойным, ровным описанием казачьего офицера и описанием платформы, большой толпы народа и только что прибывшего поезда. Мы не ошибемся, если скажем, что самая структура этой фразы заглушает этот страшный выстрел, лишает его силы и превращает в какой-то почти мимический знак, в какое-то едва заметное движение мыслей, когда вся эмоциональная окраска этого события погашена, оттеснена, уничтожена. Или обратите внимание на то, как мы узнаем в первый раз о падении Оли Мещерской: в уютном кабинете начальницы, где пахнет свежими ландышами и теплом блестящей голландки, среди выговора о дорогих туфельках и прическе. И опять страшное или, как говорит сам автор, «невероятное, ошеломившее начальницу признание» описывается так: «И тут Мещерская, не теряя простоты и спокойствия, вдруг вежливо перебила ее:
— Простите, madame, вы ошибаетесь: я женщина. И виноват в этом — знаете кто? Друг и сосед папы, а ваш брат, Алексей Михайлович Малютин. Это случилось прошлым летом, в деревне…»
Выстрел рассказан как маленькая деталь описания только что прибывшего поезда, здесь — ошеломляющее признание сообщено как маленькая деталь разговора о туфельках и о прическе; и самая эта обстоятельность — «друг и сосед папы, а ваш брат, Алексей Михайлович Малютин», — конечно, не имеет другого значения, как погасить, уничтожить ошеломленность и невероятность этого признания. И вместе с тем автор сейчас же подчеркивает и другую, реальную сторону и выстрела и признания. И в самой сцене на кладбище автор опять называет настоящими словами жизненный смысл событий и рассказывает об изумлении классной дамы, которая никак не может понять, «как совместить с этим чистым взглядом то ужасное, что соединено теперь с именем Оли Мещерской?» Это ужасное, что соединено с именем Оли Мещерской, дано в рассказе все время, шаг за шагом, его ужасность не преуменьшена нисколько, но самого впечатления ужасного рассказ не производит на нас, это ужасное переживается нами в каком-то совсем другом чувстве, и самый этот рассказ об ужасном почему-то носит странное название «легкого дыхания», и почему-то все пронизано дыханием холодной и тонкой весны.
200 Остановимся на названии: название дается рассказу, конечно, не зря, оно несет в себе раскрытие самой важной темы, оно намечает ту доминанту, которая определяет собой все построение рассказа. Это понятие, введенное в эстетику Христиансеном, оказывается глубоко плодотворным, и без него решительно нельзя обойтись при анализе какой-нибудь вещи. В самом деле, всякий рассказ, картина, стихотворение есть, конечно, сложное целое, составленное из различных совершенно элементов, организованных в различной степени, в различной иерархии подчинений и связи; и в этом сложном целом всегда оказывается некоторый доминирующий и господствующий момент, который определяет собой построение всего остального рассказа, смысл и название каждой его части. И вот такой доминантой нашего рассказа и является, конечно, «легкое дыхание»53. Оно является, однако, к самому концу рассказа в виде воспоминания классной дамы о прошлом, о подслушанном ею когда-то разговоре Оли Мещерской с ее подругой. Этот разговор о женской красоте, рассказанный в полукомическом стиле «старинных смешных книг», служит тем pointe всей новеллы, той катастрофой, в которой раскрывается ее истинный смысл. Во всей этой красоте самое важное место «старинная смешная книга» отводит «легкому дыханию». «Легкое дыхание! А ведь оно у меня есть, — ты послушай, как я вздыхаю, — ведь, правда, есть?» Мы как будто слышим самый вздох, и в этом комически звучащем и в смешном стиле написанном рассказе мы вдруг обнаруживаем совершенно другой его смысл, читая заключительные катастрофические слова автора: «Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре…» Эти слова как бы замыкают круг, сводя конец к началу. Как много иногда может значить и каким большим смыслом может дышать маленькое слово в художественно построенной фразе. Таким словом в этой фразе, носящим в себе всю катастрофу рассказа, является слово «это» легкое дыхание. Это: речь идет о том воздухе, который только что назван, о том легком дыхании, которое Оля Мещерская просила свою подругу послушать; и дальше опять катастрофические слова: «… в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре…» Эти три слова совершенно конкретизируют и объединяют всю мысль рассказа, который начинается 201 с описания облачного неба и холодного весеннего ветра. Автор как бы говорит заключительными словами, резюмируя весь рассказ, что все то, что произошло, все то, что составляло жизнь, любовь, убийство, смерть Оли Мещерской, — все это в сущности есть только одно событие, — это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре. И все прежде данные автором описания могилы, и апрельской погоды, и серых дней, и холодного ветра, — все это вдруг объединяется, как бы собирается в одну точку, включается и вводится в рассказ: рассказ получает вдруг новый смысл и новое выразительное значение — это не просто русский уездный пейзаж, это не просто просторное уездное кладбище, это не просто звон ветра в фарфоровом венке, — это все рассеянное в мире легкое дыхание, которое в житейском своем значении есть все тот же выстрел, все тот же Малютин, все то ужасное, что соединено с именем Оли Мещерской. Недаром pointe характеризуют теоретики как окончание на неустойчивом моменте или окончание в музыке на доминанте. Этот рассказ в самом конце, когда мы узнали уже обо всем, когда вся история жизни и смерти Оли Мещерской прошла перед нами, когда мы уже знаем все то, что может нас интересовать, о классной даме, вдруг с неожиданной остротой бросает на все выслушанное нами совершенно новый свет, и этот прыжок, который делает новелла, — перескакивая от могилы к этому рассказу о легком дыхании, есть решительный для композиции целого скачок, который вдруг освещает все это целое с совершенно новой для нас стороны.
И заключительная фраза, которую мы назвали выше катастрофической, разрешает это неустойчивое окончание на доминанте, — это неожиданное смешное признание о легком дыхании и сводит воедино оба плана рассказа. И здесь автор нисколько не затемняет действительность и не сливает ее с выдумкой. То, что Оля Мещерская рассказывает своей подруге, смешно в самом точном смысле этого слова, и когда она пересказывает книгу: «… ну, конечно, черные, кипящие смолой глаза, ей-богу, так и написано: кипящие смолой! — черные, как ночь, ресницы…» и т. д., все это просто и точно смешно. И этот реальный настоящий воздух — «послушай, как я вздыхаю», — тоже, поскольку он принадлежит к действительности, 202 просто смешная деталь этого странного разговора. Но он же, взятый в другом контексте, сейчас же помогает автору объединить все разрозненные части его рассказа, и в катастрофических строчках вдруг с необычайной сжатостью перед нами пробегает весь рассказ от этого легкого вздоха и до этого холодного весеннего ветра на могиле, и мы действительно убеждаемся, что это рассказ о легком дыхании.
Можно было бы подробно показать, что автор пользуется целым рядом вспомогательных средств, которые служат все той же цели. Мы указали только на один наиболее заметный и ясный прием художественного оформления, именно на сюжетную композицию; но, разумеется, в той переработке впечатления, идущего на нас от событий, в которой, мы думаем, заключается самая сущность действия на нас искусства, играет роль не только сюжетная композиция, но и целый ряд других моментов. В том, как автор рассказывает эти события, каким языком, каким тоном, как выбирает слова, как строит фразы, описывает ли он сцены или дает краткое изложение их итогов, приводит ли он непосредственно дневники или диалоги своих героев или просто знакомит нас с протекшим событием, — во всем этом сказывается тоже художественная разработка темы, которая имеет одинаковое значение с указанным и разобранным нами приемом.
В частности, величайшее значение имеет самый выбор фактов. Мы исходили для удобства рассуждения из того, что противопоставляли диспозицию композиции как момент естественный — моменту искусственному, забывая, что самая диспозиция, то есть выбор подлежащих оформлению фактов, есть уже творческий акт. В жизни Оли Мещерской была тысяча событий, тысяча разговоров, связь с офицером заключала в себе десятки перипетий, в ее гимназических увлечениях был не один Шеншин, она не единственный раз начальнице проговорилась о Малютине, но автор почему-то выбрал эти эпизоды, отбросив тысячи остальных, и уже в этом акте выбора, отбора, отсеивания ненужного сказался, конечно, творческий акт. Точно так же, как художник, рисуя дерево, не выписывает вовсе, да и не может выписать каждого листочка в отдельности, а дает то общее, суммарное впечатление пятна, то несколько отдельных листов, — точно 203 так же и писатель, отбирая только нужные для него черты событий, сильнейшим образом перерабатывает и перестраивает жизненный материал. И, в сущности говоря, мы начинаем выходить за пределы этого отбора, когда начинаем распространять на этот материал наши жизненные оценки.
Блок прекрасно выразил это правило творчества в своей поэме, когда противопоставил, с одной стороны, —
Жизнь — без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай…
а с другой:
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.
В частности, особенного внимания заслуживает обычно организация самой речи писателя, его языка, строй, ритм, мелодика рассказа. В той необычайно спокойной, полновесной классической фразе, в которой Бунин развертывает свою новеллу, конечно, заключены все необходимые для художественного претворения темы элементы и силы. Нам впоследствии придется говорить о том первостепенно важном значении, которое оказывает строй речи писателя на наше дыхание. Мы произвели целый ряд экспериментальных записей нашего дыхания во время чтения отрывков прозаических и поэтических, имеющих разный ритмический строй, в частности нами записано полностью дыхание во время чтения этого рассказа; Блонский совершенно верно говорит, что, в сущности говоря, мы чувствуем так, как мы дышим, и чрезвычайно показательным для эмоционального действия каждого произведения является та система дыхания54, которая ему соответствует. Заставляя нас тратить дыхание скупо, мелкими порциями, задерживать его, автор легко создает общий эмоциональный фон для нашей реакции, фон тоскливо затаенного настроения. Наоборот, заставляя нас как бы выплеснуть разом весь находящийся в легких воздух и энергично вновь пополнить этот запас, поэт создает совершенно иной эмоциональный фон для нашей эстетической реакции.
Мы отдельно будем еще иметь случай говорить о том значении, которое мы придаем этим записям дыхательной кривой, и чему эти записи учат. Но нам кажется уместным и многозначительным тот факт, что самое дыхание 204 наше во время чтения этого рассказа, как показывает пневмографическая запись, есть легкое дыхание, что мы читаем об убийстве, о смерти, о мути, о всем ужасном, что соединилось с именем Оли Мещерской, но мы в это время дышим так, точно мы воспринимаем не ужасное, а точно каждая новая фраза несет в себе освещение и разрешение от этого ужасного. И вместо мучительного напряжения мы испытываем почти болезненную легкость. Этим намечается, во всяком случае, то аффективное противоречие, то столкновение двух противоположных чувств, которое, видимо, составляет удивительный психологический закон художественной новеллы. Я говорю — удивительный, потому что всей традиционной эстетикой мы подготовлены к прямо противоположному пониманию искусства: в течение столетий эстетики твердят о гармонии формы и содержания, о том, что форма иллюстрирует, дополняет, аккомпанирует содержание, и вдруг мы обнаруживаем, что это есть величайшее заблуждение, что форма воюет с содержанием, борется с ним, преодолевает его и что в этом диалектическом противоречии содержания и формы как будто заключается истинный психологический смысл нашей эстетической реакции. В самом деле, нам казалось, что, желая изобразить легкое дыхание, Бунин должен был выбрать самое лирическое, самое безмятежное, самое прозрачное, что только можно найти в житейских событиях, происшествиях и характерах. Почему он не рассказал нам о прозрачной, как воздух, какой-нибудь первой любви, чистой и незатемненной? Почему он выбрал самое ужасное, грубое, тяжелое и мутное, когда он захотел развить тему о легком дыхании?
Мы приходим как будто к тому, что в художественном произведении всегда заложено некоторое противоречие, некоторое внутреннее несоответствие между материалом и формой, что автор подбирает как бы нарочно трудный, сопротивляющийся материал, такой, который оказывает сопротивление своими свойствами всем стараниям автора сказать то, что он сказать хочет. И чем непреодолимее, упорнее и враждебнее самый материал, тем как будто оказывается он для автора более пригодным. И то формальное, которое автор придает этому материалу, направлено не на то, чтобы вскрыть свойства, заложенные в самом материале, раскрыть жизнь русской 205 гимназистки до конца во всей ее типичности и глубине, проанализировать и проглядеть события в их настоящей сущности, а как раз в обратную сторону: к тому, чтобы преодолеть эти свойства, к тому, чтобы заставить ужасное говорить на языке «легкого дыхания», и к тому, чтобы житейскую муть заставить звенеть и звенеть, как холодный весенний ветер.
Глава VIII
Трагедия о Гамлете, принце Датском
Загадка Гамлета. «Субъективные» и «объективные» решения. Проблема характера
Гамлета. Структура трагедии: фабула и сюжет. Идентификация героя. Катастрофа.
Трагедию о Гамлете все единогласно считают загадочной. Всем кажется, что она отличается от других трагедий самого Шекспира и других авторов прежде всего тем, что в ней ход действия развернут так, что непременно вызывает некоторое непонимание и удивление зрителя. Поэтому исследования и критические работы об этой пьесе носят почти всегда характер толкований, и все они строятся по одному образцу — пытаются разгадать загаданную Шекспиром загадку. Загадку эту можно формулировать так: почему Гамлет, который должен убить короля сейчас же после разговора с тенью, никак не может этого сделать и вся трагедия наполнена историей его бездействия? Для разрешения этой загадки, которая действительно встает перед умом всякого читателя, потому что Шекспир в пьесе не дал прямого и ясного объяснения медлительности Гамлета, критики ищут причин этой медлительности в двух вещах: в характере и переживаниях самого Гамлета или в объективных условиях. Первая группа критиков сводит проблему на проблему характера Гамлета и старается показать, что Гамлет не мстит сразу либо потому, что его нравственные чувства противятся акту мести, либо потому, что он нерешителен и безволен по самой своей природе, либо потому, как указывал Гете, что слишком большое дело возложено на слишком слабые плечи. И так как ни одно из этих толкований не объясняет до конца трагедии, то можно сказать с уверенностью, что никакого научного значения все эти толкования не имеют, поскольку с равным правом может 206 быть защищаемо и совершенно обратное каждому из них. Противоположного рода исследователи относятся доверчиво и наивно к художественному произведению и пытаются понять медлительность Гамлета из склада его душевной жизни, точно это живой и настоящий человек, и в общем их аргументы почти всегда суть аргументы от жизни и от значения человеческой природы, но не от художественного построения пьесы. Критики эти доходят до утверждений, что целью Шекспира и было показать безвольного человека и развернуть трагедию, возникающую в душе человека, который призван к совершению великого дела, но у которого нет для этого нужных сил. Они понимали «Гамлета» большей частью как трагедию бессилия и безволия, не считаясь совершенно с целым рядом сцен, которые рисуют в Гамлете черты совершенно противоположного характера и показывают, что Гамлет человек исключительной решимости, смелости, отваги, что он нисколько не колеблется из нравственных соображений и т. п.
Другая группа критиков искала причин медлительности Гамлета в тех объективных препятствиях, которые лежат на пути осуществления поставленной перед ним цели. Они указывали на то, что король и придворные оказывают очень сильное противодействие Гамлету, что Гамлет не убивает короля сразу, потому что не может его убить. Эта группа критиков, идущая по следам Вердера, утверждает, что задачей Гамлета было вовсе не убить короля, а разоблачить его, доказать всем его виновность и только после этого покарать. Доводов можно найти много для защиты такого мнения, но столь же большое количество доводов, взятых из трагедии, легко опровергают и это мнение. Эти критики не замечают двух основных вещей, которые заставляют их жестоко заблуждаться: их первая ошибка сводится к тому, что такой формулировки задачи, стоящей перед Гамлетом, мы нигде в трагедии ни прямо, ни косвенно не находим. Эти критики присочиняют за Шекспира новые усложняющие дело задачи и опять-таки пользуются доводами от здравого смысла и житейской правдоподобности больше, чем эстетики трагического. Их вторая ошибка в том, что они пропускают мимо глаз огромное количество сцен и монологов, из которых для нас совершенно ясным становится, что Гамлет сам сознает субъективный характер своей 207 медлительности, что он не понимает, что заставляет его медлить, что он приводит несколько совершенно различных причин для этого и что ни одна из них не может выдержать тягости служить подпорой для объяснения всего действия.
И та и другая группы критиков согласны в том, что эта трагедия в высокой степени загадочна, и уже одно это признание совершенно лишает силы убедительности все их доводы.
Ведь если их соображения правильны, то следовало бы ожидать, что никакой загадки в трагедии не будет. Какая же загадочность, если Шекспир заведомо хочет изобразить колеблющегося и нерешительного человека. Ведь мы тогда с самого начала видели бы и понимали, что имеем медлительность вследствие колебания. Плоха была бы пьеса на тему о безволии, если бы самое это безволие скрывалось в ней под загадкой и если правы были бы критики второго направления, что трудность заключается во внешних препятствиях; тогда надо было бы сказать, что Гамлет — это какая-то драматургическая ошибка Шекспира, потому что эту борьбу с внешними препятствиями, которая составляет истинный смысл трагедии, Шекспир не сумел представить отчетливо и ясно, и она тоже скрывается под загадкой. Критики пытаются разрешить загадку Гамлета, привнося нечто со стороны, извне, какие-нибудь соображения и мысли, которые не даны в самой трагедии, и подходят к этой трагедии, как к казусному случаю жизни, который непременно должен быть растолкован в плане здравого смысла. По прекрасному выражению Берне, на картину наброшен флер, мы пытаемся поднять этот флер, чтобы разглядеть картину; оказывается, что флер нарисован на самой картине. И это совершенно верно. Очень легко показать, что загадка нарисована в самой трагедии, что трагедия умышленно построена как загадка, что ее надо осмыслить и понять как загадку, неподдающуюся логическому растолкованию, и если критики хотят снять загадку с трагедии, то они лишают самую трагедию ее существенной части.
Остановимся на самой загадочности пьесы. Критика почти в один голос, несмотря на все различие мнений, отмечает эту темноту и непостижимость, непонятность пьесы. Гесснер говорит, что «Гамлет» — трагедия масок. Мы стоим перед Гамлетом и его трагедией, как излагает 208 это мнение Куно Фишер, как бы перед завесой. Мы все думаем, что за ней находится какой-то образ, но под конец убеждаемся, что этот образ не что иное, как сама завеса. По словам Берне, Гамлет — это нечто несообразное, хуже, чем смерть, еще не рожденное. Гете говорил о мрачной проблеме по поводу этой трагедии. Шлегель приравнивал ее к иррациональному уравнению, Баумгардт говорит о сложности фабулы, которая содержит длинный ряд разнообразных и неожиданных событий. «Трагедия “Гамлет” действительно похожа на лабиринт», — соглашается Куно Фишер. «В “Гамлете”, — говорит Г. Брандес, — над пьесой не витает “общий смысл” или идея целого. Определенность не была тем идеалом, который носился перед глазами Шекспира… Здесь немало загадок и противоречий, но притягательная сила пьесы в значительной степени обусловлена самою ее темнотой» (21, с. 38). Говоря о «темных» книгах, Брандес находит, что такой книгой является «Гамлет»: «Местами в драме открывается как бы пропасть между оболочкой действия и его ядром» (21, с. 31). «Гамлет остается тайной, — говорит Тен-Бринк, — но тайною неодолимо привлекательной вследствие нашего сознания, что это не искусственно придуманная, а имеющая свой источник в природе вещей тайна» (102, с. 142). «Но Шекспир создал тайну, — говорит Дауден, — которая осталась для мысли элементом, навсегда возбуждающим ее и никогда не разъяснимым ею вполне. Нельзя поэтому предполагать, чтобы какая-нибудь идея или магическая фраза могла разрешить трудности, представляемые драмой, или вдруг осветить все то, что в ней темно. Неясность присуща произведению искусства, которое имеет в виду не какую-нибудь задачу, но жизнь; а в этой жизни, в этой истории души, которая проходила по сумрачной границе между ночною тьмою и дневным светом, есть… много такого, что ускользает от всякого исследования и сбивает его с толку» (45, с. 131).
Выписки можно было бы продолжить до бесконечности, так как все решительно критики, за исключением отдельных единиц, останавливаются на этом. Хулители Шекспира, как Толстой, Вольтер и другие, говорят то же самое. Вольтер в предисловии к трагедии «Семирамида» говорит, что «ход событий в трагедии “Гамлет” представляет из себя величайшую путаницу», Рюмелин 209 говорит, что «пьеса в целом непонятна» (см. 158, с. 74 – 97).
Но вся эта критика видит в темноте оболочку, за которой скрывается ядро, завесу, за которой скрывается образ, флер, который скрывает от наших глаз картину. Совершенно непонятно, почему, если «Гамлет» Шекспира есть действительно то, что говорят о нем критики, он окружен такой таинственностью и непонятностью. И надо сказать, что эта таинственность часто бесконечно преувеличивается и еще чаще основывается просто на недоразумениях. К такого рода недоразумениям следует отнести мнение Мережковского, который говорит: «Гамлету тень отца является в обстановке торжественной, романтической, при ударах грома и землетрясении… Тень отца говорит Гамлету о загробных тайнах, о боге, о мести и крови» (73, с. 141). Где кроме оперного либретто, можно вычитать это, остается совершенно непонятным. Нечего и прибавлять, что ничего подобного в настоящем «Гамлете» не существует.
Итак, мы можем отбросить всю ту критику, которая пытается отделить загадочность от самой трагедии, снять флер с картины. Однако любопытно посмотреть, как отзывается такая критика о загадочности характера и поведении Гамлета. Берне говорит: «Шекспир — король, не подчиненный правилу. Будь он как и всякий другой, можно было бы сказать: Гамлет — лирический характер, противоречащий всякой драматической обработке» (16, с. 404). То же несоответствие отмечает Брандес. Он говорит: «Не надо забывать, что этот драматический феномен, герой, который не действует, до известной степени требовался самою техникой этой драмы. Если бы Гамлет убил короля тотчас по получении откровения духа, пьеса должна была бы ограничиться одним только актом. Поэтому положительно было необходимо дать возникнуть замедлениям» (21, с. 37). Но если бы это было так, то это означало бы просто, что сюжет не годится для трагедии, и что Шекспир искусственно замедляет такое действие, которое могло бы быть окончено сразу, и что он вводит лишних четыре акта в такую пьесу, которая могла бы прекрасно уместиться в одном-единственном. То же отмечает Монтегю, который дает прекрасную формулу: «Бездействие и представляет действие первых трех актов». Близко очень к 210 тому же пониманию подходит Бекк. Все он объясняет из противоречия фабулы пьесы и характера героя. Фабула, ход действия, принадлежит хронике, куда влил сюжет Шекспир, а характер Гамлета — Шекспиру. Между тем и другим есть непримиримое противоречие. «Шекспир не был полным хозяином своей пьесы и не распоряжался вполне свободно ее отдельными частями», — это делает хроника. Но в этом все дело, и это так просто и верно, что вам незачем искать каких-либо других объяснений по сторонам. Тем самым мы переходим к новой группе критиков, которая ищет разгадки Гамлета либо в условиях драматургической техники, как это грубо выразил Брандес, либо в историко-литературных корнях, на которых эта трагедия взросла. Но совершенно очевидно, что в таком случае это означало бы, что правила техники победили способности писателя или исторический характер сюжета перевесил возможности его художественной обработки. В том и другом случае «Гамлет» означал бы ошибку Шекспира, который не сумел выбрать подходящий сюжет для своей трагедии, и совершенно прав с этой точки зрения Жуковский, когда говорит, что «шедевр Шекспира “Гамлет” кажется мне чудовищем. Я не понимаю его смысла. Те, которые находят так много в Гамлете, доказывают более собственное богатство мысли и воображения, нежели превосходство Гамлета. Я не могу поверить, чтобы Шекспир, сочиняя свою трагедию, думал все то, что Тик и Шлегель думали, читая ее: они видят в ней и в ее разительных странностях всю жизнь человеческую с ее непонятными загадками… Я просил его, чтобы он прочитал мне “Гамлета” и чтобы после чтения сообщил мне подробно свои мысли об этом чудовищном уроде».
Того же мнения был Гончаров, который утверждал, что Гамлета нельзя сыграть: «Гамлет — не типичная роль — ее никто не сыграет, и не было никогда актера, который бы сыграл ее… Он должен в ней истощиться как вечный жид… Свойства Гамлета — это неуловимые в обыкновенном, нормальном состоянии души явления». Однако было бы ошибкой считать, что разъяснения историко-литературные и формальные, которые ищут причин гамлетовской медлительности в технических или в исторических обстоятельствах, непременно клонились к выводу, что Шекспир написал плохую пьесу. Целый 211 ряд исследователей указывает и на положительный эстетический смысл, который заключался в использования этой необходимой медлительности. Так, Волькенштейн защищает мнение, противоположное мнению Гейне, Берне, Тургенева и других, которые полагают, что Гамлет сам по себе существо безвольное. Мнение этих последних прекрасно выражают слова Геббеля, который говорит: «Гамлет — падаль уже до начала трагедии. То, что мы видим, — розы и шипы, которые из этой падали вырастают». Волькенштейн полагает, что истинная природа драматического произведения, и, в частности, трагедии, заключается в необычайном напряжении страстей и что она всегда основана на внутренней силе героя. Поэтому он полагает, что взгляд на Гамлета как на слабовольного человека «покоится… на той слепой доверчивости к словесному материалу, которой отличалась иногда самая глубокомысленная литературная критика… Драматическому герою нельзя верить на слово, надо проверить, как он действует. А действует Гамлет более чем энергично, он один ведет длительную и кровавую борьбу с королем, со всем датским двором. В своем трагическом стремлении к восстановлению справедливости он трижды решительно нападает на короля: в первый раз он убивает Полония, во второй раз короля спасает его молитва, в третий раз — в конце трагедии — Гамлет короля убивает. Гамлет с великолепной изобретательностью инсценирует “мышеловку” — спектакль, проверяя показания тени; Гамлет ловко устраняет со своего пути Розенкранца и Гильденштерна. Поистине он ведет титаническую борьбу… Гибкому и сильному характеру Гамлета соответствует его физическая природа: Лаэрт — лучший фехтовальщик Франции, а Гамлет его побеждает, оказывается более ловким бойцом (как этому противоречит указание Тургенева на его физическую рыхлость!). Герой трагедии есть maximum воли… и мы не ощущали бы трагедийного эффекта от “Гамлета”, если бы герой был нерешителен и слаб» (28, с. 137, 138). Любопытно в этом мнении вовсе не то, что в нем указаны черты, отличающие силу и смелость Гамлета. Это делалось много раз, как много раз подчеркивались и те препятствия, которые перед Гамлетом встают. Замечательно в этом мнении то, что оно по-новому толкует весь тот материал трагедии, который говорит о 212 безволии Гамлета. Волькенштейн рассматривает все те монологи, в которых Гамлет укоряет себя в недостаточной решительности, как самоподхлестывание воли, и говорит, что меньше всего они свидетельствуют о его слабости, если угодно — напротив.
Таким образом, согласно этому взгляду выходит, что все самообвинения Гамлета в безволии служат лишним доказательством его чрезвычайной волевой силы. Ведя титаническую борьбу, проявляя максимум силы и энергии, он все же недоволен сам собой, требует от самого себя еще большего, и, таким образом, толкование это спасает положение, показывая, что противоречие введено в драму не зря и что это противоречие только кажущееся. Слова о безволии надо понимать как сильнейшее доказательство воли. Однако и эта попытка не решает дела. В самом деле — она дает только видимое решение вопроса и повторяет, в сущности, старую точку зрения на характер Гамлета, но, по существу, она не выясняет, почему Гамлет медлит, почему он не убивает, как этого требует Брандес, короля в первом акте, сейчас же после сообщения тени, и почему трагедия не заканчивается вместе с концом первого акта. При таком взгляде волей-неволей надо примкнуть к тому направлению, которое идет от Вердера и которое указывает на внешние препятствия как на истинную причину медлительности Гамлета. Но это значит ясно вступить в противоречие с прямым смыслом пьесы. Гамлет ведет титаническую борьбу — с этим еще можно согласиться, если исходить из характера самого Гамлета. Допустим, что в нем действительно заключены большие силы. Но с кем ведет он эту борьбу, против кого она направлена, в чем она выражается? И как только вы поставите этот вопрос, вы сейчас же обнаружите ничтожество противников Гамлета, ничтожество удерживающих его от убийства причин, слепую его податливость направленным против него козням. В самом деле, сам критик отмечает, что короля спасает молитва, но разве есть указания в трагедии на то, что Гамлет является человеком глубоко религиозным и что эта причина принадлежит к душевным движениям большой силы? Напротив, она всплывает совершенно случайно и кажется как бы непонятной для нас. Если вместо короля он убивает Полония, благодаря простой случайности, значит, 213 его решимость созрела сейчас же после спектакля. Спрашивается, почему же его меч обрушивается на короля только в самом конце трагедии? Наконец, как ни планомерна, случайна, эпизодична, ограничена всякий раз местным смыслом та борьба, которую он ведет, — большей частью это парирование направленных на него ударов, но не нападение. И убийство Гильденштерна и все прочее есть только самозащита, и, конечно же, мы не можем назвать титанической борьбой такую самозащиту человека. Мы будем еще иметь случай указать, что все три раза, когда Гамлет пытается убить короля, на которые ссылается всегда Волькенштейн, что именно они указывают как раз на обратное тому, что видит в них критик. Так же мало дает разъяснений и близко примыкающая по смыслу к этому толкованию постановка «Гамлета» во 2-м Московском Художественном театре. Здесь на практике попытались осуществить то, с чем мы ознакомились только что в теории. Постановщики исходили из столкновения двух типов человеческой природы и развития их борьбы друг с другом. «Один из них протестующий, героический, борющийся за утверждение того, что составляет его жизнь. Это наш Гамлет. Для того чтобы ярче выявить и подчеркнуть его довлеющее значение, нам пришлось сильно сократить текст трагедии, выкинуть из него все то, что могло бы задержать окончательно вихревое… Уже с середины второго акта он берет в руки меч и не выпускает его до конца трагедии; активность Гамлета мы подчеркнули также и сгущением тех препятствий, которые встречаются на пути Гамлета. Отсюда трактовка короля и присных. Король Клавдии олицетворяет все то, что препятствует героическому Гамлету… И наш Гамлет постоянно пребывает в стихийной и страстной борьбе против всего, что олицетворяет собою короля… Для того чтобы сгустить краски, нам казалось необходимым перенести действие Гамлета в средневековье».
Так говорят режиссеры этой пьесы в художественном манифесте, который они по поводу этой постановки выпустили. И со всей откровенностью они указывают на то, что им для сценического воплощения, для понимания трагедии пришлось проделать над пьесой три операции: первое — выбросить из нее все то, что мешает этому пониманию; второе — сгустить те препятствия, 214 которые противостоят Гамлету, и третье — сгустить краски и перенести действие Гамлета в средние века, в то время как все видят в этой пьесе олицетворение Ренессанса. Совершенно понятно, что после таких трех операций может удаться всякое толкование, но столь же ясно, что эти три операции превращают трагедию в нечто совершенно противоположное тому, как она написана. И то обстоятельство, что для проведения в жизнь такого понимания потребовались такие радикальные операции над пьесой, лучшим образом доказывает то колоссальное расхождение, которое существует между истинным смыслом истории и между смыслом, истолкованным таким образом. В виде иллюстрации того колоссального противоречия пьесы, в которое впадает театр, достаточно сослаться на то, что король, играющий на самом деле в пьесе очень скромную роль, при таком положении превращается в героическую противоположность самого Гамлета55. Если Гамлет есть максимум воли героической, светлой — ее один полюс, то король есть максимум воли антигероической, темной — другой ее полюс. Свести роль короля к олицетворению всего темного начала жизни — для этого нужно было бы, по существу дела, написать новую трагедию с совершенно противоположными задачами, чем те, которые стояли перед Шекспиром.
Гораздо ближе к истине подходят те толкования Гамлетовой медлительности, которые исходят тоже из формальных соображений и действительно проливают очень много света на решение этой загадки, но которые сделаны без всяких операций над текстом трагедии. К таким попыткам относится, например, попытка уяснить некоторые особенности построения «Гамлета», исходя из техники и конструкции шекспировской сцены56, зависимость от которой ни в каком случае нельзя отрицать и изучение которой глубочайшим образом необходимо для правильного понимания и анализа трагедии. Такое значение, например, имеет установленный Прельсом закон временной непрерывности в шекспировской драме, который требовал от зрителя и от автора совершенно другой сценической условности, чем техника нашей современной сцены. У нас пьеса разделена на акты: каждый акт условно обозначает только тот краткий промежуток времени, который занимают изображенные 215 в нем события. Длительные события и их перемены происходят между актами, о них зритель узнает впоследствии. Акт может быть отделен от другого акта промежутком в несколько лет. Все это требует одних приемов письма. Совершенно иначе обстояло дело во времена Шекспира, когда действие длилось непрерывно, когда пьеса, видимо, не распадалась на акты и исполнение ее не прерывалось антрактами и все совершалось перед глазами зрителя. Совершенно понятно, что такая важная эстетическая условность имела колоссальное композиционное значение для всякой структуры пьесы, и мы многое можем уяснить себе, если познакомимся с техникой и эстетикой современной Шекспиру сцены. Однако когда мы переходим границы и начинаем думать, что с установлением технической необходимости какого-нибудь приема мы тем самым разрешили уже задачу, мы впадаем в глубокую ошибку. Необходимо показать, в какой мере каждый прием был обусловлен техникой тогдашней сцены. Необходимо — но далеко не достаточно. Надо еще показать психологическое значение этого приема, почему из множества аналогичных приемов Шекспир выбрал именно этот, потому что нельзя же допустить, что какие-нибудь приемы объяснялись исключительно всецело их технической необходимостью, потому что это означало бы допустить власть голой техники в искусстве. На самом деле техника, конечно, безусловно определяет конструкцию пьесы, но в пределах технических возможностей каждый технический прием и факт как бы возводится в достоинство эстетического факта. Вот простой пример. Сильверсван говорит: «На поэта давило определенное устройство сцены. К тому же разряду примеров, подчеркивающих неизбежность удаления действующих лиц со сцены, resp. невозможность заканчивать пьесу или сцену какой-либо труппою, относятся случаи, когда по ходу пьесы на подмостках оказываются трупы: нельзя было заставить их подняться и уйти, и вот, например, в “Гамлете” появляется никому не нужный Фортинбрас с разным народом, в конце концов только затем, чтобы возгласить:
Уберите трупы.
Средь поля битвы мыслимы они,
А здесь не к месту, как следы резни,
И все уходят и уносят с собой тела.
216 Читатель без всякого затруднения сможет увеличить число таких примеров, прочитав внимательно хотя бы одного Шекспира» (101, с. 30). Вот пример совершенно ложного истолкования заключительной сцены в «Гамлете» при помощи одних только технических соображений. Совершенно бесспорно, что, не имея занавеса и развертывая действие на открытой все время перед слушателем сцене, драматург должен был заканчивать пьесу всякий раз так, чтобы кто-нибудь уносил трупы. В этом смысле техника драмы, несомненно, давила на Шекспира. Он непременно должен был заставить унести мертвые тела в заключительной сцене «Гамлета», но он мог сделать это по-разному: их могли бы унести и придворные, находящиеся на сцене, и просто датская гвардия. Из этой технической необходимости мы никогда не можем заключить, что Фортинбрас появляется только затем, чтобы унести трупы, и что этот Фортинбрас никому не нужен. Стоит только обратиться к такому, например, толкованию пьесы, которое дает Куно Фишер: он видит одну тему мести, воплощенной в трех разных образах — Гамлета, Лаэрта и Фортинбраса, которые все являются мстителями за отцов, — и мы сейчас увидим глубокий художественный смысл в том, что при заключительном появлении Фортинбраса тема эта получает полнейшее свое завершение и что шествие победившего Фортинбраса является глубоко осмысленным там, где лежат трупы двух других мстителей, образ которых все время противопоставлялся этому третьему образу. Так мы легко находим эстетический смысл технического закона. Нам не раз придется обращаться к помощи такого исследования, и, в частности, установленный Прельсом закон много помогает нам в деле выяснения медлительности Гамлета. Однако это всегда только начало исследования, а не все исследование в целом. Задача будет заключаться всякий раз в том, чтобы, установив техническую необходимость какого-нибудь приема, понять вместе с тем и его эстетическую целесообразность. Иначе вместе с Брандесом нам придется заключить, что техника всецело владеет поэтом, а не поэт техникой, и что Гамлет медлит четыре акта потому, что пьесы писались в пяти, а не в одном акте, и мы никогда не сумеем понять, почему одна и та же техника, которая совершенно одинаково давила на Шекспира и на других писателей, создала одну эстетику в трагедии Шекспира и 217 другую в трагедиях его современников; и даже больше того, почему одна и та же техника совершенно разным образом заставляла Шекспира компоновать «Отелло», «Лира», «Макбета» и «Гамлета». Очевидно, даже в пределах, отводимых поэту его техникой, за ним остается еще все же творческая свобода композиции. Такой же недостаток ничего не объясняющих открытий находим мы и в тех предпосылках объяснить «Гамлета», исходя из требований художественной формы, которые тоже устанавливают совершенно верные законы, необходимые для понимания трагедии, но совершенно недостаточные для ее объяснения. Вот как мимоходом говорит Эйхенбаум о Гамлете: «На самом деле — не потому задерживается трагедия, что Шиллеру надо разработать психологию медлительности, а как раз наоборот — потому Валленштейн медлит, что трагедию надо задержать, а задержание это скрыть. То же самое и в “Гамлете”. Недаром существуют прямо противоположные толкования Гамлета как личности — и все по-своему правы, потому что все одинаково ошибаются. Как Гамлет, так и Валленштейн даны в двух необходимых для разработки трагической формы аспектах — как сила движущая и как сила задерживающая. Вместо простого движения вперед по сюжетной схеме — нечто вроде танца с движениями сложными. С психологической точки зрения — почти противоречие… Совершенно верно — потому что психология служит только мотивировкой: герой кажется личностью, а на самом деле — он маска.
Шекспир ввел в трагедию призрак отца и сделал Гамлета философом — мотивировка движения и задержания. Шиллер делает Валленштейна изменником почти против его воли, чтобы создать движение трагедии, и вводит астрологический элемент, которым мотивируется задержание» (138, с. 81),
Здесь возникает целый ряд недоумений. Согласимся с Эйхенбаумом, что для разработки художественной формы действительно необходимо, чтобы герой одновременно развивал и задерживал действие. Что объяснит нам это в «Гамлете»? Нисколько не больше, чем необходимость убирать трупы в конце действия объяснит нам появление Фортинбраса; именно нисколько не больше, потому что и техника сцены и техника формы, конечно, давят на поэта. Но они давили на Шекспира, равно как 218 и на Шиллера. Спрашивается, почему же один написал Валленштейна, а другой Гамлета? Почему одинаковая техника и одинаковые требования разработки художественной формы один раз привели к созданию «Макбета», а другой раз «Гамлета», хотя эти пьесы прямо противоположны в своей композиции? Допустим, что психология героя является только иллюзией зрителя и вводится автором как мотивировка. Но спрашивается, совершенно ли безразлична для трагедии та мотивировка, которую выбирает автор? Случайна ли она? Сама по себе говорит она что-нибудь или действие трагических законов совершенно одинаково, в какой бы мотивировке, в какой бы конкретной форме они ни проявлялись, подобно тому как верность алгебраической формулы остается совершенно постоянной, какие бы арифметические значения мы в нее ни подставляли?
Так, формализм, который начал с необычайного внимания к конкретной форме, вырождается в чистейшую формалистику, которая к известным алгебраическим схемам сводит отдельные индивидуальные формы. Никто не станет спорить с Шиллером, когда он говорит, что трагический поэт «должен затягивать пытку чувств», но, даже зная этот закон, мы никогда не поймем, почему эта пытка чувств затягивается в «Макбете» при бешеном темпе развития пьесы, а в «Гамлете» при совершенно противоположном. Эйхенбаум полагает, что при помощи этого закона мы совершенно разъяснили Гамлета. Мы знаем, что Шекспир ввел в трагедию призрак отца — это мотивировка движения. Он сделал Гамлета философом — это мотивировка задержания. Шиллер прибег к другим мотивировкам — вместо философии у него астрологический элемент, а вместо призрака — измена. Спрашивается, почему по одной и той же причине мы имеем два совершенно различных следствия. Или мы должны признать, что и причина-то указана здесь ненастоящая, или, вернее сказать, недостаточная, объясняющая не все и не до конца, правильнее сказать, даже не объясняющая самого главного. Вот простейший пример: «Мы очень любим, — говорит Эйхенбаум, — почему-то “психологии” и “характеристики”. Наивно думаем, что художник пишет для того, чтобы “изображать” психологию или характер. Ломаем голову над вопросом о Гамлете — “хотел ли” Шекспир изобразить в нем медлительность или что-нибудь 219 другое? На самом деле художник ничего такого не изображает, потому что совсем не занят вопросами психологии, да и мы вовсе не для того смотрим “Гамлета”, чтобы изучить психологию» (138, с. 78).
Все это совершенно верно, но следует ли отсюда, что выбор характера и психологии героя совершенно безразличен для автора? Это верно, что не для того мы смотрим «Гамлета», чтобы изучить психологию медлительности, но совершенно верно и другое, что если придать Гамлету другой характер, пьеса потеряет весь свой эффект. Художник, конечно, не хотел дать в своей трагедии психологию или характеристику. Но психология и характеристика героя не безразличный, случайный и произвольный момент, а нечто эстетически очень значимое, и истолковывать Гамлета так, как это делает Эйхенбаум в одной и той же фразе, значит просто очень плохо его истолковывать. Сказать, что в «Гамлете» задерживается действие потому, что Гамлет — философ, значит просто на веру принять и повторить мнение тех самых скучных книг и статей, которые опровергает Эйхенбаум. Именно традиционный взгляд на психологию и характеристики утверждает, что Гамлет не убивает короля, потому что он философ. Тот же плоский взгляд полагает, что для того, чтобы понудить Гамлета к действию, необходимо ввести призрак. Но ведь Гамлет мог узнать то же самое и другим способом, и стоит только обратиться к трагедии, для того чтобы увидеть, что действие в ней задерживает не философия Гамлета, а нечто совсем другое.
Кто хочет исследовать Гамлета как психологическую проблему, тот должен вовсе оставить критику. Мы старались выше суммарно показать, как мало она дает верного направления исследователю и как она уводит часто совершенно в сторону. Поэтому исходным пунктом для психологического исследования должно быть стремление избавить Гамлета от тех 11 000 томов комментариев, которые придавили его своей тяжестью и о которых с ужасом говорит Толстой. Надо взять трагедию так, как она есть, посмотреть на то, что она говорит не мудрствующему толкователю, а бесхитростному исследователю, надо взять ее в нерастолкованном виде57 и взглянуть на нее так, как она есть. Иначе мы рисковали бы обратиться вместо исследования самого сновидения к его толкованию. Такая попытка взглянуть на Гамлета 220 просто нам известна только одна. Она сделана с гениальной смелостью Толстым в его прекраснейшей статье о Шекспире, которая почему-то до сих пор продолжает почитаться неумной и неинтересной. Вот что говорит Толстой: «Но ни на одном из лиц Шекспира так поразительно не заметно его, не скажу неумение, но совершенное равнодушие к приданию характерности своим лицам, как на Гамлете, и ни на одной из пьес Шекспира так поразительно не заметно то слепое поклонение Шекспиру, тот нерассуждающий гипноз, вследствие которого не допускается даже мысли о том, чтобы какое-нибудь произведение Шекспира могло быть не гениальным и чтобы какое-нибудь главное лицо в его драме могло бы не быть изображением нового и глубоко понятого характера.
Шекспир берет очень недурную в своем роде старинную историю… или драму, написанную на эту тему лет 15 прежде его, и пишет на этот сюжет свою драму, вкладывая совершенно некстати (как это и всегда он делает) в уста главного действующего лица все свои казавшиеся ему достойными внимания мысли. Вкладывая же в уста своего героя эти мысли… он нисколько не заботится о том, при каких условиях говорятся эти речи, и, естественно, выходит то, что лицо, высказывающее все эти мысли, делается фонографом Шекспира, лишается всякой характерности, и поступки и речи его не согласуются.
В легенде личность Гамлета вполне понятна: он возмущен делом дяди и матери, хочет отомстить им, но боится, чтобы дядя не убил его так же, как отца, и для этого притворяется сумасшедшим…
Все это понятно и вытекает из характера и положения Гамлета. Но Шекспир, вставляя в уста Гамлета те речи, которые ему хочется высказать, и заставляя его совершать поступки, которые нужны автору для подготовления эффектных сцен, уничтожает все то, что составляет характер Гамлета легенды. Гамлет во все продолжение драмы делает не то, что ему может хотеться, а то, что нужно автору: то ужасается перед тенью отца, то начинает подтрунивать над ней, называя его кротом, то любит Офелию, то дразнит ее и т. п. Нет никакой возможности найти какое-либо объяснение поступкам и речам Гамлета и потому никакой возможности приписать ему какой бы то ни было характер.
221 Но так как признается, что гениальный Шекспир не может написать ничего плохого, то ученые люди все силы своего ума направляют на то, чтобы найти необычайные красоты в том, что составляет очевидный, режущий глаза, в особенности резко выразившийся в Гамлете, недостаток, состоящий в том, что у главного лица нет никакого характера. И вот глубокомысленные критики объявляют, что в этой драме в лице Гамлета выражен необыкновенно сильно совершенно новый и глубокий характер, состоящий именно в том, что у лица этого нет характера и что в этом-то отсутствии характера и состоит гениальность создания глубокомысленного характера. И, решив это, ученые критики пишут томы за томами, так что восхваления и разъяснения величия и важности изображения характера человека, не имеющего характера, составляют громадные библиотеки. Правда, некоторые из критиков иногда робко высказывают мысль о том, что есть что-то странное в этом лице, что Гамлет есть неразъяснимая загадка, но никто не решается сказать того, что царь голый, что ясно как день, что Шекспир не сумел, да и не хотел придать никакого характера Гамлету и не понимал даже, что это нужно. И ученые критики продолжают исследовать и восхвалять это загадочное произведение…» (107, с. 247 – 249).
Мы опираемся на это мнение Толстого не потому, чтобы нам казались правильными и исключительно достоверными его конечные выводы. Для всякого читателя ясно, что Толстой в конце концов судит Шекспира, исходя из внехудожественных моментов, и решающим в его оценке является тот моральный приговор, который он произносит над Шекспиром, мораль которого он считает несовместимой со своими нравственными идеалами. Не забудем, что эта моральная точка зрения привела Толстого к отрицанию не только Шекспира, но и вообще почти всей художественной литературы, и что свои же художественные вещи Толстой под конец жизни считал вредными и недостойными произведениями, так что эта моральная точка зрения лежит вообще вне плоскости искусства, она слишком широка и всеобъемлюща, для того чтобы замечать частности, и о ней речи быть не может при психологическом рассмотрении искусства. Но все дело в том, что, для того чтобы сделать эти моральные выводы, Толстой приводит чисто художественные 222 доводы, и вот эти доводы кажутся нам столь убедительными, что они действительно разрушают тот нерассуждающий гипноз, который установился по отношению к Шекспиру. Толстой взглянул на Гамлета глазом андерсеновского ребенка и первый решился сказать, что король голый, то есть что все те достоинства — глубокомыслие, точность характера, проникновение в человеческую психологию и прочее — существуют только в воображении читателя. В этом заявлении, что царь голый, и заключается самая большая заслуга Толстого, который разоблачил не столько Шекспира, сколько совершенно нелепое и ложное о нем представление, тем, что противопоставил ему свое мнение, которое он недаром называет совершенно противоположным тому, какое установилось во всем европейском мире. Таким образом, по дороге к своей моральной цели Толстой разрушил один из жесточайших предрассудков в истории литературы и первый со всей смелостью высказал то, что нашло себе сейчас подтверждение в целом ряде исследований и работ; именно то, что у Шекспира далеко не вся интрига и не весь ход действия достаточно убедительно мотивированы с психологической стороны, что его характеры просто не выдерживают критики и что часто существуют вопиющие и для здравого смысла нелепые несоответствия между характером героя и его поступками. Так, например, Столь прямо утверждает, что Шекспира в «Гамлете» интересовала больше ситуация, чем характер, в что «Гамлета» надлежит рассматривать как трагедию интриги, в которой решающую роль играет связь и сцепление событий, а не раскрытие характера героя. Такого же мнения придерживается Рюгг. Он полагает, что Шекспир не для того запутывает действие, чтобы осложнить характер Гамлета, а осложняет этот характер, для того чтобы он лучше подошел к полученной им по традиции драматургической концепции фабулы58. И эти исследователи далеко не одиноки в своем мнении. Что касается других пьес, то там исследователи называют бесконечное число таких фактов, которые с неопровержимостью свидетельствуют о том, что утверждение Толстого в корне правильно. Мы еще будем иметь случай показать, насколько справедливо мнение Толстого в приложении к таким трагедиям, как «Отелло», «Король Лир» и др., насколько убедительно он показал отсутствие и незначительность 223 характера у Шекспира и насколько он совершенно верно и точно понял эстетическое значение и смысл шекспировского языка.
Сейчас мы берем за отправную точку наших дальнейших рассуждений то совершенно согласное с очевидностью мнение, что Гамлету невозможно приписать никакого характера, что этот характер сложен из самых противоположных черт и что невозможно придумать какого-либо правдоподобного объяснения его речам и поступкам. Однако мы станем спорить с выводами Толстого, который видит в этом сплошной недостаток и чистое неумение Шекспира изображать художественное развитие действия. Толстой не понял или, вернее, не принял эстетики Шекспира и, рассказав его художественные приемы в простом пересказе, перевел их с языка поэзии на язык прозы, взял их вне тех эстетических функций, которые они выполняют в драме, — и в результате получилась, конечно, полная бессмыслица. Но такая же точно бессмыслица получилась бы, если бы мы проделали такую операцию со всяким решительно поэтом и обессмыслили бы его текст сплошным пересказом. Толстой пересказывает сцену за сценой «Короля Лира» и показывает, как нелепо их соединение и взаимная связь. Но если бы такой же точно пересказ учинить над «Анной Карениной», можно было бы легко привести и толстовский роман к такому же абсурду, и если мы припомним то, что сам Толстой говорил по поводу этого романа, мы сумеем приложить те же самые слова и к «Королю Лиру». Выразить в пересказе мысль и романа и трагедии совершенно невозможно, потому что вся суть дела заключается в сцеплении мыслей, а самое это сцепление, как говорит Толстой, составлено не мыслью, а чем-то другим, и это что-то другое не может быть передано непосредственно в словах, а может быть передано только непосредственным описанием образов, сцен, положений. Пересказать «Короля Лира» так же нельзя, как нельзя пересказать музыку своими словами, и потому метод пересказа есть наименее убедительный метод художественной критики. Но еще раз повторяем: эта основная ошибка не помешала Толстому сделать ряд блестящих открытий, которые на многие годы составят плодотворнейшие проблемы шекспирологии, но которые, конечно, будут освещены совершенно иначе, чем это сделано Толстым. 224 В частности, применительно к Гамлету мы должны вполне согласиться с Толстым, когда он утверждает, что у Гамлета нет характера, но мы вправе спросить дальше: не заключено ли в этом отсутствии характера какое-либо художественное задание, не имеет ли это какого-нибудь смысла и является ли это просто ошибкой. Толстой прав, когда указывает на нелепость довода тех, кто полагает, будто глубина характера заключается в том, что изображен бесхарактерный человек. Но, может быть, целью трагедии вообще не является раскрытие характера самого по себе, и, может быть, она вообще равнодушна к изображению характера, а иногда, может быть, она даже сознательно пользуется характером совершенно не подходящим к событиям для того, чтобы извлечь из этого какой-нибудь особенный художественный эффект?
В дальнейшем нам придется показать, как ложно, в сущности, мнение, что трагедия Шекспира представляет собой трагедию характера. Сейчас же мы примем как допущение, что отсутствие характера может не только проистекать из явного намерения автора, но что оно может быть ему нужно для каких-нибудь совершенно определенных художественных целей, и постараемся раскрыть это на примере «Гамлета». Для этого обратимся к анализу структуры этой трагедии.
Мы сразу замечаем три элемента, из которых мы можем исходить в нашем анализе. Во-первых, те источники, которыми пользовался Шекспир, то первоначальное оформление, которое было придано тому же самому материалу, во-вторых, перед нами фабула и сюжет самой трагедии и, наконец, новое и более сложное художественное образование — действующие лица. Рассмотрим, в каком отношении эти элементы стоят друг к другу в нашей трагедии.
Толстой прав, когда начинает свое рассмотрение со сравнения саги о Гамлете с трагедией Шекспира59. В саге все понятно и ясно. Мотивы поступков принца вскрыты совершенно ясно. Все согласуется друг с другом, и каждый шаг оправдан и психологически и логически. Мы не станем останавливаться на этом, так как это уже достаточно вскрыто целым рядом исследований и едва ли могла бы возникнуть проблема загадки Гамлета, если бы мы имели дело только с этими древними 225 источниками или со старой драмой о Гамлете, которая существовала до Шекспира. Во всех этих вещах нет решительно ничего загадочного. Уже из этого одного факта мы вправе сделать вывод совершенно обратный тому, который делает Толстой. Толстой рассуждает так: в легенде все понятно, в «Гамлете» все неразумно — следовательно, Шекспир испортил легенду. Гораздо правильнее был бы как раз обратный ход мысли. В легенде все логично и понятно, Шекспир имел, следовательно, в своих руках уже готовые возможности логической и психологической мотивировки, и если он этот материал обработал в своей трагедии так, что опустил все эти очевидные скрепы, которыми поддерживается легенда, то, вероятно, у него был в этом особенный умысел. И мы гораздо охотнее предположим, что Шекспир создал загадочность Гамлета, исходя из каких-то стилистических заданий, чем то, что это вызвано было просто его неумением. Уже это сравнение заставляет нас совершенно иначе поставить проблему о загадке Гамлета; для нас это больше не загадка, которую нужно разрешить, не затруднение, которое должно быть обойдено, а известный художественный прием, который надо осмыслить. Правильнее было бы спрашивать, не почему Гамлет медлит, а зачем Шекспир заставляет Гамлета медлить? Потому что всякий художественный прием познается гораздо больше из его телеологической направленности, из той психологической функции, которую он исполняет, чем из причинной мотивированности, которая сама по себе может объяснить историку литературный, но никак не эстетический факт. Для того чтобы ответить на этот вопрос, зачем Шекспир заставляет Гамлета медлить, мы должны перейти ко второму сравнению и сопоставить фабулу и сюжет «Гамлета». Здесь надо сказать, что в основу сюжетного оформления положен уже упомянутый выше обязательный закон драматургической композиции той эпохи, так называемый закон временной непрерывности. Он сводится к тому, что действие на сцене текло непрерывно и что, следовательно, пьеса исходила совершенно из другой концепции времени, чем наши современные пьесы. Сцена не оставалась пустой ни одной минуты, и в то время как на сцене происходил какой-нибудь разговор, за сценой в это время совершались часто длинные события, требовавшие иногда нескольких 226 дней для своего исполнения, и мы узнавали о них несколько сцен спустя. Таким образом, реальное время не воспринималось зрителем вовсе, и драматург все время пользовался условным сценическим временем, в котором все масштабы и пропорции были совершенно иными, нежели в действительности. Следовательно, Шекспирова трагедия всегда колоссальная деформация всех временных масштабов; обычно длительность событий, необходимые житейские сроки, временные размеры каждого поступка и действия — все это совершенно искажалось и приводилось к некоторому общему знаменателю сценического времени. Отсюда уже совершенно ясно, насколько нелепо ставить вопрос о медлительности Гамлета с точки зрения реального времени. Сколько медлит Гамлет и в каких единицах реального времени мы будем измерять его медлительность? Можно сказать, что реальные сроки в трагедии находятся в величайшем противоречии, что нет никакой возможности установить длительность всех событий трагедии в единицах реального времени и мы совершенно не можем сказать, сколько же времени протекает с минуты появления тени и до минуты убийства короля — день, месяц, год. Отсюда понятно, что решать психологически проблему медлительности Гамлета оказывается совершенно невозможным. Если он убивает через несколько дней, здесь вообще нет речи ни о какой медлительности с точки зрения житейской. Если же время тянется гораздо дольше, мы должны искать совершенно другие психологические объяснения для различных сроков — одних для месяца и других для года. Гамлет в трагедии совершенно независим от этих единиц реального времени, и все события трагедии измерены и соотнесены друг с другом во времени условном60, сценическом. Значит ли это, однако, что вопрос о медлительности Гамлета отпадает вовсе? Может быть, в этом условном сценическом времени медлительности нет вовсе, как думают некоторые критики, и времени автором отпущено на пьесу ровно столько, сколько ей нужно, и все совершается в свой срок? Однако мы легко увидим, что это не так, если припомним знаменитые монологи Гамлета, в которых он сам винит себя за промедление. Трагедия совершенно ясно подчеркивает медлительность героя и, что самое замечательное, дает ей совершенно разные объяснения. Проследим за этой 227 основной линией трагедии. Сейчас же после разоблачения тайны, когда Гамлет узнает о том, что на него возложен долг мщения, он говорит, что он полетит к мщению на крыльях быстрых, как помыслы любви, со страниц воспоминаний он стирает все мысли, чувства, все мечты, всю жизнь и остается только с одним заветом тайным. Уже в конце того же действия он восклицает под невыносимой тяжестью обрушившегося на него открытия, что время вышло из пазов и что он рожден на роковой подвиг. Сейчас же после разговора с актерами Гамлет первый раз упрекает себя в бездействии. Его удивляет, что актер воспламенился при тени страсти, при вымысле пустом, а он молчит, когда он знает, что преступление погубило жизнь и царство великого властителя — отца. В этом знаменитом монологе замечательно то, что Гамлет сам не может понять причины своей медлительности, упрекает себя в позоре и в стыде, но один только он знает, что он не трус. Здесь же дана первая мотивировка оттягивания убийства. Мотивировка та, что, может быть, слова тени не заслуживают доверия, что, может быть, это было привидение и что показания призрака надо проверить. Гамлет затевает свою знаменитую «мышеловку», и у него не остается больше никаких сомнений. Король выдал сам себя, и Гамлет не сомневается больше, что тень сказала правду. Его зовут к матери, и он заклинает себя, что он не должен поднять на нее меч.
Теперь пора ночного колдовства.
Скрипят гроба, и дышит ад заразой.
Сейчас я мог бы пить живую кровь
И на дела способен, от которых
Я отшатнулся б днем. Нас мать звала.
Без зверства, сердце! Что бы ни случилось,
Души Нерона в грудь мне не вселяй.
Я ей скажу без жалости всю правду
И, может статься, на словах убью.
Но это мать родная — и рукам
Я воли даже в ярости не дам… (III, 2)11*
Убийство назрело, и Гамлет боится, как бы он не поднял меч на мать, и, что самое замечательное, вслед за этим идет сейчас же другая сцена — молитва короля. Гамлет входит, вынимает меч, становится сзади — он может его сейчас убить; вы помните, с чем вы оставили 228 только что Гамлета, как он заклинал сам себя пощадить мать, вы готовы к тому, что он сейчас убьет короля, но вместо этого вы слышите:
Он молится. Какой удачный миг!
Удар мечом — и он взовьется к небу… (III, 3)
Но Гамлет через несколько стихов влагает меч в ножны и дает совершенно новую мотивировку своей медлительности. Он не хочет погубить короля, когда тот молится, в минуту раскаяния.
Назад, мой меч, до самой страшной встречи!
Когда он будет в гневе или пьян,
В объятьях сна или нечистой неги,
В пылу азарта, с бранью на устах
Иль в помыслах о новом зле, с размаху
Руби его, чтоб он свалился в ад
Ногами вверх, весь черный от пороков.
…
Еще поцарствуй.
Отсрочка это лишь, а не лекарство.
В следующей же сцене Гамлет убивает Полония, подслушивающего за ковром, совершенно неожиданно ударяя шпагой в ковер с восклицанием: «Мышь!» И из этого восклицания и из его слов к трупу Полония дальше совершенно ясно, что он имел в виду убить короля, потому что именно король — это мышь, которая попалась только что в мышеловку, и именно король есть тот другой, «поважнее», за которого Гамлет принял Полония. Уже о том мотиве, который удалил руку Гамлета с мечом, занесенную над королем только что, — нет речи. Сцена предыдущая кажется логически совершенно не связанной с этой, и одна из них должна заключить в себе какое-то видимое противоречие, если только верна другая. Эту сцену убийства Полония, как разъясняет Куно Фишер, очень согласно почти все критики считают доказательством бесцельного, необдуманного, непланомерного образа действий Гамлета, и недаром почти все театры и очень многие критики совершенно обходят молчанием сцену с молитвой короля, пропускают ее вовсе, потому что они отказываются понять, как это возможно столь явно неподготовленным вводить мотив задержания. Нигде в трагедии, ни раньше, ни после, нет больше того нового условия для убийства, которое Гамлет себе ставит: убить непременно в грехе, так, чтобы погубить короля и за могилой. В сцене с матерью Гамлету опять 229 является тень, но он думает, что тень пришла упреками осыпать сына за медлительность его в отмщеньи; и, однако, он не оказывает никакого сопротивления, когда его отправляют в Англию, и в монологе после сцены с Фортинбрасом сравнивает себя с этим отважным вождем и опять упрекает себя в безволии. Он опять считает свою медлительность позором и заканчивает монолог решительно:
О мысль моя, отныне будь в крови.
Живи грозой иль вовсе не живи! (IV, 4)
Мы застаем Гамлета дальше на кладбище, затем во время разговора с Горацио, наконец, во время поединка, и уже до самого конца пьесы нет ни одного упоминания о месте, и только что данное Гамлетом обещание о том, что его единой мыслью будет кровь, не оправдывается ни в одном стихе последующего текста. Перед поединком он полон грустных предчувствий:
«Надо быть выше суеверий. На все господня воля. Даже в жизни и смерти воробья. Если чему-нибудь суждено случиться сейчас, значит этого не придется дожидаться… Самое главное — быть всегда наготове» (V, 2).
Он предчувствует свою смерть, и зритель вместе с ним. И до самого конца поединка у него нет мысли о мести, и, что самое замечательное, сама катастрофа происходит так, что она кажется нам подстегнутой совершенно для другой линии интриги; Гамлет не убивает короля во исполнение основного завета тени, зритель раньше узнает, что Гамлет умер, что яд в его крови, что в нем нет жизни и на полчаса; и только после этого, уже стоя в могиле, уже безжизненный, уже во власти смерти, он убивает короля.
Самая сцена построена таким образом, что не оставляет ни малейшего сомнения в том, что Гамлет убивает короля за его последние злодеяния, за то, что он отравил королеву, за то, что он убил Лаэрта и его — Гамлета. Об отце нет ни слова, зритель как бы забыл о нем вовсе. Эту развязку «Гамлета» все считают совершенно удивительной и непонятной, и почти все критики соглашаются в том, что даже это убийство все же оставляет впечатление невыполненного долга или долга, выполненного совершенно случайно.
Казалось бы, пьеса все время была загадочной, потому 230 что Гамлет не убивал короля; наконец убийство совершилось, и, казалось бы, загадочность должна кончиться, но нет, она только что начинается. Мезьер совершенно точно говорит: «Действительно, в последней сцене все возбуждает наше удивление, все неожиданно от начала до конца». Казалось бы, мы всю пьесу ждали только, чтобы Гамлет убил короля, наконец он убивает его, откуда же снова наше удивление и непонимание? «Последняя сцена драмы, — говорит Соколовский, — основана на коллизии случайностей, соединившихся так внезапно и неожиданно, что комментаторы с прежними взглядами даже серьезно обвиняли Шекспира в неудачном окончании драмы… Надо было придумать вмешательство именно какой-нибудь посторонней силы… Этот удар был чисто случаен и напоминал, в руках Гамлета, острое оружие, которое иногда дают в руки детям, управляя в то же время рукояткой…» (127, с. 42 – 43).
Берне правильно говорит, что Гамлет убивает короля не только в отмщение за отца, но и за мать и за себя. Джонсон упрекает Шекспира за то, что убийство короля происходит не по обдуманному плану, но как неожиданная случайность. Альфонсо говорит: «Король убит не вследствие хорошо обдуманного намерения Гамлета (благодаря ему он, может быть, никогда не был бы убит), а благодаря событиям, независимым от воли Гамлета». Что устанавливает рассмотрение этой основной линии интриги «Гамлета»? Мы видим, что и в своем сценическом условном времени Шекспир подчеркивает медлительность Гамлета, то затушевывает ее, оставляя целые сцены без упоминания о стоящей перед ним задаче, то вдруг обнажает и открывает это в монологах Гамлета так, что можно с совершенной точностью сказать, что зритель воспринимает медлительность Гамлета не постоянно, равномерно, а взрывами. Медлительность эта затушевана — и вдруг взрыв монолога; зритель, когда оглядывается назад, особенно остро отмечает эту медлительность, и затем действие опять тянется затушевано до нового взрыва. Таким образом, в сознании зрителя все время соединены две несоединимые идеи: с одной стороны, он видит, что Гамлет должен отомстить, он видит, что никакие ни внутренние, ни внешние причины не мешают Гамлету сделать это; больше того, автор играет с его нетерпением, он заставляет его видеть воочию, 231 когда меч Гамлета занесен над королем и затем вдруг, совершенно неожиданно, опущен; а с другой стороны, он видит, что Гамлет медлит, но он не понимает причин этой медлительности и он все время видит, что драма развивается в каком-то внутреннем противоречии, когда перед ней все время ясно намечается цель, а зритель ясно сознает те отклонения от пути, которые совершает в своем развитии трагедия.
В таком построении сюжета мы вправе сейчас же увидеть нашу кривую сюжетной формы. Наша фабула развертывается по прямой линии, и если бы Гамлет убил короля сейчас же после разоблачений тени, он бы прошел эти две точки по кратчайшему расстоянию. Но автор поступает иначе: он все время заставляет нас с совершенной ясностью сознавать ту прямую линию, по которой должно было бы идти действие, для того чтобы мы могли острее ощутить те уклоны и петли, которые оно описывает на самом деле.
Таким образом, и здесь мы видим, что задача сюжета заключается как бы в том, чтобы отклонить фабулу от прямого пути, заставить ее пойти кривыми путями, и, может быть, здесь, в самой этой кривизне развития действия, мы найдем те нужные для трагедии сцепления фактов, ради которых пьеса описывает свою кривую орбиту.
Для того чтобы понять это, надо опять обратиться к синтезу, к физиологии трагедии, надо из смысла целого попытаться разгадать, какую функцию несет эта кривая линия и почему автор с такой исключительной и единственной в своем роде смелостью заставляет трагедию отклоняться от прямого пути.
Начнем с конца, с катастрофы. Две вещи здесь легко бросаются в глаза исследователю: во-первых, то, что основная линия трагедии, как это отмечено выше, здесь затемнена и затушевана. Убийство короля происходит среди всеобщей свалки, это только одна из четырех смертей, все они вспыхивают внезапно, как смерч; за минуту до этого зритель не ожидает этих событий, и ближайшие мотивы, определившие собой убийство короля, настолько очевидно заложены в последней сцене, что зритель забывает о том, что он наконец достиг тон точки, к которой все время вела его трагедия и никак 232 не могла довести. Как только Гамлет узнает о смерти королевы, он сейчас вскрикивает:
Средь нас измена! — Кто ее виновник?
Найти его!
Лаэрт открывает Гамлету, что все это проделки короля. Гамлет восклицает:
Как, и рапира с ядом? Так ступай,
Отравленная сталь, по назначенью!
И, наконец, дальше, подавая королю кубок с ядом:
Так на же, самозванец-душегуб!
Глотай свою жемчужину в растворе!
За матерью последуй!
Нигде ни одного упоминания об отце, везде все причины упираются в происшествие последней сцены. Так трагедия подходит к своей конечной точке, но от зрителя скрыто, что это и есть та точка, к которой мы все время стремились. Однако рядом с этим прямым затушеванием очень легко вскрыть и другое, прямо противоположное, и мы легко можем показать, что сцена убийства короля трактована как раз в двух противоположных психологических планах: с одной стороны, эта смерть затушевана рядом ближайших причин и других сопутствующих смертей, с другой стороны, она выделена из этого ряда всеобщих убийств так, как это, кажется, нигде не сделано в другой трагедии. Очень легко показать, что все остальные смерти происходят как бы незаметно; королева умирает, и сейчас же об этом никто не упоминает больше, Гамлет только прощается с ней: «Прощай, несчастная королева». Так же точно смерть Гамлета как-то затенена, погашена. Опять сейчас после упоминания о Гамлетовой смерти о ней непосредственно ничего больше не говорится. Незаметно умирает и Лаэрт, и, что самое важное, перед смертью он обменивается прощением с Гамлетом. Смерть свою и своего отца он прощает Гамлету и сам просит прощения за убийство. Эта внезапная, совершенно неестественная перемена в характере Лаэрта, который все время горел местью, является совершенно немотивированной в трагедии и самым наглядным образом показывает нам, что она нужна только для того, чтобы погасить впечатление от этих смертей и на этом фоне опять выделить смерть 233 короля. Выделена эта смерть, как я уже говорил, при помощи совершенно исключительного приема, которому трудно указать равный в какой-нибудь трагедии. Что необычайно в этой сцене (см. приложение II), это то, что Гамлет, совершенно непонятно для чего, дважды убивает короля — сперва отравленным острием шпаги, затем заставляет его выпить яд. Для чего это нужно? Конечно, по ходу действия это не вызвано ничем, потому что тут у нас на глазах и Лаэрт и Гамлет умирают только от действия одного яда — шпаги. Здесь единый акт — убийство короля — как бы разложен надвое, как бы удвоен, подчеркнут и выделен для того, чтобы особенно ярко и остро дать зрителю ощутить, что трагедия подошла к своей последней точке. Но, может быть, это двойное убийство короля, столь методически несообразное и психологически ненужное, имеет какой-нибудь другой сюжетный смысл?
И его очень нетрудно найти. Припомним, какое значение имеет вся катастрофа: мы приходим к конечной точке трагедии — к убийству короля, которого мы ожидали все время, начиная с первого акта, но мы приходим к этой точке совершенно другим путем: она возникает как следствие совершенно нового фабульного ряда, и, когда мы попадаем в эту точку, мы не осознаем сразу, что это та именно точка и есть, к которой все время устремлялась трагедия.
Таким образом, для нас делается совершенно ясно, что в этой точке сходятся два все время расходившихся на наших глазах ряда, две линии действия и, конечно, этим двум различным линиям соответствует и раздвоенное убийство, которое как бы заканчивает одну и другую линию. И сейчас же опять поэт начинает маскировать это короткое замыкание двух токов в катастрофе, и в коротком послесловии трагедии, когда Горацио, по обычаю шекспировских героев, пересказывает кратко все содержание пьесы, он опять затушевывает это убийство короля и говорит:
Я всенародно расскажу про все
Случившееся. Расскажу о страшных
Кровавых и безжалостных делах,
Превратностях, убийствах по ошибке,
Наказанном двуличье и к концу —
О кознях пред развязкой, погубивших
Виновников.
234 И в этой общей куче смертей и кровавых дел опять расплывается и тонет катастрофическая точка трагедии. В этой же сцене катастрофы мы совершенно ясно видим, какой огромной силы достигает художественная формовка сюжета и какие эффекты извлекает из нее Шекспир. Если вглядеться в порядок этих смертей, мы увидим, насколько Шекспир изменяет их естественный порядок исключительно для того, чтобы превратить их в художественный ряд. Смерти слагаются в мелодию, как звуки, на деле король умирает до Гамлета, а в сюжете еще мы ничего не слышали о смерти короля, но уже знаем, что Гамлет умер и что в нем нет жизни на полчаса, Гамлет переживает всех, хотя мы знаем о том, что он умер, и хотя он ранен всех раньше. Все эти перегруппировки основных событий вызваны только одним требованием — требованием нужного психологического эффекта. Когда мы узнаем о смерти Гамлета, мы окончательно теряем всякую надежду на то, что трагедия когда-нибудь достигнет той точки, куда она стремится. Нам кажется, что конец трагедии принял как раз противоположное направление, и как раз в ту минуту, когда мы меньше всего ожидаем этого, когда это кажется нам невозможным, тогда именно это и свершается. И Гамлет в своих последних словах прямо указывает на какой-то тайный смысл во всех этих событиях, когда он заканчивает просьбой к Горацио пересказать, как все это было, чем все это было вызвано, просит его передать внешний очерк событий, который сохраняет и зритель, и заканчивает: «Дальнейшее — молчанье». И для зрителя действительно остальное совершается в молчании, в том недосказанном в трагедии остатке, который возникает из этой удивительно построенной пьесы. Новые исследователи охотно подчеркивают чисто внешнюю сложность этой пьесы, которая ускользала от прежних авторов. «Здесь мы видим несколько параллельных фабульных цепей: историю убийства отца Гамлета и месть Гамлета, историю смерти Полония и месть Лаэрта, историю Офелии, историю Фортинбраса, развитие эпизодов с актерами, с поездкой Гамлета в Англию. На протяжении трагедии место действия меняется двадцать раз. В пределах каждой сцены мы видим быстрые смены тем, персонажей. Изобилует игровой элемент… 235 Мы имеем много разговоров не на тему интриги… вообще развитие эпизодов, перебивающих действие…» (110, с. 182).
Однако легко видеть, что дело здесь вовсе не в тематической пестроте, как полагает автор, что перебивающие эпизоды очень тесно связаны с основной интригой — и эпизод с актерами, и разговоры могильщиков, которые в шуточном плане опять рассказывают о смерти Офелии, и убийство Полония, и все остальное. Сюжет трагедии раскрывается перед нами в окончательном виде так: с самого начала сохраняется вся фабула, лежащая в основе легенды, и зритель все время имеет перед собой ясный скелет действия, те нормы и пути, по которым действие развивалось. Но все время действие уклоняется от этих намеченных фабулой путей, сбивается на другие пути, вычерчивает сложную кривую, и в некоторых высших точках, в монологах Гамлета, читатель как бы взрывами вдруг узнает о том, что трагедия уклонилась от пути. И эти монологи с самоупреками в медлительности имеют то главное назначение, что они должны заставить нас ясно ощутить, насколько делается не то, что должно было бы делаться, и должны еще раз ясно представить перед нашим сознанием ту конечную точку, куда действие все же должно быть направлено. Всякий раз после такого монолога мы опять начинаем думать, что действие выпрямится, и так до нового монолога, который опять открывает нам, что действие опять искривилось. В сущности, структуру этой трагедии можно выразить при помощи одной чрезвычайно простой формулы. Формула фабулы: Гамлет убивает короля, чтобы отомстить за смерть отца. Формула сюжета — Гамлет не убивает короля. Если содержание трагедии, ее материал рассказывает о том, как Гамлет убивает короля, чтобы отомстить за смерть отца, то сюжет трагедии показывает нам, как он не убивает короля, а когда убивает, то это выходит вовсе не из мести. Таким образом, двойственность фабулы-сюжета — явное протекание действия в двух планах, все время твердое сознание пути и отклонения от него — внутреннее противоречие — заложены в самых основах этой пьесы. Шекспир как будто выбирает наиболее подходящие события для того, чтобы выразить то, что ему нужно, он выбирает материал, который окончательно несется к развязке и заставляет его мучительно уклоняться от нее. Он пользуется здесь 236 тем психологическим методом, который Петражицкий прекрасно назвал методом дразнений чувств и который он хотел ввести как экспериментальный метод исследования. В самом деле, трагедия все время дразнит наши чувства, она обещает нам исполнения цели, которая с самого начала стоит перед нашими глазами, и все время отклоняет и отводит нас от этой цели, напрягая наше стремление к этой цели и заставляя мучительно ощущать каждый шаг в сторону. Когда, наконец, цель достигнута, оказывается, что мы приведены к ней совершенно другим путем, и два разных пути, которые, казалось нам, шли в противоположные стороны и враждовали во все время развития трагедии, вдруг сходятся в одной общей точке, в раздвоенной сцене убийства короля. К убийству в конце концов приводит то, что все время отводило от убийства, и катастрофа, таким образом, достигает снова высшей точки противоречия, короткого замыкания противоположного направления двух токов. Если мы прибавим к этому, что во все время развития действия оно перебивается совершенно иррациональным материалом, для нас станет ясно, насколько эффект непонятности лежал в самых заданиях автора. Вспомним безумие Офелии, вспомним повторное безумие Гамлета, вспомним, как он дурачит Полония и придворных, вспомним напыщенно бессмысленную декламацию актера, вспомним непереводимый до сих пор на русский язык цинизм разговора Гамлета с Офелией, вспомним клоунаду могильщиков, — и мы везде и всюду увидим, что весь этот материал, как во сне, перерабатывает те же самые события, которые только что были даны в драме, но сгущает, усиливает и подчеркивает их бессмыслицу, и мы тогда поймем истинное назначение и смысл всех этих вещей. Это как бы громоотводы бессмыслицы, которые с гениальной расчетливостью расставлены автором в самых опасных местах своей трагедии для того, чтобы довести дело как-нибудь до конца и сделать вероятным невероятное, потому что невероятна сама по себе трагедия Гамлета так, как она построена Шекспиром; но вся задача трагедии, как и искусства, заключается в том, чтобы заставить лас пережить невероятное, для того чтобы какую-то необычайную операцию проделать над нашими чувствами. И для этого поэты пользуются двумя интересными приемами: во-первых, — это громоотводы 237 бессмыслицы, как мы называем все эти иррациональные части «Гамлета». Действие развивается с окончательной невероятностью, оно грозит показаться нам нелепым, внутренние противоречия сгущаются до крайности, расхождение двух линий достигает своего апогея, кажется, вот-вот они разорвутся, оставят одна другую, и действие трагедии треснет и вся она расколется, — и в эти самые опасные минуты вдруг действие сгущается и совершенно откровенно переходит в безумный бред, в повторное сумасшествие, в напыщенную декламацию, в цинизм, в открытое шутовство. Рядом с этим откровенным безумием невероятность пьесы, противопоставленная ему, начинает казаться правдоподобной и действительной. Безумие введено в таком обильном количестве в эту пьесу для того, чтобы спасти ее смысл. Бессмыслица отводится, как по громоотводу61, всякий раз, когда она грозит разорвать действие, и разрешает катастрофу, которая каждую минуту должна возникнуть. Другой прием, которым пользуется Шекспир для того, чтобы заставить нас вложить свои чувства в невероятную трагедию, сводятся к следующему: Шекспир допускает как бы условность в квадрате, вводит сцену на сцене, заставляет своих героев противопоставлять себя актерам, одно и то же событие дает дважды, сперва как действительное, затем как разыгранное актерами, раздваивает свое действие и его фиктивной, вымышленной частью, второй условностью, затушевывает и скрывает невероятность первого плана.
Возьмем простейший пример. Актер декламирует свой патетический монолог о Пирре, актер плачет, но Гамлет сейчас же в монологе подчеркивает, что это только слезы актера, что он плачет из-за Гекубы, до которой ему нет никакого дела, что эти слезы и страсти только фиктивные. И когда он противополагает этой фиктивной страсти актера свою страсть, она кажется нам уже не фиктивной, а настоящей, и мы с необыкновенной силой переносимся в нее. Или так же точно применен тот же прием раздвоения действия и введения в него действия фиктивного в знаменитой сцене с «мышеловкой». Король и королева на сцене изображают фиктивную картину убийства мужа, а король и королева — зрители приходят от этого фиктивного изображения в ужас. И это раздвоение двух планов, противоположение актеров и зрителей 238 заставляет нас с необычайной серьезностью и силой почувствовать смущение короля, как действительное. Невероятность, лежащая в основе трагедии, спасена, потому что она обставлена с двух сторон надежными стражами: с одной стороны, громоотвод откровенного бреда, рядом с которым трагедия получает видимый смысл; с другой стороны, громоотвод откровенной фиктивности, лицедейства, второй условности, рядом с которой первый план кажется настоящим. Это напоминает то, как если бы на картине находилось изображение другой картины. Но не только это противоречие заложено в основе нашей трагедии, в ней лежит и другое, не менее важное для ее художественного эффекта. Это второе противоречие заключается в том, что выбранные Шекспиром действующие лица как-то не соответствуют тому ходу действий, который он наметил, и Шекспир своей пьесой дает наглядное опровержение того общего предрассудка, будто характеры действующих лиц должны определять собой действия и поступки героев. Но казалось бы, что, если Шекспир хочет изобразить, убийство, которое никак не может состояться, он должен поступить или по рецепту Вердера, то есть обставить исполнение задачи возможно более сложными препятствиями внешнего порядка, для того чтобы преградить дорогу своему герою, либо он должен был бы поступить по рецепту Гете и показать, что задача, которая возложена на героя, превышает его силы, что от него требуют невозможного, несовместимого с его природой, титанического. Наконец, у автора был еще третий выход — он мог поступить по рецепту Берне и изобразить самого Гамлета бессильным, трусливым и плаксивым человеком. Но автор не только не сделал ни одного, ни другого, ни третьего, но во всех трех отношениях пошел в прямо противоположном направлении: он убрал всякие объективные препятствия с пути своего героя; в трагедии решительно не показано, что мешает Гамлету убить короля сейчас же после слов тени, дальше, он потребовал от Гамлета самой посильной для него задачи убийства, потому что на протяжении пьесы Гамлет трижды становится убийцей в совершенно эпизодических и случайных сценах. Наконец, он изобразил Гамлета человеком исключительной энергии и огромной силы и выбрал себе героя, прямо противоположного тому, который ответил бы его фабуле.
239 Именно поэтому критикам и пришлось, чтобы спасти положение, внести указанные коррективы и либо приспособить фабулу к герою, либо героя приспособить к фабуле, потому что они все время исходили из ложного убеждения, что между героем и фабулой должна существовать прямая зависимость, что фабула выводится из характера героев, как характеры героев понимаются из фабулы.
Но все это наглядно опровергает Шекспир. Он исходит как раз из противоположного, именно из полного несоответствия героев и фабулы, из коренного противоречия характера и событий. И нам, знакомым уже с тем, что сюжетное оформление тоже исходит из противоречия с фабулой, не трудно уже найти и понять смысл этого противоречия, возникающего в трагедии. Дело в том, что по самому строю драмы, кроме естественной последовательности событий, в ней возникает еще одно единство, это единство действующего лица или героя. Ниже мы будем иметь случай показать, как развивается понятие о характере героя, но уже сейчас мы может допустить, что поэт, который играет все время на внутреннем противоречии между сюжетом и фабулой, очень легко может использовать это второе противоречие — между характером его героя и между развитием действия. Психоаналитики совершенно правы, когда они утверждают, что сущность психологического воздействия трагедии заключается в том, что мы идентифицируем себя с героем. Это совершенно верно, что герой есть точка в трагедии, исходя из которой автор заставляет нас рассматривать всех остальных действующих лиц и все происходящие события. Именно эта точка собирает воедино наше внимание, она служит точкой опоры для нашего чувства, которое иначе потерялось бы, бесконечно отклоняясь в своих оценках, В своих волнениях за каждое действующее лицо. Если бы мы одинаково оценивали и волнение короля, и волнение Гамлета, и надежды Полония, и надежды Гамлета, — наше чувство заблудилось бы в этих постоянных колебаниях, и одно и то же событие представлялось бы нам совершенно в противоположных смыслах. Но трагедия поступает иначе: она придает нашему чувству единство, заставляет его все время сопровождать героя и уже через героя воспринимать все остальное. Достаточно взглянуть только на всякую трагедию, в частности на Гамлета, для того чтобы увидеть, что все лица в этой трагедии изображены 240 такими, какими их видит Гамлет. Все события преломляются через призму его души, и, таким образом, автор созерцает трагедию в двух планах: с одной стороны, он видит все глазами Гамлета, а с другой стороны, он видит самого Гамлета своими собственными глазами, так что всякий зритель трагедии сразу и Гамлет и его созерцатель. Из этого становится уже совершенно понятной та огромная роль, которая выпадает на действующее лицо вообще и на героя в частности в трагедии. Мы имеем здесь совершенно новый психологический план, и если в басне мы открываем два направления внутри одного и того же действия, в новелле — один план фабулы и другой план сюжета, то в трагедии мы замечаем еще один новый план: мы воспринимаем события трагедии, ее материал, затем мы воспринимаем сюжетное оформление этого материала и, наконец, третье, мы воспринимаем еще один план — психику и переживания героя. И так как все эти три плана относятся в конце концов к одним и тем же фактам, но только взятым в трех разных отношениях, естественно, что между этими планами должно существовать внутреннее противоречие, хотя бы для того, чтобы наметить расхождение этих планов. Чтобы понять, как строится трагический характер, можно воспользоваться аналогией, и эту аналогию мы видим в той психологической теории портрета, которую выдвинул Христиансен: для него проблема портрета заключается раньше всего в вопросе, каким образом портретист передает на картине жизнь, как он заставляет жить лицо на портрете и как он достигает того эффекта, который присущ одному только портрету, именно то, что он изображает живого человека. В самом деле, если мы станем искать отличие портрета от картины, мы никогда не найдем его ни в каких внешних формальных и материальных признаках. Мы знаем, что картина может изображать одно какое-нибудь лицо и на портрете могут быть изображены несколько лиц, портрет может включать в себя и пейзажи и натюрморт, и мы никогда не найдем различия между картиной и портретом, если за основу не возьмем именно ту жизнь, которая отличает всякий портрет. Христиансен берет за исходный пункт своего исследования тот факт, что «неодушевленность стоит во взаимной связи с пространственными размерами. С величиной портрета возрастает не только полнота его жизни, но и решительность 241 ее проявлений, прежде всего спокойствие ее походки. Портретисты знают по опыту, что более крупная голова легче говорит» (124, с. 283).
Это приводит к тому, что наш глаз отрешается от одной определенной точки, с которой он рассматривает портрет, что портрет лишается своего композиционного неподвижного центра, что глаз блуждает по портрету взад и вперед, «от глаза ко рту, от одного глаза к другому и ко всем моментам, заключающим в себе выражение лица» (124, с. 284).
Из различных точек картины, на которых останавливается глаз, он вбирает в себя различное выражение лица, различное настроение, и отсюда возникает та жизнь, то движение, та последовательная смена неодинаковых состояний, которая в противоположность оцепенению неподвижности составляет отличительную черту портрета. Картина всегда пребывает в том виде, как она создана, портрет постоянно меняется, и отсюда его жизнь. Христиансен формулировал психологическую жизнь портрета в следующей формуле: «Это физиономическое несовпадение разных факторов выражения лица.
Возможно, конечно, и, кажется, рассуждая отвлеченно, даже гораздо естественнее заставить отражаться в углах рта, в глазах и в остальных частях лица одно и то же душевное настроение… Тогда портрет звучал бы в одном-едином тоне… Но он был бы как вещь звучащая, лишенная жизни. Поэтому-то художник дифференцирует душевное выражение и дает одному глазу несколько иное выражение, чем другому, и в свою очередь иное складкам рта и так повсюду. Но простых различий недостаточно, они должны гармонически относиться друг к другу… Главный мелодический мотив лица дается отношением рта и глаза друг к другу: рот говорит, глаз отвечает, в складках рта сосредоточивается возбуждение и напряженность воли, в глазах господствует разрешающее спокойствие интеллекта… Рот выдает инстинкты и все, чего хочет достигнуть человек; глаз открывает, чем он сделался в реальной победе или в усталой резиньяции…» (124, с. 284 – 285).
В этой теории Христиансен толкует портрет как драму. Портрет передает нам не просто лицо и застывшее в нем душевное выражение, а нечто гораздо большее: он передает нам смену душевных настроений, целую историю 242 души, ее жизнь. Нам думается, что совершенно аналогично зритель подходит и к проблеме характера трагедии. Характер в точном смысле этого слова может быть выдержан только в эпосе, как духовная жизнь в портрете. Что касается характера трагедии, то для того, чтобы он жил, он должен быть составлен из противоречивых черт, он должен переносить нас от одного душевного движения к другому. Так же точно, как в портрете физиономическое несовпадение разных факторов выражения лица есть основа нашего переживания, — в трагедии психологическое несовпадение разных факторов выражения характера есть основа трагического чувства. Трагедия именно потому может совершать невероятные эффекты с нашими чувствами, что она заставляет их постоянно превращаться в противоположные, обманываться в своих ожиданиях, наталкиваться на противоречия, раздваиваться; и когда мы переживаем «Гамлета», нам кажется, что мы пережили тысячи человеческих жизней в один вечер, а точно — мы успели перечувствовать больше, чем в целые годы нашей обычной жизни. И когда мы вместе с героем начинаем чувствовать, что он более не принадлежит себе, что он делает не то, что он делать был бы должен, — тогда именно трагедия вступает в свою силу. Замечательно выражает это Гамлет, когда в письме к Офелии клянется ей в вечной любви до тех пор, пока «эта машина» принадлежит ему. Русские переводчики обыкновенно передают слово «машина» словом «тело», не понимая, что в этом слове самая суть трагедии12*. Гончаров был глубоко прав, когда говорил, что трагедия Гамлета в том, что он не машина, а человек.
В самом деле, вместе с трагическим героем мы начинаем ощущать себя в трагедии машиной чувств, которая направляется самой трагедией, которая приобретает над нами поэтому совершенно особенную и исключительную власть.
Мы подходим к некоторым итогам. Мы можем теперь формулировать то, что мы нашли, как тройное противоречие, лежащее в основе трагедии: противоречив фабулы и сюжета и действующих лиц. Каждый из этих элементов направлен как бы в совершенно разные стороны, и для 243 нас совершенно понятно, что тот новый момент, который вносит трагедия, есть следующий: уже в новелле мы имели дело с раздвоением планов, мы одновременно переживали события в двух противоположных направлениях: в одном, которое давало ему фабула, и в другом, которое они приобретали в сюжете. Эти же два противоположных плана сохранены и в трагедии, и мы указывали все время на то, что, читая «Гамлета», мы движем наши чувства в двух планах: с одной стороны, мы все яснее и яснее сознаем цель, к которой идет трагедия, с другой стороны, мы столь же ясно видим, насколько она уклоняется от этой цели. Что же нового привносит трагический герой? Совершенно очевидно, что он объединяет в каждый данный момент оба эти плана и что он является высшим и постоянно данным единством того противоречия, которое заложено в трагедии. Мы уже указывали на то, что вся трагедия строится все время с точки зрения героя, и значит, он есть та объединяющая два противоположных тока сила, которая все время собирает в одно переживание, приписывая его герою, оба противоположных чувства. Таким образом два противоположных плана трагедия все время ощущаются нами как единство, так как они объединены в трагическом герое, с которым мы себя идентифицируем. И та простая двойственность, которую мы нашли уже в рассказе, заменяется в трагедии неизмеримо более острой и высшего порядка двойственностью, которая возникает из того, что мы, с одной стороны, видим всю трагедию глазами героя, а с другой — видим героя своими собственными глазами. Что это действительно так и что, в частности, так следует понимать «Гамлета», убеждает нас синтез сцены катастрофы, анализ которой приведен нами раньше. Мы показали, что в этой точке сходятся два плана трагедии, две линии ее развития, которые, как нам казалось, уводили в совершенно противоположные стороны, и это их неожиданное совпадение вдруг преломляет всю трагедию совершенно особенным образом и представляет все протекшие события в совершенно ином виде. Зритель обманут. Все то, что он считал уклонением от пути, привело его именно туда, куда он стремился все время, а когда он попал в конечный пункт, он не сознает его как цель своего странствия. Противоречия не только сошлись, но и поменялись своими ролями — и это катастрофическое обнажение противоречий 244 объединяется для зрителя в переживании героя, потому что в конце концов только эти переживания принимает он как свои. И зритель не испытывает удовлетворения и облегчения от убийства короля, его натянутые в трагедии чувства не получают вдруг простого и плоского разрешения. Король убит, и сейчас же внимание зрителя, как молния, перенесено на дальнейшее, на смерть самого героя, и в этой новой смерти зритель ощущает и переживает все те трудные противоречия, которые раздирали его сознание и бессознательное во все время созерцания трагедии.
И когда трагедия — и в последних словах Гамлета и в речи Горацио — как бы снова описывает свой круг, зритель совершенно ясно ощущает то раздвоение, на котором она построена. Рассказ Горацио возвращает его мысль к внешнему плану трагедии, к ее «словам, словам, словам». Остальное, как говорит Гамлет, — молчание.
245 Психология искусства
Глава IX
Искусство как катарсис
Теория эмоций и фантазии. Принципы экономии сил. Теория эмоционального тона
и вчувствования. Закон «двойного выражения эмоций» и закон «реальности эмоции».
Центральный и периферический разряд эмоций. Аффективное противоречие и начало
антитезы. Катарсис. Уничтожение содержания формой.
Психология искусства имеет дело с двумя или даже с тремя главами теоретической психологии. Всякая теория искусства находится в зависимости от той точки зрения, которая установлена в учении о восприятии, в учении о чувстве и в учении о воображении или фантазии. Обычно искусство и рассматривается в курсе психологии, в одной из этих трех глав или во всех трех главах вместе. Однако отношения между тремя этими проблемами совершенно не в одинаковой степени важны для психологии искусства. Совершенно очевидно, что психология восприятия играет несколько служебную и подчиненную роль по сравнению с двумя другими главами, потому что все теоретики уже отказались от того наивного сенсуализма, согласно которому искусство есть просто радость от красивых вещей. Уже давно эстетическая реакция, даже в ее простейшем виде, отличалась теоретиками от обычной реакции при восприятии приятного вкуса, запаха 246 или цвета. Проблема восприятия есть одна из самых важных проблем психологии искусства, но она не есть центральная проблема, потому что сама она находится в зависимости от того решения, которое мы дадим другим вопросам, стоящим в самом центре нашей проблемы. В искусстве актом чувственного восприятия только начинается, но, конечно, не завершается реакция, и потому психологию искусства приходится начинать не с той главы, которая имеет дело обычно с элементарными эстетическими переживаниями, а с других двух проблем — чувства и воображения. Можно даже прямо сказать, что правильное понимание психологии искусства может быть создано только на пересечении этих двух проблем и что все решительно психологические системы, пытающиеся объяснить искусство, в сущности говоря, представляют собой комбинированное в том или ином виде учение о воображении и чувстве. Надо, однако, сказать, что нет в психологии глав более темных, чем эти две главы, и что именно они подвергались в последнее время наибольшей переработке и наибольшему пересмотру, хотя до сих пор, к сожалению, мы не имеем сколько-нибудь общепризнанной и законченной системы учения о чувстве и учения о фантазии. Еще хуже обстоит дело в объективной психологии, которая сравнительно легко развивает схему тех форм поведения, которые соответствовали волевым процессам в прежней психологии и отчасти процессам интеллектуальным, но именно две эти области остаются для объективной психологии еще почти не разработанными. «Психология чувства, — говорит Титченер, — пока еще в широких размерах есть психология личного мнения и убеждения» (103, с. 190). Так же точно с «воображением». Как говорит проф. Зеньковский, «давно уже в психологии происходит скверный анекдот». Эта сфера остается чрезвычайно мало изученной, как и область чувства, и самым проблематическим и загадочным остается для современной психологии связь и отношение эмоциональных фактов с областью фантазии. Этому отчасти способствует то, что чувства отличаются целым рядом особенностей, из которых как на первую правильно указывает Титченер — на смутность. Именно этим чувству отличается от ощущения: «Чувство не имеет свойства ясности. Удовольствие и неудовольствие могут быть интенсивными и продолжительными, но они никогда 247 не бывают ясными. Это значит — если мы перейдем на язык популярной психологии, — что на чувстве невозможно сосредоточить внимания. Чем больше внимания обращаем мы на ощущение, тем оно становится яснее и тем лучше и отчетливее мы его помним. Но мы совершенно не можем сосредоточить внимание на чувстве; если мы пытаемся это сделать, то удовольствие или неудовольствие тотчас же исчезает и скрывается от нас, и мы застаем себя за наблюдением какого-нибудь безразличного ощущения или образа, которого мы совсем не хотели наблюдать. Если мы желаем получить удовольствие от концерта или от картины, мы должны внимательно воспринимать то, что мы слышим или видим; но как только мы попытаемся обратить внимание на самое удовольствие, это последнее исчезает» (103, с. 194 – 195).
Таким образом, с одной стороны, для эмпирической психологии чувство находилось вне области сознания, потому что все то, что не могло быть фиксировано в фокусе внимания, отодвигалось для эмпирической психологии на окраины нашего поля сознания. Однако целый ряд психологов указывает на другую, как раз противоположную черту чувства, именно на то, что чувство всегда сознательно и что бессознательное чувство есть противоречие в самом определении. Так, Фрейд, который является едва ли не самым большим защитником бессознательного, говорит: «Ведь сущность чувства состоит в том, что оно чувствуется, то есть известно сознанию. Возможность бессознательности совершенно отпадает, таким образом, для чувства, ощущений и аффектов» (119, с. 135). Фрейд, правда, возражает против такого элементарного утверждения и пытается выяснить, имеет ли смысл такое утверждение, как парадоксальный и бессознательный страх. И дальше он выясняет, что, хотя психоанализ и говорит о бессознательных аффектах, однако эта бессознательность аффекта отличается от бессознательности представления, так как бессознательному аффекту соответствует только зародыш аффекта как возможность, не получившая дальнейшего развития. «Строго говоря… бессознательных аффектов в том смысле, в каком встречаются бессознательные представления, не бывает» (119, с. 136).
Такого же мнения из психологов искусства держится Овсянико-Куликовский, который противопоставляет 248 чувство мысли отчасти потому, что чувство не может быть бессознательным. Он дает решение вопроса, близкое к мнению Джемса и противоположное мнению Рибо, Именно он утверждает, что у нас не существует памяти чувств: «Сперва нужно решить, возможно ли бессознательное чувство, как вполне возможна бессознательная мысль. Мне кажется, отрицательный ответ сам собой напрашивается. Ведь чувство с его неизбежной окраской остается чувством только до тех пор, пока оно ощущается, проявляется в сознании… По моему крайнему разумению, выражение “бессознательное чувство” есть contradictio in adjecto, как черная белизна и т. п., и бессознательной сферы в душе чувствующей нет» (79, с. 23, 24).
Мы, таким образом, наталкиваемся как будто на противоречие: с одной стороны, чувство по необходимости лишено сознательной ясности, с другой стороны, чувство никак не может быть бессознательным. Это противоречие, установленное в эмпирической психологии, кажется нам очень близким к действительности, но его нужно перенести и в объективную психологию и попытаться найти его истинный смысл. Для этого попробуем сперва дать ответ в самых общих словах на то, чем является чувство как нервный процесс, какие объективные свойства мы можем приписать этому процессу.
Многие авторы согласны в том, что с точки зрения нервных механизмов чувство следует отнести к процессам траты, расхода или разряда нервной энергии. Проф. Оршанский указывает на то, что вообще наша психическая энергия может расходоваться в трех видах: «во-первых, на двигательную иннервацию — в форме двигательного представления или воли, что составляет высшую психическую работу. Вторая часть психической энергии расходуется на внутреннее разряжение. Насколько это распространение имеет характер иррадиации или проведения психической волны — это составляет подкладку ассоциации представлений. Насколько же оно влечет за собою дальнейшее освобождение живой психической энергии в других нервных волнах, оно составляет источник чувства. Наконец, в-третьих, часть живой психической энергии превращается путем угнетения в скрытое состояние, в бессознательное… Поэтому энергия, превращаемая уплотнением в скрытое состояние, есть основное условие логической работы. Таким образом, три части психической 249 энергии, или работы, соответствуют трем видам нервной работы; чувство соответствует разряжению, воля — рабочей части энергии, а интеллектуальная часть энергии, особенно абстракция, связана с угнетением или экономией нервной и психической силы… Вместо разряжения в высших психических актах преобладает превращение живой психической энергии в запасную» (82, с. 536 – 537).
С этим взглядом на чувство, как на расход энергии, более или менее согласны авторы самых разных направлений. Так высказывается и Фрейд, говоря, что аффекты и чувства соответствуют процессам израсходования энергии, конечное выражение их воспринимается как ощущение. «Аффективность выражается, по существу, в моторном (секреторном, регулирующем кровеносную систему) оттоке энергии, ведущем к (внутреннему) изменению самого тела без отношения к внешнему миру; моторность выражается в действиях, назначение которых — изменение во внешнем мире» (119, с. 137).
Эту же точку зрения принимали многие психологи искусства, и в частности Овсянико-Куликовский. Несмотря на то, что в своих основных представлениях он исходит из принципа экономии сил как основного принципа эстетики, он должен был сделать исключение для чувства. По его словам, «наша чувствующая душа по справедливости может быть сравниваема с тем возом, о котором говорится: что с воза упало, то пропало. Напротив, душа мыслящая — это такой воз, с которого ничего не может упасть. Вся поклажа там хорошо помещена и скрыта в сфере бессознательного… Если бы чувства, нами переживаемые, сохранились и работали в бессознательной сфере, постоянно переходя в сознание (как это делает мысль), то наша душевная жизнь была бы такой смесью рая и ада, что самая крепкая организация не выдержала бы этого непрерывного сцепления радостей, горестей, обиды, злобы, любви, зависти, ревности, сожалений, угрызений, страхов, надежд и т. д. Нет, чувства, раз пережитые и потухшие, не поступают в сферу бессознательного, и такой сферы нет в душе чувствующей. Чувства, как сознательные по преимуществу процессы психики, скорее тратят, чем сберегают душевную силу. Жизнь чувства — расход души» (79, с. 24 – 26).
250 Для того чтобы подтвердить эту мысль, Овсянико-Куликовский подробно показывает, что в нашей мысли господствует закон памяти, а в нашем чувстве закон забвения, и за основу для своего рассмотрения берет самые яркие и высшие проявления чувства, именно аффекты и страсти… «Что аффекты и страсти представляют собою расходование душевной силы, это не может подлежать сомнению, равно как и то, что если взять всю совокупность аффектов и страстей за известный период времени, то этот расход окажется огромным. Какие статьи в этом расходе могут быть признаны полезными и производительными — это уж другой вопрос; но несомненно, что многие страсти и различные аффекты оказываются настоящим расточительством, душевным мотовством, ведущим к банкротству психики.
Так вот, если будем иметь в виду, с одной стороны, высшие процессы обобщающей мысли, научной и философской, а с другой — самые сильные и яркие аффекты, и страсти, то коренная противоположность и антагонизм двух душ — мыслящей и чувствующей — выступят отчетливо в нашем сознании. И мы убедимся, что в самом деле эти “две души” плохо ладят между собою и что психика человека, из них слагающаяся, есть психика плохо организованная, неустойчивая, исполненная внутренних противоречий» (79, с. 27 – 28).
И в самом деле, это представляет собой основной для психологии искусства вопрос — как должны мы смотреть на чувство, только ли как на трату психической энергии или в экономии психической жизни оно имеет и экономизирующую, сберегающую роль? Я потому называю этот вопрос центральным, важным для психологии чувства, что в зависимости от того или иного решения его находится ответ на другой центральный вопрос психологической эстетики — о принципе экономии сил. Со времен Спенсера у нас принято в основу искусства класть объяснение, исходящее из закона экономии душевных сил62, в котором Спенсер и Авенариус видели чуть ли не универсальный принцип душевной работы. Этот принцип был заимствован искусствоведами, и в русской литературе всех полнее формулировал его Веселовский выдвинув знаменитую формулу, гласящую, что «достоинство стиля состоит именно в том, чтобы составить возможно большее количество мыслей в возможно меньшем 251 количестве слов». Та же точка зрения поддерживается и всей школой Потебни, а Овсянико-Куликовский склонен даже все художественное чувство, в отличие от эстетического, свести к чувству экономии. Формалисты ополчились против такого мнения, указав на целый ряд чрезвычайно убедительных доводов, противоречащих этому принципу. Так, Якубинский показал, что в поэтическом языке отсутствует закон расподобления плавных звуков, другое исследование показало, что поэтический язык характеризуется именно трудно произносимым стечением звуков, что приемом искусства является прием затруднения восприятия, выведение его из привычного автоматизма и что поэтический язык подчиняется правилу Аристотеля, который говорил, что он должен звучать, как чужестранный. Противоречие, которое существует между этим принципом, с одной стороны, и между теорией чувства как расхода душевной энергии — с другой, совершенно очевидно. Оно на деле привело к тому, что Овсянико-Куликовскому, который захотел в своей теории сохранить оба эти закона, пришлось на деле разделить искусство на две совершенно различные области: на искусство образное и на искусство лирическое. Вполне справедливо Овсянико-Куликовский выделяет художественное чувство из прочих общеэстетических чувств, но под этой художественной эмоцией разумеет эмоции мыслей по преимуществу, то есть эмоцию удовольствия, основанного на экономии сил. В противоположность этому он рассматривает лирическую эмоцию как эмоцию интеллектуальную и принципиально отличную от первой. Отличие это состоит в том, что лирика вызывает действительную настоящую эмоцию и, следовательно, должна быть выделена в особую психологическую группу. Но эмоция, как мы помним, есть расход энергии, и потому как же вяжется эта теория лирической эмоции с принципом экономии сил? Овсянико-Куликовский совершенно правильно отделяет лирическую эмоцию от той или иной прикладной эмоции, которую эта лирика вызывает. В отличие от Петражицкого, который полагает, что боевая музыка, например, создана для того, чтобы вызывать в нас боевые эмоции, а церковное пение имело своей задачей вызывать эмоции религиозные, Овсянико-Куликовский указывает, что дело происходит несколько иначе; смешивать те и другие эмоции совершенно невозможно, 252 потому что «если допустим такое смешение, то окажется, что, например, цель многочисленных эротических стихотворений состоит в возбуждении полового чувства, идея и цель “Скупого рыцаря” — доказать, что скупость — порок… и т. д. без конца» (79, с. 191 – 192).
Если мы примем это различение непосредственного эффекта искусства и его вторичного или прикладного эффекта — его действия и последействия, мы должны будем поставить два совершенно разных вопроса об экономии сил: где имеет место, где сказывается эта экономия сил, столь обязательная, по мнению многих, для переживания искусства, — во вторичном или первичном эффекте искусства? Ответ на этот вопрос нам кажется вполне ясным после тех критических и практических исследований, на которых мы уже останавливались. Мы видели, что в первичном и непосредственном эффекте искусства все указывает скорее на затрудненность по сравнению с нехудожественной деятельностью, следовательно, принцип экономии сил если и применим, то, вероятно, по отношению ко вторичному эффекту искусства, к его последствиям, но никак не к самой эстетической реакции на художественное произведение.
В этом смысле разъясняет принцип экономии сил Фрейд, когда он указывает, что эта экономия сил очень далека от того наивного понимания, которое вкладывает в нее Спенсер. Она напоминала бы, по Фрейду, ту мелочную экономию домашней хозяйки, которая, для того, чтобы купить на копейку дешевле овощей к обеду, отправлялась бы для этого на рынок, отстоящий от нее на несколько верст, и тем избежала бы ничтожной затраты. «Мы уже давно ушли от ближайшего, но вместе с тем наивного понимания этой экономии, — говорит Фрейд, — как желания вообще избежать психической затраты, причем экономия получается при наибольшем ограничении в употреблении слов и создании мыслительных связей. Мы тогда уже сказали себе: краткое, лаконическое не есть еще остроумное. Краткость остроумия — это особая, именно “остроумная” краткость… Мы можем, конечно, позволить себе сравнить психическую экономию с предприятием. Пока оборот в нем очень невелик, то, разумеется, на предприятие в целом расходуется мало, расходы на содержание управления крайне ограниченны. Бережливость 253 распространяется еще на абсолютную величину затраты. Впоследствии, когда предприятие расширилось, значение расходов на содержание управления отступило на задний план. Теперь не придают больше значения тому, как велико количество издержек, если только оборот и доходы увеличились в значительной мере. Экономия в расходах была бы мелочной для предприятия и даже прямо убыточной» (120, с. 210 – 211).
Совершенно верно, что нам покажется мелочной та экономия, которую, по мнению Веселовского, совершает поэт, когда в возможно меньшем количестве слов он сообщает нам возможно большее количество мыслей. Можно было бы показать, что дело происходит как раз обратным образом: если пересказать возможно экономичнее и короче, как это делает театральное либретто, содержание какой-нибудь трагедии, мы получим неизмеримо большую экономию в том наивном смысле, о котором говорит Веселовский. Мы увидим, что поэт, наоборот, прибегает к крайне неэкономному расходованию наших сил, когда искусственно затрудняет действие, возбуждает наше любопытство, играет на наших догадках, заставляет раздваиваться наше внимание т. п.
Если мы сравним, скажем, роман Достоевского «Братья Карамазовы» или трагедию «Гамлет» с абсолютно точным прозаическим пересказом их содержания, мы увидим, что неизмеримо больше экономии внимания мы найдем именно в прозаическом пересказе. Для чего в самом интересном месте Достоевский под многоточием скрывает, кто именно убил Федора Карамазова, и почему он заставляет нашу мысль путаться в самых противоположных направлениях, блуждать и не находить правильного выхода, когда неизмеримо экономнее для внимания было бы сразу отчетливо и ясно расположить события так, как это мы делаем в судебном протоколе, в деловой статье, в научном сообщении. Таким образом, принцип экономии сил, в его спенсеровском смысле, оказывается неприложимым к художественной форме, и рассуждения Спенсера оказываются здесь не у места. Спенсер полагает, что это сбережение сил выражается, например, в том, что в английском языке прилагательные предшествуют существительному, и когда мы говорим «черная лошадь», то это гораздо экономнее для внимания, чем если бы мы сказали 254 «лошадь черная», потому что в этом случае у нас непременно возникло бы известное затруднение, какой именно представить себе лошадь, когда мы еще не услышали определения ее цвета. Это наивнейшее с психологической точки зрения рассуждение, может быть, и окажется верным в приложении к прозаическому расположению мыслей63, хотя и там оно скажется в фактах гораздо более серьезных. Что касается искусства, то здесь господствует как раз обратный принцип расхода и траты разряда нервной энергии, и мы знаем, что чем эта трата и разряд оказываются больше, тем потрясение искусством оказывается выше. Если мы припомним тот элементарный факт, что всякое чувство есть расход души, а искусство непременно связано с возбуждением сложной игры чувств, мы сейчас увидим, что искусство нарушает принцип экономии сил в своем ближайшем действии и подчиняется в построении художественной формы как раз обратному принципу. Наша эстетическая реакция прежде всего открывается нам как реакция не сберегающая, но разрушающая нашу нервную энергию, она больше напоминает взрыв.
Однако принцип экономии сил, может быть, и приложим к искусству, но в каком-то совсем другом виде, и для того, чтобы разобраться в нем, необходимо составить себе точное представление о самой природе эстетической реакции. По этому вопросу существует чрезвычайное множество взглядов, которые часто даже трудно привести в какое-нибудь согласие или столкновение друг с другом, потому что каждый исследователь останавливается обычно на каком-нибудь частном вопросе, и мы почти не имеем психологических систем, которые раскрыли бы перед нами эстетическую реакцию или эстетическое поведение во всем его объеме. Обычно теория говорит нам только о той или иной частности этой реакции, и потому бывает трудно установить, насколько выдвинутая теория верна или неверна, поскольку она иной раз решает ту задачу, которая раньше еще не формулировалась в целом виде. Мюллер-Фрейенфельс в своей систематической психологии искусства, заключая теорию эстетической реакции, вполне справедливо замечает, что психологи находятся в данном случае в положении, сходном с биологами, которые также могут хорошо разложить органическую субстанцию 255 на ее химические составные части, но не могут вновь воссоздать это целое из его частей (153, S. 242).
Совершенно верно, что психолог в лучшем случае остается при анализе, не имея абсолютно никакого доступа к синтезу найденных им частей эстетической реакции, и лучшим доказательством этому служит попытка самого автора синтезировать психологию искусства. Он находит сенсорные, моторные, ассоциативные, интеллектуальные, эмоциональные факторы этой реакции, но в какой связи стоят они друг к другу, как из этих отдельных факторов, из которых каждый как таковой может встречаться и вне искусства, воссоздать целостную психологию искусства, об этом автор сказать ничего не может и заключает свое исследование итогами, которые, конечно, представляют шаг вперед по сравнению с «мертвым морем отвлеченных понятий» старой эстетики, как о ней метко сказал Дессуар, но еще не составляют почти ничего для объективной психологии.
Эти итоги могут быть выражены в нескольких словах, и сводятся они к следующему: автор считает твердо установленным, что художественное наслаждение не есть чистая рецепция, но требует высочайшей деятельности психики. Переживания искусства не воспринимаются душой, как куча зерен — мешком, скорее они требуют такого прорастания, какого требует семя на плодородной почве, и исследование психолога здесь способно только вскрыть те вспомогательные средства, которые для такого прорастания нужны, наподобие того, как прорастание семени требует теплоты, влажности, некоторых химических примесей и т. п. (153, S. 248). Самое же прорастание остается психологу столь же неизвестным после исследования, как и до него.
Наша попытка в том именно и заключается, чтобы, оставив в стороне систематический анализ и исчерпывающую полноту составных частей эстетической реакции, указать на самое основное и центральное в ней; говоря словами Мюллера, изучить самое прорастание, а не условия, ему способствующие. Если обратиться к таким синтетическим теориям эстетического чувства, то мы можем сгруппировать все, до сих пор высказанное по этому поводу, вокруг двух основных типов решения этой проблемы: первое из них высказывалось уже давно и доведено до окончательной ясности и исключительного 256 мещанства в теории Христиансена. Его концепция художественного чувства чрезвычайно проста и ясна: всякое решительное воздействие внешнего мира имеет свое особое чувственно-нравственное действие, по выражению Гете, впечатление, настроение или эмоциональное впечатление, дифференциал настроения, который прежними психологами очень просто и очень ясно обозначался, как чувственный тон ощущения. Так, например, голубой цвет нас успокаивает, желтый, наоборот, возбуждает. В основе искусства, по мнению Христиансена, и лежат эти дифференциалы настроения, и всю эстетическую реакцию, согласно этому взгляду, можно изобразить следующим образом: объект искусства, или эстетический объект, состоит из разных частей, в него входят впечатления материала, предмета, формы, которые сами по себе совершенно различны, но имеют то между собой общее, что каждому элементу соответствует известный эмоциональный тон и «материал предмета и форма входят в эстетический объект не прямо, а в виде привносимых ими эмоциональных элементов» (124, с. 111), которые и могут сливаться воедино и в последовательном слиянии — или, вернее сказать, срастании — составляют то, что называется эстетическим объектом. Эстетическая реакция, таким образом, очень напоминает игру на рояле: каждый элемент, входящий в состав произведения искусства, ударяет как бы на соответственный чувственный клавиш нашего организма, в ответ раздается чувственный тон или звук, и вся эстетическая реакция есть эти встающие в ответ на удары по клавишам эмоциональные впечатления.
Таким образом, оказывается, что ни один элемент в произведении искусства сам по себе не важен. Это только клавиша. Важна та эмоциональная реакция, которую он в нас пробуждает. Такая довольно механическая концепция, конечно, оказывается в корне бессильной разрешить вопрос о художественной реакции хотя бы по одному тому, что эмоциональная тайна всякого впечатления оказывается чрезвычайно слабой по сравнению с теми очень сильными аффектами, которые несомненно входят в состав эстетической реакции. Кроме и помимо эмоционального впечатления от существующих порознь элементов искусства в эстетической реакции можно различить с несомненностью совершенно определенного 257 порядка эмоциональные переживания, которые никак не могут быть отнесены к этим дифференциалам настроения. Правда, сам Христиансен просит различать его теорию и банальную теорию, сводящую искусство к настроению, но это различение, так сказать, в степени или в градусе, количественное, а не качественное различие, и в результате мы все же получаем концепцию искусства как настроения, возникающего из отдельных дифференциалов, и никак не можем понять, какая же существует связь между переживанием искусства и между всем течением нашей ежедневной жизни и почему искусство оказывается таким важным, близким и существенным для каждого из нас. Сам Христиансен вынужден вступить в противоречие с собственной теорией, как только он хочет определить искусство как видимость влечения и важнейшей жизненной деятельности. Его психологическая теория сейчас же оказывается не в состоянии объяснить, каким образом через эмоциональный тон элементов искусство может дойти до осуществления — хотя бы видимого — самых важных влечений нашей психики. При таком психологическом понимании искусство все время остается на чрезвычайно мелкой глубине, почти на поверхности нашей психики, потому что чувственный тон есть нечто неотделимое от самого ощущения, и хотя эта теория везде противопоставляет себя сенсуализму и указывает, что радость искусства совершается не в глазу и не в ухе, она все же не может указать достаточно точно того места, где эта радость совершается, и помещает ее чуть-чуть глубже глаза и уха и связывает ее с деятельностью, неотъемлемой от деятельности наших воспринимающих органов.
Гораздо сильнее и глубже поэтому оказывается другая теория, как раз противоположная, которая известна в психологической литературе под именем теории вчувствования.
Эта теория, ведущая свое начало от Гердера и нашедшая свое высшее развитие в работах Липпса, исходит из как раз противоположной концепции чувства. Согласно этой теории чувства не пробуждаются в нас произведением искусства, как звуки клавишами на рояле, каждый элемент искусства не вносит в нас своего эмоционального тона, а дело происходит как раз наоборот. Мы изнутри себя вносим в произведение искусства, вчувствуем в него те или иные чувства, которые подымаются из самой глубины 258 нашего существа и которые, конечно же, не лежат на поверхности у самых наших рецепторов, а связаны с самой сложной деятельностью нашего организма. «Такова природа нашей души, — говорит Фишер, — что она всецело вкладывается в явления внешней природы или в формы, созданные человеком, приписывает этим явлениям, у которых нет ничего общего с каким-либо выражением, известные настроения, с помощью непроизвольного и бессознательного акта переходят со своим настроением в предмет. Это ссуда, это вкладывание, это вчувствование души в неодушевленные формы и есть то, о чем главным образом идет речь в эстетике».
Так же точно разъясняет дело и Липпс, который развил блестящую теорию вчувствования в линейные и пространственные формы. Он прекрасно показал, как мы подымаемся вместе с высокой линией и падаем вместе с опускающейся вниз, как мы сгибаемся вместе с кругом и чувствуем опору вместе с лежащим прямоугольником. Если отбросить чисто метафизические построения и принципы, которые Липпс привносит часто в свою теорию, и остаться только при тех эмпирических фактах, которые он вскрыл, можно сказать, что эта теория является несомненно очень плодотворной и в некоторой части непременно войдет в состав будущей объективной психологической теории эстетики. Вчувствование и есть с объективной точки зрения реакция, ответ на раздражение, и Липпс, когда утверждает, что мы вносим свои реакции в объект искусства, гораздо более прав, чем Христиансен, который полагал, что эстетический объект вносит в нас свои эмоциональные качества. Однако эта теория страдает не меньшими недостатками, чем предыдущая. Основным ее пороком является то, что она, в сущности говоря, не дает критерия для различения эстетической реакции я всякого вообще восприятия, не имеющего отношения к искусству. Прав Мейман, когда говорит, «что вчувствования представляют собой общую, никогда не отсутствующую составную часть всех наших чувственных восприятий и поэтому не могут иметь никакого специфически эстетического значения…» (72, с. 149).
Так же убедительны его два других возражения, именно то, что вчувствование, например, пробуждаемое вольными стихами Фауста, иногда выступает на первый план, иногда же совершенно заслоняется впечатлением, 259 исходящим от содержания, и что оно в целом в восприятии Фауста является подчиненным элементом эстетической реакции, а не ее ядром. Точно так же справедливо и то замечание, что если мы перейдем к сложным художественным произведениям, к роману, архитектурной постройке и т. д., мы увидим, что их главное воздействие основывается на иных процессах, очень сложных, на том, что мы воспринимаем связь целого, производим сложную интеллектуальную работу и т. д.
Для критики обеих теорий чрезвычайно полезно иметь в виду то разделение аффектов, которое принимает Мюллер-Фрейенфельс. По его мнению, художественное произведение вызывает в нас двоякого рода аффекты. Если я переживаю вместе с Отелло его боль, ревность и муки или ужас Макбета при взгляде на духа Банко — это будет соаффект; если же я переживаю страх за Дездемону, когда она еще не догадывается о том, что ей грозит опасность, это будет собственный аффект зрителя, который следует отличать от соаффекта (153, S. 207 – 208).
Совершенно ясно, что в то время как теория Христиансена поясняет нам только собственные аффекты зрителя и не принимает во внимание соаффектов, потому что ни один психолог не назовет соаффект ужаса Макбета и мук Отелло эмоциональным тоном этих образов — их эмоциональный тон совершенно другой, и, следовательно, эта теория оставляет без всякого внимания все соаффекты; напротив того, теория Липпса объясняет исключительно соаффекты, она может помочь нам понять, как мы путем симпатического вчувствования переживаем с Отелло или с Макбетом их страсти, но каким путем мы переживаем страх за Дездемону, которая еще беспечна и ни о чем не подозревает, — этого теория вчувствования не в состоянии нам пояснять. Мюллер-Фрейенфельс нам говорит: так часто упоминаемая теперь теория вчувствования не годится для объяснения этих различных родов аффектов. Самое большее — ее можно применить к соаффектам, для собственных аффектов она оказывается негодной. Только частично мы переживаем в театре чувства и аффекты таковыми, как они даны у действующих лиц, большей частью мы переживаем их не с, но по поводу чувств действующих лиц. Так, например, сострадание несправедливо называется этим именем, это только в очень 260 редких случаях страдание вместе с кем-нибудь другим, гораздо чаще это есть страдание по поводу страдания другого (153, S. 208 – 209). И эти замечания совершенно оправдываются на той теории трагического впечатления, которую развивает Липпс. Он применяет для этого объяснения введенный им закон психической запруды, гласящий, что «если психическое событие, например, связь представлений, задерживается в своем естественном течении, то психическое движение образует запруду», то есть оно останавливается и повышается именно на том месте, где есть налицо задержка, помеха, перерыв. Так, благодаря трагическим задержкам повышается ценность страдающего героя, а благодаря вчувствованию — и наша собственная ценность. «При виде душевного страдания, — говорит Липпс, — повышается не что иное, как именно это объективированное чувство самоценности; я в повышенной степени чувствую себя и свою человеческую ценность в другом, я чувствую и в повышенной степени переживаю, что значит быть человеком… И средством к этому является страдание…». Таким образом, все понимание трагического исходит из соаффекта, а собственный аффект трагедии остается при этом совершенно неразъясненным.
Таким образом, мы видим, что ни одна из двух существующих теорий эстетического чувства не в состоянии объяснить нам той внутренней связи, которая существует между чувством и предстоящими нашему восприятию объектами; для этого нам надо опереться на такие психологические системы, которые в основу объяснения кладут именно связь фантазии и чувства. Я имею в виду тот последний пересмотр вопроса о фантазии, который совершен Мейнонгом и его школой, Целлером, Майером и другими психологами в последние десятилетия.
Новый взгляд, если не останавливаться на частностях, может быть представлен приблизительно в следующем виде. Психологи исходят в своих исследованиях из той несомненной связи, которая существует между эмоциями и фантазией. Как показали эти исследования, всякая наша эмоция имеет не только телесное выражение, но и выражение душевное, как говорят психологи этой школы, иначе говоря, всякое чувство «воплощается, фиксируется в какой-либо идее, как это лучше 261 всего видно при бреде преследования», — говорит Рибо. Эмоция выражается, следовательно, не столько в мимических, пантомимических, секреторных, соматических реакциях нашего организма, но она нуждается в известном выражении посредством нашей фантазии. Так называемые беспредметные эмоции служат лучшим доказательством этого. Патологические случаи фобий — навязчивого страха и т. п. — непременно связываются с определенными представлениями, в большей части абсолютно ложными и искажающими действительность, и находят таким образом свое «душевное» выражение. Так, больной, страдающий навязчивым страхом, в сущности говоря, болен чувством, у него беспричинный страх, и уже потому его фантазия подсказывает ему, что все за ним гонятся и его преследуют. И мы у такого больного находим как раз обратную последовательность событий, чем у нормального человека. Там — сперва преследование, затем страх, здесь — сперва страх, а затем вымышленное преследование. Это явление очень хорошо формулировал проф. Зеньковский, назвав его законом двойного выражения чувств. Под этим законом подписались бы почти все современные психологи, если разуметь под ним тот факт, что всякая эмоция обслуживается воображением и сказывается в целом ряде фантастических представлений и образов, которые служат как бы вторым выражением. С большим правом мы могли бы сказать, что эмоция помимо ее периферического имеет еще и центральное действие и что речь в данном случае должна идти именно об этом последнем. На этом основано исследование Мейнонга. Мейнонг предлагает различать суждения и допущения по признаку того, существует ли у нас убеждение в правильности этого акта. Если мы ложно принимаем встречного человека за знакомого, не зная своей ошибки, тогда это суждение, если же мы, зная, что это не наш знакомый, все же поддаемся ложному пониманию и глядим на встречного, как на знакомого, то здесь имеет место допущение. Допущение, по мнению Мейнонга, лежит в основе детской игры и эстетической иллюзии и является источником тех «чувств и фантазий», которые сопровождают обе эти деятельности. Эти призрачные чувства некоторые авторы, например Витасек, понимают так же, как и реальные чувства. «Быть может, — говорит он, — находимые в опыте различия 262 между действительными и воображаемыми чувствами могут быть сведены исключительно на то, что предпосылкой первых служат суждения, а вторых — допущения». Мысль эту можно было бы назвать законом реальности чувств, и смысл итого закона можно было бы формулировать приблизительно следующим образом: если я принимаю висящее ночью в комнате пальто за человека, то мое заблуждение совершенно очевидно, потому что переживание мое ложно и ему не соответствует никакое реальное содержание. Но чувство страха, которое, я испытываю при этом, оказывается совершенно реальным. Таким образом, все фантастические и нереальные наши переживания, в сущности, протекают на совершенно реальной эмоциональной основе. Таким образом, мы видим, что чувство и фантазия являются не двумя друг от друга отделенными процессами, но, в сущности, одним и тем же процессом, и мы вправе смотреть на фантазию, как на центральное выражение эмоциональной реакции. Отсюда можно сделать чрезвычайно важный для нашей теории вывод. Уже в прежней психологии поднимался вопрос о том, в каком отношении стоят друг к другу центральное и периферическое выражение эмоций, и под влиянием деятельности фантазии усиливается или, наоборот, ослабевает внешнее выражение чувств. Вундт и Леман давали противоположные ответы на этот вопрос; Майер полагает, что оба ответа могут быть правильны. И вполне очевидно, что здесь могут быть два случая — один, когда образы фантазии или представления являются внутренними раздражителями для нашей новой реакции, тогда они несомненно усиливают основную реакцию. Так, яркое представление усиливает наше любовное возбуждение, но очевидно, что в этом случае фантазия не является выражением той эмоции, которую она усиливает, а является разрядом предшествующей эмоции. Там же, где эмоция находит свое разрешение в образах фантазии, там, конечно, это фантазирование ослабляет реальное проявление эмоции, и если мы изжили наш гнев в нашей фантазии, он в наружном проявлении скажется чрезвычайно слабо. Нам думается, что в применении к эмоциональной реакции сохраняют свое значение те общие психологические законы, которые установлены применительно ко всякой простой сенсомоторной реакции. 263 Если мы примем во внимание с несомненностью установленный факт — что всякая наша реакция замедляется в своем течении и теряет в своей интенсивности, как только усложняется входящий в ее состав центральный момент, — мы сейчас обнаруживаем некоторое сходство с рассматриваемым нами положением. Мы увидим, что и здесь с усилением фантазии как центрального момента эмоциональной реакции ее периферическая сторона задерживается во времени и ослабевает в интенсивности. Установленный школой Вундта в отношении времени и исследованиями проф. Корнилова в отношении динамики реакции — этот закон кажется нам применимым и здесь. Этот закон однополюсной траты энергии можно выразить так: нервная энергия имеет тенденцию к тому, чтобы растрачиваться на одном полюсе — или в центре или на периферии; всякое усиление энергетической траты на одном полюсе немедленно же влечет за собой ослабление ее на другом. Это же самое в разрозненном виде открывают и отдельные исследования эмоции, и то новое, что мы хотим внести в понимание этого вопроса, сводится исключительно к собиранию этих разрозненных мыслей воедино и к подведению их под общий закон нашей реакции. По мнению Гроса, как при игре, так и при эстетической деятельности речь идет о задержке, но не о подавлении реакции. «По моему все более крепнущему убеждению эмоции в собственном смысле слова находятся в тесной связи с физическими ощущениями. Внутриорганические состояния, представляющие собой основу душевных движений, вероятно, так же задерживаются до известной степени тенденцией к продолжаемости исходного представления, как у играющего в борьбу ребенка задерживается движение руки, готовой нанести удар» (42, с. 184 – 185).
Эту задержку и ослабление внутриорганических и внешних проявлений эмоций и следует, мне кажется, рассматривать как частный случай действия общего закона однополюсной траты энергии при эмоциях, сущность которого сводится к тому, что при эмоция трата энергии совершается преимущественно на одном из двух полюсов — или на периферии или в центре — и усиление деятельности на одном полюсе ведет немедленно же к ослаблению его на другом.
264 Мне думается, что только с этой точки зрения можно рассматривать и искусство, которое как будто пробуждает в нас чрезвычайно сильные чувства, но чувства эти вместе с тем ни в чем не выражаются. Это загадочное отличие художественного чувства от обычного, мне кажется, следует понимать таким образом, что это есть то же самое чувство, но разрешаемое чрезвычайно усиленной деятельностью фантазии. Таким образом, мы обретаем единство между теми разрозненными элементами, из которых складывается всякая художественная реакция. С одной стороны — созерцание, с другой — чувство никогда еще психологами не приводились во взаимную связь, никогда еще не было указано места и значения каждого элемента в составе художественного переживания, и самый последовательный из авторов, Мюллер-Фрейенфельс, предложил разрешать вопрос таким образом, что существует два типа искусства и два типа зрителей. Для одних преобладающее значение имеет созерцание, других — чувство, и наоборот.
Что это действительно так и что высказываемое нами предположение, весьма вероятно, вытекает из того, что психологи до сих пор не могли указать разницы, которая существует между чувством в искусстве и реальным чувством. Мюллер-Фрейенфельс сводит всю разницу к чисто количественным изменениям и говорит: «… эстетические аффекты суть парциальные, то есть не стремящиеся к переходу в действие аффекты, которые, однако, несмотря на это, могут достигнуть самой высокой степени интенсивности чувств» (153, S. 210). Это вполне совпадает с тем, что нами сказано только что. Сюда же близко подходит и то учение психологов об изоляции как необходимом условии эстетического переживания, на которое указывали Мюнстерберг, Гаман и другие. Эта изоляция, в сущности говоря, означает не что иное, как отделение эстетического раздражителя от всех прочих раздражителей, и оно, конечно, совершенно необходимо только потому, что оно гарантирует чисто центральное разрешение возбуждаемых искусством аффектов и обеспечивает то, что эти аффекты не скажутся ни в каком наружном действии. Геннекен видит то же различие между реальным и художественным чувством именно в том факте, что эмоции сами по себе не приводят непосредственно ни к каким действиям. «Всякое 265 литературное произведение, — говорит он, — имеет целью вызвать определенные, но не способные непосредственно выразиться действием эмоции…» (33, с. 15).
Таким образом, именно задержка наружного проявления является отличительным симптомом художественной эмоции при сохранении ее необычайной силы. Мы могли бы показать, что искусство есть центральная эмоция или эмоция, разрешающаяся преимущественно в коре головного мозга. Эмоции искусства суть умные эмоции. Вместо того чтобы проявиться в сжимании кулаков и в дрожи, они разрешаются преимущественно в образах фантазии. Дидро совершенно прав, когда говорит, что актер плачет настоящими слезами, но слезы его текут из мозга, и этим он выражает самую сущность художественной реакции как таковой. Однако с нахождением этого проблема остается еще далеко не решенной, потому что подобное же центральное разрешение мы можем представить себе и под протеканием обыкновенного чувства. Следовательно, в одном найденном признаке мы не можем видеть специфического отличия эстетической эмоции.
Пойдем дальше. Мы легко натолкнемся на обычное утверждение психологов, что существуют смешанные чувствования, и хотя некоторые авторы, как, например, Титченер, склонны отрицать существование таких смешанных эмоций, однако исследователи искусства указывают всегда на то, что искусство имеет дело именно со смешанными чувствами, эмоция вообще имеет некоторый общеорганический характер, недаром многие исследователи видели в ней внутриорганическую реакцию, в которой выражается как бы согласие или несогласие нашего организма с реакцией отправления отдельного органа. В эмоции как бы проявляется настоящая солидарность нашего организма. Очень хорошо это выражает Титченер, когда говорит: «Когда Отелло суров с Дездемоной, она извиняет его тем, что он расстроен государственными делами». «Если обжечь себе палец, — говорит она, — то это чувство боли передается и другим нашим здоровым членам» (103, с. 198). Здесь эмоция открывается именно как общеорганическая реакция и как отзыв всего организма на события, происходящие в отдельном органе. И отсюда понятно, что при таком общеорганическом характере эмоции искусство, 266 которое не отталкивает, но привлекает нас к себе и все же заключает неприятное чувство, должно непременно иметь дело со смешанными чувствами. Мюллер-Фрейенфельс приводит в подтверждение этого мнение Сократа, переданное Платоном, о том, что задачей одного и того же человека должно быть писать комедии и трагедии (154, S. 203), настолько противоположность чувств кажется ему необходимо присущей эстетическому впечатлению64. В своем анализе трагического чувства он прямо указывает на двойственность как на его основу и показывает, что трагическое есть невозможная проблема, если ставить ее объективно, без психологического обоснования, именно потому, что основой трагического является двойственность подавленности и возбуждения (154, S. 227). Несмотря на угнетающий характер трагического впечатления, «в своем целом трагическое впечатление представляет один из самых высоких подъемов, на которые способна человеческая природа, потому что через духовное преодоление глубочайшей боли возникает чувство триумфа, не имеющее себе равного» (154, S. 229).
На двойственность трагического впечатления указывает и Шильдер, как на основу этого переживания (160, S. 320). Да и нет, пожалуй, ни одного автора, который бы обошел молчанием тот факт, что в трагедии мы имеем всегда дело с нарастанием противоположных чувств. Плеханов приводит мнение Дарвина относительно начала антитезы в наших выразительных движениях и пытается применить это к искусству. Дарвин говорит: «Некоторые душевные настроения вызывают… известные привычные движения, которые при первом своем появлении даже и теперь принадлежат к числу полезных действий; и мы увидим, что при совершенно противоположном умственном настроении существует сильное и непроизвольное стремление к выполнению движений совершенно противоположного свойства, хотя эти последние никогда не могли приносить никакой пользы» (44, с. 26 – 27). «Это, по-видимому, заключается в том, что всякое движение, произвольно совершаемое нами в течение всей нашей жизни, всегда требовало действия известных мышц; а совершая какое-нибудь прямо противоположное движение, мы приводили в действие противоположный ряд мышц, как, например, 267 при повороте направо и налево, при отталкивании или притягивании какого-нибудь предмета, при поднимании или опускании тяжести… Так как выполнение противоположных движений под противоположными импульсами стало привычным в нас и в низших животных, то, когда действия одного рода тесно ассоциировались с какими-нибудь ощущениями или чувствованиями, совершенно естественно предположить, что действия совершенно противоположного свойства станут совершаться непроизвольно, вследствие привычной ассоциации, под влиянием прямо противоположных ощущений или чувствований» (44, с. 26 – 27).
Этот замечательный, открытый Дарвином, закон находит себе несомненное применение в искусстве, и для нас, вероятно, не составит теперь загадки то обстоятельство, что трагедия, которая возбуждает в нас сразу аффекты противоположного свойства, действует, видимо, согласно началу антитезы и посылает противоположные импульсы к противоположным группам мускулов. Она заставляет нас как бы одновременно поднимать и опускать тяжесть, она одновременно возбуждает и мускулы и их антагонистов. Именно поэтому во вторую очередь объясняется задержка во внешнем проявлении аффектов, которую мы имеем в искусстве. И именно в этом, кажется нам, заключается специфическое отличие эстетической реакции.
Мы видели из всех предыдущих исследований, что всякое художественное произведение — басня, новелла, трагедия — заключает в себе непременно аффективное противоречие, вызывает взаимно противоположные ряды чувств и приводит к их короткому замыканию и уничтожению. Это и можно назвать истинным эффектом художественного произведения, и мы при этом подходим совершенно вплотную к тому понятию катарсиса65, которое Аристотель положил в основу объяснения трагедии и упоминал неоднократно по поводу других искусств. В «Поэтике» он говорит, что «трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем, при помощи речи, в каждой из своих частей различно украшенной, посредством действия, а не рассказа, совершающее, благодаря состраданию и страху, очищение подобных аффектов» (8, с. 56).
Какое бы мы толкование ни давали этому загадочному 268 слову «катарсис», мы все равно не можем быть уверены в том, что именно это содержание вкладывал в него Аристотель, но для наших целей это и не важно. Будем ли мы вместе с Лессингом понимать под катарсисом моральное действие трагедии, «превращение» страстей в добродетельные наклонности, или с Эд. Мюллером увидим в нем переход от неудовольствия к удовольствию, примем толкование Бернайса, что слово это означает исцеление и очищение в медицинском смысле, или мнение Целлера, что катарсис есть успокоение аффекта, — все равно это выразит самым несовершенным образом то значение, которое мы хотим придать здесь этому слову. Но, несмотря на неопределенность его содержания и несмотря на явный отказ от попытки уяснить себе его значение в аристотелевском тексте, мы все же полагаем, что никакой другой термин из употреблявшихся до сих пор в психологии не выражает с такой полнотой и ясностью того центрального для эстетической реакции факта, что мучительные и неприятные аффекты подвергаются некоторому разряду, уничтожению, превращению в противоположные и что эстетическая реакция как таковая в сущности сводится к такому катарсису, то есть к сложному превращению чувств. Мы очень мало знаем сейчас достоверного о самом процессе катарсиса, но мы все же знаем о нем самое существенное, именно то, что разряд нервной энергии, который составляет сущность всякого чувства, при этом процессе совершается в противоположном направлении, чем это имеет место обычно, и что искусство, таким образом, становится сильнейшим средством для наиболее целесообразных и важных разрядов нервной энергии. Основу этого процесса мы видим в той противоречивости, которая заложена в структуре всякого художественного произведения. Мы уже приводили указания Овсянико-Куликовского на то, что сцена прощания Гектора возбуждает в нас, в сущности говоря, эмоции совершенно различного порядка. С одной стороны, это прощание вызывает в нас те чувства, которые оно вызвало бы, если бы было изложено Писемским, и это, по мнению автора, есть совсем не лирическая эмоция, но к этому присоединяется другая эмоция, возбуждаемая действием гекзаметров, и именно эта вторая эмоция и есть лирическая по существу. Мы можем поставить 269 вопрос гораздо шире и говорить не только о лирической эмоции, но во всяком художественном произведении различать эмоции, вызываемые материалом, и эмоции, вызываемые формой, и спросить, в каком отношении эти два ряда эмоций находятся друг с другом. Мы уже заранее знаем ответ на этот вопрос. Он подготовлен всеми предыдущими рассуждениями, мы едва ли ошибемся, если скажем, что они находятся в постоянном антагонизме, что они направлены в противоположные стороны и что от басни и до трагедии закон эстетической реакции один: она заключает в себе аффект, развивающийся, в двух противоположных направлениям, который в завершительной точке, как бы в коротком замыкании, находит свое уничтожение.
Вот этот процесс мы и хотели бы определить словом катарсис. Мы могли бы показать то, что художник всегда формой преодолевает свое содержание, и мы нашли для этого блестящее подтверждение и в строении басни и в строении трагедии. Стоит только рассмотреть психологическое действие отдельных формальных элементов, и мы сейчас увидим, что они как бы нарочно приспособлены для того, чтобы отвечать этой задаче. Так, например, Вундт с достаточной ясностью показал, что ритм сам по себе выражает только «временной способ выражения чувств» и что отдельная ритмическая форма является изображением течения чувств, но так как временной способ протекания чувств составляет часть самого аффекта, то изображение этого способа в ритме вызывает и самый аффект. «Итак, — формулирует Вундт, — эстетическое значение ритма сводится к тому, что он вызывает те аффекты, течение которых он изображает, или, другими словами: каждый раз ритм вызывает тот аффект, составной частью которого он является в силу психологических законов эмоционального процесса» (29, с. 209).
Мы видим, таким образом, что ритм сам по себе как один из формальных элементов способен вызвать изображаемые им аффекты. Стоит нам только предположить, что поэт изберет ритм, эффект которого будет противоположен эффекту самого содержания, и мы получим то, о чем идет все время речь. Вот Бунин в ритме холодного спокойствия рассказал об убийстве, о выстреле, о страсти. Его ритм вызывает совершенно противоположный 270 эффект тому, который вызывается предметом его повести. В результате эстетическая реакция сводится к катарсису, мы испытываем сложный разряд чувств, их взаимное превращение, и вместо мучительных переживаний, вызываемых содержанием повести, мы имеем налицо высокое и просветляющее ощущение легкого дыхания. Так же обстоит дело и в басне и трагедии. Мы этим вовсе не хотим сказать, что ритм непременно несет функцию такого катартического просветления чувства, мы только хотели на примере ритма показать, что это просветление может совершаться, и несомненно, что именно такая противоположность чувства существует и в том случае, о котором говорит Овсянико-Куликовский. Гекзаметры, если они нужны только на что-нибудь и если Гомер чем-нибудь выше Писемского, несомненно просветляют и катартически очищают ту эмоцию, которая вызывается содержанием сцены. Найденная нами противоположность в строении художественной формы и содержания и есть основа катартического действия эстетической реакции. Это прекрасно выражено в словах Шиллера о действии трагической формы: «Итак, настоящая тайна искусства мастера заключается в том, чтобы формою уничтожить содержание; и тем больше торжество искусства, отодвигающего содержание и господствующего над ним, чем величественнее, притязательнее и соблазнительнее содержание само по себе, чем более оно со своим действием выдвигается на первый план, или же чем более зритель склонен поддаться содержанию» (128, с. 326).
Здесь в форме эстетического закона выражено то верное наблюдение, что всякое произведение искусства таит внутренний разлад между содержанием и формой и что именно формой достигает художник того эффекта, что содержание уничтожается, как бы погашается.
Теперь мы можем подвести итоги нашим рассуждениям и обратиться к составлению окончательных формул. Мы могли бы сказать, что основой эстетической реакции являются вызываемые искусством аффекты, переживаемые нами со всей реальностью и силой, но находящие себе разряд в той деятельности фантазии, которой требует от нас всякий раз восприятие искусства. Благодаря этому центральному разряду чрезвычайно задерживается и подавляется внешняя моторная сторона 271 аффекта, и нам начинает казаться, что мы переживаем только призрачные чувства. На этом единстве чувства и фантазии и основано всякое искусство. Ближайшей его особенностью является то, что оно, вызывая в нас противоположно направленные аффекты, задерживает только благодаря началу антитезы моторное выражение эмоций и, сталкивая противоположные импульсы, уничтожает аффекты содержания, аффекты формы, приводя к взрыву, к разряду нервной энергии.
В этом превращении аффектов, в их самосгорании, во взрывной реакции, приводящей к разряду тех эмоций, которые тут же были вызваны, и заключается катарсисэстетической реакции.
Глава X
Психология искусства
Проверка формулы. Психология стиха. Лирика, эпос. Герои и действующие лица.
Драма. Комическое и трагическое. Театр. Живопись, графика, скульптура,
архитектура.
Мы уже указали выше на противоречие как на самое основное свойство художественной формы и материала и, как итог нашего исследования, нашли, что самой центральной и определяющей частью эстетической реакции является преобладание того аффективного противоречия, которое мы условно назвали не имеющим определенного значения словом катарсис.
Было бы, конечно, чрезвычайно важно показать дальше, как этот катарсис осуществляется в разных искусствах, каковы ближайшие его черты, какие вспомогательные процессы и механизмы принимают в нем участие; однако раскрытие содержания этой формулы искусства как катарсиса мы оставляем за пределами этой работы, так как это должно составить предмет целого ряда дальнейших исследований, специальных для каждой области искусства. Для нас важно было остановить 272 внимание именно на центральной точке эстетической реакции, указать ее психологическую центральную тяжесть, которая послужила бы основным объяснительным принципом при всех дальнейших исследованиях. Единственное, что нам остается сейчас сделать, это возможно бегло проверить емкость найденной нами формулы, установить тот круг явлений, который она охватывает и объясняет. Строго говоря, и эта проверка емкости найденной нами формулы, как и нахождение всех поправок, которые естественно вытекают из такой проверки, есть тоже дело многочисленных и отдельных исследовании. Однако мы попытаемся в беглом обзоре посмотреть, насколько выдерживает эта формула «пробу на факты». Естественно, что нам придется остановиться только на отдельных, случайных явлениях и мы заранее должны отказаться от мысли провести систематическую проверку фактами нашей формулы. Для этого возьмем несколько типичных примеров из области каждого искусства и посмотрим, насколько найденная нами формула находит себе оправдание в действительности. Для начала остановимся на роли поэзии.
Если обратиться к исследованиям стиха как эстетического факта, которые произведены не психологами, а искусствоведами, можно сейчас же заметить разительное сходство в выводах, к которым приходят, с одной стороны, искусствоведы, а с другой стороны — психологи. Два ряда фактов — психических и эстетических — обнаруживают удивительное соответствие, и в этом соответствии мы видим подтверждение и определение установленной нами формулы. Таково в новой поэтике понятие ритма. Мы уже давно оставили позади себя те времена наивного толкования ритма, когда ритм понимался как простой метр, то есть простой размер, и уже исследования Андрея Белого в России, Сарана за границей показали, что ритм есть сложный художественный факт, который всецело соответствует тому противоречию, которое нами выдвигается как основа художественной реакции. Русская тоническая система стиха основана на правильном чередовании ударных и неударных слогов, и если мы называем размер четырехстопным ямбом66, то это означает, что в этом стихе должно быть четыре ударных слога, стоящих через один неударный, на втором месте в стопе. Совершенно ясно, что четырехстопный 273 ямб почти никогда не осуществим на деле, потому что для его осуществления потребовалось бы составить стих из четырех двухсложных слов, так как каждое слово имеет в русском языке только одно ударение. На деле мы имеем совершенно иное. В стихах, написанных этим размером, мы встречаем и три, и пять, и шесть слов, то есть больше и меньше ударений, чем это требуется размером. Школьная теория словесности учила, что это расхождение требовании размера с реальным количеством ударений в стихе покрывается тем, что мы якобы скрадываем лишние ударения и, наоборот, добавляем от себя искусственные новые ударения и таким образом подгоняем наше произношение под стихотворную схему. Такое школьное чтение свойственно детям, которые особенно легко поддаются этой схеме и читают, искусственно разрубая стих на стопы: «Прибе-жали в избу дети…» На деле это оказывается совершенно не так. Наше произношение сохраняет естественное ударение слов, и в результате стих отступает от метрической схемы чрезвычайно часто, и Белый называет ритмом именно эту совокупность отступлений от метрической схемы. По его мнению, ритм есть не соблюдение размера, а отступление от него, нарушение его, и это очень легко пояснить простым соображением: если бы ритм стиха действительно сводился к сохранению правильного чередования простого такта, совершенно ясно, что тогда, во-первых, все стихи, написанные одним размером, были бы совершенно тождественны, во-вторых, никакого эмоционального действия такой такт, в лучшем случае напоминающий трещотку или барабан, не мог бы иметь. Так же обстоит дело с тактом в музыке, ритм которой, конечно, не заключается в том такте, который можно отбивать ногой, а в том реальном заполнении этих равных тактовых промежутков неравными и неодинаковыми звуками, которое создает впечатление сложного ритмического движения. Эти отступления проявляют известную правильность, вступают в известное сочетание, и вот их систему Белый кладет в основу понятия ритма (см. 15). Исследования Белого в самом существенном подтвердились, и сейчас в любом учебнике метрики мы найдем точное разграничение двух понятий — размера и ритма67. Необходимость такого разграничения проистекает из того, что слова речи сопротивляются 274 размеру, который хочет их уложить в стих. «… С помощью слов, — говорит Жирмунский, — создать художественное произведение, в звуковом отношении до конца подчиненное законам музыкальной композиции, не исказив при этом природу словесного материала, так же невозможно, как из человеческого тела сделать орнамент, сохранив всю полноту его предметного значения. Итак — чистого ритма в поэзии не существует, как не существует в живописи чистой симметрии. Существует ритм как взаимодействие естественных свойств речевого материала и композиционного закона чередования, осуществляющегося не в полной мере благодаря сопротивлению материала» (51, с. 16 – 17).
Дело происходит, следовательно, так: мы воспринимаем естественное количество ударений в словах, вместе с тем мы воспринимаем тот закон, ту норму, к которым этот стих стремится, но которых он никогда не достигает. И вот это ощущение борьбы размера со словами, разлада, расхождения, отступления, противоречия между ними и составляет основу ритма. Как видите — совершенно совпадающее по структуре явление с теми анализами, которые мы приводили выше. Мы находим все три части эстетической реакции, о которых мы говорили выше, — два противоречивых аффекта и завершающий их катарсис в трех моментах, которые метрика устанавливает для стиха. Эти три понятия приводит Жирмунский: «1) естественные фонетические свойства данного речевого материала… 2) метр, как идеальный закон, управляющий чередованием сильных и слабых звуков в стихе; 3) ритм, как реальное чередование сильных и слабых звуков, возникающее в результате взаимодействия естественных свойств речевого материала и метрического закона» (51, с. 18). Той же точки зрения придерживается и Саран, когда говорит: «Всякая стиховая форма является результатом внутреннего объединения или компромисса двух элементов: звуковой формы, присущей языку, и орхестического метра… Так возникает борьба, никогда не прекращающаяся и во многих случаях засвидетельствованная исторически, результатом которой являются различные “стили” одной и той же стиховой формы» (цит. по 57, с. 265). Остается еще показать, что те три элемента, которые поэтика открывает в стихе, действительно по своему психологическому 275 значению совпадают с теми тремя элементами эстетической реакции, о которых мы все время говорим. Для этого необходимо установить, что первые два элемента находятся между собой в разладе, противоречии и возбуждают аффекты противоположного порядка, а третий элемент — ритм — является катартическим разрешением первых двух. Надо сказать, что и такое понимание находит себе подтверждение в последних исследованиях, которые на место прежнего учения о гармонии всех элементов художественного произведения выдвигают как раз противоположный принцип, именно принцип борьбы и антиномичности некоторых элементов. Если мы станем рассматривать форму не статически и откажемся от грубой аналогии, что форма относится к содержанию, как стакан к вину, — тогда нам придется за основу исследования взять, как говорит Тынянов, конструктивный принцип и осознать форму как динамическую. Это значит, мы должны будем подойти к факторам, составляющим художественное произведение, не в их статической структуре, а в их динамическом протекании. Мы увидим тогда, что «единство произведения не есть замкнутая симметрическая целостность, а развертывающаяся динамическая целостность; между ее элементами нет статического знака равенства и сложения, но всегда есть динамический знак соотносительности и интеграции» (111, с. 70). Не все факторы в художественном произведении равноценны. Форма образуется не их слиянием воедино, а путем конструктивного подчинения одних факторов другими. «Ощущение формы при этом есть всегда ощущение протекания (а стало быть, изменения) соотношения подчиняющего, конструктивного фактора с факторами подчиненными. В понятие этого протекания, этого “развертывания” вовсе не обязательно вносить временной оттенок. Протекание — динамика — может быть взято само по себе, вне времени, как чистое движение. Искусство живет этим воздействием, этой борьбой. Без ощущения подчинения, деформации всех факторов со стороны фактора, играющего конструктивную роль, — нет факта искусства» (111, с. 10).
И поэтому новые исследователи идут вразрез с традиционным учением о соответствии ритма и смысла стиха и показывают, что в основе его структуры лежит не соответствие ритма смыслу и не одноименная направленность 276 всех его факторов, а как раз противоположная. Уже Мейман различал две враждебные тенденции произнесения стихов: тактирующую и фразирующую; он только полагал, что обе эти тенденции принадлежат разным людям, на деле же обе они заключены в самом стихе, который, следовательно, обладает двумя противоположными тенденциями сразу. «Здесь стих обнаружился как система сложного взаимодействия, а не соединения, метафорически выражаясь, стих обнаружился как борьба факторов, а не как содружество их. Стало ясно, что специфический плюс поэзии лежит именно в области этого взаимодействия, основой которого является конструктивное значение ритма и его деформирующая роль относительно факторов другого ряда… Таким образом, акустический подход к стиху обнаружил антиномичность казавшегося уравновешенным и плоским поэтического произведения» (111, с. 20 – 21). И, исходя из этого противоречия и борьбы факторов, исследователям удалось показать, как меняется самый смысл стиха и отдельного слова в стихе, как изменяется развитие сюжета, выбор образа и т. п. под влиянием ритма как конструктивного фактора стиха. Если мы от фактов чисто звукового строя перейдем к смысловому ряду, мы увидим то же самое. Тынянов заканчивает свое исследование, вспоминая слова Гете: «От различных поэтических форм таинственно зависят огромные впечатления. Если бы содержание многих “Римских элегий” переложить тоном и размером байроновского “Дон-Жуана”, то оно показалось бы соблазнительным» (111, с. 120). Можно на нескольких примерах показать, что и смысловое построение стиха заключает в себе непременную внутреннюю противоположность там, где мы привыкли видеть содружество и гармонию. Один из критиков Лермонтова, Розен, пишет о его замечательном стихотворении «Я, матерь божия»: «В этих кудрявых стихах нет ни возвышенной простоты, ни искренности — двух главнейших принадлежностей молитвы. Молясь за молодую невинную деву, не рано ли упоминать о старости и даже о смерти ее. Заметьте: теплую заступницу мира холодного. Какой холодный антитез». И действительно, трудно не заметить внутреннего смыслового противоречия тех элементов, из которых соткано это стихотворение. Евлахов говорит: «Лермонтов не только 277 открывает новую породу животного царства и в дополнение к рогатой лани Анакреона изображает “львицу с косматой гривой на челе”, но в стихотворении “Когда волнуется желтеющая нива” по-своему переделывает всю природу на земле вообще. “Тут, — делает по этому поводу замечание Глеб Успенский, — ради экстренного случая перемешаны и климаты и времена года и все так произвольно выбрано, что невольно рождается сомнение в искренности поэта”… замечание настолько же справедливое в своей сущности, насколько неумное в своем выводе» (48, с. 262 – 263).
Можно на примере любого пушкинского стихотворения показать, что истинный его строй всегда заключает в себе два противоположных чувства. Для примера остановимся на стихотворении «Брожу ли я вдоль улиц шумных». Стихотворение это по традиции понимается так: поэта во всякой обстановке преследует мысль о смерти, он грустит по этому поводу, но примиряется с неизбежностью смерти и заканчивает славословием молодой жизни. При таком понимании последняя строфа противопоставляется всему стихотворению. Можно легко показать, что такое понимание совершенно неправильно. В самом деле, если бы поэт хотел показать, как всякая обстановка навевает на него мысль о смерти, он, конечно, постарался бы подобрать такую обстановку, которая больше всего навевает эту мысль. Как все сентиментальные поэты, он постарался бы нас свести на кладбище, в больницу к умирающим, к самоубийцам. Стоит только обратить внимание на выбор той обстановки, в которой Пушкину приходит эта мысль, для того чтобы заметить, что всякая строфа держится на острейшем противоречии. Мысль о смерти посещает его на шумных улицах, в многолюдных храмах, то есть там, где, казалось, бы, ей меньше всего места и где ничто не напоминает смерть. Уединенный дуб, патриарх лесов, младенец — вот что вызывает у него опять ту же самую мысль, и здесь уже совершенно обнажено противоречие, которое заключается в самом соединении этих двух образов. Казалось бы, бессмертный дуб и новорожденный младенец меньше всего способны навеять мысль о смерти, но стоит только рассмотреть это в контексте всего целого, как смысл этого станет совершенно ясен. Стихотворение построено на соединении двух крайних противоположностей68 — 278 жизни и смерти; в каждой строфе это противоречие раскрывается перед нами, затем оно переходит к тому, что бесконечно преломляет в одну и другую сторону эти две мысли. Так, в пятой строфе поэт сквозь каждый день жизни провидит смерть, но не смерть, а опять годовщину смерти, то есть след смерти в жизни; и потому нас не удивляет, что стихотворение заканчивается указанием на то, что даже бесчувственному телу хотелось бы почивать ближе к родине, и последняя катастрофическая строфа дает не противоположение всему целому, а катарсис этих двух противоположных идей, поворачивая их в совершенно новом виде: там везде молодая жизнь вызывала образ смерти, здесь у гробового входа играет молодая жизнь. Таких острых противоречий и соединений этих двух тем у Пушкина мы найдем довольно много. Достаточно сказать, что на этом основаны его «Египетские ночи», «Пир во время чумы» и др., в которых это противоречие доведено до крайних пределов. Его лирика обнаруживает везде один и тот же закон, закон раздвоения; его слова несут простой смысл, его стих претворяет этот смысл в лирическую эмоцию. То же самое мы обнаружим и в его эпосе, когда внимательно к нему приглядимся. Я сошлюсь на самый разительный пример в этом отношении, на его «Повести Белкина». К этим повестям давно установилось отношение, как к самым пустяковым, благополучным и идиллическим произведениям; однако исследование обнаружило и здесь два плана, два борющихся друг с другом аффекта, и показало, что эта внешняя гладкость и благополучие есть только кора, за которой скрывается трагическая сущность, и вся художественная сила их действия основана именно на этом противоречии между корой и ядром повести. «Весь внешний ход событий в них, — говорит Узин, — незаметно для читателя подводит к мирному и спокойному разрешению событий. Сложные узлы развязываются как будто просто и нелукаво. Но в самом процессе рассказывания заложены элементы противоположные. Не кажется ли нам при внимательном рассмотрении сложного узора “Повестей Белкина”, что финальные аккорды их не являются единственно возможным, что предположительны и другие исходы?..» (115, с. 15). «Самое явление жизни и тайный смысл ее здесь слиты в такой мере, что трудно 279 отделить их друг от друга. Обычные факты благодаря тому, что рядом с ними, в них же самих действуют скрытые подземные силы выступают в трагическом сопровождении. Сокровенный смысл белкинский, тот единственный смысл, который так тщательно маскируется предисловием анонимного биографа, заключается в том, что под внешним покровом изображенных в “Повестях” событий таятся роковые возможности… И пусть все видимо кончается хорошо: это может служить утешением Митрофанушке; одна возможность иного решения преисполняет нас ужасом» (115, с. 18).
Заслуга исследователя в том и заключается, что ему удалось с убедительной ясностью показать, как в этих повестях намечается и другое направление тех самых линий, которые, видимо, приводят к благополучию; ему удалось показать, что именно игра этих двух направлений одной и той же линии и составляет те два элемента, разрешения которых мы ищем в катарсисе искусства. «Именно для того и сплетены с необычайным, неподражаемым искусством эти два элемента в каждой повести Белкина, что малейшее усиление одного за счет другого привело бы к полному обесценению этих чудесных творческих построений. Предисловие и создает это равновесие элементов» (115, с. 19).
И если мы возьмем более сложные эпические построения, мы сумеем показать и здесь, что тот же закон управляет их построением. Покажем это на примере «Евгения Онегина». Это произведение обычно трактуется, как изображение человека 20-х годов и идеальной русской девушки. Герои при этом понимаются не только в наивно житейском их значении, но, что самое важное, именно статически, как некие законченные сущности, которые не изменяются на всем протяжении романа.
Между тем стоит только обратиться к самому роману, чтобы показать, что герои трактуются Пушкиным динамически и что конструктивный принцип его романа в том и заключается, чтобы вместо застывших фигур героев развернуть динамику романа. Совершенно прав Тынянов, когда говорит: «Мы только недавно оставили тип критики с обсуждением (и осуждением) героев романа, как живых людей… Все это основано на предпосылке статического героя.
… Статическое единство героя (как и вообще всякое статическое 280 единство в литературном произведении) оказывается чрезвычайно шатким; оно — в полной зависимости от принципа конструкции и может колебаться в течение произведения так, как это в каждом отдельном случае определяется общей динамикой произведения; достаточно того, что есть знак единства, его категория, узаконивающая самые резкие случаи его фактического нарушения и заставляющая смотреть на них, как на эквиваленты единства. Но такое единство уже совершенно очевидно не является наивно мыслимым статическим единством героя; вместо закона статической целостности над ним стоит знак динамической интеграции, целостности. Нет статического героя, есть лишь герой динамический. И достаточно знака героя, имени героя, чтобы мы не присматривались в каждом данном случае к самому герою» (111, с. 8 – 9).
Ни на чем это положение не оправдывается с такой силой, как на романе Пушкина «Евгений Онегин». Здесь именно легко показать, насколько имя Онегина есть только знак героя и насколько герои здесь динамические, то есть изменяющиеся в зависимости от конструктивного фактора романа. Все исследователи этого романа до сих пор исходили из ложного предположения, что герой произведения статичен, и при этом указывали черты характера Онегина, которые присущи его житейскому прототипу, но упускали из виду специфические отличия искусства. «Предметом изучения, претендующего быть изучением искусства, должно являться то специфическое, что отличает его от других областей интеллектуальной деятельности, делая их своим материалом или орудием. Каждое произведение искусства представляет сложное взаимодействие многих факторов; следовательно, задачей исследования является определение специфического характера этого взаимодействия» (111, с. 13). Здесь ясно указано, что материалом изучения должно служить немотивированное в искусстве, то есть нечто такое, что принадлежит только одному искусству. Попытаемся обратиться к роману.
«Обычная» характеристика Онегина и Татьяны всецело строится на первой части романа, не принимая совершенно во внимание динамики развития этих характеров, того удивительного противоречия, в которое впадают герои сами с собой в его последней части. Отсюда целый 281 ряд ошибок в понимании романа. Остановимся прежде всего на характере самого Онегина. Можно легко показать, что если Пушкин вносит некоторые типические и характерно построенные статические элементы в его характер, то исключительно для того, чтобы сделать их предметом отталкивания в последней части романа. Роман в конечном счете рассказывает о необыкновенной безысходной и потрясающей любви Онегина, он заканчивается трагически: по рецепту гармонии и соответствия автор должен был бы выбрать героев соответствующих и как бы предназначенных для того, чтобы играть любовную роль. Между тем мы видим, что с самого начала Пушкин подчеркивает в Онегине как раз те черты, которые делают его невозможным для романа героя трагической любви. Уже в первой главе, где подробно описывается, как Онегин знал науку страсти нежной (строфы X, XI, XII), читателю внушается образ Онегина, истратившего свое сердце в светском волокитстве, и с первых же строф читатель подготовлен к тому, что с Онегиным может произойти все, что угодно, но только не гибель от невозможной любви. Замечательно, что эта же глава перебивается лирическим отступлением о ножках, которая говорит о необычайной власти неосуществленной любви и как бы сразу намечает параллельно с первым другой, прямо ему противоположный план. Сейчас же за этим отступлением опять говорится о том, что Онегин совершенно погиб для любви (строфы XXXVII, XLII, XLIII).
Нет: рано чувства в нем остыли;
Ему наскучил света шум,
Красавицы не долго были
Предмет его привычных дум…
Но окончательно эта уверенность в том, что Онегин никогда не сделается героем трагического романа, овладевает нами, когда развитие романа направляется по ложному пути и когда после признания Татьяны мы окончательно видим, насколько иссякла в сердце Онегина любовь и насколько невозможен его роман с Татьяной. И только маленьким намеком опять оживляется другая линия романа, когда Онегин узнает, что Ленский влюблен в меньшую, и говорит: «Я выбрал бы другую, когда б я был как ты, поэт». Но не из чего истинная 282 картина катастрофы не выясняется с такой силой, как из сопоставления Онегина и Татьяны: любовь Татьяны везде изображена как воображаемая любовь, везде подчеркнуто, что она любят не Онегина, а какого-то героя романа, которого она представила на его месте.
«Ей рано нравились романы» — и от этой фразы Пушкин ведет прямую линию к указанию на вымышленный, мечтательный, воображаемый характер ее любви. В сущности, по смыслу романа Татьяна не любит Онегина, или, вернее сказать, любит не Онегина; в романе говорится, что раньше пошли толки о том, что она выйдет замуж за Онегина, она тайком слышала их.
И в сердце дума заронилась;
Пора пришла, она влюбилась.
Так в землю падшее зерно
Весны огнем оживлено.
Давно ее воображенье.
Сгорая негой и тоской,
Алкало пищи роковой;
Давно сердечное томленье
Теснило ей младую грудь;
Давно ждала… кого-нибудь,
И дождалась… Открылись очи;
Она сказала: это он!
Здесь ясно говорится о том, что Онегин был только тем кем-нибудь, которого ждало воображение Татьяны, и дальше развитие ее любви протекает исключительно в воображении (строфа X). Она воображает себя Клариссой, Юлией, Дельфиной и
Вздыхает и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвеньи шепчет наизусть
Письмо для милого героя…
Таким образом, ее знаменитое письмо раньше написано в воображении, а затем на деле, и мы увидим, что оно на деле сохранило все черты своего происхождения. Замечательно и то, что здесь же, в строфе XV, Пушкин дает ложное направление своему роману, когда оплакивает Татьяну, которая отдала свою судьбу в руки модного тирана и погибла. На самом деле погибнет от любви Онегин. Перед встречей с Татьяной Пушкин опять напоминает:
В красавиц он уж не влюблялся,
А волочился как-нибудь;
283 Откажут — мигом утешался;
Изменят — рад был отдохнуть.
Его любовь сравнивает Пушкин с тем, как равнодушный гость приезжает на вист
И сам не знает поутру,
Куда поедет ввечеру.
В объяснении с Татьяной он сейчас же говорит о женитьбе, рисует картину несчастной семейной жизни, и трудно придумать что-либо более пресное, пошлое и прямо противоположное тому, о чем у них идет речь. Окончательно разоблачается характер любви Татьяны тогда, когда она посещает дом Онегина, смотрит его книги, начинает понимать, что он пародия, и здесь и для ее ума и для ее чувства наступает разрешение той загадки, которая ее мучила. И неожиданный патетический характер последней любви Онегина делается особенно ощутительным, если мы сопоставим его письмо с письмом Татьяны. В письме Татьяны Пушкин совершенно ясно оттеняет и подчеркивает те элементы французского романа, которые поразили его. Чтобы передать это письмо, ему нужно перо нежного Парни, и он призывает певца пиров и грусти томной, который один мог бы передать волшебные напевы этого письма. Свою передачу называет он неполным слабым переводом; замечательно, что перед письмом Онегина он говорит: «Вот вам письмо его точь-в-точь»; насколько там все дано в романтически неопределенной, смутной дымке — настолько здесь все осязательно и ясно — точь-в-точь; замечательно и то, что в этом письме Татьяна опять, как бы невзначай, обнажает истинную линию романа, когда говорит: «была бы верная супруга и добродетельная мать». Рядом с этой любезной небрежностью и умильным вздором, как говорит сам Пушкин, кажется, потрясающей правда онегинского письма.
Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я…
Весь конец романа, как это не замечали прежде, вплоть до последней строки насыщен намеками на то, что Онегин гибнет, на то, что жизнь его кончена, на то, что ему больше нечем дышать. Полушутливо, полусерьезно 284 Пушкин не раз говорит об этом. Но где вскрывается это с потрясающей силой, так это в знаменитой сцене их нового свидания, которое было прервано внезапным звоном шпор.
И здесь героя моего,
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь оставим.
Надолго… навсегда…
Пушкин обрывает как будто на случайном месте, но эта внешняя и совершенно неожиданная для читателя случайность еще более подчеркивает художественную завершенность романа. На этом кончено все. И когда Пушкин в катартической строфе говорит о блаженстве того, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее романа, — тогда читатель не знает, о ком идет речь — о герое или об авторе.
Простой контраст к трагической любви Онегина и Татьяны представляет параллельный роман Ленского и Ольги. Про Ольгу Пушкин прямо говорит: любой роман возьмите и найдете верный ее портрет. Так вполне подчеркнуто, что здесь взят характер, как бы предназначенный для того, чтобы служить героиней романа. Так же точно и о Ленском говорится все время, что он был рожден для любви, но Ленский убит на дуэли, и читатель как будто видит совершенно явную парадоксальность, на которой построен роман. Он ожидает, что истинная драма любви разыгрывается там, где героиня есть воплощенная героиня романа, где герой тоже предназначен для того, чтобы сыграть роль Ромео, что выстрел, разорвавший эту любовь, окажется драматическим, но все ожидания читателя обмануты. Пушкин строит свой роман, преодолевая естественные свойства материала, и обращает в пошлость любовь Ольги и Ленского (знаменитое рассуждение о том уделе, который ждал Ленского, — «в деревне, счастлив и рогат, носил бы стеганый халат»), а истинная гроза разрешается там, где мы меньше всего ее ждали, где она казалась нам невозможной. Стоит взглянуть на роман, чтобы увидеть, что весь он построен на невозможности: полное соответствие первой и второй части при совершенно противоположном смысле выражает это до конца ясно: письмо Татьяны — письмо Онегина; объяснение в беседке — объяснение у Татьяны, и читатель, обманутый этим, не 285 замечает даже, до чего переменились коренным образом и герой и героиня, и что Онегин в конце не только совершенно не тот, что в начале романа, но явно ему противоположен, как действие в конце противоположно действию в начале.
Характер героя динамически изменился, так же как изменилось течение самого романа, и, что самое важное, именно это изменение характера оказалось одним из важнейших средств для развертывания действия. Читатель все время подготовлялся к той мысли, что Онегин никак не может стать героем трагической любви, и именно его опустошает эта любовь. В этом смысле очень правильно один из исследователей сравнивает произведение искусства с двумя системами воздушных кораблей. Он говорит, что есть двоякого рода произведения искусства, как есть двоякого рода летательные машины — тяжелее и легче воздуха. Аэростат подымается потому, что он легче воздуха, и, в сущности говоря, не представляет победы над стихией, потому что он просто плывет по воздуху, а не преодолевает его, его тянет кверху, а не сам он идет; напротив того, аэроплан, машина тяжелее воздуха, каждую минуту своего подъема падает, встречает сопротивление воздуха, преодолевает его, отталкивается от него и подымается именно в силу того, что падает. Вот такую машину тяжелее воздуха напоминает настоящее произведение искусства. Оно избирает в качестве своего материала всегда материю тяжелее воздуха, то есть нечто такое, что с самого начала в силу своих свойств как будто бы противоречит полету и не дает ему развиваться. Это свойство, эта тяжесть материала все время противодействует полету, все время тянет вниз, и только из преодоления этого противодействия возникает настоящий полет.
То же самое видим мы в «Евгении Онегине». До чего плоско и просто было бы его построение, если бы в положении Онегина оказался человек, о котором мы бы с самого начала знали, что он обречен на несчастную любовь, — в лучшем случае это могло бы сделаться сюжетом сентиментальной повести. Но когда трагическая любовь постигает Онегина, когда мы воочию видим преодоление материала тяжелее воздуха, тогда мы испытываем настоящую радость полета — того подъема, который дает катарсис искусства.
286 Если в эпосе мы имеем дело с динамическим героем, то это еще в большей мере оправдывается на драме, которая вообще представляет из себя наиболее трудный для понимания вид искусства благодаря одной своей особенности. Эта особенность состоит в том, что драма обычно в качестве своего материала избирает борьбу, и та борьба, которая заключена уже в главном материале, несколько затемняет ту борьбу художественных элементов, которая подымается над обыкновенной драматической борьбой. Это очень понятно, если принять во внимание, что всякая драма, в сущности говоря, есть не законченное художественное произведение, а только материал для театрального представления; поэтому мы с трудом различаем содержание и форму в драме, и это несколько затрудняет ее понимание. Однако стоит только остановиться на этом вопросе внимательнее, для того чтобы разграничение этих двух элементов стало возможно; для этого необходимо прежде всего распространить на драму то понимание динамического героя, о котором мы говорили выше. Предрассудок о том, что драма изображает характеры и что в этом заключается ее цель, давно уже должен был бы быть оставлен, если бы исследователи с должной объективностью относились к драмам Шекспира. Евлахов прямо называет мнение об удивительном изображении характеров у Шекспира старой сказкой. Фолькельт указывает по этому поводу, что «Шекспир во многом отваживается идти гораздо дальше, чем допускается психологией», но никто не вскрыл этого факта с такой исчерпывающей ясностью, как Толстой, на которого мы уже ссылались, когда был разговор о Гамлете. Именно поэтому Толстой называет свое мнение совершенно противоположным тому, которое установилось о Шекспире во всем европейском мире. Толстой совершенно верно замечает, что Лир говорит напыщенным, бесхарактерным языком, каким говорят все короли Шекспира, и шаг за шагом показывает, насколько невероятны, неестественны речи и события в этой трагедии, насколько читатель не может в них верить. «Как ни нелепа она представляется в моем пересказе… смело скажу, что в подлиннике она еще нелепее» (107, с. 236). Как на главное доказательство того, что у Шекспира отсутствуют характеры, Толстой ссылается на то, что «все лица Шекспира говорят не 287 своим, а всегда одним и тем же шекспировским, вычурным, неестественным языком, которым не только не могли говорить изображаемые действующие лица, но никогда нигде не могли говорить никакие живые люди». Именно язык почитает он важнейшим средством изображения характера, и совершенно прав Волькенштейн, когда говорит про мнение Толстого: «… это была критика беллетриста-реалиста» (28, с. 114), но он только усиливает мнение Толстого, когда доказывает, что по самому существу трагедии невозможен характерный язык и что «язык героя трагедии — это звучнейший и ярчайший язык, который мерещится автору; здесь нет места для характерной детализации речи». Этим он только показывает, что в трагедии нет и характера, поскольку всюду она берет человека в пределе, а характер всегда построен именно на известных пропорциях и соотношениях черт. Поэтому совершенно прав Толстой, когда указывает, что «мало того, что действующие лица Шекспира поставлены в трагические положения, невозможные, не вытекающие из хода событий, несвойственные и времени и месту, — лица эти и поступают не свойственно своим определенным характерам, а совершенно произвольно». Но этим самым Толстой совершает величайшее открытие, указывая именно ту область немотивированного, которая является специфическим отличием искусства; в одной фразе он намечает истинную проблему шекспирологии, когда говорит: «Лица Шекспира постоянно делают и говорят то, что им не только не свойственно, но и ни для чего не нужно».
Мы остановимся на примере Отелло, для того чтобы показать, насколько этот анализ правильный и насколько он может быть полезен для раскрытия не только недостатков Шекспира, но и всех положительных его сторон. Толстой говорит, что Шекспир, который заимствовал сюжеты своих пьес из прежних драм или новелл, не только не делает характеры героев более правдивыми, но, напротив, всегда ослабляет и часто совершенно уничтожает их. «Так, в “Отелло”… характеры Отелло, Яго, Кассио, Эмилии у Шекспира гораздо менее естественны и живы, чем в итальянской новелле. Более естественными в новелле, чем у Шекспира, представляются поводы к ревности Отелло… Яго у Шекспира — сплошной злодей, обманщик, вор, корыстолюбец… Мотив его злодейства, 288 по Шекспиру, есть, во-первых, обида… во-вторых… в-третьих… Мотивов много, но все они неясны. В новелле же мотив один, простой, ясный: страстная любовь к Дездемоне, перешедшая в ненависть к ней и к Отелло после того, как она предпочла ему мавра и решительно оттолкнула его» (107, с. 244 – 246).
Толстой несомненно прав, говоря, что Шекспир совершенно умышленно опустил и уничтожил данные в новелле характеры, и можно на этой трагедии показать, насколько самый характер героя является в трагедии только протеканием объединяющего момента для двух противоположных аффектов. В самом деле, вглядимся в героя в этой трагедии: казалось бы, если Шекспир хочет развернуть трагедию ревности, он должен выбрать ревнивого и подозрительного человека в герои, связать его с женщиной, которая давала бы сильнейший повод для ревности, и, наконец, установить между ними такие отношения, при которых ревность кажется нам совершенно неизбежной спутницей любви. Шекспир поступает как раз по обратному рецепту и выбирает материал для своей трагедии полярно противоположный тому, который облегчал бы разрешение его задачи. «Отелло от природы не ревнив — напротив: он доверчив», заметил Пушкин, и совершенно справедливо. Доверчивость Отелло есть одна из основных пружин трагедии, все удается именно потому, что Отелло слепо доверчив и что в нем нет ни одной черты ревнивца. Можно сказать, что весь характер Отелло построен как полярно противоположный характеру ревнивца. Совершенно по тому же способу строит Шекспир характер Дездемоны: эта женщина полная противоположность тому типу женщины, которая могла бы дать повод для ревности. Многие критики даже находили в этом образе слишком много идеального и небесного. И, наконец, самое важное, любовь Отелло и Дездемоны представлена в таком платоническом, в таком голубом свете, что один из критиков истолковал некоторые намеки в пьесе так, что Отелло и Дездемона не были связаны настоящим браком. Именно здесь достигает своего апогея трагический эффект, когда не ревнивый Отелло убивает из ревности не заслуживающую ревности Дездемону. Если бы Шекспир поступил по первому рецепту, получилась бы обыкновенная пошлость, как получилась она из пьесы Арцыбашева 289 «Ревность», когда автор изобразил драму, в которой ревнивый и подозрительный муж ревнует готовую каждому отдаться жену, и когда отношения между супругами всецело освещены со стороны общей спальни. Тот полет «тяжелее воздуха», с которым сравнивает исследователь произведение искусства, с полным торжеством осуществляется в «Отелло», потому что мы видим, как эта трагедия сплетена из двух противоположных элементов, как она все время вызывает в нас два совершенно полярных эффекта, как каждая реплика и каждый шаг действия одновременно втягивают нас глубже в низость измены и подымают нас выше в сферу идеальных характеров, и именно столкновение и катартическое очищение этих двух противоположных аффектов и составляют основу трагедии. Толстой совершенно прав, когда указывает, что великое мастерство изображения характеров приписывается Шекспиру из-за одной его особенности: «Особенность эта заключается в умении вести сцены, в которых выражается движение чувств. Как ни неестественны положения, в которые он ставит свои лица, как ни несвойствен им тот язык, которым он заставляет говорить их, как ни безличны, они самое движение чувства: увеличение его, изменение, соединение многих противоречащих чувств выражается часто верно и сильно в некоторых сценах Шекспира» (107, с. 249). Именно это умение давать изменение чувства и составляет основу того понимания динамического героя, о котором мы говорили только что. Гете, сопоставляя две фразы леди Макбет, которая говорит один раз: «Я кормила грудью детей» — и о которой после говорится: «У нее нет детей», замечает, что это есть художественная условность и что «Шекспир заботился о силе каждой данной речи… Поэт заставляет говорить своих лиц в данном месте именно то, что тут требуется, что хорошо именно тут я производит впечатление, не особенно заботясь о том, не рассчитывая на то, что оно, может быть, будет в явном противоречии со словами, сказанными в другом месте» (144, S. 320 – 321). И Гете совершенно прав, если иметь в виду логическое противоречие слов. Можно привести бесчисленные примеры из драм и комедий Шекспира, которые покажут с наглядностью, что характеры в них всегда развертываются динамически, в зависимости 290 от конструкции всей пьесы, и что они всецело оправдывают правила Аристотеля: «… фабула есть основа и как бы душа трагедии, а за нею уже следуют характеры» (8, с. 60). Мюллер совершенно справедливо указывает на то, что комедии Шекспира отличаются от древнеримской комедии с ее неизменным параситом, хвастливым воином, сводней и другими застывшими масками, но он не учитывает того, что то широкое и вольное изображение характеров, которое ставил в заслугу Шекспиру Пушкин, имеет совершенно не ту цель, чтобы приблизить героев к действительным людям и к полноте реальной жизни, а совсем другую — именно усложнить и обогатить развитие действия и трагический узор. В сущности говоря, всякий характер неподвижен, и когда Пушкин говорит про Мольера, что у него «лицемер волочится за женой своего благодетеля лицемеря, принимает имение под хранение лицемеря, спрашивает стакан воды лицемеря», — то этим он выражает истинную сущность всякой трагедии характера. Поэтому, когда Мюллер подходит вплотную к выявлению вопроса о взаимоотношении характеров и фабулы в английской драме, он должен признать, что интрига была моментом определяющим, а характеры — «зависимым, вторичным в процессе творчества. По отношению к Шекспиру это может звучать ересью… Тем любопытнее на примерах именно из Шекспира показать, что даже и он подчинял, по крайней мере иногда, свои характеры фабуле» (75, с. 45). И когда он вслед за Роли пытается из технической необходимости понять, почему Корделия отказывается выразить отцу свою любовь словами, — он впадает в то самое противоречие, которое нами уже указывалось, когда мы говорили о попытке технически объяснить то или иное немотивированное явление в искусстве, которое на самом деле есть не только печальная необходимость, вызванная техникой, но и радостное преимущество, сообщаемое формой. И если мы обратим внимание на тот факт, что сумасшедшие говорят у Шекспира обыкновенной прозой, что прозой же бывают написаны письма, что так же изображен бред леди Макбет, — мы увидим, насколько случайна связь между языком и характером действующих лиц.
Здесь важно пояснить одно существенное различие, которое существует между романом и трагедией в этом 291 отношении. И в романе мы часто встречаемся с тем, что характеры действующих лиц развернуты динамически, исполнены противоречий и развиваются как конструктивный фактор, который видоизменяет все события, или, наоборот, как фактор, сам испытывающий деформацию со стороны другого главенствующего фактора. Такое внутреннее противоречие мы найдем всегда в романах Достоевского, которые одновременно протекают в двух планах — в самом низменном и в самом возвышенном, — где убийцы философствуют, святые — продают свое тело на улице, отцеубийцы — спасают человечество и т. д. Однако в трагедии это же явление имеет совсем другой смысл. Для того чтобы нам разобраться и понять особенность структуры трагического героя, нужно принять во внимание то, что сказано выше о драме вообще. Всякая драма в основе своей имеет борьбу, и возьмем ли мы трагедию или фарс, мы всегда увидим, что их формальная структура совершенно одинакова: везде есть известные приемы, известные законы, известные силы, с которыми борется герой, и только в зависимости от выбора этих приемов мы различаем разные виды драмы. Если трагический герой с максимальной силой борется против абсолютных и непоколебимых законов, то герой комедии борется обычно против законов социальных, а герой фарса — против физиологических. «Герои комедии нарушают социально-психологические нормы, обычаи, привычки. Герои фарса… нарушают социально-физические нормы общественной жизни» (28, с. 156). Поэтому область фарса, как в «Лизистрате» Аристофана, очень легко и охотно имеет дело с эротикой и пищеварением. Животность человека — вот с чем играет все время фарс, но его формальная природа остается все же чисто драматической. Во всякой драме мы имеем, следовательно, ощущение известной нормы и ее нарушения; структура драмы в этом отношении совершенно напоминает структуру стиха, где мы имеем, с одной стороны, известную норму, размер и систему отклонения от него. Герой драмы поэтому и есть драматический характер, который все время как бы синтезирует эти два противоположных аффекта — аффект нормы и аффект нарушения, и потому герой все время воспринимается нами динамически, не как вещь, а как некоторое протекание или событие. И это становится 292 особенно очевидным и ясным, если мы рассмотрим отдельные виды драмы. Волькенштейн прав, когда видит отличительный признак трагедии в том, что ее герою присуща максимальная сила, и вспоминает, что древние называли трагического героя неким духовным максимумом. Поэтому для трагедии характерен максимализм, нарушение абсолютного закона абсолютной силой героической борьбы. Как только трагедия сходит с этих вершин и отказывается от максимализма, она сейчас же превращается в драму и теряет свои отличительные черты. Совершенно неправ Геббель, который объяснял положительное действие трагической катастрофы тем, что «когда человек весь в ранах, убить его — значит исцелить». Выходит так, что, когда трагический поэт ведет на гибель своего героя, он дает нам удовлетворение так же точно, как человек, который расстреливает мучащееся и смертельно раненное животное. Это совершенно неверно. Гибель мы ощущаем не как приносящую избавление герою, и герой ко времени катастрофы не кажется нам человеком, который весь в ранах. Трагедия производит удивительный катарсис, который совершенно явно дает эффект прямо противоположный тому, который заложен в ее содержании.
В трагедии высший момент и торжество зрителя совпадают с высшим моментом гибели героя, и это ясно указывает нам на то, что зритель воспринимает не только то, что герой, но еще нечто сверх этого, и поэтому Геббель был глубоко прав, когда указывал, что катарсис в трагедии обязателен только для зрителя и «вовсе не необходимо… чтобы герой трагедии сам дошел до внутреннего примирения». Удивительную иллюстрацию к этому мы находим в развязке шекспировских трагедий, которые все кончаются почти на один манер: когда катастрофа уже совершилась, герой погиб непримиренным, и сейчас над его трупом кто-либо из действующих лиц кратко возвращает внимание зрителя ко всему тому кругу событий, через которые пронеслась трагедия, и как бы собирает пепел трагедии, перегоревший в катарсисе. Когда зритель слышит в рассказе Горацио краткое перечисление тех ужасных событий и смертей, которые только что пронеслись перед ним, он как бы видит второй раз ту же самую трагедию, но только лишенную своего жала и яда, и эта разрядка дает ему время и повод 293 для осознания своего катарсиса, когда он сопоставляет свое отношение к трагедии, как она дана в развязке, с только что пережитым впечатлением о трагедии в целом. «Трагедия есть буйство максимальной человеческой силы, поэтому она мажорна. При зрелище титанической борьбы чувство ужаса сменяется чувством бодрости, доходящим до восторга, трагедия обращается к подсознательным стихийным тайным силам, скрытым в нашей душе, и они пробуждаются. Драматург как бы говорит нам: вы робки, нерешительны, послушны обществу и государству, посмотрите же, как действуют сильные люди, посмотрите, что будет, если вы поддадитесь своему честолюбию, или сладострастию, или гордости и т. д. и т. д., попробуйте последовать в своем воображении за моим героем, неужели это не соблазнительно дать волю своей страсти!» (28, с. 155, 156). Здесь дело изображено слишком просто, но в этом, несомненно, заключена некоторая часть правды, потому что трагедия действительно вызывает к жизни наши самые затаенные страсти, но она заставляет протекать их в гранитных берегах совершенно противоположных чувств, и эту борьбу она заканчивает разрешающим катарсисом.
Сходное построение имеет и комедия, которая свой катарсис заключает в смехе зрителя над героями комедии. Здесь совершенно явно разделение зрителя и героя комедии: герой комедии не смеется, он плачет, а зритель смеется. Получается явная двойственность. В комедии герой печален, а зритель смеется, или наоборот: в комедии может быть печальный конец для положительного героя, а зритель все же торжествует. На сцене победил Фамусов, а в переживаниях зрителя — Чацкий. Мы не станем сейчас изыскивать те специфические особенности, которые отличают трагическое от комического и драму от комедии. Многие авторы совершенно правы, утверждая, что, по существу, эти категории и не суть категории эстетические, но что комическое и трагическое возможно и вне искусства (Гаман, Кроче). Для нас сейчас важно только показать, что, поскольку искусство пользуется трагическим, комическим и драматическим, оно везде подчиняется формуле катарсиса, проверка которой нас сейчас занимает. Бергсон совершенно точно определяет задачу комедии, когда говорит, что в 294 комедии изображается «отступление действующих лиц от принятых норм социальной жизни». По его мнению, «смешон может быть только человек. Если мы смеемся над вещью или над зверем, то мы принимаем его за человека, гуманизируем его». Смех необходимо нуждается в социальной перспективе, он невозможен вне общества, и, следовательно, опять комедия раскрывается перед нами как двойное ощущение известных норм и отступлений от них. Эту двойственность комедийного героя правильно отмечает Волькенштейн, когда говорит: «Особенно сильный эффект производит смешащая, остроумная реплика, когда ее дает лицо смешное. Сила Шекспира в изображении Фальстафа именно в этом сочетании: трус, обжора, бабник и т. п. — и великолепный шутник» (28, с. 153 – 154). И совершенно понятно, потому что всякая шутка Фальстафа уничтожает в катарсисе смеха всю пошлую сторону его натуры. Бергсон видит вообще начало всего смешного в автоматизме, в том, что живое отступает от известных норм, и, когда живое ведет себя как механическое, это и вызывает наш смех.
Гораздо более интересны те результаты исследования остроумия, юмора и комизма, к которым пришел Фрейд. Нам представляется несколько произвольным его энергетическое толкование всех трех видов переживаний, которое сводит их в конечном счете к известной экономии, к затрате энергии, но если оставить в стороне это энергетическое толкование, нельзя не согласиться с величайшей точностью фрейдовского анализа. Для нас замечательно то, что анализ этот вполне отвечает найденной нами формуле катарсиса, как основе эстетической реакции. Остроумие для него — двуликий Янус, который ведет мысль одновременно в двух противоположных направлениях. Такое же расхождение наших чувств, восприятий отмечает он при юморе и при комизме; и смех, возникающий в результате подобной деятельности, является лучшим доказательством того разрешающего действия, которое остроумие оказывает на нас (см. 120). То же самое отмечает Гаман: «Для комического, остроты первым долгом требуется новизна и оригинальность. Остроту почти никогда нельзя слышать два раза, и под оригинальными людьми мы в особенности подразумеваем остроумных, так как скачок от напряжения к разряду бывает ведь совершенно неожиданным, 295 не поддающимся учету. Краткость — душа остроты; ее сущность — именно во внезапном переходе от напряжения к разряду» (30, с. 124).
Так же точно обстоит дело со всей той областью, которую в научную эстетику ввел Розенкранц, написавший книгу «Эстетика безобразного». Как верный ученик Гегеля, он сводит роль безобразного к контрасту, который должен оттенить положительный момент или тезис. Но это глубоко неверно, потому что, как правильно говорит Лало, безобразное может войти в искусство на том же основании, что и прекрасное. Описанный и воспроизведенный в художественном произведении предмет может сам по себе, то есть вне этого произведения, быть безобразным или безразличным; в известном случае даже должен быть таким. Характерным примером являются все портреты и реалистические произведения вообще. Факт этот хорошо известен, и идея не нова. «Нет такой змеи, — приводит он слова Буало, — нет такого гнусного чудовища, которое не могло бы нравиться в художественном воспроизведении» (68, с. 83). То же самое показала Вернон Ли, ссылаясь на то, что красота предметов часто не может быть прямо внесена в искусство. «Величайшее искусство, — говорит она, — искусство Микеланджело, например, часто дает нам те тела, красота строения которых омрачена бросающимися в глаза недостатками… Наоборот, любая выставка и банальнейшая коллекция дают нам дюжину примеров обратного, то есть дают возможность легко и убедительно констатировать красоту самой модели, которая внушала, однако, посредственные и плохие картины или статуи». Причину этого она совершенно справедливо видит в том, что настоящее искусство перерабатывает то впечатление, которое в него привносится69. Трудно подыскать пример более подходящий под нашу формулу, чем эстетика безобразного.
Вся она ясно говорит о катарсисе, без которого наслаждение ею было бы невозможно. Гораздо труднее показать, как подходит под эту формулу тот средний тип драматического произведения, который обычно принято называть драмой. Но и здесь можно показать на примере чеховских драм, что этот закон совершенно верен.
Остановимся на драмах «Три сестры» и «Вишневый сад». Первую из этих драм обычно совершенно неправильно 296 толкуют как воплощение тоски провинциальных девушек по полной и яркой столичной жизни (58, с. 264 – 265). В драме Чехова, совсем напротив, устранены все те черты, которые могли бы хоть сколько-нибудь разумно и материально мотивировать стремление трех сестер в Москву70, и именно потому, что Москва является для трех сестер только конструктивным художественным фактором, а не предметом реального желания, — пьеса производит не комическое, а глубоко драматическое впечатление. Критики на другой день после представления этой пьесы писали, что пьеса несколько смешит, потому что в продолжение четырех актов сестры стонут: в Москву, в Москву, в Москву, между тем как каждая из них могла бы прекрасно купить железнодорожный билет и приехать в ту Москву, которая, видимо, ей совершенно не нужна. Один из рецензентов прямо называл эту драму драмой железнодорожного билета, и он по-своему был правее, чем такие критики, как Измайлов. В самом деле, автор, сделавший Москву центром притяжения для сестер, казалось бы, должен мотивировать их стремление в Москву хоть чем-нибудь. Правда, они провели там детство, но, оказывается, ни одна из них Москвы совершенно не помнит. Может быть, они не могут поехать в Москву потому, что они связаны какими-нибудь препятствиями, но и это не так. Мы решительно не видим никакой причины, почему бы сестрам не решиться на этот шаг. Наконец, может быть, они стремятся попасть в Москву по другой причине, может быть, как это думают критики, Москва олицетворяет для них центр разумной и культурной жизни, но и это не так, потому что ни одним словом в пьесе об этом не говорится, а напротив, для контраста дано совершенно реальное и отчетливое стремление в Москву их брата, для которого Москва есть не мечта, а совершенно реальный факт. Он вспоминает университет, он хотел бы посидеть в ресторане Тестова, но этой реальной Москве Андрея совершенно умышленно противопоставлена Москва трех сестер: она остается немотивированной, как немотивированной остается невозможность для сестер попасть туда, и, конечно, именно на этом держится все впечатление драмы.
То же самое в драме «Вишневый сад». И в этой драме мы никак не можем понять, почему продажа вишневого сада является таким большим несчастьем для 297 Раневской, может быть, она живет постоянно в этом вишневом саду, но мы узнаем, что вся жизнь ее растрачена по заграничным скитаниям и она жить в этом имении не может и никогда не могла. Может быть, продажа означает для нее разорение, но и этот мотив устранен, потому что не материальная нужда ставит ее в драматическое положение. Вишневый сад для Раневской, как и для зрителя, остается столь же немотивированным элементом драмы, как Москва для трех сестер. И вся особенность драматического построения в том и заключается, что в ткань совершенно реальных и бытовых отношений вплетается какой-то ирреальный мотив, который начинает приниматься нами также за совершенно психологически реальный мотив, и борьба этих двух несовместимых мотивов и дает то противоречие, которое необходимо должно быть разрешено в катарсисе и без которого нет искусства.
В заключение нам представляется нужным очень кратко и на полуслучайных примерах показать, что та же самая формула применима и во всех других искусствах, а не только в поэзии. Мы все время ведем наши рассуждения, исходя из конкретных примеров литературы, но все время распространяем наши выводы и на все другие области искусства. Всего ближе сюда подходит театр, так как уже рассмотрение драмы только наполовину принадлежит литературе. Однако легко показать, что и вторая половина театра, понимаемая в узком смысле — как игра актеров и спектакль, — всецело оправдывает эту формулу. Основу этого наметил Дидро в знаменитом «Парадоксе об актере» при анализе актерской игры. Он показал с предельной ясностью, что актер испытывает и изображает не только те чувства, которые испытывает действующее лицо, но расширяет эти чувства художественной формой. «Но позвольте! — возразят мне, — а эти звуки скорбные, так полные жалобы, тоски, которые мать исторгает из глубины своего существа, которые с такою силою потрясают мою душу, разве их дает не подлинное чувство, их вызывает не отчаяние? Нисколько. И вот доказательство: они, эти звуки, — размеренные, они входят составною частью в систему декламации — будь они хоть на двадцатую долю четверти тона ниже и выше, они уже были бы фальшивы; они подчинены некоему закону единства; 298 они определенным образом подобраны и гармонически размещены; они содействуют разрешению определенно поставленной задачи… Он знает с совершенною точностью, в какой момент вынет платок и когда потекут у него слезы; ждите их при определенном слове, на определенном слоге, не раньше, не позднее» (47, с. 9). И актерское творчество называет он патетической гримасой, великолепным обезьянством. Это утверждение парадоксально только в одном, оно было бы верно, если бы мы сказали, что крик отчаяния матери на сцене, конечно, заключает в себе и подлинное отчаяние. Но не в этом торжество актера: торжество актера, конечно, в том размере, какой он придает этому отчаянию. Дело здесь вовсе не в том, чтобы задача эстетики сводилась, как шутил Толстой, к требованию, «чтобы писали казнь и чтобы было как цветочки». Казнь и на сцене остается казнью, а не цветочками, отчаяние остается отчаянием, но оно разрешено через художественное действие формы, и поэтому очень может быть, что актер не испытывает до конца и сполна тех чувств, которые испытывает изображаемое им лицо. Дидро приводит замечательный рассказ: «Мне очень хочется рассказать вам, как актер и его жена, ненавидевшие друг друга, вели на театре сцену нежных и страстных любовников; никогда еще оба эти актера не казались такими сильными в своих ролях, вызвали сценою долгие рукоплескания партера и лож; десять раз прерывали мы эту сцену аплодисментами, криками восхищения» (47, с. 18). И дальше Дидро приводит длинный диалог, в котором актеры по пьесе обмениваются репликами, полными любви, а шепотом про себя бранью и упреками. Как говорит итальянская пословица: если это и неверно, то зато это хорошо выдумано. И для психологии искусства это имеет то существенное значение, что указывает на двойственность всякой актерской эмоции, и Дидро совершенно прав, когда говорит, что актер, кончая играть, не сохраняет в своей душе ни одного из тех чувств, которые он изображал, их уносят с собой зрители. К сожалению, до сих пор на это утверждение принято смотреть как на парадокс, и ни одно достаточно обстоятельное исследование не вскрыло психологии актерской игры, хотя в этой области психология искусства гораздо легче могла бы справиться с задачей, чем во всех 299 остальных. Однако есть все основания полагать заранее, что это исследование независимо от своих результатов подтвердило бы ту основную двойственность актерской эмоции, на которую указывает Дидро и которая, как нам кажется, дает право распространить и на театр формулу катарсиса71.
В области живописи удобнее всего показать действие этого закона на том стилистическом различии, которое существует между живописью в собственном смысле слова и искусством рисунка или графикой. Со времен исследования Клингера это различие сознается всеми с достаточной ясностью. Вслед за Христиансеном мы склонны видеть это различие в различном толковании пространства в живописи и в графике: в то время как живопись уничтожает плоский характер картины и заставляет нас все помещенное на плоскости воспринимать в пространственно перетолкованном виде, — рисунок, изображая даже трехмерное пространство, сохраняет при этом плоский характер листка, на который нанесен рисунок. Таким образом, впечатление от рисунка у нас всегда двойственное. Мы воспринимаем, с одной стороны, изображенное в нем как трехмерное, с другой стороны, мы воспринимаем игру линий на плоскости, и именно в этой двойственности заключена особенность графики как искусства. Уже Клингер показал, что графика в противоположность живописи очень охотно пользуется впечатлениями дисгармонии, ужаса, отвращения и что они имеют положительное значение для графики. Он указывает, что в поэзии, драме и музыке позволительны и даже необходимы такие моменты. Христиансен совершенно правильно разъясняет, что возможность привнесения таких впечатлений заключается в том, что ужас, исходящий от предмета изображения, разрешается в катарсисе формы. «Должно произойти преодоление диссонанса, разрешение и примирение. Я хотел бы сказать катарсис, если бы прекрасное слово Аристотеля не сделалось непонятным от множества попыток его истолкования. Впечатление страшного должно найти свое разрешение и очищение в моменте дионисийского подъема, ужас не изображается ради него самого, но как импульс для его преодоления… И этот отвлекающий момент должен обозначать одновременно и преодоление и катарсис» (124, с. 249).
300 Эта возможность катарсиса в ценностях форм иллюстрируется на примере рисунка Поллайоло «Борьба мужчин», «где ужас смерти без остатка превзойден и растворен в дионисийском ликовании ритмических линий» (124, с. 249).
Наконец, самый беглый взгляд на скульптуру и архитектуру легко покажет нам, что и здесь противоположность материала и формы часто оказывается исходной точкой для художественного впечатления. Вспомним, что скульптура пользуется почти исключительно для изображения человеческого и животного тела металлом и мрамором, материалами, казалось бы наименее подходящими для того, чтобы изображать живое тело, тогда как пластические и мягкие материалы были бы лучше способны передать его. И в этой неподвижности материала художник видит лучшее условие для отталкивания и для создания живой фигуры.
И знаменитый Лаокоон, который кричит в размалеванной скульптуре, есть лучшая иллюстрация той противоположности форм и материала, из которой исходит скульптура.
То же самое показывает пример готической архитектуры. Нам кажется замечательным тот факт, что художник заставляет камень принимать растительные формы, ветвиться, передавать лист и розу; нам кажется удивительным и то, что в готическом храме, где ощущение массивности материала доведено до максимума, художник дает торжествующую вертикаль и добивается того поразительного эффекта, что храм весь стремится кверху, весь изображает порыв и полет ввысь и самая легкость, воздушность и прозрачность, которую архитектурное искусство извлекает в готике из тяжелого и косного камня, кажется лучшим подтверждением этой мысли.
Совершенно прав исследователь, когда пишет о Кёльнском соборе: «В этом стройном расчленении переплетенных арками, точно паутиной, высоких сводов — видна та же смелость, какая поражает нас в рыцарских подвигах. В нежных их очертаниях то же мягкое, теплое чувство, которым веет от любовных рыцарских песен». И если эту смелость и эту нежность художник извлекает из камня, он подчиняется тому же самому закону, который заставляет его устремить вверх тянущий к земле 301 камень и в готическом соборе создать впечатление летящей вверх стрелы.
Имя этому закону — катарсис, и именно он, а не что-либо другое, заставил старинного мастера на соборе Парижской богоматери поместить уродливые и страшные изображения чудовищ, блистательные химеры, без которых храм был бы невозможен.
Глава XI
Искусство и жизнь
Теория заражения. Жизненное значение искусства. Социальное значение
искусства. Критика искусства. Искусство и педагогика. Искусство будущего.
Нам остается еще рассмотреть вопрос относительно того значения, которое приобретает искусство, если допустить, что истолкование его, которое намечено выше, окажется справедливым. В каком отношении тогда эстетическая реакция стоит ко всем остальным реакциям человека, как в свете этого понимания уясняется роль и значение искусства в общей системе поведения человека?
Мы знаем, что до сих пор на этот вопрос даются совершенно разные ответы и совершенно по-разному расценивается роль искусства, которая одними авторами сводится к величайшему достоинству, а другими — приравнивается к обыкновенной забаве и отдыху.
Совершенно понятно, что оценка искусства будет всякий раз стоять в прямой зависимости от того психологического понимания, с которым мы к искусству подойдем. И если мы хотим решить вопрос о том, в каком отношении находятся искусство и жизнь, если мы хотим поставить проблему искусства в плоскости прикладной психологии, — мы должны вооружиться каким-нибудь общетеоретическим взглядом, который позволил бы нам иметь твердую основу при решении этой задачи.
Первое и самое распространенное мнение, с которым здесь приходится столкнуться исследователю, это мнение о том, что искусство будто бы заражает нас какими-то чувствами и что оно основано на этом заражении. «Вот на этой-то способности людей заражаться чувствами 302 других людей и основана деятельность искусства, — говорит Толстой. — … Чувства, самые разнообразные, очень сильные и очень слабые, очень значительные и очень ничтожные, очень дурные и очень хорошие, если только они заражают читателя, зрителя, слушателя, составляют предмет искусства» (106, с. 65).
Эта точка зрения сводит, таким образом искусство к обыкновеннейшей эмоции и утверждает, что никакой существенной разницы между обыкновенным чувством и чувством, которое вызывает искусство, нет и что, следовательно, искусство есть простой резонатор, усилитель и передаточный аппарат для заражения чувством. Никакого специфического отличия у искусства нет, а потому оценка искусства и должна исходить в данном случае из того же самого критерия, из которого исходим мы, когда оцениваем всякое чувство. Искусство может быть дурно и хорошо, если оно заражает нас дурным или хорошим чувством; само по себе искусство как таковое не дурно и не хорошо, это только язык чувства, который приходится оценивать в зависимости от того, что на нем скажешь. Отсюда совершенно естественно Толстой делал вывод, что искусство подлежит оценке с общеморальной точки зрения, и расценивал как высокое и хорошее то искусство, которое вызывало его моральное одобрение, и возражал против того, которое заключало в себе предосудительные с его точки зрения поступки. Многие критики сделали такие же выводы из его теории и расценивали обычно произведение искусства с точки зрения того явного содержания, которое в нем заложено, и если это содержание вызывало их одобрение, они относились с похвалой к художнику, и наоборот. Какова этика, такова и эстетика — вот лозунг этой теории.
Ее глубочайшую неправильность обнаружил сам Толстой, когда попытался быть последовательным в своих собственных выводах. В виде иллюстрации своей теории он сопоставляет два художественных впечатления: одно — которое произвело на него пение большого хоровода баб, величавших вышедшую замуж его дочь, и другое — которое осталось у него от игры прекрасного музыканта, исполнившего сонату Бетховена, опус 101. В пении баб выражалось такое определенное чувство радости, бодрости и энергии, что оно невольно заразило 303 самого Толстого, и он пошел к дому бодрый и веселый. С этой точки зрения песня баб для него настоящее искусство, которое передает определенное и сильное чувство, и так как второе впечатление решительно не содержало в себе такого явного выражения, то он готов признать, что соната Бетховена только неудачная попытка искусства, не содержащая никакого определенного чувства и потому ничем не замечательная. Уже на этом примере совершенно очевидно, до каких нелепых выводов должен дойти автор, когда он в основу понимания искусства положит критерий заразительности. С этой точки зрения Бетховен не содержит никакого определенного чувства, а пение баб элементарно и заразительно весело. Прав совершенно Евлахов, когда говорит, что если это так, «то самым “настоящим”, самым “истинным” искусством нужно признать военную и бальную музыку, так как та и другая заражают еще более» (48, с. 439). И Толстой последователен: он действительно наряду с народными песнями признает в музыке лишь «марши и танцы разных композиторов» произведениями, «приближающимися к требованиям всемирного искусства». «Если бы Толстой сказал, что веселость баб привела его в хорошее настроение, то против этого положения ничего нельзя было бы возразить», — справедливо замечает рецензент его статьи В. Г. Вальтер. «Это значило бы, что с помощью языка чувств, выразившегося в пении баб (он мог бы выразиться и просто в орании, и, вероятно, так и было), Толстой заразился их веселостью. Но при чем тут искусство? Толстой не говорит, хорошо ли пели бабы, но неужели, если бы они не пели, а просто весело галдели, стуча в косы, неужели их веселость была бы меньше заразительна, в особенности в день свадьбы дочери».
Нам думается, что если мы сравним по заразительности обыкновенный крик ужаса и сильнейший роман или трагедию, то произведение искусства не выдержит этого сравнения, и очевидно, что надо привнести нечто еще иное к простой заразительности для того, чтобы понять, что такое искусство. Очевидно, искусство производит какое-то другое впечатление, и в этом смысле очень прав Лонгин, который говорит: «Нужно тебе знать, что другое дело изображение у оратора и другое у поэта, а также, что цель изображения в поэзии — трепет, 304 в прозе же — выразительность». Вот этот трепет, который составляет цель поэзии, в отличие от выразительности, равной заразительности, в прозе, и не уловлен совершенно формулой Толстого. Однако, чтобы окончательно убедиться в том, что он неправ, нам следует обратиться к тому искусству, на которое он указывает, к искусству бальной и военной музыки, и посмотреть, является ли целью этого искусства действительно простая заразительность или нет. Петражицкий полагает, что эстетика ошибается, когда думает, что искусство имеет целью возбуждение только эстетических чувств. По его мнению, искусство вызывает целый ряд общих эмоций, а эстетические эмоции играют лишь декоративную роль. «Например, искусство воинственного периода народной жизни бывает приспособлено главным образом к возбуждению героическо-воинственных эмоциональных волнений и настроений. И теперь, например, военная музыка существует вовсе не для того, чтобы доставлять солдатам на войне эстетические удовольствия, а для того, чтобы возбуждать и потенцировать воинственные эмоции. Смысл средневекового искусства (не исключая скульптуры и архитектуры) заключался главным образом в возбуждении возвышенно-религиозных эмоций. Лирика приспособлена к одним, сатира к другим, драма и трагедия опять к иным сторонам нашей эмоциональной психики и проч. и проч…» (85, с, 293).
Не говоря о том, что военная музыка на самой войне во время боя никаких воинственных эмоций не вызывает, можно усомниться и в том, что вообще вопрос здесь поставлен правильно. Так, например, Овсянико-Куликовский гораздо более прав, когда полагает, что «военная лирика и музыка “подымает дух” войска, “воодушевляет” на подвиг, но ведь они не разрешаются боевой эмоцией или боевым аффектом. Они скорее умеряют и дисциплинируют боевой пыл, а кроме того, успокаивают взвинченную нервную систему и прогоняют страх. Приободрять психику, успокаивать взбудораженную душу и прогонять страх — это, можно сказать, одно из важнейших практических приложений “лирики”, вытекающих из ее психологической природы» (79, с. 193).
Ошибочно, таким образом, думать, что музыка непосредственно 305 вызывает боевую эмоцию, она скорее категорически разрешает страх, смуту и нервное волнение, она как бы дает возможность проявиться боевой эмоции, но сама непосредственно ее не вызывает. Это особенно легко увидеть на эротической поэзии, единственный смысл которой, по Толстому, возбуждать в нас похоть чувств, между тем как тот, кто увидит истинную природу лирической эмоции, всегда поймет, что она действует совершенно обратным образом. «Нельзя сомневаться в том, что на все другие эмоции (и аффекты) лирическая эмоция действует смягчающим образом, а нередко и парализует их. Прежде всего так действует она на половое чувство с его эмоциями и аффектами. В эротической поэзии, если только она в самом деле лирична, гораздо меньше соблазна, чем в тех произведениях образного искусства, в которых вопрос любви и пресловутая половая проблема трактуются с целью морального воздействия на читателя» (79, с. 192 – 193). И если Овсянико-Куликовский полагает, что половое чувство, которое очень легко эмоционально возбуждается, вызывается всего сильнее образами и представлениями и что эти образы и представления обезвреживаются в лирике лирической эмоцией и что укрощением полового инстинкта и сбережением его человечество обязано лирике не меньше, если не больше, чем этике, — то он прав только наполовину. Он при этом недооценивает значения других видов искусства, которые он называет образными, и не замечает, что и там эмоции, вызываемые образами, парализуются эмоцией искусства, хотя бы она и не была лирична. Мы видим, таким образом, что теория Толстого не оправдывается даже там, где он видел ее наивысшую правоту, — в искусстве прикладном. Что касается большого искусства — искусства Бетховена и Шекспира, то сам Толстой указал на то, что эта теория там не приложима. И в самом деле, как безотрадно было бы дело искусства в жизни, если бы оно не имело другой задачи, кроме как заражать чувствами одного — многих людей. Его значение и роль были бы при этом чрезвычайно незначительны, потому что в конце концов никакого выхода за пределы единичного чувства, кроме его количественного расширения, мы не имели бы в искусстве. Чудо искусства тогда напоминало бы безотрадное евангельское чудо, когда пятью-шестью хлебами и 306 двенадцатью рыбами была накормлена тысяча человек, и все ели и были сыты, и оставшихся костей набрано двенадцать коробов. Здесь чудо только в количестве — тысяча евших и насытившихся, но каждый ел только рыбу и хлеб, хлеб и рыбу. И не то ли же самое ел каждый из них каждый день в своем доме без всякого чуда?
Если бы стихотворение о грусти не имело никакой другой задачи, как заразить нас авторской грустью, это было бы очень грустно для искусства. Чудо искусства скорее напоминает другое евангельское чудо — претворение воды в вино, и настоящая природа искусства всегда несет в себе нечто претворяющее, преодолевающее обыкновенное чувство, и тот же самый страх, и та же самая боль, и то же волнение, когда они вызываются искусством, заключают в себе еще нечто сверх того, что в них содержится. И это нечто преодолевает эти чувства, просветляет их, претворяет их воду в вино, и таким образом осуществляется самое важное назначение искусства. Искусство относится к жизни, как вино к винограду, — сказал один из мыслителей, и он был совершенно прав, указывая этим на то, что искусство берет свой материал из жизни, но дает сверх этого материала нечто такое, что в свойствах самого материала еще не содержится.
Выходит, таким образом, что чувство первоначально индивидуально, а через произведение искусства оно становится общественным или обобщается. И здесь дело происходит так, будто ничего никогда от себя искусство в это чувство не привносит, и для нас становится совершенно непонятным факт, почему искусство следует рассматривать как акт творческий и чем оно отличается от простого выкрика или от речи оратора, и где же тот трепет, о котором говорил Лонгин, если за искусством признается одна заразительность? Мы должны признать, что ведь наука не просто заражает мыслями одного человека — все общество, техника не просто удлиняет руку человека, так же точно и искусство есть как бы удлиненное, «общественное чувство» или техника чувств, как это мы постараемся показать ниже. Глубоко прав был Плеханов, когда утверждал, что отношения между искусством и жизнью чрезвычайно сложны. Он приводит пример из Тэна, который останавливается на 307 интересном вопросе, почему пейзаж развивался только в городе. Казалось бы, если искусство просто заражает нас теми чувствами, которые сообщает нам жизнь, пейзаж должен был умереть в городе, а между тем история говорит нам совсем обратное. Тэн говорит: «Мы правы, когда восхищаемся диким пейзажем, как они были правы, когда такой пейзаж нагонял на них скуку. Для людей XVII века не было ничего некрасивей настоящей горы, она вызывала в них множество неприятнейших представлений, они были утомлены варварством, как мы утомлены цивилизацией. Эти горы дают нам возможность отдохнуть от наших тротуаров, бюро и лавок, дикий пейзаж нравится нам только по этой причине» (см. 112).
Плеханов указывает на то, что искусство есть иногда не прямое выражение жизни, а антитеза к ней; дело, конечно, не просто в отдыхе, о котором говорит Тэн, но в некоторой антитезе, в том, что в искусстве изживается какая-то такая сторона нашей психики, которая не находит себе исхода в нашей обыденной жизни, и здесь уже, во всяком случае, никак не приходится говорить о простом заражении. Очевидно, действие искусства гораздо сложнее и многообразнее, и с каким бы определением мы ни подошли к искусству, мы всегда увидим, что оно заключает в себе нечто, что отличается от простой передачи чувства. Согласимся ли с Луначарским, что оно есть концентрация жизни (69, с. 29), все равно мы должны будем увидеть, что искусство исходит из определенных жизненных чувств, но совершает некоторую переработку этих чувств, которую не учитывает теория Толстого. Мы видели уже, что эта переработка заключается в катарсисе, превращении этих чувств в противоположные, в разрешении их, и это как нельзя больше согласуется с тем принципом антитезы в искусстве, о котором говорит Плеханов, и мы легко убедимся в этом, если мы только остановимся на вопросе о биологическом значении искусства, если мы поймем, что оно есть не просто средство заражения, но и какое-то неизмеримо более важное средство для человека. Веселовский в «Трех главах из исторической поэтики» прямо указывает, что древнейшая песня и игра возникают из какой-то сложной потребности в катарсисе, хоровая песня за утомительной работой нормирует своим темпом 308 очередное напряжение мускулов, с виду бесцельная игра отвечает бессознательному позыву упражнять и упорядочить мускульную или мозговую силу. Это — потребность для того же психофизического катарсиса, какой был формулирован Аристотелем для драмы, она сказывается и в виртуозном даре слез у женщин племени маори и в повальной слезливости XVIII века; явление то же — разница в выражении и в понимании. Ведь и в поэзии принцип ритма ощущается нами как художественный, и мы забываем его простейшие психофизические начала (см. 26). И лучшим опровержением теории заразительности является вскрытие этих психофизических начал, лежащих в основе искусства, указание на его биологическое значение. Искусство, видимо, разрешает и перерабатывает какие-то в высшей степени сложные стремления организма, и лучшим подтверждением нашего взгляда мы считаем тот факт, что он вполне согласуется с исследованиями Бюхера о происхождении искусства и прекрасно позволяет понять истинную роль и назначение искусства. Как известно, Бюхер установил, что музыка и поэзия возникают из общего начала, из тяжелой физической работы и что они имели задачу катартически разрешить тяжелое напряжение труда. Вот как он формулирует общее содержание рабочих песен:
«1) следуя за ходом работы, они дают знак к одновременному напряжению всех сил;
2) они стараются подстрекнуть товарищей к работе насмешкой, бранью или ссылкой на мнение зрителей;
3) они дают выражение размышлению работающих — о самой работе, о ходе ее, об орудиях работы, — дают исход их радости или недовольству, жалобам на тягость работы и малое вознаграждение;
4) они обращаются с просьбой к самому предпринимателю работы, к надсмотрщику или простому зрителю» (24, с. 173).
Уже здесь оба элемента искусства и их разрешение находят свое место; единственная особенность этих песен в том, что то мучительное и трудное, что должно разрешить искусство, заключено в самом труде. Впоследствии, когда искусство отрывается от работы и начинает существовать как самостоятельная деятельность, оно вносит в самое произведение искусства тот элемент, который прежде составлял труд; то мучительное чувство, 309 которое нуждается в разрешении, теперь начинает возбуждаться самим искусством, но природа его остается той же самой. Поэтому чрезвычайно интересно общее утверждение Бюхера: «Ведь народы древности считали песни необходимым аккомпанементом при всякой тяжелой работе» (24, с. 229). Мы уже видим из этого, что песня, во-первых, организовывала коллективный труд, во-вторых, давала исход мучительному напряжению. Мы увидим, что и на своих самых высших ступенях искусство, видимо отделившись от труда, потеряв с ним непосредственную связь, сохранило те же функции, поскольку оно еще должно систематизировать или организовывать общественное чувство и давать разрешение и исход мучительному напряжению, Квинтилиан выразил ту же самую мысль так: «И кажется, будто бы ее (музыку) сама природа дала нам для того, чтобы легче переносить труд. Например, и гребца побуждает песня, она полезна не только в тех делах, где усилия многих согласуются, но и усталость одного находит себе облегчение в грубой песне».
Искусство, таким образом, первоначально возникает как сильнейшее орудие в борьбе за существование, и нельзя, конечно, допустить и мысли, чтоб его роль сводилась только к коммуникации чувства и чтобы оно не заключало в себе никакой власти над этим чувством. Если бы искусство, как толстовские бабы, умело только вызывать в нас веселость или грусть, оно никогда не сохранилось бы и не приобрело того значения, которое за ним необходимо признать. Прекрасно выразил это Ницше в «Веселой науке», когда указал на то, что в ритме заключено побуждение: «Он порождает непреодолимую охоту подражать, согласовывая с ним не только шаг ноги, но и душа следует такту… Да и было ли для древнего суеверного людского племени что-либо более полезное, чем ритм? С его помощью все можно было сделать, магически помочь работе, принудить бога явиться, приблизиться и выслушать, можно было исправить будущее по своей воле, освободить свою душу от какой-нибудь ненормальности и не только собственную душу, но и душу злейшего из демонов. Без стиха человек был ничто, а со стихом он стал почти богом». И чрезвычайно интересно, как дальше Ницше поясняет, каким путем удавалось искусству приобрести такую 310 власть над человеком. «Когда терялось нормальное настроение и гармония души, надо было танцевать под такт певца — таков был рецепт этой медицины… И прежде всего тем, что доводили до высших пределов опьянение и распущенность аффектов, следовательно, делая беснующегося безумным и мстительного пресыщая местью». И вот эта возможность изживать в искусстве величайшие страсти, которые не нашли себе исхода в нормальной жизни, видимо, и составляет основу биологической области искусства. Все наше поведение есть не что иное, как процесс уравновешивания организма со средой. Чем проще и элементарнее наши отношения со средой, тем элементарнее протекает наше поведение. Чем сложнее и тоньше становится взаимодействие организма и среды, тем зигзагообразнее и запутаннее становятся процессы уравновешивания. Никогда нельзя допустить, чтобы это уравновешивание совершалось до конца гармонически и гладко, всегда будут известные колебания нашего баланса, всегда будет известный перевес на стороне среды или на стороне организма. Ни одна машина, даже механическая, никогда не могла бы работать до конца, используя всю энергию исключительно на полезные действия. Всегда есть такие возбуждения энергии, которые не могут найти себе выход в полезной работе. Тогда возникает необходимость в том, чтобы время от времени разряжать не пошедшую в дело энергию, давать ей свободный выход, чтобы уравновешивать наш баланс с миром. Самые чувства, верно говорит проф. Оршанский, «это — плюсы и минусы нашего баланса» (83, с. 102). И вот эти плюсы и минусы нашего баланса, эти разряды и траты не пошедшей в дело энергии и принадлежат к биологической функции искусства.
Стоит только взглянуть на ребенка, чтобы увидеть, что в нем заключено гораздо больше возможностей жизни, чем те, которые находят свое осуществление. Франк говорит, что если ребенок играет в солдата, разбойника и лошадь, то это потому, что в нем реально заключены и солдат, и лошадь, и разбойник. Принцип, установленный Шеррингтоном, принцип борьбы за общее двигательное поле, ясно показал, что наш организм устроен таким образом, что его нервные рецепторные поля превышают во много раз его эффекторные исполнительные 311 нейроны, и в результате наш организм воспринимает гораздо больше влечений, раздражений, чем он может осуществить. Наша нервная система похожа на станцию, к которой ведут пять путей и от которой отходит только один, из пяти прибывающих на эту станцию поездов только один, и то после жестокой борьбы, может прорваться наружу — четыре остаются на станции. Нервная система таким образом напоминает постоянное, ни на минуту не прекращающееся поле борьбы, а наше осуществившееся поведение есть ничтожная часть того, которое реально заключено в виде возможности в нашей нервной системе и уже вызвано даже к жизни, но не нашло себе выхода. Подобно тому как во всей природе осуществившаяся часть жизни есть ничтожная часть всей жизни, которая могла бы зародиться, подобно тому как каждая родившаяся жизнь оплачена миллионами неродившихся, так же точно и в нервной системе осуществившаяся часть жизни есть меньшая часть реально заключенной в нас. Шеррингтон сравнивал нашу нервную систему с воронкой, которая обращена широким отверстием к миру и узким отверстием к действию. Мир вливается в человека через широкое отверстие воронки72 тысячью зовов, влечений, раздражений, ничтожная их часть осуществляется и как бы вытекает наружу через узкое отверстие. Совершенно понятно, что эта неосуществившаяся часть жизни, не прошедшая через узкое отверстие часть нашего поведения должна быть так или иначе изжита. Организм приведен в какое-то равновесие со средой, баланс необходимо сгладить, как необходимо открыть клапан в котле, в котором давление пара превышает сопротивление его тела. И вот искусство, видимо, и является средством для такого взрывного уравновешивания со средой в критических точках нашего поведения. Уже давно выражалась мысль о том, что искусство как бы дополняет жизнь и расширяет ее возможности. Так, К. Ланге говорит: «Современный культурный человек имеет печальное сходство с домашним животным; ограниченность и однообразие, в которых благодаря размеренной буржуазной жизни, отлитой в определенные общественные формы, протекает жизнь отдельного человека, ведет к тому, что все люди, бедные и богатые, сильные и слабые, одаренные и несчастные, живут неполной и несовершенной 312 жизнью. Можно поистине удивляться, сколь ограниченно количество представлений, чувств и поступков, которые современный человек может переживать и совершать» (149, S. 53).
То же самое отмечает Лазурский, когда поясняет теорию вчувствования ссылкой на роман Толстого. «У Толстого в “Анне Карениной” есть место, где рассказывается, как Анна читает какой-то роман и ей хочется делать то, что делают герои этого романа: бороться, побеждать вместе с ними, ехать вместе с героем романа в его поместье и т. д.» (67, с. 240).
Такого же, в общем, мнения придерживается и Фрейд, когда смотрит на искусство как на средство примирения двух враждебных принципов — принципа удовольствия и принципа реальности (119, с. 87 – 88).
И несомненно, что, поскольку речь идет о жизненном значении, все эти авторы гораздо больше правы, чем те, которые, подобно Грент-Аллену, полагают, что «эстетическими являются те чувствования, которые освободились от связи с практическими интересами». Это близко напоминает формулу Спенсера, который полагал, что красиво то, что когда-то было полезно и теперь перестало им быть. Развитая до своих последних пределов эта точка зрения приводит к теории игры, которой придерживались многие философы и которой дал высшее выражение Шиллер. Эта теория искусства как игры имеет то существенное против себя возражение, что она никак не позволяет нам понять искусство как творческий акт и что она сводит искусство к биологической функции упражнения органов, то есть в конечном счете к чрезвычайно незначительному у взрослого человека факту. Гораздо сильнее все те теории, которые показывают, что искусство есть необходимый разряд нервной энергии и сложный прием уравновешивания организма и среды в критические минуты нашего поведения. Только в критических точках нашего пути мы обращаемся к искусству, и это позволяет нам понять, почему предложенная нами формула раскрывает искусство именно как творческий акт. Для нас совершенно понятно, если мы глядим на искусство как на катарсис, что искусство не может возникнуть там, где есть просто живое и яркое чувство. Даже самое искреннее чувство само по себе не в состоянии создать искусство. И для этого ему не хватает 313 не просто техники и мастерства, потому что даже чувство, выраженное техникой, никогда не создает ни лирического стихотворения, ни музыкальной симфонии; для того и другого необходим еще и творческий акт преодоления этого чувства, его разрешения, победы над ним, и только когда этот акт является налицо, только тогда осуществляется искусство. Вот почему и восприятие искусства требует творчества, потому что и для восприятия искусства недостаточно просто искренне пережить то чувство, которое владело автором, недостаточно разобраться и в структуре самого произведения — необходимо еще творчески преодолеть свое собственное чувство, найти его катарсис, и только тогда действие искусства скажется сполна. Вот почему для нас становится вполне понятен совершенно правильный взгляд Овсянико-Куликовского, что роль военной музыки сводится вовсе не к тому, что она вызывает боевые эмоции, а скорее к тому, что она, уравновешивая в общем организм в этот критический для него момент со средой, дисциплинирует, упорядочивает его работу, дает нужный разряд его чувству, прогоняет страх и как бы открывает свободный путь для храбрости. Искусство, таким образом, никогда прямо не порождает из себя того или иного практического действия, оно только приуготовляет организм к этому действию. Очень остроумно замечает Фрейд, что испуганный человек, когда видит опасность, страшится и бежит. Но полезным, говорит он, является то, что он бежит, а не то, что он боится. В искусстве как раз наоборот: полезным является сам по себе страх, сам по себе разряд человека, который создает возможность для правильного бегства или нападения. И в этом, конечно, заключается та экономизация наших чувств, о которой говорит Овсянико-Куликовский: «Гармонический ритм лирики создает эмоции, отличающиеся от большинства других эмоций тем, что они, эти “лирические эмоции”, экономизируют психическую силу, внося стройный порядок в “душевное хозяйство”» (79, с. 194).
Это не та экономия, о которой мы говорили в самом начале, это не просто стремление избежать всякой психической затраты — в этом смысле искусство не подчинено принципу экономии сил, наоборот, оно заключается в бурной и взрывной трате сил, в расходе души, в разряде энергии. То же самое произведение искусства, 314 воспринятое холодно, прозаически, или переработанное для такого понимания, гораздо более экономизирует силу, чем соединенное с действием художественной формы. Будучи само по себе взрывом и разрядом, искусство все же вносит действительно строй и порядок в наши расходы души, в наши чувства. И, конечно, та трата энергии, которую производила Анна Каренина, переживая вместе с героями романа их чувства, есть экономизация душевных сил по сравнению с действительным и реальным переживанием чувства.
Еще яснее становится этот принцип экономизации чувств в более сложном и глубоком значении, чем то, которое придавал ему Спенсер, если мы попытаемся выяснить социальное значение искусства. Искусство есть социальное в нас73, и если его действие совершается в отдельном индивидууме, то это вовсе не значит, что его корни и существо индивидуальны. Очень наивно понимать социальное только как коллективное, как наличие множества людей. Социальное и там, где есть только один человек и его личные переживания. И поэтому действие искусства, когда оно совершает катарсис и вовлекает в этот очистительный огонь самые интимные, самые жизненно важные потрясения личной души, есть действие социальное. Дело происходит не таким образом, как изображает теория заражения, что чувство, рождающееся в одном, заражает всех, становится социальным, а как раз наоборот. Переплавка чувств вне нас совершается силой социального чувства, которое объективировано, вынесено вне нас, материализовано и закреплено во внешних предметах искусства, которые сделались орудиями общества. Существеннейшая особенность человека, в отличие от животного, заключается в том, что он вносит и отделяет от своего тела и аппарат техники и аппарат научного познания, которые становятся как бы орудиями общества. Так же точно и искусство есть общественная техника чувства, орудие общества, посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые интимные и самые личные стороны нашего существа. Правильнее было бы сказать, что чувство не становится социальным, а, напротив, оно становится личным, когда каждый из нас переживает произведение искусства, становится личным, не переставая при этом оставаться социальным. «… Искусство, — 315 говорит Гюйо, — есть конденсация действительности, оно нам показывает человеческую машину под более сильным давлением. Оно старается представить нам более жизненных явлений, чем их было в прожитой нами жизни». И эта концентрированная жизнь в искусстве, конечно же, оказывает не только влияние на наши чувства, но и на нашу волю, «потому что в чувстве есть зачаток воли» (43, с. 56 – 57). И Гюйо совершенно прав, когда он придает колоссальное значение той роли, которую искусство играет в обществе. Оно вводит все больше и больше действие страсти, оно создает нарушение внутреннего равновесия, видоизменение воли в новом смысле, оно формулирует для ума и оживляет для чувства такие эмоции, страсти и пороки, которые без него остались бы в неопределенном и неподвижном состоянии. Оно «выговаривает слово, которого мы искали, заставляет звучать струну, которая была только натянута и нема. Произведение искусства есть центр притяжения, совсем так, как деятельная воля высшего гения, если Наполеон увлекает волю, то Корнель и Виктор Гюго увлекают ее не менее, хотя на другой лад… Кто знает число преступлений, подстрекателями которых были и еще есть романы с убийствами? Кто знает число действительных распутств, которые навлекло изображение распутства?» (43, с. 349). Здесь Гюйо ставит вопрос слишком примитивно и просто, когда представляет себе, что искусство непосредственно вызывает те или иные эмоции. На деле так никогда не бывает. Изображение убийства вовсе не вызывает убийства. Сцена прелюбодеяния вовсе не толкает на разврат; отношения искусства и жизни очень сложны, и в самом приблизительном виде их можно охарактеризовать следующим образом.
Геннекен видит различие эстетической и реальной эмоции в том, что эстетическая немедленно не выражается никаким действием. Однако он говорит, что при многократном повторении эти эмоции ложатся в основу поведения личности и что род чтения может повлиять на свойство личности. «Эмоция, сообщенная художественным произведением, не способна выражаться в действиях непосредственно, немедленно — и в этом отношении эстетические чувствования резко разнятся от реальных. Но, служа сами себе целью, сами в себе находя оправдание и не выражаясь сразу практическим действием, 316 эстетические эмоции способны, накопляясь и повторяясь, привести к существенным практическим результатам. Эти результаты обусловлены и общим свойством эстетической эмоции и частными свойствами каждой из этих эмоций. Многократные упражнения какой-нибудь определенной группы чувств под влиянием вымысла, нереальных умонастроении и вообще причин, которые не могут вызывать действия, отучая человека от активных проявлений, несомненно ослабляют и общее свойство реальных эмоций — стремление их выразиться действием…» (33, с. 110 – 111). Геннекен вносит две очень существенные поправки в вопрос, но все еще решает его чрезвычайно примитивно. Он прав, указывая на то, что эстетическая эмоция немедленно не вызывает действия, что она сказывается в изменении установки, он прав и в том, что она не только не вызывает тех действий, о которых говорит, но, наоборот, отучает от них. Пользуясь примером Гюйо, можно было бы сказать, что чтение романов, в которых описано убийство, не только не подстрекает к убийству, но, наоборот, отучает от него, но и эта точка зрения Геннекена, хотя она и правильнее первой, все еще чрезвычайно примитивна и груба по сравнению с той тонкой функцией, которая выпадает на долю искусства. Мысль теоретиков здесь разрешается в очень простой альтернативе: или подстрекает или отучает. На деле искусство производит неизмеримо более сложное действие над нашими страстями, выходя далеко за пределы этих простейших двух возможностей. Андрей Белый где-то говорит, что, слушая музыку, мы переживаем то, что должны чувствовать великаны. Прекрасно выражено это высокое напряжение искусства в «Крейцеровой сонате» Толстого. Вот как говорит о ней рассказчик. «Знаете ли вы первое престо? Знаете?! — воскликнул он. — У!.. Страшная вещь эта соната. Именно эта часть. И вообще страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим душу образом — вздор, неправда! Она действует, страшно действует, я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует ни возвышающим, ни принижающим душу образом, а раздражающим душу образом. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение, 317 она переносит меня в какое-то другое, не свое положение: мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу…
Она, музыка, сразу, непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое, но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, — Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии, — это состояние привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла; сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла; ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла, а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, — нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует. В Китае музыка государственное дело. И это так и должно быть…
А то страшное средство в руках кого попало. Например, хоть бы эту Крейцерову сонату, первое престо. Разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам это престо? Сыграть и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи можно играть только при известных, важных, значительных обстоятельствах, и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке важные поступки. Сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка. А то несоответственное ни месту, ни времени вызывание энергии, чувства, ничем не проявляющегося, не может не действовать губительно» (104, с. 60 – 62).
Отрывок из «Крейцеровой сонаты» языком рядового слушателя очень правдиво рассказывает о непонятном и страшном действии музыки. Здесь обнажается новая сторона эстетической реакции, именно то, что она есть не просто разряд впустую, холостой выстрел, она есть реакция в ответ на произведение искусства и новый сильнейший раздражитель для дальнейших поступков. Искусство требует ответа, побуждает к известным действиям и поступкам, и Толстой очень правильно сравнивает действие бетховенской музыки с действием плясового 318 мотива или марша. Там музыкальное возбуждение разрешено в какой-то реакции — наступает чувство удовлетворения и покоя; здесь музыка повергает нас в крайнее смятение и беспокойство, потому что она вызывает, обнажает целые силы тех стремлений, которые могут разрешиться только в исключительно важных и героических поступках. И когда вслед за этой музыкой следует разговор о сплетне, среди декольтированных дам, и мороженое — эта музыка оставляет в душе состояние необычайного беспокойства, напряжения и даже смуты. Ошибка героя Толстого заключается только в том, что это раздражающее действие музыки ему представляется совершенно похожим на действие военного марша. Он не отдает себе отчета в том, что действие музыки сказывается неизмеримо тоньше, сложнее, путем, так сказать, подземных толчков и деформаций нашей установки. Оно может сказаться когда-нибудь совершенно необыденно, хотя в немедленном действии оно не получит своего осуществления. Но две черты подмечены в этом описании с исключительной верностью. Это, во-первых, то, что музыка побуждает нас к чему-то, действует на нас раздражающим образом, но самым неопределенным, то есть таким, который непосредственно не связан ни с какой конкретной реакцией, движением, поступком. В этом видим мы доказательство того, что она действует просто катартически, то есть проясняя, очищая психику, раскрывая и вызывая к жизни огромные и до того подавленные и стесненные силы. Но это есть уже последствие искусства, а не его действие, скорее его след, чем его эффект. Вторая черта, которая подмечена в этом описании верно, заключается в том, что за музыкой признается какая-то принудительная власть, и автор прав, когда говорит, что музыка должна быть государственным делом. Этим он хочет только сказать, что она есть дело общественное. По прекрасному выражению одного из исследователей, когда мы воспринимаем какое-либо произведение искусства, нам кажется, что мы выполняем исключительно индивидуальную реакцию, связанную только с нашей личностью. Нам кажется, что к социальной психологии этот акт не имеет никакого отношения. Но это такое же заблуждение, как если человек, который вносит в государственное казначейство налог, думает и обсуждает этот акт исключительно с точки зрения своего 319 личного хозяйства, не понимая, что тем самым он принимает совершенно неведомо для себя участие в сложном государственном хозяйстве и в этом акте уплаты налога сказывается его участие в сложнейших предприятиях государства, о которых он и не подозревает. Вот почему неправ Фрейд, когда полагает, что человек стоит лицом к лицу с природной реальностью и что искусство может быть выведено из чисто биологической разности между принципом удовольствия, к которому тяготеют наши влечения, и принципом реальности, который заставляет их отказываться от удовольствия. Между человеком и миром стоит еще социальная среда, которая по-своему преломляет и направляет и всякое раздражение, действующее извне к человеку, и всякую реакцию, идущую от человека вовне. В таком случае для прикладной психологии бесконечно значителен и важен тот факт, что и в переживании рядового слушателя, как это засвидетельствовал Толстой, музыка есть великое и страшное дело. Она побуждает к действию, и если военный марш разрешается в том, что солдаты браво проходят под музыку, то в каких же исключительных и грандиозных поступках должна реализоваться музыка Бетховена, Еще раз повторяю: сама по себе и непосредственно она как бы изолирована от нашего ежедневного поведения, она непосредственно ни к чему не влечет нас, она создает только неопределенную и огромную потребность в каких-то действиях, она раскрывает путь и расчищает дорогу самым глубоко лежащим нашим силам; она действует подобно землетрясению, обнажая к жизни новые пласты, и, конечно, неправ Геннекен и подобные ему, когда утверждают, что в целом искусство скорее возвращает нас к атавизму, чем направляет нас вперед. Если музыка не диктует непосредственно тех поступков, которые должны за ней последовать, то все же от ее основного действия, от того направления, которое она дает психическому катарсису, зависит и то, какие силы она придаст жизни, что она высвободит и что оттеснит вглубь. Искусство есть скорее организация нашего поведения на будущее, установка вперед, требование, которое, может быть, никогда и не будет осуществлено, но которое заставляет нас стремиться поверх нашей жизни к тому, что лежит за ней.
Поэтому искусство можно назвать реакцией, отсроченной 320 по преимуществу, потому что между его действием и его исполнением лежит всегда более или менее продолжительный промежуток времени. Отсюда, однако, не следует, чтобы действие искусства было сколько-нибудь таинственно, мистично или требовало для своего объяснения каких-нибудь новых понятий и законов, чем те, которые устанавливает психолог при анализе обычного поведения. Все то, что совершает искусство, оно совершает в нашем теле и через наше тело, и примечателен тот факт, что такие исследователи, как Рутц и Сивере, запятые преимущественно процессами восприятия, а не влиянием действия искусства, должны говорить о зависимости восприятия искусства от определенной установки мускулатуры тела. Рутц первый выдвинул мысль о том, что всякое действие искусства непременно связано с определенным типом установки мускулатуры. Сиверс продолжил его мысль и распространил ее на созерцание произведений пластических искусств. Другие исследователи указали на связь, которая существует между основной органической установкой автора и той, которая выражается в его произведениях. Недаром искусство с самых древних времен рассматривалось как часть и как средство воспитания, то есть известного длительного изменения нашего поведения и нашего организма. Все то, о чем говорится в этой главе, — все прикладное значение искусства в конечном счете и сводится к его воспитывающему действию, и все авторы, которые видят родство между педагогикой и искусством, получают неожиданное подтверждение своим мыслям со стороны психологического анализа. Мы, таким образом, переходим непосредственно к последнему занимающему нас вопросу — к вопросу о практическом жизненном действии искусства, к вопросу о его воспитательном значении.
Это воспитательное значение искусства и связанная с ним практика естественно распадаются на две сферы: мы имеем, с одной стороны, критику художественного произведения как основную общественную силу, которая пролагает пути искусству, оценивает его и назначение которой как бы специально заключается в том, чтобы служить передаточным механизмом между искусством и обществом. Можно сказать, что с психологической точки зрения роль критики сводится к организации 321 последствий искусства. Она дает известное воспитательное направление его действию, и, сама не имея силы вмешаться в его основной эффект, она становится между этим эффектом искусства как такового и между теми поступками, в которых этот эффект должен разрешиться.
Задача критики, таким образом, с нашей точки зрения, совсем не та, какую приписывали ей обычно. Она не имеет вовсе задачи и цели истолкования художественного произведения, она не заключает в себе и моментов подготовки зрителя или читателя к восприятию художественного произведения. Можно прямо сказать, что никто еще не стал читать иначе какого-нибудь писателя, после того что начитался о нем критиков. Задача критики только наполовину принадлежит к эстетике, наполовину она общественная педагогика и публицистика. Критик приходит к рядовому потребителю искусства, скажем, к толстовскому герою из «Крейцеровой сонаты» в ту смутную для него минуту, когда он под непонятной и страшной властью музыки не знает, во что она должна разрешиться, во что она выльется, какие колеса она приведет в движение. Критик и хочет быть той организующей силой, которая является и вступает в действие, когда искусство уже отторжествовало свою победу над человеческой душой и когда эта душа ищет толчка и направления для своего действия. Из такой двойственной природы критики возникает, естественно, и двойственность стоящих перед ней задач, и критика, которая заведомо и сознательно прозаизирует искусство, устанавливая его общественные корни, указывая на ту жизненную социальную связь, которая существует между фактом искусства и общими фактами жизни, призывает наши сознательные силы на то, чтобы известным образом противодействовать или, наоборот, содействовать тем импульсам, которые заданы искусством. Эта критика заведомо делает скачок из области искусства в потустороннюю для него область социальной жизни, но для того только, чтобы направить возбужденные искусством силы в социально нужное русло. Кто не знает того простейшего факта, что художественное произведение действует совершенно по-разному на разных людей и может привести к совершенно различным результатам и последствиям. Как нож и как всякое другое орудие, оно 322 само по себе не хорошо и не дурно, или, вернее сказать, заключает в себе огромные возможности и дурного и хорошего, и все зависит от того, какое употребление и какое назначение мы дадим этому орудию. Нож в руках хирурга и нож в руках ребенка, как гласит банальный и избитый пример, расценивается совершенно по-разному. Но это только одна половина задач критики. Другая половина заключается в том, чтобы сохранить действие искусства как искусства, не дать читателю расплескать возбужденные искусством силы и подменить его могучие импульсы пресными протестантскими рационально-моральными заповедями. Часто не понимают, почему же необходимо не только дать осуществиться действию искусства, взволноваться искусством, но объяснить его, и как это можно сделать так, чтобы объяснение не убило волнение. Но легко показать, что объяснение это необходимо, потому что поведение наше организуется по принципу единства, и единство это осуществляется главным образом через наше сознание, в котором непременно должно быть представлено каким-нибудь образом всякое ищущее выхода волнение. Иначе мы рискуем создать конфликт, и произведение искусства вместо катарсиса нанесет рану, с человеком произойдет то, о чем рассказывает Толстой, когда, испытывая в душе смутное и непонятное волнение, он чувствует себя подавленным, бессильным и смущенным. Но это вовсе не значит, что объяснение убивает тот трепет в поэзии, о котором говорил Лонгин. Просто они лежат в разных плоскостях. И вот этот второй момент, момент сохранения художественного впечатления, всегда сознавался теоретиками как момент решающей важности для критики, но игнорированием его всегда грешила на деле наша критика. Она подходила к искусству так, как к парламентской речи, как к факту внеэстетическому, она считала своей задачей уничтожить его действие, для того чтобы раскрыть его значение. Плеханов прекрасно сознавал, что разыскание социологического эквивалента всякого художественного произведения составляет первую половину задач критики. «Это значит, — говорил он, толкуя Белинского, — что за оценкой идеи художественного произведения должен был следовать анализ его художественных достоинств. Философия не устраняла эстетики, а, наоборот, прокладывала для нее путь, старалась 323 найти для нее прочное основание. То же надо сказать и о материалистической критике. Стремясь найти общественный эквивалент данного литературного явления, критика эта изменяет своей собственной природе, если не понимает, что дело не может ограничиться нахождением этого эквивалента и что социология должна не затворять двери перед эстетикой, а, напротив, настежь раскрывать их перед нею. Вторым актом верной себе материалистической критики должна быть, — как это было и у критиков-идеалистов, — оценка эстетических достоинств разбираемого произведения… Определение социологического эквивалента всякого данного литературного произведения осталось бы неполным, а следовательно, и неточным в том случае, если бы критик уклонился от оценки его художественных достоинств. Иначе сказать, первый акт материалистической критики не только не устраняет надобности во втором акте, но предполагает его, как свое необходимое дополнение» (88, с. 128 – 129).
В сходном положении оказывается и проблема искусства в воспитании, которая тоже совершенно явно распадается на два акта, которые один без другого не могут существовать. У нас до последнего времени в школе, так же как и в критике, господствовал публицистический взгляд на искусство. Ученики заучивали ложные и фальшивые социологические формулы по поводу того или иного произведения искусства. «В настоящее время, — говорит Гершензон, — мальчиков дубиной гонят к Пушкину, как скот к пойлу, и дают им пить не живую воду, а химическое разложение H2O» (34, с. 46). Однако было бы совершенно ложно сделать отсюда тот вывод, который делает автор: вся система школьного преподавания искусства несомненно ложна от начала до конца; под видом истории общественной мысли, отразившейся в литературе, наши учащиеся усваивали и лжелитературу и лжесоциологию. Но значит ли это, что возможно преподавание искусства вне всякого социологического фундамента и что можно, только следуя прихоти собственного вкуса, переходить от понятия к понятию и от «Илиады» к Маяковскому. К такому выводу примерно приходит Айхенвальд, когда он утверждает, что литературу преподавать в школе невозможно, да и не нужно. «… Можно ли и должно ли вообще преподавать литературу? — спрашивает 324 он. — Ведь она, как и другие искусства, необязательна. Ведь она представляет собою игру и цветение духа… Допустимо ли разучивать, как урок, то, что Татьяна влюбилась в Онегина, или что Лермонтову было и скучно, и грустно, и вечно любить невозможно?..» (5, с. 103).
Мысль автора сводится к тому, что преподавать литературу невозможно, что надо ее вывести за скобки, за рамки школьного дела, потому что она требует какого-то иного творческого акта, чем все остальные школьные предметы. Но при этом автор исходит из довольно убогой эстетики и все его выводы легко открывают свою слабую сторону, когда мы обратимся к его основному положению: «Читать — наслаждаться, а можно ли к наслаждению обязывать?» Если действительно читать — значит наслаждаться, тогда, конечно, литература не поддается преподаванию и ей не место в школе, хотя говорят, что и искусство наслаждения поддается воспитанию. Конечно, плоха была наша школа, которая изгоняла из уроков литературы всякую литературу. «В настоящее время объяснительное чтение преследует главным образом задачи объяснения содержания читаемого. Но при таком понимании задач объяснительного чтения поэзия как таковая на уроках его отсутствует: например, совершенно утрачивается различие между басней Крылова и прозаическим изложением содержания ее» (20, с. 160 – 161). Отсюда, из отрицания такого положения дел Гершензон приходит к выводу: «Поэзия не может и не должна быть обязательным предметом преподавания; пора вернуть ей то место райского гостя на земле, свободно любимого, какое она занимала в древнейшую эпоху, тогда она снова станет, как в те времена, подлинной наставницей народа в его массе» (34, с. 47). Здесь совершенно ясна принципиальная основа этого взгляда — поэзия есть райский гость на земле, ее роль надо свести к роли, какую она играла в древнейшую эпоху. А то, что древнейшая эпоха исчезла безвозвратно и что ни одна решительно вещь в наше время не играет той роли, которую играла тогда, этого Гершензон не замечает именно потому, что считает искусство принципиально отличающимся от всех остальных деятельностей человека. Искусство для него какой-то мистический духовный акт, который никогда не может быть воссоздан из изучения реальных сил психики. По его мнению, поэзия принципиально 325 не поддается научному изучению. «Одной из тяжелых ошибок современной культуры, — говорит он, — является распространение научного, точнее, естественнонаучного метода на изучение поэзии» (34, с. 41). То, что современный исследователь считает за единственную возможность для правильной разгадки искусства, то кажется Гершензону величайшей ошибкой современной культуры.
Будущие исследования, вероятно, покажут, что акт искусства есть не мистический и небесный акт нашей души, а такой же реальный акт, как и все остальные движения нашего существа, но только он превосходит своей сложностью все прочие. И наше исследование обнаружило, как мы говорили выше, что акт искусства есть творческий акт и не может быть воссоздан путем чисто сознательных операций, но если самое важное в искусстве сводится к бессознательному и к творческому — значит ли это, что всякие сознательные моменты и силы вовсе из него устранены? Обучить творческому акту искусства нельзя; но это вовсе не значит, что нельзя воспитателю содействовать его образованию и появлению. Через сознание мы проникаем в бессознательное74, мы можем известным образом так организовать сознательные процессы, чтобы через них вызвать процессы бессознательные, и кто не знает, что всякий акт искусства непременно включает как свое обязательное условие предшествующие ему акты рационального познания, понимания, узнавания, ассоциации и т. п. Было бы ложно думать что последующие бессознательные процессы не зависят от того направления, какое мы дадим процессам сознательным; организуя известным образом сознание, идущее навстречу искусству, мы заранее обеспечиваем успех или проигрыш этому произведению искусства, и потому очень прав С. Моложавый, когда говорит, что акт искусства есть «осуществленный процесс нашей реакции на явление, хотя бы не приведший к действию. Процесс этот… расширяет личность, обогащает ее новыми возможностями, предрасполагает к законченной реакции на явление, то есть поведению, имеет по природе своей воспитывающее значение… Потебня неправ, трактуя художественный образ как сгусток мысли — и мысль и образ есть сгусток установки сознания по отношению к явлению или же установка 326 психики, которая вытекала из целого ряда позиций, имеющих подготовительное значение для данной позиции… Но это не дает нам права смешивать, сливать оба эти биологические пути, оба эти психологические процессы на том, например, неопределенном основании, что и мысль и художественный образ есть акт творчества; наоборот, необходимо выявить все их своеобразие, чтобы взять от каждого из них все полностью. В конкретности художественного образа, обусловленного своеобразием ведущего к нему жизненно-психологического пути, — его громадная сила, зажигающая чувство, возбуждающая волю, повышающая энергию, предрасполагающая и подготовляющая к действию» (74, с. 78, 80, 81).
Эти рассуждения нуждаются только в одной существенной поправке, когда мы из области общей психологии переходим к психологии детской. Здесь при определении жизненной роли и влияния искусства приходится учесть те специфические особенности, с которыми встречается исследователь, подходя к ребенку. Это составляет задачу, конечно, особого исследования, потому что и область детского искусства и реакция ребенка на нее существенно отличаются от искусства взрослого. Но в самых кратких и сжатых словах можно наметить все же основную линию этого вопроса, как она пролегает через детскую психологию. Две вещи поразительны в детском искусстве: во-первых, это раннее наличие специальной установки, которой требует искусство и которая несомненно указывает на психологическое родство искусства и игры для ребенка. «Прежде всего важен тот факт, — говорит Бюлер, — что ребенок так рано применяет ту правильную, чуждую действительности установку, которую требует сказка, что он может всецело углубляться в чужие подвиги и следовать за сменой образов в сказке как таковой. Мне кажется, что он утрачивает эту способность в реалистический период своего развития, которая возвращается к нему снова в позднейшие годы…» (23, с. 369). Однако искусство у ребенка75, видимо, не выполняет тех именно функций, которые оно выполняет в поведении взрослого человека. Лучшим доказательством этого служит детский рисунок, который еще ни в малой степени не входит в область художественного творчества. Ему совершенно незнакомо важное понимание того, что 327 сама линия одним свойством своего построения может сделаться непосредственным выражением настроения и волнения души, и способность передать в позе и в жестах выразительные движения людей и животных развивается в нем чрезвычайно медленно вследствие различных причин, во главе которых стоит тот основной факт, что ребенок рисует не явления, а схемы. И если Селли и некоторые другие авторы утверждали обратное, то они, видимо, давали ложное истолкование некоторым фактам и не замечали той простой вещи, что детский рисунок это еще не искусство для ребенка. Его искусство своеобразно и отлично от искусства взрослого, но одна чрезвычайно интересная черта сходна у ребенка и у взрослого, и эту черту, как важнейшую в искусстве, следует отметить в заключение. Только недавно исследователи обратили внимание на то, какую громадную роль в детском искусстве играют те «лепые нелепицы», те «забавные бессмыслицы», которые достигаются в детском стишке перестановкой самых обычных жизненных явлений. «Чаще всего желанный абсурд достигается в детской песне тем, что неотъемлемые функции предмета А навязываются предмету Б, а функции предмета Б навязываются предмету А…
Пустынник спросил у меня, сколько земляники растет на дне моря?
Я ответил ему: столько же, сколько красных селедок вырастает в лесу.
Для восприятия этих игровых стихов ребенку необходимо твердое знание истинного положения вещей: селедки живут только в море, земляника — только в лесу. Небывальщина необходима ему лишь тогда, когда он хорошо утвердится в бывальщине». И нам думается, что глубоко верна та догадка, что этот частый вид детского искусства очень близко стоит к игре и очень хорошо поясняет нам роль и значение искусства в детской жизни. «Вообще у нас далеко еще не всеми усвоено, какая огромная связь существует между детскими стишками и детскими играми. Оценивая, например, книгу для малолетних детей, критики нередко забывают применять к этим книгам критерий игры, а между тем большинство сохранившихся в народе детских песен не только возникли из игр, но и сами по себе есть игра: игра словами, игра ритмами, звуками… Во всех этих путаницах соблюдается, в сущности, идеальный порядок. У этого безумия 328 есть система. Вовлекая ребенка в topsy-turvy world, в перевернутый мир, мы не только не наносим ущерба его интеллектуальной работе, но, напротив, способствуем ей, ибо у ребенка у самого есть стремление создать себе такой перевернутый мир, чтобы тем вернее утвердиться в законах, управляющих миром реальным. Эти нелепицы были бы опасны ребенку, если бы они заслонили подлинные, реальные взаимоотношения идей и вещей. Но они не только не заслоняют их, они их выдвигают, оттеняют, подчеркивают. Они усиливают (а не ослабляют) в ребенке ощущение реальности» (126, с. 188).
В самом деле: мы видим и здесь, как искусство двоится и как для его восприятия необходимо созерцать сразу и истинное положение вещей, и отклонение от итого положения, и как из такого противоречивого восприятия возникает эффект… искусства, и если даже нелепица есть для ребенка орудие овладения реальностью, то мы действительно начинаем понимать, почему крайние левые в нашем искусстве выдвигают формулу: искусство как метод строения жизни. Они говорят, что искусство есть жизнестроение потому, что «действительность куется из выявления и сшибания противоречий» (125, с. 35). И когда они критикуют искусство как познание жизни и взамен этого выдвигают идею диалектического чувствования мира через материю — они совершенно совпадают с теми законами искусства, которые раскрывает психология. «Искусство есть своеобразный, эмоциональный по преимуществу… диалектический подход к строению жизни» (125, с. 36).
И отсюда становится уже совершенно ясной та роль, которая ожидает искусство в будущем. Трудно гадать, какие формы примет эта неизвестная жизнь будущего и еще труднее сказать, какое место займет в этой будущей жизни искусство. Ясно только одно: возникая из реальности и направляясь на нее же, искусство будет определяться самым тесным образом тем основным строем, который примет жизнь.
«В грядущем положение и роль искусства, — говорит Фриче, — едва ли значительно изменятся по сравнению с настоящим, и социалистическое общество представит в этом отношении не противоположность капиталистического, а его органическое продолжение» (123, с. 211).
Если смотреть на искусство как на украшение жизни, 329 тогда такая точка зрения, конечно, весьма допустима, но она коренным образом противоречит тем законам искусства, которые открывает психологическое исследование. Оно показывает, что искусство есть важнейшее средоточие всех биологических и социальных процессов личности в обществе, что оно есть способ уравновешивания человека с миром в самые критические и ответственные минуты жизни. И это коренным образом опровергает взгляд на искусство как на украшение и заставляет сомневаться в только что приведенном прогнозе. Поскольку в плане будущего несомненно лежит не только переустройство всего человечества на новых началах, не только овладение социальными и хозяйственными процессами, но и «переплавка человека», постольку несомненно переменится и роль искусства.
Нельзя и представить себе, какую роль в этой переплавке человека призвано будет сыграть искусство, какие уже существующие, но бездействующие в нашем организме силы оно призовет к формированию нового человека. Несомненно только то, что в этом процессе искусство скажет самое веское и решающее слово. Без нового искусства не будет нового человека76. И возможности будущего также непредвидимы и неисчислимы наперед для искусства, как и для жизни; как сказал Спиноза: «Того, к чему способно тело, никто еще не определил».
330 Приложение
И. Бунин
Легкое дыхание13*
На кладбище, над свежей глиняной насыпью, стоит новый крест из дуба, крепкий, тяжелый, гладкий, такой, что на него приятно смотреть.
Апрель, но дни серые; памятники кладбища, просторного, настоящего уездного, еще далеко видны сквозь голые деревья, и холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножия креста.
В самый же крест вделан довольно большой бронзовый медальон, а в медальоне — фотографический портрет нарядной и прелестной гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами.
Это Оля Мещерская.
Девочкой она ничем не выделялась в той шумной толпе коричневых платьиц, которая так нестройно и молодо гудит в коридорах и классах; что можно было сказать о ней, кроме того, что она из числа хорошеньких, богатых и счастливых девочек, что она способна, но шаловлива и очень беспечна к тем наставлениям, которые делает ей классная дама? Затем она стала расцветать, развиваться не по дням, а по часам. В четырнадцать лет у нее, при тонкой талии и стройных ножках, уже хорошо обрисовались груди и все те формы, очарование которых еще никогда не выразило человеческое слово; в пятнадцать она 331 слыла красавицей. Как тщательно причесывались некоторые ее подруги, как чистоплотны были, как следили за своими сдержанными движениями! А она ничего не боялась — ни чернильных пятен на пальцах, ни раскрасневшегося лица, ни растрепанных волос, ни заголившегося при падении на бегу колена. Без всяких ее забот и усилий и как-то незаметно пришло к ней все то, что так отличало ее в последние два года из всей гимназии, — изящество, нарядность, ловкость, ясный, но сметливый блеск глаз. Никто не танцевал так, как Оля Мещерская, никто не бегал так на коньках, как она, ни за кем на балах не ухаживали столько, сколько за ней, и почему-то никого не любили так младшие классы, как ее. Незаметно стала она девушкой, и незаметно упрочилась ее гимназическая слава, и уже пошли толки, что она ветрена, что она не может жить без поклонников, что в нее безумно влюблен гимназист Шеншин, что будто бы и она его любит, но так изменчива в обращении с ним, что он покушался на самоубийство…
Последнюю свою зиму Оля Мещерская совсем сошла с ума от веселья, как говорили в гимназии. Зима была снежная, солнечная, морозная, рано опускалось солнце за высокий ельник снежного гимназического сада, но неизменно погожее, лучистое, обещающее и на завтра мороз и солнце, гулянье на Соборной улице, каток в городском саду, розовый вечер, музыку и эту во все стороны скользящую толпу, в которой Оля Мещерская казалась самой нарядной, самой беззаботной, самой счастливой. И вот однажды, на большой перемене, когда она вихрем носилась по сборному залу от гонявшихся за ней и блаженно визжавших первоклассниц, ее неожиданно позвали к начальнице. Она с разбегу остановилась, сделала только один глубокий вздох, быстрым и уже привычным движением оправила волосы, дернула уголки передника к плечам и, сияя глазами, побежала наверх. Начальница, небольшая, моложавая, но седая, спокойно сидела с вязаньем в руках за письменным столом, под царским портретом.
— Здравствуйте, m-lle Мещерская, — сказала она по-французски, не поднимая глаз от вязанья. — Я, к сожалению, уже не первый раз принуждена призывать вас сюда, чтобы говорить с вами относительно вашего поведения.
— Я слушаю, madame, — ответила Мещерская, подходя 332 к столу, глядя на нее ясно и живо, но без всякого выражения на лице, и присела так легко и грациозно, как только она одна умела.
— Слушать вы меня будете плохо, я, к сожалению, убедилась в этом, — сказала начальница и, потянув нитку и завертев на лакированном полу клубок, на который с любопытством посмотрела Мещерская, подняла глаза: — Я не буду повторяться, не буду говорить пространно, — сказала она.
Мещерской очень нравился этот необыкновенно чистый и большой кабинет, так хорошо дышавший в морозные дни теплом блестящей голландки и свежестью ландышей на письменном столе. Она посмотрела на молодого царя, во весь рост написанного среди какой-то блистательной залы, на ровный пробор в молочных, аккуратно гофрированных волосах начальницы и выжидательно молчала.
— Вы уже не девочка, — многозначительно сказала начальница, втайне начиная раздражаться.
— Да, madame, — просто, почти весело ответила Мещерская.
— Но и не женщина, — еще многозначительнее сказала начальница, и ее матовое лицо слегка заалело. — Прежде всего, — что это за прическа? Это женская прическа!
— Я не виновата, madame, что у меня хорошие волосы, — ответила Мещерская и чуть тронула обеими руками свою красиво убранную голову.
— Ах, вот как, вы не виноваты! — сказала начальница. — Вы не виноваты в прическе, не виноваты в этих дорогих гребнях, не виноваты, что разоряете своих родителей на туфельки в двадцать рублей! Но, повторяю вам, вы совершенно упускаете из виду, что вы пока только гимназистка…
И тут Мещерская, не теряя простоты и спокойствия, вдруг вежливо перебила ее:
— Простите, madame, вы ошибаетесь: я женщина. И виноват в этом — знаете кто? Друг и сосед папы, а ваш брат, Алексей Михайлович Малютин. Это случилось прошлым летом, в деревне…
А через месяц после этого разговора казачий офицер, некрасивый и плебейского вида, не имевший ровно ничего общего с тем кругом, к которому принадлежала Оля Мещерская, застрелил ее на платформе вокзала, среди 333 большой толпы народа, только что прибывшей с поездом. И невероятное, ошеломившее начальницу признание Оли Мещерской совершенно подтвердилось: офицер заявил судебному следователю, что Мещерская завлекла его, была с ним в связи, поклялась быть его женой, а на вокзале, в день убийства, провожая его в Новочеркасск, вдруг сказала ему, что она и не думала никогда любить его, что все эти разговоры о браке — одно ее издевательство над ним, и дала ему прочесть ту страничку своего дневника, где говорилось о Малютине.
— Я пробежал эти строки, вышел на платформу, где она гуляла, поджидая, пока я кончу читать, и выстрелил в нее, — сказал офицер. — Дневник остался в кармане моей шинели, взгляните, что было записано в нем десятого июля прошлого года.
И следователь прочел приблизительно следующее:
«Сейчас второй час ночи. Я крепко заснула, но тотчас же проснулась… Нынче я стала женщиной! Папа, мама и Толя, все уехали в город, я осталась одна. Я была так счастлива, что одна, что не умею сказать! Я утром гуляла одна в саду, в поле, была в лесу, мне казалось, что я одна во всем мире, и я думала так хорошо, как никогда в жизни. Я и обедала одна, потом целый час играла, под музыку у меня было такое чувство, что я буду жить без конца и буду так счастлива, как никто! Потом заснула у папы в кабинете, а в четыре часа меня разбудила Катя, сказала, что приехал Алексей Михайлович. Я ему очень обрадовалась, мне было так приятно принять его и занимать. Он приехал на паре своих вяток, очень красивых, и они все время стояли у крыльца, но он остался, потому что был дождь и ему хотелось, чтобы к вечеру просохло. Он очень жалел, что не застал папу, был очень оживлен и держал себя со мной кавалером, много шутил, что он давно влюблен в меня. Когда мы гуляли перед чаем по саду, была опять прелестная погода, солнце блестело через весь мокрый сад, хотя стало совсем холодно, и он вел меня под руку и говорил, что он Фауст с Маргаритой. Ему пятьдесят шесть лет, но он еще очень красив и очень всегда хорошо одет, — мне не понравилось только, что он приехал в крылатке, — весь пахнет английским одеколоном, и глаза совсем молодые, черные, а борода изящно разделена на две длинные части и совершенно серебряная. За чаем мы сидели на стеклянной веранде, я 334 почувствовала себя как будто нездоровой и прилегла на тахту, а он курил, потом пересел ко мне, стал опять говорить какие-то любезности, потом рассматривать и целовать мою руку. Я закрыла лицо шелковым платком, и он несколько раз поцеловал меня в губы через платок… Я не понимаю, как это могло случиться, я сошла с ума, я никогда не думала, что я такая! Теперь мне один выход… Я чувствую к нему такое отвращение, что не могу пережить этого!..»
Город за эти апрельские дни стал чист, сух, камни его побелели, и по ним легко, приятно идти. Каждое воскресенье, после обедни, по Соборной улице, ведущей к выезду из города, направляется маленькая женщина в трауре, в черных лайковых перчатках, с зонтиком из черного дерева. Она минует пожарный двор, переходит по шоссе грязную площадь, где много закопченных кузниц и свежей дует полевой ветер; дальше, между мужским монастырем и острогом, белеет облачный склон неба и сереет весеннее поле, а потом, когда проберешься среди луж под стеной монастыря и повернешь налево, увидишь как бы большой низкий сад, обнесенный белой оградой, над воротами которой написано Успение Божией Матери. Маленькая женщина мелко крестится и привычно идет по главной аллее. Дойдя до скамьи против дубового креста, она сидит, на ветру и на весеннем холоде, час, два, пока совсем не зазябнут ее ноги в легких ботинках и рука в узкой лайке. Слушая весенних птиц, сладко поющих и в холод, слушая звон ветра в фарфоровом венке, она думает иногда, что отдала бы полжизни, лишь бы не было перед ее глазами этого мертвого венка. Мысль о том, что это Олю Мещерскую зарыли вот в этой самой глине, повергает ее в изумление, граничащее с тупостью: как связать с этой шестнадцатилетней гимназисткой, которая всего два-три месяца тому назад так полна была жизни, прелести, веселья, этот глиняный бугор и этот дубовый крест? Возможно ли, что под ним та самая, чьи глаза так бессмертно сияют из этого бронзового медальона, и как совместить с этим чистым взглядом то ужасное, что соединено теперь с именем Оли Мещерской? — Но в глубине души маленькая женщина счастлива, как все влюбленные или вообще преданные какой-нибудь страстной мечте люди.
Женщина эта — классная дама Оли Мещерской, девушка 335 за тридцать лет, давно живущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь. Сперва такой выдумкой был ее брат, бедный и ничем не замечательный прапорщик, — она связала всю свою душу с ним, с его будущностью, которая почему-то представлялась ей блестящей, и жила в странном ожидании, что ее судьба как-то сказочно изменится благодаря ему. Затем, когда его убили под Мукденом, она убеждала себя, что она, к великому будто бы ее счастью, не такова, как прочие, что красоту и женственность ей заменяют ум и высшие интересы, что она — идейная труженица. Смерть Оли Мещерской пленила ее новой мечтой. Теперь Оля Мещерская — предмет ее неотступных дум, восхищения, радости. Она ходит на ее могилу каждый праздник, — привычка ходить на кладбище и носить траур образовалась у нее со смерти брата, — по часам не спускает глаз с дубового креста, вспоминает бледное личико Оли Мещерской в гробу, среди цветов — и то, что однажды подслушала: однажды, на большой перемене, гуляя по гимназическому саду, Оля Мещерская быстро говорила своей любимой подруге, полной, высокой Субботиной:
— Я в одной папиной книге, — у него много старинных, смешных книг, — прочла, какая красота должна быть у женщины… Там, понимаешь, столько насказано, что всего не упомнишь: ну, конечно, черные, кипящие смолой глаза, — ей-богу, так и написано: кипящие смолой! — черные, как ночь, ресницы, нежно-играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного рука, — понимаешь, длиннее обыкновенного! — маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колено цвета раковины внутри, покатые, но высокие плечи, — я многое почти наизусть выучила, так все это верно! — но главное, знаешь что? — Легкое дыхание! А ведь оно у меня есть, — ты послушай, как я вздыхаю, — ведь правда есть?
Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре…
336 Трагедия о Гамлете, принце Датском У. Шекспира77
|
Слова, слова, слова… «Гамлет», II, 2 … Дальнейшее — молчанье. «Гамлет», V, 2 Тот, кто хочет разгадать символ, делает это на свой страх. Оскар Уайльд |
О трагедии «Гамлет» написано столько книг, о ней существует на всех почти языках такая обширная литература, ей посвящено столько критических разборов, столько философских, научных (психологических, исторических, юридических, психиатрических и пр.) трудов, — что Шекспирова трагедия положительно тонет в безбрежном море толкований, окружающем ее. Вот почему всякое новое сочинение на эту тему по необходимости нуждается в предварительных объяснениях, выясняющих как намеченные задачи, так и самый предмет исследования.
Художественное произведение (как и вообще всякое явление) можно изучать с совершенно различных сторон; оно допускает бесчисленное и неограниченное множество толкований, множество разных подходов, в неисчерпаемом богатстве которых — залог его неувядаемого значения. Поэтому бесплодными кажутся нам споры, которые ведутся различными направлениями и школами в критике. Критика историческая, общественная, философская, эстетическая и пр. не исключают вовсе друг друга, так как они подходят к предмету исследования с разных сторон, они изучают в одном и том же разное. И поэтому весь вопрос не в том, какая из этих школ ближе к истине и должна поэтому безраздельно владеть критикой, а в том, как этим школам размежеваться, отграничить свои области, в которых — каждая в своей — имеет свое оправдание, свой raison d’être14*. «Гамлет» подвергался всевозможным толкованиям — в том числе психиатрическим и 337 юридическим. И, конечно, в совершенно различных, часто даже не пересекающихся плоскостях находятся исследования, изучающие отношение автора к данному произведению, его хронологическую датировку, его философский смысл, его драматические достоинства. Разумеется, для того чтобы сказать что-либо свое, новое слово в области «научной», философской или исторической критики этой трагедии, нужно обладать большой эрудицией, знанием всего до сих пор на этот счет написанного и сказанного. Здесь на пути к новому исследованию лежат тяжеловесные тома ученых трудов — как и на пути ко всякому научному произведению. Но есть область художественной критики — область, находящаяся только в косвенной зависимости от всего этого, — область непосредственного, ненаучного творчества, область субъективной критики, к которой и относятся все дальнейшие строки.
Эта критика питается не научным знанием, не философской мыслью, но непосредственным художественным впечатлением. Это — критика откровенно субъективная, ни на что не претендующая, критика читательская. Такая критика имеет свои особенные цели, свои законы, к сожалению, еще недостаточно усвоенные, вследствие чего она часто подвергается незаслуженным нападкам. Ввиду того что дальнейшие строки относятся именно к этому последнему роду критики, мы считаем нужным несколько подробнее остановиться на ее своеобразных условиях. Это кажется нам тем более важным, что обилие и разнообразие наслоений критических разборов великой трагедии создают настоятельную необходимость «размежеваться», чтобы ясно наметить путь понимания нашему истолкованию Шекспировой пьесы.
Прежде всего критика субъективная, критика читательская — критика откровенно «дилетантская». Отсюда вытекают все три ее главнейшие и существеннейшие особенности, отличающие ее от всякой другой: ее отношение к автору произведения, к другим критическим толкованиям того же произведения и, наконец, к самому предмету исследования. Скажем обо всех этих трех особенностях по возможности вкратце.
Прежде всего, такая критика не связана с личностью автора рассматриваемого произведения. Для такой критики «решительно все равно, как звали творца “Гамлета” — Шекспир или Бэкон: это в “Гамлете” ничего не 338 меняет» (см. 6; 99). Художественное произведение, раз созданное, отрывается от своего создателя; оно не существует без читателя; оно есть только возможность, которую осуществляет читатель. В неисчерпаемом разнообразии символического, то есть всякого истинно художественного, произведения лежит источник множества его пониманий и толкований. И понимание его автором есть не больше, как одно из этого множества возможных, нисколько не обязывающее. «Обыкновенно, — говорит Айхенвальд, — писатель является не лучшим своим читателем. Он не всегда умеет правильно переводить себя с языка поэзии на язык прозы. Комментарий к собственному художественному тексту часто бывает у него мелок и непроницателен. Вообще, он может совершенно не знать всей глубины своих творений, не понимать, что он создал. Его иррациональное значительнее и больше его рациональности. Его критику дают его страницы порою такие откровения, о которых сам он не помышлял» (6, с. 8). Вот почему критик вовсе и не справляется с тем, мог ли автор по своему историческому, общественному положению и как определенная личность (вообще, если можно так выразиться, биографически) иметь те взгляды, которые приписывает ему критик. Он не справляется, соответствует ли созданное им толкование произведения биографии творца его и общему духу всех его произведений. Все это сковывает ту критику, которая полагает, говоря словами А. Горнфельда, «что смысл каждого художественного произведения сосредоточен в его идее. В ней его содержание, в ней его оправдание. Она составляет его сущность, единую сущность, разумеется, ибо ведь ничто не может иметь двух сущностей. Эту единую идею искали и находили; в этом искании полагалась задача критиков и читателей. Истолковать произведение, понять его, — значило отыскать его идею… Когда говорят: “что выражает это произведение, что хотел им сказать автор?”, то явно — предполагают, что, во-первых, может быть дана формула, логически, рационально выражающая собою основную мысль художественного произведения, и, во-вторых, что эта формула лучше, чем кому-нибудь, известна самому автору… Можно ли спорить о едином смысле художественного произведения, о его единой идее?» (см, 37).
Отрицательный ответ на это будет, конечно, всем известным трюизмом. Всякое художественное произведение 339 символично, и бесконечно разнообразие его пониманий78. Единой идеи нет, всепроникающая и объединяющая формула дана быть не может. «На басне, как на элементарнейшем примере, — говорит А. Горнфельд, — Потебня показал, как могут быть разнообразны и равноправны толкования и применения художественного произведения. Если басня принадлежит к художественным созданиям, то, во всяком случае, нравоучение ее автора для нас необязательно. Это один из возможных выводов, не больше» (см. 37). Позволю себе в скобках привести «для наглядности» пример. Всем известна прекрасная басня Хемницера «Метафизик» и ее неглубокая мораль. Оказывается, что басня вовсе не высмеивает мечтателей, как это сказал бы школьный учебник и как это делает автор. Кружок мечтателей, собравшихся у Фауста (в «Русских ночах» В. Ф. Одоевского79) думает иначе. Толкование Ростислава и глубже и интереснее, чем авторское: «Хемницер, несмотря на свой талант, был в этой басне рабским отголоском нахальной философии своего времени… В этой басне лицо, заслуживающее уважения, есть именно Метафизик, который не видал ямы под своими ногами и, сидя в ней по горло, забывая о себе, спрашивает о снаряде для спасения погибающих и о том, что такое время» (81, с. 41 – 42). И не такая же ли судьба постигла другого, великого мечтателя — Дон-Кихота, рыцаря печального образа, которого высмеял автор и которым восторгается человечество? Примеры можно было бы увеличить до бесконечности. Сократ: «Ходил я к поэтам и спрашивал у них, что именно они хотели сказать. И чуть ли не все присутствовавшие лучше могли бы объяснить то, что сделано этими поэтами, чем они сами. Не мудростью могут они творить то, что они творят, а какой-то прирожденной способностью и в исступлении, подобно гадателям и прорицателям» (цит. по 25). Гете отрицал стремление вложить единую идею в свои произведения и т. д. Потебня говорит об этом: «Слушающий может гораздо лучше говорящего понимать, что скрыто за словом, и читатель может лучше самого поэта постигать “идею” его произведения. Сущность, сила такого произведения не в том, что разумел под ним автор, а в том, как оно действует на читателя или зрителя, следовательно, в неисчерпаемом возможном его содержании». Если же художественное произведение не имеет единой идеи, то все идеи, вкладываемые 340 в него, одинаково верны. «Ближайшее и необходимое последствие этой иррациональности художественного произведения — равноправие его различных толкований» (Горнфельд). Вот почему критик может создавать свое толкование, не озабочиваясь обязательным «опровержением» всех существовавших до него. Выдавая свое понимание за одно из возможных, критик и старается утвердить его как таковое, утвердить его возможность, не претендуя на единственность и исключительность и не занимаясь поэтому критикой критиков.
Таково отношение «читательской» критики к автору и другим истолкователям данного произведения. Остается выяснить самое важное — ее отношение к самому произведению. Всякое литературное произведение не существует без читателя: читатель его воспроизводит, воссоздает, выявляет. «… Писателя создает читатель… Нет писателя без читателя» (Айхенвальд). «Быть Шекспиром и быть читателем Шекспира, это — явления, бесконечно разнящиеся по степени, но вполне однородные по существу», — говорит, истолковывая О. Уайльда, Айхенвальд (7, с. 223). То же и критик: «… понятия критик и читатель внутренне синонимичны… Воспринять писателя — это значит до известной степени воспроизвести его… Если читатель сам в душе не художник, он в своем авторе ничего не поймет. Поэзия для поэтов. Слово для глухих немо. К счастью, потенциально — мы все поэты. И только потому возможна литература… Роль критика-читателя состоит по преимуществу в том, чтобы воспринять и воспроизвести чужое творение собственной душой» (6, с. 10). И вот, если «каждый новый читатель “Гамлета” есть как бы его новый автор» (Горнфельд), если «у меня мой Гамлет, а не Гамлет Шекспира», если «свой Гамлет у каждого поколения, свой Гамлет у каждого читателя», то нельзя ставить вопрос о верности толкования, о соответствии моего Гамлета Гамлету Шекспира. «Маленький актер, маленький критик толкует его в большинстве случаев не неверно, а ничтожно, бедно, скудно содержанием» (Горнфельд). Из этого основного факта отношения читателя-критика к самому предмету исследования (он воссоздает его; он как бы новый его автор; он подходит к нему не извне, а изнутри; он всегда в его зачарованном кругу, в его сфере) вытекают две существеннейшие оговорки к двум положениям, установленным выше (отношение 341 к автору и другим истолкователям данного произведения). Если, с одной стороны, критик не связан ничем в сфере исследуемого произведения — ни взглядами автора, ни мнениями других критиков, — то, с другой стороны, он всецело связан этим самым произведением; если его субъективное мнение (впечатление) не связано ничем объективно, то оно само его связывает. Все время он должен находиться только в сфере этого творения, не покидая ее ни на минуту, а отсюда следует: во-первых, его толкование должно быть подлинно толкованием данного произведения, а не чем-либо сочиненным по его поводу, — в этом смысле его связывает автор, но не «биографически», а лишь постольку, поскольку он отразился в пределах этого творения, или, лучше сказать, его связывает авторский текст произведения80; во-вторых, его мнение должно быть выдержано до конца и не составлено из отрывков и компиляции чужих суждений, — объективно признавая свободу и равноправие всех толкований, субъективно критик должен иметь в виду только свое, как единственно (для него) истинное. А. Горнфельд так формулирует это: «Истинный художник не нуждается в таких читателях; он их боится… Насколько дорог ему читатель мыслящий, настолько вреден читатель сочиняющий». (Замечу в скобках от себя: и не в «Гамлете» ли содержатся указания актерам против «отсебятины»?)… В свободе понимания истины, воплощенной в художестве, как в религиозной свободе: как бы я ни был терпим, как бы я ни уважал религиозное разномыслие, раз я религиозен, я не могу не думать, что истина воплощена наиболее полным образом в моей религии. И как бы я ни понимал, что возможны разные точки зрения на художественное произведение, я всегда буду считать, что моя точка зрения единственно правильная… Без известного фанатизма невозможно найти, защищать, воплощать истину… Отойдя на известное расстояние, мы можем чисто теоретически, я бы сказал, рассудочно, признавать, что нет Гамлета Шекспира, что есть Гамлет мой, твой, Гамлет Берне, Гервинуса, Барная, Росси, Мунэ-Сюлли — и что все они равноправны; один нам ближе, другой дальше, но более или менее они все верны. Но это точка зрения чисто рациональная: в подъеме творчества она губительна. Критик или артист, создающий своего Гамлета, должен быть фанатиком. Мой Гамлет есть абсолютная истина — другого 342 нет и не может быть: только в таком настроении можно создать что-нибудь действительно свое (Горнфельд). Только совершенно безрелигиозный человек может быть абсолютно веротерпим; для человека религиозного, верующего веротерпимость обязательна только извне, изнутри — она губительна для него. То же и с критиком: имеющий сказать свое что-либо, новое слово, создающий своего Гамлета — может быть «веротерпим» только объективно, в предисловии, но не на страницах своей работы. Нам остается еще сказать о двух следствиях нашей точки зрения на задачи критика-читателя, хотя предисловие к читательским заметкам и без того разрослось, вопреки всяким расчетам, непомерно.
Прежде всего такая критика исходит из молчаливой предпосылки абсолютной ценности разбираемого произведения. Такая критика не имеет дела с нехудожественными творениями: разоблачать их нехудожественность — это «критика наизнанку», «критика наоборот», критика-публицистика. Таким образом, эта критика, рассматривающая творение писателя через свою душу, не делает сравнительных оценок; для нее творение писателя существует вне времени и пространства, она берет только его «реакцию на вечность» (Айхенвальд). Во всей огромной шкале оценок Гамлета — от Гете до Толстого и Ницше: «Признать Гамлета за вершину человеческого духа, — это я назову скромным суждением и о духе и о вершинах. Прежде всего это неудавшееся произведение: автор его признался бы мне в этом со смехом, если бы я ему сказал об этом в лицо» (78, с. 76), от признания его первым художественным творением до отрицания всякой его художественной ценности — она становится на почву, высшей, абсолютной оценки и повторяет вместе с Гете и с его Вильгельмом Мейстером (отнюдь не разделяя вовсе его понимания, но совпадая с ним в оценке): «Я очень далек от всякого порицания плана этой пьесы; я скорее склонен думать, что не было никогда создано произведения выше этого; да, действительно, не бывало создано» (цит. по 116). Других оценок такая критика не делает и не знает. «La haute critique a son point de depart dans»15*.
343 Из всего сказанного выше с достаточной ясностью следует, что «читательская» критика вовсе не полагает свою задачу в истолковании произведения. Истолковать — значит исчерпать, дальше читать незачем. Признавая иррациональный характер художественного произведения, критик вовсе не хочет разъяснять его. «Высшая критика, — говорит О. Уайльд, — видит в искусстве не выражение мыслей, а выражение впечатлений… Критик может быть толкователем, если ему это угодно. Он может перейти от синтетического впечатления к анализу или толкованию… Но разъяснять произведение искусства — в этом не всегда предназначение критика. Напротив, он вправе усилить их таинственность, окутать и творца и его творения туманом чудесного, столь дорогого и богам и молящимся» (113, с. 237). Критик вправе сказать словами Аполлона Григорьева: «Темна моя теория, читатели, не правда ли? Что же делать? Она соответствует предмету» (см. 40). Если прав Гете, говоря, что «чем недоступнее рассудку произведение, тем оно выше» (цит. по 37), то разъяснять его — делать его доступнее рассудку — значит унижать его. О. Уайльд говорит: «Есть два способа не любить искусство. Один — это просто его не любить. Другой — любить его рационалистически» (113, с. 255). «Основная задача эстетического критика заключается в передаче своих собственных впечатлений» (114, с. 193). Исходя из этого, можно разбить такую критику на два рода: первый — это критик как художник, критик-творец, который сам воссоздает художественные творения. Другой род критики — критик-читатель, которому приходится быть молча поэтом («Блажен, кто молча был поэт»). Его заметки — чисто читательские, не обладающие значением самостоятельного творения. Критик больше, чем кто-нибудь, ощущает в процессе своей работы «муки слова», хотя никто, кажется, из критиков никогда на это не жаловался, считая, что долг критика — уметь ясно сказать все, истолковать, дополнить и разъяснить невысказанное или недосказанное автором. Ибо, если даже «мысль изреченная — есть ложь» (Тютчев), если даже мысль… тускнеет, проходя через выражение, как говорится в «Русских ночах» В. Ф. Одоевского (прекрасной книге, всецело построенной на этом), — то тем более никакие слова не могут передать того «потрясенного ощущения», которое одно есть истинное понимание художественного произведения, 344 как это говорил Тик (цит. по 100). Совершенно правильно Джемс относит это «потрясенное ощущение» к области переживаний мистических, основная черта которых, по его мнению, неизречимость. «Многие из нас, — говорит он, — вероятно, помнят, какое потрясающее впечатление производили на нас в молодости некоторые места в литературных произведениях: они казались нам какими-то загадочными вратами, через которые входила в наше сердце, охватывая его трепетом, тайна жизни и вся скорбь ее… Все значение лирической поэзии и музыки сводится к развитию этих неясных далей жизни за пределами нашего личного существования — волнующих, манящих и вечно неуловимых. Сообразно с тем, обладаем мы этим чутьем к мистическому или утратили его, для нас существуют или не существуют вечные откровения искусства» (46, с. 371). Все это в такой же мере справедливо в применении не только к музыке и лирической поэзии, но и к трагедии. Если трагедия, по Шопенгауэру, есть высший род творчества: «Вершиной поэзии… должно считать трагедию» (136, с. 261), то можно говорить и о специфическом чувстве трагического, о мистической способности восприятия трагедии. Недаром Ницше говорит о специальном трагическом познании: когда наука доходит до своих границ, когда «логика у этих границ свертывается в кольцо и в конце концов впивается в свой собственный хвост, — тогда прорывается новая форма познания — трагическое познание, которое, чтобы быть хотя бы только выносимым, нуждается в защите и целебном средстве искусства» (78, с. 170). Вот это особое «трагическое сознание», к которому апеллирует проф. Зелинский в предисловии к переводу Софокла, необходимо для восприятия трагедии. Недаром Аполлон Григорьев говорит о «трагизме», как о «некотором откровении, как подтверждении вашей внутренней веры»; о «трагической душе». «Бог ее знает, что она такое… Может быть, именно то, что вы называете веянием… Именно какое-то веяние, какое-то бурное дыхание…» (39, с. 37). Неуловимость и невыразимость этого трагического веяния, которое и есть истинное восприятие трагедии, неразрешимы для критика. Это и есть, по мнению Вяч. Иванова, истинный признак символического творения: «Символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении, когда он изрекает на своем сокровенном 345 (иератическом и магическом) языке намека и внушения нечто неизглаголемое, неадекватное внешнему слову. Он многолик, многосмыслен и всегда темен в последней глубине… Он органическое образование, как кристалл. Он даже некая монада — и тем отличается от сложного и разложимого состава аллегории, притчи или сравнения… Символы несказанны и неизъяснимы, и мы беспомощны перед их целостным тайным смыслом» (58, с. 62).
Джемс говорит о чутье к мистическому, Ницше о трагическом познании. Всему этому должны соответствовать и иное выражение, иная передача, иной язык. Мистическое невыразимо, трагическое непередаваемо словами. «Неизъяснимы наслажденья» — эти пушкинские слова как нельзя лучше передают эстетическое удовольствие, доставляемое творением искусства. Критик-творец, критик-художник преодолевает «муки слова», муки неизглаголанности переживаний, как и другие муки творчества; создает великое — иносказанием, своеобразным употреблением слов, их символизацией; преодолевает несказанность, неизреченность своего внутреннего слова, как и поэт, в подъеме творчества. Критик-читатель всегда остается без слов для передачи неуловимого, «неизъяснимого наслаждения». Он всегда повторит вслед за Сюлли-Прюдомом: «Я передал вам свое стихотворение — и оно стало чуждо моему сердцу: лучшее осталось во мне — моих истинных стихов не будут читать никогда» (цит. по 36). Такой критик никогда не творит — он говорит. В «Русских ночах» так говорится об этом: «Вы хотите, чтобы вас научили истине? Знаете ли великую тайну: истина не передается! Исследуйте прежде, что такое значит говорить? Я, по крайней мере, убежден, что говорить есть не иное что, как возбуждать в слушателе его собственное внутреннее слово» (81, с. 43). Возбудить это «внутреннее слово» критик-художник может непосредственно своим творением; критик-читатель этой способностью не обладает — между его впечатлением и «внутренним словом» его читателя стоит слово внешнее, которым он не владеет. Поэтому его заметки не существуют как самостоятельное творение без предмета исследования. Они как бы ноты, по которым надо прочитать самое произведение, но которые вне чтения, без него, не существуют.
Все эти якобы отвлеченные и теоретические рассуждения 346 о критике приведены нами в их хаотическом нагромождении вовсе не для изложения нашего profession de foi16* — для этого они и недостаточны, да это было бы и совершенно излишне. Они показались нам нужными именно как отдельные предпосылки теоретического свойства (а отнюдь не систематическое изложение взглядов) именно к нижеследующим строкам и именно о «Гамлете». Этим объясняется их отрывочность и, может быть, внешняя и видимая невыдержанность, но этим же, думается нам, хоть отчасти извиняется их появление на свет, так как их цель — избавить читателя от неизмеримо более громоздкого научно-философского и исторического материала, которым обычно приходится заполнять первые тома исследований о «Гамлете».
Теперь нам остается, переходя от общих положений к частным условиям этой работы, подчеркнуть особенно значительное влияние некоторых установленных выше положений на ход нашей работы и сказать два слова о ее технических приемах.
Основные допущения читательской критики, ее априорные постулаты, о которых говорено выше, создают совершенно новые условия работы над исследованием о «Гамлете». Дилетантизм такой критики позволяет оставить в стороне всю научно-историческую проблему «Гамлета» (вопрос о времени появления, источниках, авторе, влияниях и т. д. этой пьесы), всю биографическую проблему его творца (шекспиро-бэконовский вопрос и т. д.), наконец, всю огромную даже чисто критическую литературу о нем. Только одно знание требуется от такого критика — знание текста своей трагедии. Таким образом, создается совершенно иная обстановка исследования: оно замыкается всецело и исключительно в круг определенной данной трагедии и — даже больше — определенной ее интерпретации. В проекции на технику работы это означает: в данном исследовании нет извне поставленных вопросов, которые бы оно должно было решить. Нельзя, однако, не отметить, что в данном частном случае проблема Гамлета ставится в плоскости обратной (то есть, следовательно, этим, этой противоположностью своей связанной) той, в которой до сих пор решалась эта проблема. Читатель заметит, что вопрос о безволии Гамлета и 347 нами ставится, только с другой, так сказать, стороны. К этому нельзя не прибавить, что Гамлет принадлежит к числу немногих пьес, в которых самая фабула, ход действия, связь сцен требуют объяснения, и поскольку всякое новое толкование дает новое объяснение самой фабулы, постольку оно соприкасается с другими критическими истолкованиями.
Все критики так или иначе рационализовали Гамлета, то есть старались найти понятную связь событий, хода действия, свести фабулу и образ Гамлета на ряд понятных и известных представлений — психологических, историко-литературных, биографических, этических, исторических и т. д., — объясняли Гамлета. Здесь впервые критическое истолкование исходит, кладет в свою основу, берет отправной точкой необъяснимость связи событий и самого образа Гамлета. И другие критики признавали «темноту» трагедии, но они старались ее преодолеть. Там было «несмотря» и «все же», здесь все поставлено во главу угла. Таинственность и непонятность81 — не покрывала, обволакивающие снаружи туманом трагедию, которую надо разглядеть только через них или отбросив (преодолев) их, как во всей гамлетовской критике, но самая сердцевина, внутренний центр трагедии. Не простое (понятное) облечено в темноту, но тайна обставлена персонажами, диалогами, действиями, событиями — в отдельности почти понятными, но в такой непонятной расстановке, в такой связи, какой потребовала тайна.
Собственно, настоящий краткий этюд есть опыт истолкования трагедии как мифа, опыт в шекспировской критике первый. В античной трагедии, в Библии фабула не измышляется, она не есть примерное, возможное, побочное, или простая движущаяся характеристика действующих лиц. Она есть миф, мистическая реальность. Ей принадлежит эстетический prius17*, из нее (второстепенно) выводятся образы, характеры, идеи и т. д. В них символ — не аллегоризм, а реальность (В. Иванов). В европейской литературе — не то. В частности, «характеры» шекспировской трагедии в истолковании критики суть некие prius’ы, первоначальные элементы, из которых с логической, психологической, исторической и всякой иной рациональной, понятной последовательностью выводится фабула. Путь 348 расшифровки, критики — иной. Фабулу, реальность трагедии хотят свести обратным путем к некоторым перводанньм элементам — в частности, характерам, «идеям» и т. д. Здесь — полная противоположность. Исходная точка — миф Гамлета, реальность Гамлета. Необъяснимая первоначальная данность, реальность трагедии, которая убедительна, властно-покоряюща необъяснимой силой художественного гипноза и внушения. Из этой мистической реальности трагедия вырисовывается как второстепенное, все остальное: образы действующих лиц, фабула, диалоги etc. Все это подчиняется главному82. Европейская критика оспаривает, разлагает, переводит, борется с трагедией. Здесь просто факт художественного восприятия мифа шекспировской трагедии, ее мистической реальности, как правды (реальности последней, недоказуемой, ощущаемой, как правда-реальность, победившей). Сравни миф; религиозное откровение истины, интуиция, эмпирия — художественное откровение мифа, реальности. Тема этюда: миф трагедии о Гамлете, принце Датском. Миф как религиозная (по категории гносеологии) истина, раскрытая в художественном произведении (трагедии).
Вопросы ставятся самим исследованием, определяются интересом критика; текст исследования знает исключительно трагедию и ее отражение в душе автора; ни одна цитата (разумеется, кроме текста трагедии), как бы соблазнительно иногда ни казалось сослаться на авторитет какого-нибудь критика, или просто выразиться его словами, или его мыслью дополнить наш разбор, не приводится на протяжении всей работы, так как наши допущения не только освобождают, но и обязывают. Только в примечаниях (примечания должны оттенить не только служебный, второстепенный характер помещаемого там материала, но главным образом незаконченность, неразработанность затрагиваемых там тем) мы касаемся мнений других критиков и пользуемся цитатами для уяснения наших положений. Несколько слов о примечаниях, их возникновении и месте в данном исследовании. Дело в том, что вследствие перемены основной точки зрения на трагедию, изложению чего и посвящены эти строки, изменяется коренным образом взгляд и на все эстетически критические проблемы «Гамлета» (разбор других критиков, так сказать, критика критиков и оценка их работы, сценическое воплощение этой пьесы, переводы, сближения 349 и противоположения с другими художественными произведениями и т. д.); все они — «Гамлет» в критике, «Гамлет» на сцене, «Гамлет» в переводах, «Гамлет» в художественной литературе — представляются в совершенно ином виде при свете нашего понимания трагедии. Конечно, все эти темы особые, непосредственно к данной теме примыкающие, из нее вытекающие, но все же подлежащие особой разработке. Все это работа далекого будущего, которая, если только будет когда-либо произведена, вместе с другой, будущей работой, о которой речь ниже, придаст окончательное завершение теме. Здесь же из бесчисленного множества заметок, сделанных за много времени в процессе постоянного чтения о Гамлете и размышления о нем в течение нескольких лет, сделанных попутно, а не систематически, и представляющих собой неразработанные отдельные темы, видно, и внешне ничем между собой не связанные, и объединенные внутренней общностью породившей их мысли, основной, общей всем точкой зрения, в основе которой лежит наш взгляд на трагедию, — из этих заметок здесь приводятся в примечаниях только очень немногие, но и те не завершенные, а неразработанные темы. Таким образом, здесь дается как бы часть сырого материала этой и других работ — на одну тему. Причем при выборе этих заметок мы руководились следующими соображениями: во-первых, выбирали то, что, казалось нам, может способствовать уяснению основной темы и что по отношению к ней находится в подчиненном, служебном положении, определяя неизвестное через известное, сопоставляя (или противополагая) наши взгляды наиболее известным и сближая Гамлета с другими героями художественных творений; цель этой группы примечаний — уяснить основную нашу мысль. Во-первых, отбирались наиболее новые по мысли, плод личного размышления критика и наиболее интересные, до сих пор не останавливавшие на себе внимания темы; и, наконец, в-третьих, перевод цитат из трагедии, приведенных в работе в подлиннике по-английски (что кажется нам особенно важным и не нуждается в объяснениях после разъяснений о ценности текста трагедии для критика). В общем, характер примечаний — случайный, а не систематический — определялся больше субъективными условиями работы (подбором книг, впечатлений и т. д.), чем объективными требованиями темы. 350 Нам думается, что не будет находиться в противоречим с развиваемыми в этом предисловии взглядами то обстоятельство, что в примечаниях мы иногда занимаемся критикой критиков. В предисловии — в области теоретической — все толкования должны быть признаны равноправными, и не наша задача опровергнуть чужие мнения. Но лишь только мы вступаем в область критики, в область художественного настроения, такая точка зрения губительна. Устанавливая и утверждая свое понимание, мы тем самым субъективно отвергаем все прочие, хотя объективной необходимости в этом нет. Таким образом, примечания, не имеющие самостоятельного значения, суть только разрозненные штрихи, наброски и эскизы отдельных тем, так или иначе примыкающих к этому критическому этюду. Замкнуться в круг исследуемого творения тем легче в данном случае, что «Гамлет» — произведение одинокое в мировой литературе (как это ни странно с первого взгляда кажется ввиду обилия трагедий на тот же сюжет и, видимо, схожих характеров) — именно внутренне одинокое даже среди трагедий Шекспира (вот почему так страдает толкование «Гамлета» там, где оно втиснуто в разбор всего Шекспира — например Брандес, Шестов). («Один из поклонников Гете, — рассказывает Л. Берне, — сказал мне однажды: “Чтобы понимать его стихотворения, надо быть знакомым и с его сочинениями по естественным наукам”» (см. 17)). Этих сочинений я не знаю, но что это за художественное произведение, которое не объясняет само себя? Я ведь ничего не знаю об истории развития Шекспира, а между тем понимаю «Гамлета» настолько, насколько мы можем понимать то, что восхищает нас! Разве для того, чтобы понять Макбета, надо прочитать и «Отелло»? «Гамлет» — это совершенно особый мир. «Из тех драм британского поэта, — говорит Л. Берне, — которые относятся не к истории и не к преданиям Англии, “Гамлет” — единственная, происходящая на северной почве, под северным небом… “Гамлет” — это колония шекспировского духа, лежащая в другом поясе, обладающая другой природой и управляемая совсем другими законами, чем метрополия» (16, с. 859). Вот эти совсем другие законы и надо вскрыть критику. Однако вскрыть их, показать их действие — вовсе не значит перевести их на язык логических понятий, изъяснить их; надо, дать только почувствовать их действие, 351 их чудодейственное влияние на ход событий в драме. Перефразируя слова Рихарда Вагнера, сказанные им о музыке, но равно приложимые ко всем видам искусства, можно сказать: трагедия (и «Гамлет», в частности) — «сама идея мира, так что тот, кто мог бы вполне выразить трагедию (музыку) в понятиях, тот дал бы вместе с тем и философию, объясняющую мир». Но выразить трагедию в понятиях, как и музыку, — значит убить ее. Надо принять эту «идею мира», выраженную именно в трагедии (или музыке). Это и есть задача настоящего понимания искусства. Но здесь мы опять натыкаемся на поставленный выше вопрос о невыразимости, неизреченности художественного впечатления. Ввиду того что жалоба подобного рода из уст критика слышится чуть ли не впервые, мы полагаем не лишним остановиться в заключение этих строк именно на этом. Здесь надо различать, если можно так сказать, «две невыразимости» — две стороны одного и того же вопроса. Первая — это невыразимость самой идеи «Гамлета», ее неуловимость для слова. Идея трагедии, законы, действующие в ней (и, следственно, идея мира и законы мира в истолковании искусства), — вечно останутся тайной, неодолимо влекущей, но безнадежно закрытой навеки для человеческого сознания. Возможно в трагедии не ее постижение (раскрытие), а ощущение. Сама же трагедия навсегда останется под знаком вопроса, проблемы. «Такая пьеса, как “Гамлет”, — признается Гете, — чтобы там ни говорили, все-таки тяготит душу, как мрачная проблема» (145, S. 593). «Это загадочное произведение похоже на иррациональные уравнения: в них от неизвестных величин постоянно остается дробь, которую нельзя разрешить никаким образом» (160, S. 146). На темноте пьесы останавливаются почти все: и Брандес, и Тен-Бринк, и Фишер, и Берне и пр. Толстой, Вольтер, Рюмелли и другие «отрицатели» трагедии прямо говорят о том же, но оценивают это иначе: они называют это непонятностью, бессмысленностью и путаницей в пьесе. Мы вовсе не думаем приподнять ту завесу, перед которой мы стоим, взирая на Гамлета, говоря образами Гесснера, обнажить лики героев этой «трагедии масок»; не думаем приподнять тот флер, который, по прекрасному слову Берне, висит над картиной, но который нельзя отбросить, так как он нарисован на самой картине (16, с. 861).
352 Здесь — «невыразимость»83 первая. Вторая — это невыразимость собственного впечатления, может быть, просто неумение писать. В то время как невыразимость первая вполне законна и необходима, вторая составляет подлинно «муки слова», происходящие из того, что и здесь разверзается «бездна, разделяющая мысль от выражения» (В. Ф. Одоевский, «Русские ночи»). В прекрасном рассказе Аполлона Григорьева «Великий трагик» автор рассказывает о своей «несчастной страсти» к гитаре, история которой до некоторой степени и есть история этого труда. Эта «несчастная страсть» к инструменту («очень не легко дающемуся, несмотря на все мои труды и усилия, приводившие в глубокое отчаяние всех моих домашних и всех московских друзей и поныне, рано или поздно, но постоянно успевающие приводить в некоторое остервенение хозяев различных квартир и отелей, в которых случается мне жить за границей») происходила из глубокой внутренней причины: «Есть безнадежные страсти, и они с летами безнадежно же укореняются. Выщипывать иногда тоны из непослушного инструмента стало для меня такой же необходимостью, как выпить утром стакан чаю… В моей гитарной страсти… виноваты эти полные, могучие и вместе мягкие, унылые, какие-то интимные звуки, которые слышал я… и которые, как идеал, звучат в моих ушах, когда я выламываю свои пальцы. Один из злых приятелей, из лютейших и безжалостнейших врагов моей гитары, — в минуту спекулятивного настройства, когда всякое безобразие объясняется высшими принципами, понял это. “Господа”, — сказал он, обращаясь к другим приятелям… В это время… я… взявшись за лежавшую на диване гитару, старался выщипать унылые и вместе уносящие тоны венгерки. “Господа, — сказал мой приятель (вероятно, ему пришли в это время в голову разные выводы из столь любимой им психологической системы Бенеке), — я понимаю, что он слышит в этих тонах не то, что мы слышим, а совсем другое”. Действительно, широкая и хватающая за душу, стонущая, поющая и горько-юмористическая венгерка Ивана Ивановича раздавалась в это время в моих ушах… Замечание психолога все-таки было справедливо — и я до сих пор, без надежды когда-либо услышать вновь в действительности могучий тон Ивана Ивановича, слышу его “душевным ухом”. Почему же не быть и душевному уху, когда 353 Гамлет видит отца в “очах души своей”. Критик охотно сравнивает себя с героем только что приведенного рассказа, и влечения, побудившие его взяться за критический этюд, с “безнадежной страстью” к недающемуся инструменту. “Выщипывать” тоны на внутреннем, недающемся инструменте, слыша “ухом душевным” могучую и унылую мелодию, — таков удел критика. Это, действительно, как нельзя больше и лучше передает образно процесс “выщипывания” нот. Этот этюд и был вначале задуман в форме описания игры воображаемого, вымышленного, фиктивного артиста или артистов (фантазия, видение или лучше — сон о “Гамлете” на сцене, ведь процесс восприятия художественного произведения можно сравнить со сновидением). Такая форма этюда, казалось нам, должна яснее показать, что мы слышим внутри, что звучит в нашей душе (Белинский о Мочалове). К сожалению, нам не случалось видеть в действительности артиста, который воплотил бы всего нашего “Гамлета” (да вряд ли и приведется когда-либо: сыграть Гамлета представляется нам невозможным); пришлось бы соединить отдельные черты игры виденных артистов или видеть в “очах души” воображаемого. Ибо как Гамлета нельзя передать словами, так же точно нельзя его и воплотить в зрительных и слуховых образах. “Гамлет — не типичная роль, — говорит Гончаров, — ее никто не сыграет, и не было никогда актера, который бы сыграл ее. Можно сыграть Лира, Отелло и многие другие шекспировские роли. Не то в Гамлете. Гамлета сыграть нельзя… Он должен в ней истомиться, как вечный жид. Не выдержал бы человек, никакой актер… Невозможно!”» (цит. по 97).
С другой стороны, критик поставлен в несравненно лучшие условия, чем, например, лирический поэт. Критик располагает средством дать почувствовать то же самое, что чувствует он, заразить своим настроением, «возбудить внутреннее слово» читателя, показать, что он слышит «душевным ухом». Иначе задача критика-читателя была бы неразрешима в себе, и критику, действительно, оставалось бы быть «поэтом молча», «про себя таить души высокие создания». К счастью, это не так. «Голос», который «шепчет, как во сне» неизреченные глаголы, — не в душе критика (как лирического поэта) и потому не невыразим: этот голос — сама трагедия, ее «слова, слова, слова». И вот, если эти читательские заметки (эти «выщипанные» 354 из души тоны) не имеют самостоятельного значения, если они не выражают того, что слышит «душевное ухо», если они не существуют самостоятельно, помимо трагедии, их вызвавшей, как звук вызывает отзвук, — все же это еще не делает неразрешимой задачу читательской критики. Имеющие уши да слышат — имеющий «душевное ухо» читатель сам может слышать слова трагедии, ее «неизреченные глаголы», только с интонациями критика. Они не существуют без самого чтения, без слов трагедии. Эти читательские заметки, эти «выщипанные» тоны — суть как бы внутренние интонации при чтении Гамлета, которые без самого чтения не существуют. И, может быть, обратившись к чтению трагедии, к ее целостному художественному восприятию, читатель услышит в ее звуках то же, что слышали мы. Только так можно передать переживание критика; его задача направить это восприятие определенным образом, дать ему соответствующее направление. Остальное — задача читателя: пережить в этом направлении, в этих тонах (интонациях) трагедию. Так что этот этюд — только направление переживания, его тон, только контуры тени, отбрасываемой трагедией. И если читатель путем художественного переживания (сновидения) воспримет эту трагедию именно в этом направлении, в этих тонах, задача настоящего этюда будет осуществлена, и неизреченность мысли критика сольется и потонет в безбрежном и высоком молчании, окружающем слова трагедии и заключающем ее тайну. (Неизреченность и молчание — эти две «невыразимости», о которых мы говорили выше, — сольются, — это совсем не одно и то же: неизреченность — недостаток, ущерб, умаление смысла, убыль духа, его неполнота, недоговоренность, то, что надо преодолеть; молчание — избыток, полнота, завершенность смысла, тайна, то, что надо принять.) Так разрешается задача для критика. «Да нам-то каково!..» — говорит в рассказе Григорьева после объяснений психолога другой приятель. Вот это «нам-то каково!» читателей и ставит вопрос об объективной ценности этих «выщипанных» тонов, об их нужности для восприятия трагедии. Лермонтовский вопрос поэту можно отнести и к критику-читателю: «Какое дело нам, страдал ты или лет? На что нам знать твои мученья?..» Ибо и критик рассказывает о своих переживаниях художественного творения, о своих «страданиях, мучениях, надеждах, сожалениях», 355 как и поэт-лирик, потому что всякая критика в конце концов, объективная ли, субъективная ли (последняя, конечно, в особенности), есть, по слову Оскара Уайльда, автобиография критика, рассказ о его «видении». Вот почему не всем нужны его заметки, не всем до них дело. Приведу слова Ницше — для посвящения: «Вам, смелым искателям, испытателям и всем, кто когда-либо с коварными парусами пускался в страшные моря, — вам, опьяненным загадками, вам, знающим веселье полумрака, вам, чья душа привлекается звуками свирели ко всякой обманчивой пучине: — ибо не хотите вы малодушной рукой нащупывать нить; и где вы можете угадать, вы ненавидите строить выводы — вам одним расскажу я загадку, которую я видел…» (77).
Оценивать их — дело не наше, уж «каково им» — читателям — об этом критик не задумывается. Это вопрос особый, сложный и, главное, интимный — почему взялся критик за перо: объективные ли стремления руководили его решением, или субъективная потребность выяснить самому себе, «несчастная страсть», непреодолимое влечение, на которое любят обычно ссылаться. Повторит ли критик вместе с Ницше «Mihi ip scripsi»18*, согласится ли с Доде, что пишет, «в конце концов, для толпы» — из соображений ли практических, или потому, что, как и «смешному» человеку Достоевского, ему «тяжело одному знать истину». Аполлон Григорьев: «Но зачем же сердце просит доверенности, зачем стремится оно жадно разделить каждое святое, прекрасное впечатление» («Офелия»). Это вопросы — интимные, неясные, может быть, в достаточной мере самому критику, и потому о них говорить здесь нельзя. Задача этого предисловия — отстоять, по возможности, объективную возможность (и только такого критического этюда; но отнюдь не доказать его объективную нужность. Задача этих строк — оградить от незаслуженных упреков в неоправданных претензиях (которых-то вовсе и нет!), которые градом сыплются на субъективную критику, как на критику дилетантскую. Дилетантская критика заслужила самое суровое осуждение (например: Стороженко — «Дилетантизм в шекспировской критике»). Правильно, на наш взгляд, формулирует это Лансон: «Вся беда в том, что она (импрессионистская 356 критика), никогда не остается в границах. Пусть человек опишет, что происходит в нем, когда он читает ту или другую книгу, пусть он ограничится только изображением своей внутренней реакции, не утверждая ничего другого, — его свидетельство будет драгоценно для истории литературы и никогда не будет лишним. Но редко критик может устоять против искушения примешать к своим впечатлениям исторические суждения или выдать свое индивидуальное понимание за подлинную сущность предмета» (цит. по 37).
Вот почему, не выдавая «свое индивидуальное понимание за подлинную сущность предмета», не примешивая к своим впечатлениям исторических суждений, ограничиваясь передачей своей внутренней реакции на «Гамлета», скромным желанием пить из своего стакана, каков он сам по себе ни есть, не утверждая ничего другого, — одним словом, соблюдая все эти условия, мы думаем, что этот критический этюд о читательских впечатлениях не будет лишним.
P. S. В настоящем предисловии упоминается об особой теме — чисто литературной, штрихи которой даны в примечаниях. Она должна служить как бы введением к настоящему этюду и составляет вместе с другой темой, чисто религиозной, о которой упоминается дальше (гл. 1), предмет работы далекого будущего. Эта последняя непосредственно примыкает к настоящему этюду и следует сейчас за ним, так что этюд занимает между ними среднее место, а все три, если будут осуществлены когда-либо, составят трилогию, посвященную религиозно-художественной проблеме «Гамлета».
I
Есть в ежедневном замыкающемся кругу времени, в бесконечной цепи светлых и темных часов — один, самый смутный и неопределенный, неуловимая грань ночи и дня. Перед самым рассветом есть час, когда пришло уже утро, но еще ночь. Нет ничего таинственнее и непонятнее, загадочнее и темнее этого странного 357 перехода ночи в день. Пришло утро — но еще ночь: утро как бы погружено в разлитую кругом ночь, как бы плавает в ночи. В этот час, который длится, может быть, всего лишь ничтожнейшую долю секунды, всё — все предметы и лица — имеет как бы два различных существования или одно раздвоенное бытие, ночное и дневное, в утре и в ночи. В этот час время становится зыбким и как бы представляет собой трясину, грозящую провалом. Ненадежный покров времени как бы расползается по нитям, разлезается. Невыразимость скорбной и необычной таинственности этого часа пугает. Все, как и утро, погружено в ночь, которая выступает и обозначается за каждой полосой полусвета. В этот час, когда все зыбко, неясно и неустойчиво, нет теней в обычном смысле этого слова: темных отражений освещенных предметов, отбрасываемых на землю. Но все представляется как бы тенью, все имеет свою ночную сторону. Это — самый скорбный и мистический час; час провала времени, разодрания его ненадежного покрова; час обнажения ночной бездны, над которой вознесся дневной мир; час — ночи и дня84.
Такой час переживает душа во время чтения или созерцания трагедии о Гамлете, принце Датском. В такой час бывает погружена душа зрителя или читателя, ибо сама трагедия означена этим часом, сходна с ним: у них одна душа. Самая непонятная и загадочная трагедия, необъяснимая и таинственная в самой сущности своей, которая навеки останется неуловимой. Она может в минуты, когда душа настроена на высокий лирический лад, отпечатлеться неизгладимым образом, оставить по себе неуловимый, но вечно действующий след, раз и навеки ранить сердце с неизведанной дотоле болью очарования. Но этот образ нельзя уложить в слова, это — мука глубинная и интимнейшая рана души, и ее боль — боль неизреченная, неизглаголанная, несказанная.
Поистине, она напоминает предрассветный час. Вся она, хоть и видимая и осязаемая (слышимая), погружена в какую-то ночь; все в ней расплывается, двоится85. Все в ней имеет два смысла — один видимый и простои, другой — необычный и глубокий. В ней за каждым словом и положением открывается как бы провал, нащупывается, ощущается такая беспредельная 358 и пугающая — может быть, последняя? — глубина, которую знает только ночь, когда с бездны сорваны все покровы. Трагедия проходит на такой глубине человеческих душ, что нельзя отделаться от головокружения при переживании ее бездн.
Необычная, непохожая ни на какую другую трагедию, она лишена самого, казалось бы, необходимого и главного: драматического действия. Бездейственная трагедия. Если принять школьные определения (к сожалению, не одни только школьные) трагедии как изображения борьбы героя — внешней или внутренней, придется «Гамлета» как трагедию без борьбы — той и другой, как трагедию бездейственную из этой категории выбросить. Но подлинно ли в этом заключается трагедия? «Гамлет» коснулся последних глубин трагизма. Трагическое как таковое вытекает из самых основ человеческого бытия, оно заложено в основании нашей жизни, взращено в корнях наших дней. Самый факт человеческого бытия — его рождение, его данная ему жизнь, его отдельное существование, оторванность от всего, отъединенность и одиночество во вселенной, заброшенность из мира неведомого в мир ведомый и постоянно отсюда проистекающая его отданность двум мирам — трагичен.
Если трагедия вообще является высшей формой художественного творчества, то «Гамлет» — высшая из высших, это — трагедия трагедий. Это не простая «восточная» пышность выражения; это имеет вполне определенный смысл: именно трагедия трагедий. В ней уловлено то, что в трагедии составляет трагедию; самое начало трагическое, самая сущность трагедии, ее идея, ее тон: то, что обычную драму превращает в трагедию; то, что есть общего у всех трагедий; та трагическая бездна и те законы трагического, на которых все они построены86.
Эта трагическая бездна, которая ощущается за каждым словом, придает всей пьесе свой смысл. И не потому ли, что она трагедия трагедий, нет в ней того, что необходимо должно быть во всякой трагедии (бездейственность)? Каждое положение, каждый ее эпизод — есть тема для отдельной трагедии; каждое лицо может стать героем особой трагедии; ее можно расчленить на столько отдельных трагедий, сколько есть в ней отдельных 359 действующих лиц, или даже больше: сколько есть в ней отдельных интриг, ибо некоторые лица могут быть героями нескольких трагедии. Но эти отдельные трагедии не разработаны, а только намечены, даны в намеках; не расчленены, а соединены вместе, причем обернуты друг к другу какой-то общей всем им стороной, так что соединение их дает трагедию трагедии, где условленна их общая сторона.
Трагедия — всякая — в конце концов необъяснима. Тем более трагедия трагедий, где в основу положено само трагическое. Каждое зерно этого трагического, разработанное в драму, дает отдельную трагедию, в которой вся драма может быть объяснена бесчисленным количеством способов, но в результате все объяснения, разлагающие драму, дойдут до неразложимого зерна трагического, которое и обратило простую драму в трагедию. Вот в «Гамлете» этих драм, взращенных из трагических зерен, несколько (отсюда ее видимая путаница и нестройность, гетерономия), и обращены они все к какому-то центру, к внутреннему фокусу пьесы, все одной трагической своей стороной, то есть последней неразложимой, необъяснимой своей стороной. Вот почему все, что здесь происходит, имеет свой определенный смысл, но все это погружено в ночь. Рядом с внешней, реальной драмой развивается другая, углубленная, внутренняя драма, которая протекает в молчании (первая — внешняя — в словах), и для которой внешняя драма служит как бы рамками. За внешним, слышимым диалогом ощущается внутренний, молчаливый. Действие раздваивается, и всюду ощущается чудодейственное влияние таинственных сил. Чувствуется, что то, что происходит на сцене, есть часть только проекции и отражения иных событий, которые происходят за кулисами. Действие происходит в двух мирах одновременно: здесь, во временном, видимом мире, где все движется, как тень, как отражения, и в ином мире, где определяются и направляются здешние дела и события. Трагедия происходит на самой грани, отделяющей тот мир от этого, ее действие придвинуто к самой грани здешнего существования, к пределу его («кладбищность» пьесы — смерть, убийство, самоубийство, «могильность»); она разыгрывается на пороге двух миров, и действие ее не только придвинуто к краю здешнего мира, 360 но часто переступает по ту сторону его (потустороннее, загробное в пьесе). И эта грань двух миров заложена на такой глубине действия трагедии и душ ее героев, что сливается с той трагической бездной, которая и есть последняя глубина «Гамлета». Вся трагедия движется в неисследимом: в какой-то иной реальности — вневременной, внепространственной; покров времени порван в ней; боль раны обнажена; и вся она — точно завеса, точно покров тонкий и трепещущий, сотканный из боли и страсти, тоски и страдания, — наброшенный на последнюю тайну. Отсюда та таинственность (или непонятность, путаница событий — что то же), которой окутано каждое слово и движение, которая заставляет по-иному звучать простые речи и которая придает такое неотразимое очарование всей пьесе. В ней чувствуются таинственные и невидимые лучи иных миров — невидимые нити, протянутые оттуда, связывающие, сковывающие и привязывающие каждый поступок, каждую мысль. Темные лучи, потусторонние нити, заполняют всю пьесу, освещают ее мистическим светом, идущим из неведомого источника. И вся трагедия означена черным цветом. Что такое чистый черный цвет? Это предел, грань цвета, смесь всех цветов и отсутствие цвета, переход его за грань, провал в потустороннее. Черный цвет, который есть земное выражение отсутствия цвета, перехода всех цветов в их слиянии за грань, дыра в потустороннее, — символизирует эту пьесу, где слияние всех цветов человеческой жизни дает отсутствие земного цвета, его отрицание (трагедия), переходит за грань жизни и, обращаясь в потустороннее, остается на земле черным87. Трагедия построена на самой тайне, бездне ночи. Это как бы внешняя трагедия, за которой скрывается трагедия внутренняя, как бы трагедия масок, за которой нащупывается трагедия душ.
События нарастают и совершаются по законам, которые не здесь — на сцене, а там — за кулисами, их логика там, они приходят оттуда. Здесь они непонятны, здесь они не имеют корней, причин событий. Корни их и причины заложены не здесь — ни в характерах героев, ни в логике необходимости хода событий.
«Черт возьми, тут есть что-то сверхъестественное, если бы только философия могла до этого докопаться», — 361 говорит Гамлет. И всякий читатель, как Горацио, скажет о пьесе: «О день и ночь! Вот это чудеса!»19*
Гамлет
Как к чудесам, вы к ним и отнеситесь.
Есть в мире тьма, Гораций, кое-что20*,
Что вашей философии не снилось (I, 5).
И на этом построена вся пьеса88. Горацио, который сам не действует, но созерцает всю эту трагедию, который стоит не в ней, вне ее, так говорит обо всех этих событиях прибывшему к развязке Фортинбрасу: «Какого? Печали небывалой? Это здесь» (V, 2). Это — несчастья (трагедия) и чудеса. И дальше:
Я всенародно расскажу про все
Случившееся. Расскажу о страшных,
Кровавых и безжалостных делах…
И все впечатление от трагедии можно передать этим певуче-диким и безумно-исступленным выкриком Гамлета:
«O, wonderful!»
Гамлет, уже умудренный смертью, который уже ей отдан (он уже убит), говорит:
«… I am
dead, Horatio. —
… А вы, немые зрители финала,
Ах, если б только время я имел, —
Но смерть — конвойный строгий и не любит,
Чтоб медлили, — я столько бы сказал…
Да пусть и так, все кончено, Гораций.
Ты жив…» (V, 2).
И он завещает Горацио жить: «… поведай про жизнь мою» и затем, завещая передать Фортинбрасу его повесть, говорит:
Скажи ему, как все произошло
И что к чему. Дальнейшее — молчанье.
Гамлет, уже умерший («I am dead»), уже стоящий в могиле, знает все, он мог бы рассказать. И вот он ясно намечает эти два смысла трагедии. Один — это внешняя повесть трагедии, которую с большими или меньшими 362 подробностями должен рассказать Горацио. Он ничего не знает, он созерцатель только трагедии, он расскажет ее фабулу, ее события. Мы знаем, что он расскажет:
Я всенародно расскажу про все
Случившееся. Расскажу о страшных,
Кровавых и безжалостных делах,
Превратностях, убийствах по ошибке,
Наказанном двуличье и к концу —
О кознях пред развязкой, погубивших
Виновников. Вот что имею я
Поведать вам (V, 2).
То есть опять-таки фабулу трагедии. Итак, трагедия как бы не заканчивается вовсе; в конце она как бы замыкает круг, возвращаясь снова ко всему тому, что сейчас только прошло перед зрителем на сцене, — только на этот раз уже в рассказе, но только в пересказе ее фабулы. Крут замкнут: непонятная трагедия, заполненная нагромождением непонятных и неестественных событий («кровавых…» и т. д.), так и останется непонятной в рассказе Горацио. А ее второй смысл, который мог бы рассказать уже умерший Гамлет, ибо в его душе совершилось все это, этот второй смысл не рассказан, не дан в пьесе, унесен в могилу.
Что это за второй смысл пьесы, который унесен Гамлетом в могилу и который открылся и ему только тогда, когда он стоял уже в могиле? Что рассказал бы Гамлет, если бы он имел время, нам — бледным и дрожащим зрителям трагической катастрофы?
Трагедия в его посмертных словах явно распадается на две части: одна — это сама трагедия, ее «слова, слова, слова», ее рассказ (Горацио), и другая — это остальное, что есть молчание. Что же это остальное, что есть молчание?
В этом все.
Этот «второй смысл» трагедии, это «остальное», то, что в пьесе не рассказано, то, что в пьесе не дано, а возникает из нее, — что бы это ни было, то есть в чем бы ни заключалась его сущность, — ясно, что оно одно может объяснить «неестественный» рассказ Горацио, первую часть трагедии, ее «слова, слова, слова». Это «остальное» — есть тот корень (пусть иррациональный, — смысл этого «остального», конечно, нельзя раскрыть в идеях, в логических понятиях, он — потусторонен, 363 он — замогильный; остальное — молчание), который разрешает уравнение. Понять трагедию Шекспира (рассказ Горацио) можно, только подставив под ее «слова, слова, слова» — «остальное — молчание».
Этот «второй смысл», как я уже сказал, не дан в пьесе, не рассказан в ней, трагедия замыкается в круг, переходя в рассказ Горацио.
Между тем он необходим для разрешения проблемы трагедии, для понимания ее рассказа. И вот, этот второй смысл все же дан в пьесе, он заключается в самой трагедии, как корень уравнения дан в уравнении, существует в нем, даже если он иррационален, то есть невыразим и не существует сам по себе, вне уравнения, но в нем он дан. Этот «смысл» дан в самой трагедии или, вернее, существует в ней, в ходе ее действия, в ее тоне, в ее словах. Вот почему она движется все время в молчании. Это — подпочвенная основа ее, трагический источник.
Вот почему в дальнейших строках, навеянных глубоким ощущением этого «второго смысла» трагедии, не будет прямо о нем сказано ни слова. Надо только нащупать его в самой пьесе, нащупать ее подпочвенные, трагические источники89. И только.
Можно, конечно, и прямо говорить об этом «втором смысле», но это уже тема особая, требующая особого подхода, тема, так сказать, мистическая, потусторонняя (как и сам «смысл»), метафизическая, допускающая к себе только отношение религиозное и выходящая за пределы художественного восприятия трагедии.
Здесь же нас занимает этот «второй смысл» лишь в ограниченных пределах трагедии, в замкнутом кругу ее «слов». Надо его нащупать только в ее словах.
Поэтому от синтетического впечатления всей трагедии, которому посвящена эта глава, которое дает только туман настроения для восприятия, только канву, на которой трагедия вышьет свои причудливые узоры, надо перейти к аналитическому рассмотрению ее составных частей — отдельных действующих лиц, их положений, речей, характеров, судеб. Здесь представляется нам наиболее целесообразным параллельное рассмотрение действующих лиц и фабулы пьесы. Ведь это две части, на которые распадается внешняя трагедия, из чего она составлена; две части, взаимоотношение которых определяет 364 весь смысл трагедии (например, так называемые трагедии рока или трагедии характера определяются только этим). Фабула драмы, то есть ход в ней событий, с одной стороны, и действующие лица, то есть участники этих событий — с другой, определяют всю трагедию или, вернее, их взаимоотношение определяет ее. Так, например, если ход событий в драме подчинен характерам действующих лиц, зависит от них, вытекает из них, — если направляющие его законы, определяющие и вызывающие его причины лежат в действующих лицах, в их характерах, — мы имеем трагедию характера; если ход событий подчиняет себе судьбу действующих лиц, вопреки их характерам, имея в себе что-то роковое и фатальное, внешненепреодолимое, что влечет людей к преступлениям, гибели и другим событиям, не вытекающим из их характера, — мы имеем трагедию рока. Таким образом, взаимоотношение этих двух частей трагедии — фабулы, то есть хода событий, и действующих лиц — определяет весь ее смысл.
Так и в «Гамлете». Надо рассмотреть это взаимоотношение: только здесь можно прощупать смысл трагедии. Такова техническая часть работы.
Надо рассмотреть ход событий в пьесе и действующих лиц ее. Надо расставить марионетки, чтобы получилась сцена, надо прочитать на этих страницах, в этих строках трагедию, ее «слова, слова, слова».
Но кроме этих двух частей — фабулы пьесы (хода событий, интриг, катастрофы) и действующих лиц, во взаимоотношении которых мы рассчитываем прощупать смысл трагедии, — есть еще одна часть — весьма важная, как бы окутывающая это «взаимоотношение» и придающая ему особенный вид. Мы говорим о невидимой атмосфере трагедии, о лирике ее, о «музыке трагедии», об ее тоне, настроении. Как в произведениях живописи, в картине самое важное — не краски, не изображение предметов, не полотно, а тот воздух, те перспективы, те бесконечные дали, которые возникают из сочетания красок и предметов, которые заполняют картину, но которых в картине, собственно, нет, которые возникают из картины, — точно так же в трагедии, где от автора не говорится ни слова, где ни словом не объясняется ход событий, где только передаются, воспроизводятся положения, события, лица, разговоры — не рассказом о них, но точным 365 их воспроизведением, — самое важное это не обрисовка характеров действующих лиц, их поступков, судеб, а тот неуловимый воздух, заполняющий промежутки между лицами, те бесконечные дали трагического, которые возникают из сочетания лиц и положений. Так, в трагедии самое важное не то, что происходит на сцене, что видимо и что дано, а то, что висит, что смутно отгадывается, что чувствуется и ощущается за событиями и речами, та невидимая атмосфера трагического, которая непрестанно давит на пьесу и заставляет возникать в ней образы и лица. Этой атмосферы, обволакивающей «второй смысл» пьесы, в самой пьесе нет, она возникает из данного, ее надо вызвать. Каждое лицо имеет уже иной смысл, если против него или рядом с ним стоит другое, отбрасывающее на него свой свет. Надо поставить каждое из них на надлежащее место; надо различить лиц подлинно трагических, носителей трагического начала в своей душе — трагических героев, от трагических жертв, гибнущих под давлением этого трагического начала. Только расставив их, можно вызвать к жизни то пространство, которое находится между ними, заполненное невидимыми нитями трагического. В этой «музыке трагедии» звучит нотами мистического органа вся гамма темных чувств — печали, скорби, тоски, страдания и пр. — всего, сколько есть слов для обозначения их; свет, заливающий трагедию, — темный.
Итак, вот с чем будем иметь дело в дальнейшем: с рассмотрением взаимоотношения хода событий и действующих лиц, и с этой «музыкой трагедии»90, которую приходится слышать за словами трагедии. Это и должно помочь нам постигнуть настроение пьесы, понять все те отдельные трагедии, из которых, мы сказали, состоит наша пьеса, и которые обращены все одной стороной к внутреннему фокусу, центру трагедии, найти этот центр, эту точку, вокруг которой она вся вращается, понять и осветить «характеры» действующих лиц, уяснить механизм хода событий в пьесе и, наконец, — что составляет все это вместе взятое, — нащупать общий «смысл» трагедии, понять ее, подставив под ее «слова» — «остальное».
Это все. Только это. Тайну надо принять как тайну. Разгадывание — дело профанов. Невидимое — вовсе не синоним непостижимого: оно имеет другие ходы к душе. 366 Невыразимое, иррациональное воспринимается неразгаданными доселе чувствилищами души. Таинственное постигается не отгадыванием, а ощущением, переживанием таинственного. «Остальное» постигается в молчании трагедии.
II
В этом тайна искусства трагического поэта.
Трагедия начинается катастрофой, случившейся даже до ее начала, до поднятия занавеса. Эта катастрофа, из которой развивается все действие, могла бы составить сюжет особой трагедии, героем которой был бы убийца Гамлета (отца), его брат Клавдий, теперешний король Дании. Но эта первая трагедия не дана в пяти актах нашей трагедии, она произошла за сценой, о ней мы узнаем из рассказа, — таким образом, механизм действия нашей трагедии перенесен за сцену, за кулисы.
Здесь надо в двух словах остановиться на удивительном художественном приеме Шекспира в этой трагедии, на технике развития ее действия — на приеме, кладущем свой отпечаток, придающем свой стиль всей пьесе в ее целом. Весь «Гамлет» насыщен рассказами о событиях, все существенное в пьесе происходит за сценой, кроме катастрофы (что особенно подчеркивает резкий контраст стиля бездейственной трагедии и невероятной по насыщенности действия последней сцены и придает этой последней особый смысл): так, об убийстве отца Гамлета и браке его матери с убийцей, о поединке Гамлета с Фортинбрасом (отцов), о появлении тени отца Гамлета (дважды), о всей политической интриге, о предприятиях Фортинбраса, о любви Гамлета к Офелии, о его прощании с ней, о борьбе с пиратами, об убийстве Гильденстерна и Розенкранца, о гибели Офелии, даже о настроениях Гамлета — мы узнаем из рассказов о них: все это происходит вне сцены. Она вся точно построена на словах, на рассказах, что, видимо, противоречит самой природе трагедии как драматического представления, где все должно быть непосредственно воспроизведено91 перед зрителем, дано на сцене. Отсюда совершенно особый бездейственный характер, самый стиль ее: все это как бы задергивает дымкой все действия, как бы набрасывает на действие дымку рассказа, 367 прикрывает его рассказом, дает трагедию в отзвуке, отсвете, отголосках. Точно вся она развивается за какой-то полупрозрачной завесой («слов, слов, слов»…), точно вся она протекает в странном и матовом, глубоком матовом полусвете; точно это трагедия отражений, трагедия теней, где за каждой тенью (тенью события, «действия» в драматическом смысле) ощущается и угадывается таинственный ее отбрасывающий предмет, точно за каждым рассказом нащупывается таинственное (скрытое, ибо завешенное «словами») событие и действие. Все совершается вне сцены. Здесь как бы только отзвуки и отблески, отражения, отсветы происходящего, только рассказ, только тень, — отсюда та страшная и пугающая нездешность событий и действий, когда они появляются, возникают непосредственно, не в рассказе (катастрофа). Прибавьте к этому монологи актеров, сцену на сцене, песни Офелии, могильщиков, отрывки и стихи Гамлета и, главное, взгляд в речи (последней) Гамлета к Горацио на всю трагедию как на рассказ, роль самого Горацио (он все время — вне действия, он рассказчик трагедии, ее созерцатель, точно мы видим рассказ Горацио о ней, а не самую трагедию, — Шекспир — Горацио, — точно вся она снятся ему), — и выдержанный до последней черточки «теневой» характер, «теневой» стиль этой трагедии станет ясен. Это одно — по чисто художественным достоинствам — делает «Гамлета» высочайшей драмой. Она вся — из отзвуков, из отблесков, из отражений, рассказов, монологов, воспоминаний, видений, теней, представлений, игры, песен — без действия, — и этому соответствует ее внешность — проза и стихи, — белые и рифмованные, и отрывки, и сцены, и песни, и монологи — чередуются, точно обломки, осколки чего-то.
Поистине, это трагедия проекций.
Этот «теневой стиль» трагедии — уже сам, уже один — содержит ее смысл, дает художественное ощущение ее сокровенного смысла, бросает свой свет на все происходящее. Им придется пользоваться и нам при рассмотрении каждого отдельного события для указания на его «теневой» характер и при рассмотрении трагедии в целом — как рассказа Горацио. От внешнего к внутреннему, от формы («слов») к смыслу («молчанию»), от технического драматического приема к вскрытию сущности всей трагедии — в ее частях и в ее целом — таков 368 путь не только художника-автора, но главным образом критика-читателя для вскрытия сущности пьесы. В этом стиле уже целая «философская система» трагедии — ее «феноменов» и «ноуменов»; целая «теория» мировосприятия (мира трагедии, конечно, только), миропонимания; вся лирика настроений созерцателя пьесы; вся «музыка» трагедии). Этот стиль заставляет по-иному звучать отдельные сцены («феномены» и «ноумены») и всю трагедию. Об этом — особо о каждой сцене и трагедии в целом.
Но этот же стиль создает особые условия работы над трагедией (работы восприятия): все это все же облечено в драматическую форму, в рассказы различных действующих лиц. Критик-читатель не может отождествлять себя ни с одним из них (тем более что «рассказывают» почти все), и потому ему приходится говорить не столько о самых событиях, сколько об их отзвуках, отражениях в душе действующих лиц, в их рассказах. Ему приходится работать только над этим материалом. Ему приходится подчиниться стилю трагедии и заразиться им. Но при этом, — говоря не о самых событиях, а об отражении их в зеркалах-душах действующих лиц, — критик должен хорошо изучить каждое зеркало, так как все они разные, — дающие и отражения разные — выпуклые, вогнутые, прямые, с различным душевным фокусным расстоянием, они дают отражения то увеличенные, то уменьшенные, то искривленные. Для того чтобы изучить в отражениях самые события, надо найти фокус, центр каждого зеркала — каждого действующего лица.
Все это понадобилось здесь в главе, посвященной рассмотрению роли тени отца Гамлета в трагедии, именно потому, что сделать это можно не иначе, как пользуясь указанным выше приемом. С самого начала приходится подчиниться стилю трагедии и определить роль тени в пьесе тоже по отражениям ее в душах действующих лиц трагедии. Это — единственные аргументы в руках критика. Еще одно предварительное замечание: если путь возникновения этого развиваемого здесь воззрения на «Гамлета» был — от ощущения трагедии в целом к оценке ее частностей, ролей отдельных действующих лиц, — то ход работы — передачи этого воззрения в мыслях — должен быть обратный — от оценки ролей отдельных действующих лиц к восприятию трагедии в ее 369 целом. Или, вернее, то и другое можно связать вместе: ведь наша тема, как указано выше, есть параллельное рассмотрение фабулы пьесы, хода событий (трагедии в целом) и действующих лиц (трагедии в частностях).
Теперь о роли тени отца Гамлета в трагедии.
Тень является в пьесе четыре раза (в одной сцене дважды — акт I, сц. 1), — в четырех сценах — акт I, сц. 1, 4, 5; акт III, сц. 4; два раза об ее появлении рассказывают — сперва Бернардо и Марцелло — Горацио, потом все трое Гамлету (акт I, сц. 1, 2), но это далеко не единственный и не весь материал об этом. Это материал, так сказать, явный, доказательный, но есть и другой, не менее значительный. О нем — ниже.
Прежде всего Тень нигде в пьесе, в продолжение пяти актов, не действует, ничего не совершает. Придя из иного мира, она остается все время, видимо, чужда всему происходящему здесь. Она только показывается страже, видится солдатами, Горацио, Гамлетом (королева Тени не видит) и слышится только Гамлетом. Что же эта Тень? Какова ее роль в пьесе, где ее место? Сценический ли это только аксессуар, драматический эффект, наглядно показывающий, сценически воспроизводящий разоблачение убийства? Или действующее лицо, по условиям драмы умершее (убитое по фабуле пьесы) и все же необходимое в ходе драмы как ее живой участник, побуждающий героя к мести, вызывая в нем чувства любви, жалости, преклонения, долга? В первом случае роль Тени чисто служебная, техническая, так сказать, символистическая; она может быть заменена любым живым лицом, обладающим равной авторитетностью в призыве к мести; во втором «сверхъестественное» объясняется просто техническими требованиями драмы для избежания видимой нелепости (лицо убито — это необходимая часть драмы, но оно необходимо же должно быть в ней), — но по смыслу явление призрака можно приравнять к разговору с живым отцом, если бы он был возможен, то есть в сущности явление призрака, сверхъестественное в драме, есть только как бы условность, но, в сущности, по смыслу драмы не вносит элемента сверхъестественного в нее. Все это глубоко неверно92. Роль Тени в пьесе, ее место — совершенно иные. В этом убеждает нас весь имеющийся в драме «материал» — и стиль этого «материала». Если бы был правилен первый взгляд, то 370 роль Тени была бы кончена после разоблачения, и ее появление в третьем акте — нелепо; в неверности второго взгляда может убедить вся реальность потусторонности Тени, ее иномирности, ее «призрачности», ее замогильности, ее именно сверхъестественной стороны, которая насыщает трагедию. С установлением этого меняется совершенно взгляд и на роль Тени.
В драме нигде не только нет ни малейшего намека на указанные выше два взгляда на Тень, но, наоборот, все, каждое слово, каждый поступок оттеняют и подчеркивают полную реальность Тени в трагедии, именно ее замогильной, сверхъестественной стороны. Отношение к ней солдат, Горацио, Гамлета — то есть отражения ее влияния в душах действующих лиц (единственный наш материал) — свидетельствует именно об этом. К установлению этого мы сейчас и переходим: реальность Тени в трагедии — таков тезис этой главы.
Решающее значение в этом отношении, наиболее «доказательное», имеет первый акт, особенно первая сцена. Сцена открывается на террасе перед замком; ночная стража в Эльсиноре чувствует что-то тревожное. Все, с самого начала, с первого слова, странно, «неестественно» или «более, чем естественно». Все с самого начала предвещает несчастья и чудеса. Все окутано особой атмосферой душевного настроения — таинственного, ужасного, ночного. В тревожных окриках часовых, среди пугающего безмолвия необыкновенной ночи, нарастает темная и жуткая тревога. Франциско, которого сменяет Бернардо, на вопрос последнего: «Как в карауле?» отвечает: «Все, как мышь, притихло». И все же он очень обрадовался смене.
Бернардо
Поди поспи, Франциско.
Франциско
Спасибо, что сменили: я озяб,
И на сердце тоска.
Глубокая тишина, и мрак ночи, и резкий холод, и этот особенно уж невозмутимый покой («как мышь…») — все это в глубокий час полуночи («двенадцать бьет») создает особое чувство («и на сердце тоска») недужной и тревожной неловкости, «сердечной тошноты». Замечательны по непередаваемой напряженности тревоги вопросы, окрики часовых:
371 Бернардо
Кто здесь?
Этим начинается пьеса.
Франциско
Нет, сам ты кто, сначала отвечай.
И еще раз:
Франциско
Кто идет?
Приходят Марцелл и Горацио. Они пришли провести ночь на страже, ибо на террасе две ночи сряду совершается необыкновенное, неестественное — является призрак умершего короля Гамлета.
Марцелл
Ну как, являлась нынче эта странность?21*
Бернардо
Пока не видел.
Марцелл
Горацио считает это все
Игрой воображенья и не верит
В наш призрак, дважды виденный подряд.
Вот я и предложил ему побыть
На страже с нами нынешнею ночью
И, если дух покажется опять,
Проверить это и заговорить с ним.
Горацио
Да, так он вам и явится!
Бернардо
Присядем,
И разрешите штурмовать ваш слух,
Столь укрепленный против нас, рассказом
О виденном.
Горацио, скептик, студент, не верит в появление призрака; вопрос поставлен прямо — есть ли это «this thing», как говорит Марцелл, или только «but fantasy» — галлюцинация, обман зрения. Солдаты — Бернардо и Марцелл — глубоко проникнуты реальностью Духа; Горацио пришел их проверить, и в его внезапном «обращении» и его (не верившего, пришедшего проверить) исполнении воли Духа — весь смысл этой сцены. Кстати: она проходит не как галлюцинация (как, например, в сцене III акта, когда мать не видит Духа), а со всей реальностью призрака. Три человека видят его и, главное, 372 Горацио. В его «обращении» — повторном — смысл сцены. Бернардо начинает свой рассказ — спокойный и художественно прямо направленный к тому, чтобы убедить в реальности рассказываемого (тон рассказа, указание на звезду и на удар колокола), — и здесь является Тень. Опять: из рассказа о ней она возникает, и, прежде чем появляется, вы слышите о ней рассказ, то есть к событию присоединяется (оно не прямо воспроизводится) неуловимый осадок личного переживания события, след души пережившего рассказчика. В этом лирическом подходе к предмету сцены, в ее лирической обработке — смысл этого художественного приема. И этим «лирическим осадком» нельзя пренебрегать.
Бернардо
Минувшей ночью,
Когда звезда, что западней Полярной,
Перенесла лучи в ту часть небес,
Где и сейчас сияет, я с
Марцеллом.
Лишь било час…
Входит Призрак.
Марцелл
Молчи! Замри! Гляди, вот он опять.
Зрители видят Духа, но этого мало. Посмотрим, как видят его на сцене.
Бернардо
Осанкой — вылитый король покойный.
Марцелл
Ты сведущ — обратись к нему, Гораций.
Бернардо
Ну что, напоминает короля?
Горацио
Да как еще! Я в страхе и смятенье.
Бернардо
Он ждет вопроса.
Марцелл
Спрашивай. Гораций.
Горацио
Кто ты без права в этот час ночной
Принявший вид, каким блистал, бывало,
Похороненный Дании монарх?
Я небом заклинаю, отвечай мне!
Марцелл
Он оскорбился.
Бернардо
И уходит прочь.
Горацио
Стой! Отвечай! Ответь! Я заклинаю!
Призрак уходит.
373 Горацио трепещет от ужаса и изумления — после прежних слов! «Проверка» кончена. Бернардо и Марцелл оказались правы. И как сразу — видение — убедило Горацио. Бернардо замечает это.
Бернардо
Ну что, Гораций? Полно трепетать.
Одна ли тут игра воображенья?
Как ваше мненье?
Горацио
Богом
поклянусь:
Я б не признал, когда б не очевидность!
И тут же Горацио, пришедший проверить и уверявший, что Дух не придет, вместе с солдатами начинает обсуждать тайну призрака. Теперь на сцене — «в отражениях», «в зеркалах» — такая глубокая вера, или, лучше, очевидность, до чувства ужаса, реальности Тени и именно ее «замогильной» стороны. Верность отражения особенно доказательна, если вспомнить «душевный фокус зеркала» Горацио — «игра воображения» и т. д. В этом явлении замечательно все: и «возникновение» Духа Гамлета из рассказа, из разговоров о нем, и самое безмолвное его явление, бездейственное и бессловесное, которое лучше всего характеризует роль Тени в трагедии — два раза является Тень и безмолвно, сливаясь с окружающим сумраком, проходит по террасе и исчезает вместе с уходящей ночью. Дух умершего Гамлета — привидение, тень умершего, несуществующий, но возникающий призрак, находящийся на грани реального и нереального, бытия посю- и потустороннего, осуществившаяся фантазия, воплотившийся бред — самое невероятное и неестественное.
Но переходим дальше к «отражениям». Тень заставила своим явлением оцепенеть Горацио и трепетать от изумления и страха, и непонятность явления — его ужасность, и изумительность, и чудесность — заставляет стучаться в двери тайны, выведать, зачем приходит королевский призрак, заставить его заговорить. Но Дух нем. Потрясенные, они толкуют, что бы могло означать явление Тени.
Марцелл
А с королем как схож!
Горацио
Как
ты с собой.
374 И в тех же латах, как в бою с
норвежцем…
… Невероятно!
Марцелл
В такой же час таким же важным шагом
Прошел вчера он дважды мимо нас.
Горацио
Подробностей разгадки я не знаю,
Но, в общем, вероятно, это знак
Грозящих государству потрясений.
Таинственное посещение призрака в «мертвый» час ночи вызывает смутные предчувствия грядущих бедствий и несчастий. Здесь Горацио, так странно стоящий вне самой трагедии, с самого ее краю, как бы со стороны воспринимающий все, правильно определяет роль Тени: точно и определенно «направить мысль» нельзя («подробностей разгадки…» и т. д.), но в целом — это предвестие, завязка бед и бед необычных («грозящих потрясений»). После указания Горацио на его предчувствия, будто явление Тени несет ужасный и странный переворот, Марцелл, простой солдат, начинает связывать это явление с лихорадочными военными приготовлениями, что идут по всей стране и необъяснимостью своей отсюда указывают, что готовится что-то странное и страшное.
Марцелл
Постойте. Сядем. Кто мне объяснит,
К чему такая строгость караулов,
Стесняющая граждан по ночам?
Чем вызвана отливка медных пушек
И ввоз оружья из-за рубежа,
И корабельных плотников вербовка,
Усердных в будни и в воскресный день?
Что кроется за этой потной гонкой,
Потребовавшей ночь в подмогу дню?
Кто объяснит мне это?
Совершаются как будто самые будничные события и приготовления, но все чувствуют таинственную тревожность, окутывающую и проникающую все. Горацио обращается к прежним событиям, к тому, чего уже нет, но что было и что определяет собой все будущее.
Горацио
Постараюсь.
По крайней мере, слух таков.
Король, Чей образ только что предстал пред нами,
Как вам известно, вызван был на бой
Властителем норвежцев Фортинбрасом.
375 В бою осилил храбрый Гамлет нага,
Таким и слывший в просвещенном мире.
Противник пал. Имелся договор.
Скрепленный с соблюденьем правил чести.
Что вместе с жизнью должен Фортинбрас
Оставить победителю и земли,
В обмен на что и с нашей стороны
Пошли в залог обширные владенья,
И ими завладел бы Фортинбрас,
Возьми он верх. По тем же основаньям
Его земля по названной статье
Вся Гамлету досталась. Дальше вот что.
Его наследник, младший Фортинбрас,
В избытке прирожденного задора
Набрал по всей Норвегии отряд
За хлеб готовый в бой головорезов.
Приготовлений видимая цель,
Как это подтверждают донесенья, —
Насильственно, с оружием в руках
Отбить отцом утраченные земли.
Вот тут-то, полагаю, и лежит
Важнейшая причина наших сборов,
Источник беспокойства и предлог
К сумятице и сутолоке в крае.
Этот рассказ о прижизненной завязке событий — на этой половине мира — (опять рассказ!) связывается с потусторонним, замогильным явлением Духа: как удивительно переплетено земное с небесным, здешнее с потусторонним, то, что совершается здесь, на этой половине известного мира, продолжается по ту сторону, связывается, сплетается с ним.
Бернардо
Я думаю, что так оно и есть.
Не зря обходит в латах караулы
Зловещий призрак, схожий с королем.
Который был и есть тех войн виновник.
Раньше — король, — здесь — король — теперь — Тень, там Дух — двойная завязка трагедии. Вот точное определение роли Тени: непонятно связана она со всем происходящим здесь, она — истинная завязка этих «войн». Роковой поединок Гамлета и Фортинбраса, о котором рассказывает Горацио, не кончился; он продолжается в сыновьях, — не встречающихся ни разу, — бездейственная борьба, что составляет внешнюю рамку трагедии. В роковые минуты истории и жизни чувствуется участие неземного в земных событиях. И эта Тень — бельмо, пылинка, закрывающая глаз души.
376 Горацио
Он как сучок в глазу души моей,
В года расцвета Рима в дни побед,
Пред тем как властный
Юлий пал, могилы
Стояли без жильцов, а мертвецы
На улицах невнятину мололи.
В огне комет кровавилась роса,
На солнце пятна появились; месяц,
На чьем влиянье зиждет власть
Нептун, Был болен тьмой, как в светопреставленье.
Такую же толпу дурных примет,
Как бы бегущих впереди событья,
Подобно наспех высланным гонцам,
Земля и небо вместе посылают
В широты наши нашим землякам.
В самые высокие дни Рима пустели могилы, чувствовалось замогильное — перед гибелью, являлись мертвецы. Таково «отражение» в душе студента Горацио явления Тени — высокохудожественный штрих. Тень тоже знамение страшных событий, предчувствием которых так насыщена эта сцена, — всегдашние предтечи судьбы, прологи грядущего бедствия. Великие события, идя на землю, отбрасывают впереди себя, перед собой тени93. Ведь тень — вообще в нашем смысле — есть отображение, отраженная проекция в двухмерном пространстве трехмерного. Здесь тень есть проекция в трехмерном пространстве трагедии — «четырехмерного», потустороннего.
Но эта сцена важна не только в отношении общем — она непосредственно начинает фабулу трагедии, открывает ее действие.
Тень является снова — перед самым утром, в час, когда ночь переходит в день — в смутный, двойной час, когда приходящее утро вдвинуто в ночь, когда действительность окружена фантастикой. Существующая между рассказом и действительностью, Тень снова возникает из рассказа Горацио о Риме, о прологах судьбы.
Призрак возвращается.
Но тише! Вот он вновь! Остановлю
Любой ценой. Ни с места, наважденье!
О, если только речь тебе дана.
Откройся мне!
Быть может, надо милость сотворить
Тебе за упокой и нам во благо.
Откройся мне!
Быть может, ты проник в судьбу страны
И отвратить ее еще не поздно.
377 Откройся!
Быть может, ты при жизни закопал
Сокровище, неправдой нажитое, —
Вас, духов, манят клады, говорят.
Откройся! Стой! Откройся мне!
Поет петух.
Держи его, Марцелл!
Марцелл
Ударить алебардой?
Горацио
Бей, если увернется.
Бернардо
Вот он!
Горацио
Вот!
Призрак уходит.
Марцелл
Ушел!
Горацио страстно доискивается смысла этого явления, он потрясен неведомой и неизведанной дотоле силой ощущения сверхъестественной, замогильной реальности призрака. Он хочет понять смысл, связать небесное с земным, чудесное с повседневным. Он, пораженный неведомой силой, — предлагает себя в свершители неизведанных велений Тени, но ум — его догадки всегда еще менее ужасны, еще менее неправдоподобны и сверхъестественны. Напрасно. Призрак с пением петуха, с приходом утра исчезает. Этот удар мечом в Тень («ведь призрак, словно пар, неуязвим», — это понимает даже Марцелл, а Горацио велел ударить), этот последний штрих реальности, почти «материальности» Тени — до какой степени ощущения ее реальности надо дойти, чтобы пытаться проколоть ее! Но призрак — не «материален»; как воздух, он недоступен мечу, он реален, но иной реальностью. Он существует в ином мире; днем его нет. Эта сцена определяет «природу» Тени вполне: это не служебный, сценический аксессуар, не необходимая логически форма, — это реально существующее в трагедии, принадлежащее ей и неотъемлемое и незаменимое в ней, но существующее как бы и вне ее, особым существованием, в ином мире, в иной реальности.
Бернардо
Он отозвался б, но запел петух.
Горацио
И тут он вздрогнул, точно провинился
И отвечать боится. Я слыхал.
378 Петух — трубач зари, своею
глоткой
Пронзительною будит ото сна
Дневного бога. При его сигнале,
Где б ни блуждал скиталец-дух: в огне,
На воздухе, на суше или в море,
Он вмиг спешит домой. И только что
Мы этому имели подтвержденье.
Марцелл
Он стал тускнеть при пенье петуха.
Дух существует только в ночи. Но вот приходит утро — ночное ушло. Теперь начинается действие Теда в пьесе.
Горацио
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но вот и утро в розовом плаще
Росу пригорков топчет на востоке.
Пора снимать дозор. И мой совет:
Поставим принца Гамлета в известность
О виденном. Ручаюсь жизнью, дух,
Немой при нас, прервет пред ним молчанье.
Ну как, друзья, по-вашему? Сказать,
Как долг любви и преданность внушают?
На долю Горацио выпало связать земное с небесным, быть одним из роковых свершителей безвестного веления. В пьесе многое совершается без слов, она как бы вся окутана молчанием, погружена в него. Многое поэтому в ней внешне обойдено молчанием, логически не мотивировано. Горацио, со страшной силой вдруг проникшийся реальностью и ужасностью Тени, со страстным беспокойством предлагает себя в свершители ее велений. Его «ученость» бессильна, его заклинания напрасны, его догадки о цели явления не нащупывают главного. Но это все — «слова», это на самой поверхности, в рассуждении, в сознании, в дневной стороне его души. Но Тень говорит не только ей, не только уму и сознанию его. Непостижимым внушением, переданным его ночной душе, он узнает, что надо об этом рассказать Гамлету. Конечно, это просто и понятно, «как велит долг и любовь» — первая мысль. Естественно и просто, что ему в голову приходит мысль сообщить это принцу: он сам объясняет это любовью к нему и долгом. И Марцелл так настойчиво соглашается, точно и ему пришла та же мысль — «Let’s dót, I pray». И откуда такая уверенность, такое знание в Горацио, уже необыкновенное, непонятное, уже «неестественное», 379 что Дух заговорит, непременно заговорит с сыном — «ручаюсь жизнью» и т. д. Ни тогда, когда он слышал о двоекратном явлении Тени, ни после ее первого явления ему это в мысль не приходило. Так все в Гамлете имеет два смысла: один — простой, общепонятный, открытый; другой — сокровенный, намекающий, необъяснимый. В самых простых вещах открываются вдруг такие бездны; за естественнейшими событиями ощущается странность необычайная. Так и здесь. Смутное чувствование Горацио, перешедшее в странную уверенность, почти равнявшуюся сокровенному знанию, завязывает пьесу, фабулу ее. Анализ первой сцены не только дает материал для определения роли Тени в трагедии (ибо роль Тени может быть выяснена только во всей трагедии), но и непосредственно вводит в фабулу пьесы, в ход ее действия. Подведем итоги. Мы «проанализировали» одну сцену, в которой Тень только безмолвно и бездейственно появляется, но по «отражениям» по ходу действия (движение пьесы уже началось, эта сцена не статическая, появление Тени, в сущности, уже действенно. Характер этого начала движения через Горацио отмечен выше) можно выявить общий смысл ее роли в трагедии. Самую же роль придется выявлять на протяжении всей трагедии. Тень — это завязка трагедии, ее потусторонний корень. Надо различать прижизненную завязку событий и посмертную. Прижизненная завязка94, выясняющаяся из рассказов и случившаяся до начала трагедии, и есть скрытый толчок к развитию действия трагедии. Его первопричина отнесена ко времени до начала трагедии, она существует вне драмы. Из первой сцены мы узнаем о завязке политической — о поединке с Фортинбрасом, о завязке бездейственной политической борьбы, которая проходит через всю трагедию, которая ее начинает и заканчивает, служит ей рамками. Подробное выяснение этой борьбы и роли в ней Тени — дальше, это может быть выяснено в связи с общим развитием политической интриги, Фортинбрасом и пр. Пока же надо отметить, что это связано с семейной драмой Датского дворца и Дух, явившийся к сыну со словами о матери и дяде, составляет причину и политической интриги. Прижизненная завязка связывается с посмертной95: такой же вид у Тени, как у короля, когда он сразился с Норвежцем. Второе — это завязка, 380 тоже прижизненная, семейной драмы. Об этом пока не сказано ни слова, но таков смысл этого появления Тени и всей сцены, которая, повторяю, открывает действие, движение пьесы. Но и эту вторую прижизненную завязку в целом можно будет выяснить дальше. В общем, как то, так и другое принадлежит тому, что было до трагедии, что в ней узнается из рассказов и что составляет ее завязку.
Другое — это посмертная, замогильная роль Тени. Роль Тени Гамлета, его Духа, а не короля Гамлета. Это она приносит удивительную завязку событий, тяжкие и чудесные несчастья, действуя не столько непосредственно (и даже вовсе не действуя в пьесе), сколько через других. Тень — это потусторонний корень трагедии, «замогильный» механизм ее движения, связующее звено двух миров в пьесе, их посредствующая среда, через которую потустороннее влияет на здешнее. Тень прямо не действует в пьесе. Она бездейственно господствует, доминирует над этой бездейственной пьесой. Тень Гамлета не есть действующее лицо в пьесе, поэтому характеристика Тени бессмысленна. Ее характеристика в устах Гамлета, Горацио — есть, в сущности, лишь характеристика не Тени, а короля до смерти, который тоже не есть действующее лицо драмы, а повод, ее сюжет, ее завязка.
Тень — это полный расплывчатой, сумрачной зыбкости Дух, находящийся на грани события — явления — действия и действующего лица. Она входит в фабулу пьесы, принадлежит фабуле, развитию хода действия, она часть фабулы — завязки до трагедии и самой трагедии. Тень есть замогильное, загробное, потустороннее — в фабуле трагедии, соединяющее два мира в пьесе, передающее странное влияние одного на другой.
Мы не только установили на основании анализа этой сцены, что Тень принадлежит фабуле пьесы, а не действующим лицам, составляет ее замогильное, что не может быть дана поэтому ее характеристика, но и показали на этой самой сцене, которая открывает действие, влияние, действие Тени на ход событии в пьесе, или, точнее: применили эти общие положения, добытые из анализа этой сцены к ее же объяснению96.
Этими общими указаниями на смысл роли Тени в трагедии и приходятся здесь ограничиться. Тень же 381 как таковую можно выявить как явление в ходе действия, в других действующих лицах. В пьесе везде, за каждым словом, за каждым действием, чувствуется замогильное. На всем в пьесе (ибо она одноцентренна, вся вращается вокруг одного), на всем ходе действия трагедии лежит отбрасываемая Тенью тень, поистине «тень Тени», как говорит Гамлет.
И прежде всего надо выявить «тень Тени» в самом Гамлете и уж через него — во всей трагедии в ее целом.
III
Скорбный Гамлет, принц Датский (Гамлет, как и умерший отец, — это глубоко символично; всегда принц, — то есть не сам по себе, а всегда сын короля; всегда Датский, потому что семейная драма сплетена с государственной и в нем всегда датский принц — живет и гибнет — наследник датского престола, его законный владетель) еще до явления Тени погружен в глубокий траур, отдался ночной печали. Внезапная кончина отца, скорый, поспешный брак матери — все это наполняет душу его смутными, но сильно говорящими предчувствиями. До кончины отца, до брака матери, то есть до завязки трагедии (которая сама до начала ее), насколько можно судить по некоторым отрывкам, намекам, разбросанным в пьесе, — он совсем иной. Студент Виттенбергского университета, знающий и книги, и науку, датский принц, владеющий шпагой и знающий фехтовальное искусство, — одним словом, еще причастный всему в жизни, от чего он после отрывается. Еще обычный, еще как все или почти как все, ибо с самого рождения он уже отмечен знаком трагедии. Во всяком случае, это не больше, как предвестие, не более, как знак, как возможность грядущего; взгляд же его на мир, или, вернее, отношение его к миру (и его место в нем), совсем иные до трагедии: так, достаточно сказать, что Гильденстерн и Розенкранц — его друзья. Он сам говорит им, что с некоторого времени он забросил все свои занятия и дела. Это Гамлет до трагедии. Трагедия начинается до поднятия занавеса, ее завязка произошла раньше. И вот, что особенно важно заметить и подчеркнуть, уже самая завязка трагедии, убийство отца и брак матери, переменили 382 Гамлета. Так что Гамлет вступает в трагедию уже иным, уже запечатленным. Еще до разоблачения убийства он попадает в зачарованный круг трагедии.
Связь с отцом, с матерью — родительская, кровная, телесная — передала его душе темный и ужасный момент завязки, момент убийства. Один конец нити оборван, и это мгновенно отдается на ее другом конце. Есть непонятные вестники, говорящие глухо, но внятно душе; есть невидимые, но явно ощущаемые знаки; есть мистические нити, телесно и душевно связывающие человека. Гамлет до явления Тени — сплошное предчувствие. Он чувствует, что будет скорбь, — он еще не знает, ему еще не открылась тайна, но она уже заложена в душе его. Его вторая душа, его ночное существо ощущает уже это, чувствует, знает, хотя дневное сознание еще не знает. И отсюда глубокая и невероятная по своей напряженности скорбная тревога.
Король
Опять покрыто тучами лицо?
Гамлет
О нет, напротив: солнечно некстати (I, 2).
Его слишком озаряет солнце — он отдан ночи, ее пророк, ибо невидимой связью своей (родительской, кровной) он притянут к ней, к ночи, где теперь его отец. Темные предчувствия его еще не вполне определились, выявились, уяснились: свет солнца разгоняет и рассеивает их, и он с мучительной напряженностью сосредоточивается на ночных ощущениях своих. Свет солнца — не его свет; мир дня — не его мир. Он еще не знает, что именно, но что-то здесь странно и необычно — это заложено глубоко в его душе. Только подсознательная, сублиминальная сфера души его ощущает это, и он мучится неродившимся, нарождающимся знанием. Он уже тайный враг королю, еще не зная ничего, еще не догадываясь.
Гамлет (в сторону)
И даже слишком близкий, к сожаленью (I, 2).
Но это не кажется, это точно есть в душе. Какое глубокое ощущение реальности своих ночных предчувствий, уверенности почти знание. Король и королева утешают его: все просто, все обычно, все естественно, все понятно; напрасно: его пророческая душа знает, что здесь есть что-то сверхъестественное, необычайное и странное. 383 Вот необычайный по силе диалог — души знающей и непонимающего ума, дневного света неотразимых доводов рассудка и ночных, пусть смутных и темных, ощущений душой тайны.
Королева
Ах, Гамлет, полно хмуриться, как ночь!
Взгляни на короля подружелюбней.
До коих пор, потупивши глаза,
Следы отца разыскивать во прахе?
Так создан мир: что живо, то умрет
И вслед за жизнью в вечность отойдет.
Гамлет
Так создан мир.
Королева
Что
ж кажется тогда
Столь редкостной тебе твоя беда?
Гамлет
Не кажется, сударыня, а есть.
Мне «кажется» неведомы. Ни этот
Суровый плащ, ни платья чернота,
Ни хриплая прерывистость дыханья,
Ни слезы в три ручья, ни худоба,
Ни прочие свидетельства страданья
Не в силах выразить моей души.
Вот способы казаться, ибо это
Лишь действия, и их легко сыграть.
Моя же скорбь чуждается прикрас
И их не выставляет напоказ.
Скорбь Гамлета, его непонятная грусть, его необычный глубокий траур сына по умершем отце темным пятном, цветом ночи оттеняют безмятежный фон веселья и торжества любви, силы, жизни, брака, коронации. Ему самому непонятно это, но это не обычный траур, скорбь сына по умершем отце; его душа несознанно, но верно знает все. Все просто, все обычно, все умирает и переходит в вечность от земли; это — всеобщий жребий. Вот два мировоззрения — человека дневного сознания, рассудка — короля; и темных глубин пророческой души Гамлета. Короля и королеву тревожит, пугает скорбь Гамлета, его траур; несознанно и они предчувствуют роковую гибельность этого траура — так в «отражениях» улавливается глубокая предчувственная ужасность Гамлета. Они отвлекают мысли принца от умершего отца, просят сбросить «цвета ночи», которые их пугают, покинуть скорбь, взглянуть дружественно («подружелюбней») на короля Дании. Их пугает то, что Гамлет особенно этим поражен. Его скорбь невыразима, непонятна 384 ему самому — глубинная, сокровенная, траурная, то есть связанная с замогильным; ночные цвета — это только знаки скорби, и так всегда Гамлет, на протяжении всей трагедии — его монологи, его печаль, его грустные размышления, разговоры, его траурные одежды, его потоки слез, унылый вид — все это только знаки скорби, ее прикрасы и наряды. В его душе есть то, что выше всякого показа; все остальное — наряд. Такая глубина скорби, которая не может быть выявлена даже в трагедии. Это надо запомнить на все дальнейшее «чтение» трагедии: не принимать знаков скорби за самую скорбь. Она на неизмеримо большей душевной глубине — она в «молчании» трагедии.
Король
Приятно видеть и похвально, Гамлет,
Как отдаешь ты горький долг отцу.
Но твой отец и сам отца утратил
И так же тот. На некоторый срок
Обязанность осиротевших близких
Блюсти печаль. Но утверждаться в ней
С закоренелым рвеньем — нечестиво.
Мужчины недостойна эта скорбь
И обличает волю без святыни,
Слепое сердце, ненадежный ум
И грубые понятья без отделки.
Что неизбежно, и в таком ходу,
Как самые обычные явленья,
Благоразумно ль этому, ворча,
Сопротивляться? Это грех пред небом,
Грех пред умершим, грех пред естеством,
Пред разумом, который примирился
С судьбой отцов и встретил первый труп
И проводил последний восклицаньем:
«Так быть должно».
Король подробно перечислил все грехи Гамлета: эта скорбь, этот траур — проступок перед умом, грех перед небом, грех перед природой, безумие перед рассудком, — раз так быть должно, раз это самое обыкновенное из всего, что есть обыкновенного. Возмутившееся естество, грех перед природой, помутившийся, охваченный безумием разум.
Король
Пожалуйста,
стряхни
Свою печаль и нас в душе зачисли
Себе в отцы. Пусть знает мир, что ты —
Ближайший к трону, и к тебе питают
Любовь не меньшей пылкости, какой
385 Нежнейший из отцов привязан к сыну.
Что до надежд вернуться в Виттенберг
И продолжать ученье, эти планы
Нам положительно не по душе,
И я прошу, раздумай и останься
Пред нами, здесь, под лаской наших глаз,
Как первый в роде, сын наш и сановник.
Королева
Не заставляй меня просить напрасно.
Останься здесь, не езди в Виттенберг.
Король и королева искренне просят Гамлета остаться и не ездить в Виттенберг; они действительно хотят, чтобы он при дворе был ближайший к трону, ибо, как только король узнает, как враждебна, как гибельна для него скорбь Гамлета, он отошлет его сам. Теперь он только смутно предчувствует, только опасается, он хочет искренне любить Гамлета, смирить его тоску. Но он уже боится этой скорби, этой постоянной мысли об отце. И Гамлет, еще только охваченный предчувствием чего-то, еще не знающий точно ничего, еще не приобщившийся к тайне страны безвестной, но уже связанный с ней смертью отца, крепчайшей связью траура, уже не имеет желаний, уже ему здесь, в этом мире, все безразлично; уже у него нет занятий и дел. И с какой усталостью печали, не подозревая, сколь ужасные последствия принесет его повиновение, но уже повинующийся, уже связанный остаться здесь, он говорит: «Сударыня, всецело повинуюсь».
Какая неуловимо тонкая черта, художественно отделанная деталь, которая имеет значение фундамента для всего здания трагедии: уже без воли, уже повинующийся — здесь враждебным королю и королеве, которые тоже уже — просят остаться того, кого потом будут высылать, — как, почему? В этом один мотив: так надо трагедии. В тревожной радости — почти истерической, в диких восклицаниях короля, принявшего этот ответ, это согласие за ответ прекрасный и любовный, за повиновение себе (слепота действующих лиц и темное, «так надо трагедии», повиновение ему — в этом стиль пьесы), чувствуется темная и слепая, но уже заведенная, уже пущенная в ход сила трагедии, которую уже ничем нельзя остановить, которая подчиняет себе все поступки действующих лиц и приводит к результатам, обратным их намерениям, нужным трагедии.
386 Король
Вот кроткий, подобающий ответ.
Наш дом — твой дом. Сударыня, пойдемте.
Своей сговорчивостью Гамлет внес
Улыбку в сердце, в знак которой ныне
О счете наших здравиц за столом
Пусть облакам докладывает пушка
И гул небес в ответ земным громам
Со звоном чаш смешается. Идемте.
Двор уходит. Гамлет один. Он уже одинок. Он уже говорит монологами. Смысл его монологов вообще мы установим позже. Теперь же повторяем: это только знаки скорби. Все его монологи, в частности первый (акт I, сц. 2), носят странный характер: они, видимо, ничем не связаны с ходом действия, это точно отрывки его переживаний наедине с собой, не составляющие ни начала, ни конца его размышлений, но в целом оттеняющие, дающие приблизительную картину его переживаний, и помещенные в нужном месте. Пусть они видимо не связаны с действием, пусть это видимо только «общие» размышления, раскрывающие настроения и взгляды принца; внутренне это непосредственно связанные с действием трагедии, освещающие его и объясняющие — идущие параллельно ходу действия душевные переживания Гамлета, позволяющие установить взаимоотношение того и другого, в чем скрыта разгадка трагедии. Их странный и необычный характер проистекает из самой странности и необычности этого «взаимоотношения». Монологи — это отрывки; та завеса, которая прикрывает его скорбь, его внутреннюю душевную жизнь, здесь в разговорах с собой, в одиночестве не исчезает совсем, но утончается, делается более прозрачной, оттеняет и обрисовывает то, что за ней больше, чем в разговорах с другими, где эта завеса более плотная; это как бы отверстия, но тоже затянутые тонкой пеленой «разговора», «слов». Дело в том, что есть вещи, невидимые иначе, как через завесу; завеса не только закрывает их, но и показывает, ибо без нее, не через нее — они невидимы. Таковы внутренние переживания Гамлета. Но об этом дальше. В первом монологе, имеющем решающее почти значение в понимании Гамлета, опять-таки в предчувствии, в предвидении намечается и заключается вся дальнейшая его трагедия. Это вовсе не «общий» монолог, стоящий особняком, в стороне от действия, сказанный 387 только затем, чтобы раскрыть зрителю внутреннее состояние героя, — это ключ ко всему действию. Душа Гамлета, чувствующая уже грядущую тайну, уже не приемлет этого мира, уже не живет в нем. Она погружена в глубокую и безысходную, постоянно углубляющуюся скорбь. Он уже оторван от всего, что здесь, от природы, от людей, от солнца. Он еще не стер со страниц воспоминания изречения книг, но ему уже незачем продолжать свое учение. Он уже ненавидит солнце, и в бесконечной разобщенности своей он страшным одиночеством заполнил душу, отъединенный от людей, оторванный от природы. В этом — предчувствие его грядущей трагедии разобщенности с миром, последнего и трагического уединения, ужаса одиночества заблудившейся в мирах души. Как тяжело уже это разобщение с миром, видно по такому рыдающему воплю, исполненному безнадежной, беспросветной тоски и жажды слияния, растворения, небытия:
О, тяжкий груз из мяса и костей,
Когда б ты мог исчезнуть, испариться!
О, если бы предвечный не занес
В грехи самоубийство! Боже! Боже!
Каким ничтожным, плоским и тупым
Мне кажется весь свет в своих движеньях!
Какая грязь! И все осквернено,
Как в цветнике, поросшем сплошь бурьяном.
Гамлет совершенно как будто не связан с этим запустелым садом, он жаждет испариться туманом. Тяжесть жизни, ее бремя — какой трагической мелодией звучит здесь «музыка» пьесы. Смысл этого монолога, его связь с действием — в притяжении души Гамлета к могиле, к отрешению от жизни. Он у грани несуществования, самоубийства. Что же удерживает его от самоубийства — запрет религии, но это ведь не связано нисколько с действием трагедии, это внешне не мотивировано, — но действительно ему поставлена преграда, он доведен до грани, но здесь он должен удержаться. Опять: так надо трагедии. И опять «слепота» — он сам принимает это за запрет религии. Но это совсем другое: не душевный мотив, произвольно взятый и приписанный автором герою, извне приданный ему, но который мог бы и не быть приданным, удерживает Гамлета, а самая трагедия извне сковывает 388 его. Он вынут из жизни; ему обветшалыми, утомительными, серыми и пошло-плоскими кажутся земные дела. По если, с одной стороны, Гамлет уже разобщен со всем, уже в скорби своей порвал обычные связи и враждебен всему, если он вынут из круга жизни, уже одинок, уже один, то с другой стороны, еще непонятно для него самого он связан со всем этим иной связью, необычной, связан ходом трагедии: что-то заставляет мысль его все снова и снова возвращаться к преждевременной кончине отца. Этим он связан с трагедией, ее завязкой, он привязан к ней и не может уйти от трагедии — убить себя.
Здесь прежде всего ум его останавливается на дневной, на здешней стороне дела — его занимает поспешный брак матери; это не просто разочарование в матери, не оскорбленный в лучших чувствах идеалист. Нет, это слишком глубоко отпечатлелось в его трагическом сознании, воспринимающем глубоко и потрясение. Оторванный от природы, от естества, от солнца, учения, радости и света, он навсегда разобщается с женщиной. Разрыв с матерью, с родившей — глубоко символичен в трагедии. Погруженный в странное и необычное, чувствующий его за самыми обыденными вещами, воспринимающий за каждым жизненным явлением всю его таинственную трагическую глубину, он чувствует все необычное, что звучит ему в грехе матери. Правда, в его осуждениях и восхвалениях отца (как будто дело в этом! Опять «слепота»!) звучит еще отголосок наполовину студента, не ушедшего еще от обычного, обычных осуждений, но он воспринимает и тайную сторону всего этого.
Гамлет
Как это все могло произойти?
Два месяца, как умер. Двух не будет.
Такой король! Как солнца яркий луч
С животным этим рядом. Так ревниво
Любивший мать, что ветрам не давал
Дышать в лицо ей. О земля и небо!
Что поминать! Она к нему влеклась,
Как будто голод рос от утоленья.
И что ж, чрез месяц… Лучше не вникать!
О женщины, вам имя вероломство!
Нет месяца! И целы башмаки,
В которых шла в слезах, как Ниобея,
За отчим гробом. И она, она —
389 О боже, зверь, лишенный разуменья.
Томился б дольше — замужем — за кем:
За дядею, который схож с покойным,
Как я с Гераклом. В месяц с небольшим!
Еще от соли лицемерных слез
У ней на веках краснота не спала!
Нет, не видать от этого добра!
Разбейся, сердце, надо стиснуть зубы.
Пусть надрывается сердце — уста должны молчать. Этот обет внутреннего молчания — он продает особый облик всей роли принца. Все равно: неизреченна скорбь сердца и темные предчувствия: это не может повести к добру. Вот что связывает Гамлета.
Это, конечно, не размышления; размышлениями, мыслью к этому прийти нельзя, — это, скорее, «to reason most absurd». Это не обычный скорбный плач сына — это, скорее, грех перед природой, это, скорее, отражения, проекции иных, темных чувствований души (как и все монологи — только проекции на плоскость трагедии его темных глубин), неясных ему самому. Первый период, Гамлет до явления Духа, — это сплошное предчувствие, это знание невыявленное, но таящееся в темной половине души. Поэтому здесь такое смешение (в этом смешении — удивительный художественный стиль этого периода) еще обыденного, еще простого — и уже необычного, уже вышедшего из общего крута. Отсюда «смешанный» характер монолога — отголосок и понятных осуждений и темное предчувствие недоброго. Отсюда его речи о пьянстве к Горацио:
Гамлет
Но все же, чем вас встретил Эльсинор?
Пока гостите, мы вас пить научим.
И ирония еще такая простая о свадьбе матери:
Гамлет
Расчетливость. Гораций! С похорон
На брачный стол пошел пирог поминный.
И осуждения короля.
Гамлет
Король не спит и пляшет до упаду,
И пьет и бражничает до утра.
И чуть осилит новый кубок с рейнским,
Об этом сообщает гром литавр,
Как о победе (I, 4).
Это еще все на поверхности, это все простое, дневное, одноцветное, не преломленное в глубинах души; это 390 еще обычные осуждения, простая ирония, в них еще нет последней глубины, они не зажжены внутренним пламенем души. Это еще Гамлет — простой человек, не отмеченный. Но уже в предчувствиях есть и другое. Есть предваренная мудрость грядущих глубин и откровений, есть сокровенное ощущение тайны, окутывающей все. И все это смешивается — эти две души в Гамлете еще не нащупали, еще не открыли друг друга, еще существуют параллельно и независимо одна от другой. Точно два тока — две души эти — протекают в Гамлете, и скоро они встретятся, ночная и дневная половины его. И все это смешано удивительным образом: в словах о пьянстве короля (акт I, сц. 4) Гамлет говорит, что вино уничтожает все доблестные дела, — в этих речах еще виден только виттенбергский студент, обличающий пороки двора, еще обыкновенный глаз чувствуется в этом, еще холодная, не зажегшаяся речь. И вот просвечивают отблески грядущего огня:
Бывает и с отдельным человеком,
Что, например, родимое пятно,
В котором он невинен, ибо, верно,
Родителей себе не выбирал,
Иль странный склад души, перед которым
Сдается разум, или недочет
В манерах, оскорбляющий привычки, —
Бывает, словом, что пустой изъян,
В роду ли, свой ли, губит человека
Во мненьи всех, будь доблести его
Как милость божья, чисты и несметны.
А все от этой глупой капли зла,
И сразу все добро идет насмарку.
Досадно ведь (I, 4).
Здесь в простых словах, которые все на поверхности, предчувствие трагедии, отзвук того страшного рыдания — «зачем я был когда-либо рожден…». Здесь уже отсвет этого трагического пламени, озаряющего всю пьесу и накладывающего такой зловещий отпечаток на все лица и отбрасывающего кровавые отблески; здесь уже предчувствие, предвидение трагедии рождения.
Но ни на чем так ярко не заметна эта «двойственность» Гамлета до трагедии, как на его отношениях с Офелией. Рассмотреть их надо и вообще для выяснения хода действия. Но в этом случае придется пользоваться исключительно «отражениями», ибо от Гамлета 391 мы ни слова не слышим об этом и не видим ни разу его с Офелией. Здесь все можно выявить через других, через отражения. Поэтому ничего точного об их отношениях мы не знаем. Только из разговоров Полония и Лаэрта с Офелией (акт I, сц. 3) да из соображений Полония, высказываемых дальше, можно в самых общих контурах возобновить эти отношения. Гамлет до явления Тени любит Офелию. Лаэрт говорит ей перед отъездом:
А Гамлета ухаживанья — вздор.
Считай их блажью, шалостями крови.
Фиалкою, расцветшей в холода.
Нежданной, гиблой, сладкой, обреченной,
Благоуханьем мига, и того
Не более.
Офелия
Не боле?..
Лаэрт
Не более (I, 3).
Полоний говорит об этой любви, что она игра крови — не больше. Офелия рассказывает:
Со мной не раз он в нежности пускался
В залог сердечной дружбы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Отец, он предлагал свою любовь
С учтивостью.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И в подтвержденье слов своих всегда
Мне клялся чуть ли не святыми всеми.
И эта его записочка, которую Полоний передает королю и королеве:
«Небесной, идолу души моей, ненаглядной Офелии».
«На ее дивную белую грудь эти…» — и т. п.
«Не верь дневному свету,
Не верь звезде ночей,
Не верь, что правда где-то,
Но верь любви моей».
«О дорогая Офелия, не в ладах я со стихосложеньем. Вздыхать в рифму — не моя слабость. Но что я крепко люблю тебя, о моя хорошая, верь мне. Прощай. Твой навеки, драгоценнейшая, пока эта [машина] принадлежит ему. Гамлет» (II, 2).
Это удивительно глубокое предчувствие, это необходимо запомнить на все дальнейшее чтение трагедии: «пока эта машина принадлежит ему» — он уже чувствует, что эта машина (какое удивительное слово 392 для объяснения всего дальнейшего «автоматизма» Гамлета в трагедии) начинает принадлежать не ему. Ведь в этом вся грядущая трагедия. Гамлет не обманывает Офелию, обещая любить ее вечно до тех пор, пока и т. д. Теперь еще он любит ее глубоко — опять на такой душевной глубине, которая невыразима, — стихи не даются ему. Только в самых общих чертах обозначена эта любовь, и первое — это ее глубина (смысл записки), но уже видна ее трагическая сторона. Лаэрт говорит, что любовь Гамлета — фиалка, ее жизнь — минута, не больше. Цветок, отцветающий скоро, издающий запах одно мгновение, — не больше. Конечно, он имел непосредственно в виду другое, но какой глубокий смысл приобретают его слова, его предчувствия трагической развязки этой любви — опять два смысла: один, вкладываемый лицом говорящим, и другой — трагедией. Он почему-то боится любви Гамлета к сестре, пугается ее, хочет уберечь ее от этого. Так и Полоний.
Полоний
…
А как ты отнеслась
К его — как ты их назвала — залогам?
Офелия
Не знаю я, что думать мне о них.
Полоний
…
точней — совсем не верь.
А клятвам и подавно…
Лаэрт себе и сестре истолковывает, как и Полонии, свои опасения просто — естественные опасения брата за ее девическую честь, обыденным и понятным языком. В Гамлете играет молодая кровь, он, может быть, и любит ее сейчас, но он принц, он в своем выборе не волен, он связан своим высоким положением, он «в себе не властен», он «подданный своего рождения», он не может сам устраивать свою судьбу, он должен считаться с одобрением народа — следовательно, ему нельзя верить и надо его любви остерегаться.
Лаэрт
Пусть любит он сейчас без задних мыслей.
Ничем еще не запятнавши чувств.
Но каким глубоким отзвуком грядущей трагедии звучат его слова, имеющие в виду совсем не то, не таинственное озарение, отблеск грядущей скорби и несчастий, а будничное и обыкновенное рассуждение и опасение брата, 393 дорожащего девической честью сестры. Но не все ли здесь, в этой трагедии, имеет два смысла:
Подумай, кто он и проникнись страхом —
По званью он себе не господин.
Он сам в плену у своего рожденья.
Не вправе он, как всякий человек,
Стремиться к счастью. От его поступков
Зависит благоденствие страны.
Он ничего не выбирает в жизни,
А слушается выбора других
И соблюдает выгоду народа.
Поэтому пойми, каким огнем
Играешь ты, терпя его признанья…
и т. д.
Опять: свяжите это с «до тех пор, пока»… Лаэрт чувствует, что «эта машина» принадлежит не Гамлету — он раб своего рождения, он в себе не властен. Опять намек на трагедию рождения — «зачем я был рожден»… Итак, в отношении к Офелии — обе эти стороны Гамлета обрисовываются очень ясно: он еще наполовину здесь, как все, он любит девушку — Офелию, но уже наполовину (в предчувствии) не свой, его «машина» не ему принадлежит, он раб своего рождения, он не сумеет любить, любовь кончится гибельно — уже есть предчувствование таинственное, озаряющий намек грядущей трагедии любви Гамлета к Офелии.
Таков Гамлет до явления Тени: весь предчувствие, весь полузнание, полуздесь — полутам, на пороге двух миров. Тень вовсе не извне навязывает ему месть. Он, сам не зная того, идет навстречу Тени.
Гамлет
Отец — о, вот он словно предо мной! (I, 2), —
говорит он вдруг пришедшим рассказать ему о явлении Тени, он чувствует ее приближение. Вот разгадка всего Гамлета: он все время видит в очах души отца97.
Горацио
Где, принц?
Гамлет
В очах души моей, Гораций.
Горацио
Представьте, принц, он был тут ночью.
Гамлет
Был? Кто?
Горацио
Король, отец ваш.
394 Гамлет
Мой отец?
Горацио
Спокойнее. Сдержите удивленье
И выслушайте. Я вам расскажу,
Меня поддержат эти очевидцы, —
Неслыханное что-то.
Гамлет
Поскорей!
В напряженнейшем изучении выслушивает он удивительный рассказ (опять рассказ!) Горацио о привидении, не перебивая его ни словом, — в молчании. В превосходной картине изумления, удивления, но не чрезмерного, не потрясенного, с каким Гамлет выслушивает это в картине, выдержанной с изумительной художественной яркостью, сказывается все отношение Гамлета к Тени. Едва рассказ окончен, как он со стремительностью, перехватывающей слова поспешностью начинает расспрашивать, как о деле — опять удивительном, но не чрезмерно: где это было, говорили ли с ним?
Гамлет
Я слов не нахожу!22*
И только: это очень странно — не больше. Ни одно слово не повторяется здесь столько раз, как strange.
Гамлет
Да, да, все так. Сейчас я успокоюсь.
Кто ночью в карауле?
Марцелл и Бернардо
Мы, милорд.
Гамлет
Он был вооружен?
Марцелл и Бернардо
В оружье.
Гамлет
В полном?
Марцелл и Бернардо
Во всем.
Гамлет
И вы не видели лица?
Горацио
Нет, как же, — шлем был с поднятым забралом.
Гамлет
И что ж, он хмурил брови?
Горацио
Нет,
смотрел
Скорей с тоской, чем с гневом.
395 Гамлет
Он
был бледен?
Иль красен от волненья?
Горацио
Бел, как снег.
Гамлет
И не сводил с вас глаз?
Горацио
Ни на минуту.
Гамлет
Жаль, не видал я!
Горацио
Вас бы дрожь взяла.
Гамлет
Все может быть.
И что ж, он долго пробыл?
Горацио
Я мог легко бы до ста досчитать.
Марцелл и Бернардо
Нет, дольше, дольше.
Горацио
Нет, при мне не дольше.
Гамлет
С седою бородою?
Горацио
Не
совсем.
С едва посеребренной, как при жизни.
Гамлет
Я стану с вами на ночь. Может статься,
Он вновь придет.
Горацио
Придет наверняка.
В напряженной и прерывистой экспрессивности этого разговора98 с яркостью обрисовывается это полуудивление Гамлета — точно он узнал нечто удивительное, но что и раньше видел в очах своей души, точно подтвердилось и оправдалось в действительности прежнее ощущение его. Гамлет не ужасается — Дух его ужаснул бы, — его удивляет, как исполнившееся пророчество его души. И он сам идет навстречу Тени, сам хочет ее обо всем спросить, выведать.
Гамлет
И если примет вновь отцовский образ,
Я с ним заговорю, хотя бы ад,
Восстав, зажал мне рот.
А к вам есть просьба.
Как вы скрывали случай до сих пор,
Так точно и вперед его таите,
И чтобы ни случилось в эту ночь,
Доискивайтесь смысла, но молчите.
Он уже предчувствует неизреченность тайны — заклинает молчать — всему давать смысл молча (это тоже надо 396 запомнить на все чтение дальше) — как все построено на молчании. Он сам идет навстречу Тени, что-то тянет его. Заклинание молчать — предчувствие страшной клятвы на мече; да и вообще вся сцена (прежде встречи с Духом, он встречается с ним в рассказе в разговоре!) — предварение, отблеск, предчувствие сцены явления Тени Гамлету (еще художественная деталь: при определении времени — очевидцы расходятся, определить пребывание Тени на время нельзя, потерялось чувство, расстроилось время — отзвук [того, что] «время вышло из пазов»). Удивительный разговор в «отражениях» показывает всю ужасную реальность явления Тени. Сам Гамлет знает почти все:
Гамлет
Отцовский призрак в латах! Быть беде!
Обман какой-то. Только бы стемнело!
А там терпенье: всякой тайны след
Со дна могилы выступит на свет.
Он чувствует, как нарастает открытие тайны, он знает, что она прорвется сквозь толщу поваленной на нее земли. Пока о волнении скорби говорит этот ужасный стих: «А там терпенье…» Точно два тока идут в пьесе, не встречаясь друг с другом, но странно притягивающихся один к другому. Тень ищет Гамлета — Гамлет идет сам к Тени: «… только бы стемнело!» Это страшным рыданием срывается у него с уст. Когда токи сойдутся, когда Гамлет узнает все, он восклицает: «О, мои прозренья!» — он предчувствовал все. В этом весь Гамлет до явления Тени99. Еще одна деталь разговора, решающая и важная: Тень, рассказывает Горацио, бледна и глядела со скорбью. Вот уже (до явления Гамлету Тени) источник скорби в трагедии и в Гамлете: это потусторонняя, замогильная скорбь, скорбь из той страны безвестной, откуда явился призрак, скорбь из могилы, отсвет замогильной, нездешней скорби отца, призрака — в лице Гамлета.
Особенно важно именно здесь оттенить нездешнее, потустороннее в скорби Гамлета и всей трагедии, ибо Гамлет весь — скорбь, как трагедия вся — скорбь.
397 IV
Наконец, токи встречаются, и их стечение озаряется удивительным светом, который заливает всю трагедию. Гамлет и Дух сходятся, и это одно определяет весь ход мысли, весь строй чувств, всю судьбу датского принца, а через него — и весь ход действия трагедии. Наступает ужасный («мертвый») час ночи. Мороз и ветер. На уединенной террасе полночь встречает условленная стража. После полуночи — время, не определенное точно, — входит призрак. Гамлет в ужасе, вдруг преображенный от невероятного ощущения близости встречи с Духом отца, призраком, пришельцем из иных стран.
Гамлет
Святители небесные, спасите!
Благой ли дух ты, или ангел зла,
Дыханье рая, ада ль дуновенье,
К вреду иль к пользе помыслы твои,
Я озадачен так твоим явленьем,
Что требую ответа. Отзовись
На эти имена: отец мой, Гамлет.
Король, властитель датский, отвечай!
Не дай пропасть в неведенье. Скажи мне,
Зачем на преданных земле костях
Разорван саван? Отчего гробница
Где мы в покое видели твой прах.
Разжала с силой челюсти из камня,
Чтоб выбросить тебя? Чем объяснить,
Что, бездыханный труп, в вооруженье,
Ты движешься, обезобразив ночь.
В лучах луны и нам, глупцам созданья,
Так страшно потрясаешь существо
Загадками не нашего охвата?
Скажи: зачем? К чему? Что делать нам? (I, 4).
В этом монологе-вопросе, удивительном по невероятной силе насыщающего его ужаса мистического, воспламенного огнем, рождающимся в ужаснувшейся душе от касания иному миру, — передано все то, что до сих пор таилось в Гамлете. Все слилось в этом вопросе потрясенной души, потрясенного воображения, «мыслями, которые находятся по ту сторону протяжения наших душ». Гамлет столкнулся вновь с отцом, пришельцем из иных стран, и спрашивает — это глубоко знаменательно, это важно заметить, — сам спрашивает, что означает явление выходца из могилы, которое мучит глупцов природы непостижимой для их душ, находящейся по ту сторону тайной. И, 398 главное, сам спрашивает: «Что делать нам?» Что делать? В этих исступленных словах потрясенной души чувствуется такой трепет касания тайне, что он задевает последние струны души, настраивает ее на последний возможный по высоте лад, самый предельный, еще немного — струна не выдержит и оборвется; эти слова содержат такой ужас перед тайной, что дают неиспытанное доселе по глубине чувство сотрясения и ощущения тайны100. Все сразу расстроено: до сих пор дни шли за днями, время текло и проходило обычным чередом своим — дни, занятия, дела, — теперь все это от одного веяния призрака расстраивается. И Гамлет в ужасной тоске мечется душой перед новым рождением: «Что делать нам?» Тень манит Гамлета за собой. Как художественно это — «Призрак манит Гамлета». Горацио и Марцелл в ужасе удерживают его, уговаривают не ходить.
Горацио
Он подал знак, чтоб вы с ним удалились,
Как будто хочет что-то сообщить
Вам одному.
Марцелл
Смотрите,
как любезно
Он вас зовет подальше в глубину.
Но не ходите.
Горацио
Ни за что на свете!
Гамлет
А здесь он не ответит. Я пойду.
Горацио
Не надо, принц!
Гамлет
Ну
вот! Чего бояться?
Я жизнь свою в булавку не ценю.
А чем он для души моей опасен.
Когда она бессмертна, как и он?
Он вновь кивает. Подойду поближе.
Горацио
А если он заманит вас к воде
Или на выступ страшного утеса,
Нависшего над морем, и на нем
Во что-нибудь такое обернется,
Что вас лишит рассудка и столкнет
В безумие? Подумайте об этом.
На той скале и без иных причин
Шалеет всякий, кто увидит морс.
Под крутизной во столько саженей,
Ревущее внизу.
Гамлет хочет идти — ему жизнь «ничтожнее булавки», а что может сделать Дух его душе, бессмертной, как он 399 сам? Но Горацио в удивительных словах предупреждает: Тень может заманить на край бездны, на вершину нависшего над ней утеса и там лишить его владычества над разумом, ввергнуть в безумие: вот что может сделать (и делает) Дух его душе. Одно место, одна бездна приводит в отчаяние каждого, кто услышит рев ее, ее подземный голос. Край, грань бездны, ее голос уже возбуждают безумие, лишают власти над разумом. В ясном и выпуклом до живописной рельефности образе рисуется здесь то или смысл того, что сейчас произойдет с принцем. Трудно представить себе высшую насыщенность реальной картины символической «двусмысленностью», таинственностью, иносказанием. Глубоко важно отметить: Горацио предсказывает, что Дух может Гамлета «лишить рассудка и столкнуть в безумие».
Гамлет
Опять
кивает.
Ступай! Иду!
Марцелл
Не пустим.
Гамлет
Руки
прочь!
Горацио
Опомнитесь! Не надо.
Гамлет
Это —
голос
Моей судьбы, и, как Немейский лев,
Бросаюсь я вперед, себя не слыша.
Призрак манит.
Все манит он. Дорогу, господа!
(Вырывается
от них.)
Я в духов превращу вас, только троньте!
Прочь, сказано! — Иди. Я за тобой.
Призрак и Гамлет уходят.
Здесь в последний раз схватывается Гамлет с прежней жизнью, с прежним миром. В этой символической сцене борьбы его с товарищами, боящимися, как бы он не переступил грани определенной, межи заповедной, последней черты, отделяющей мир от бездны, безумие от рассудка, в этой сцене удерживающих товарищей и попирающего сопротивление, рвущего в борьбе охватывающие его руки Гамлета сказывается с последней доступной искусству силой сценического именно воплощения художественного символа весь смысл его ухода «за черту», «за грань» и последней борьбы. «Это голос моей судьбы» — это зовет судьба, и он только следует за ней — «Я за тобой». В этих 400 тревожно исступленных, все нарастающих и повторяющихся вскриках слышится отчаявшаяся решимость идти, следовать за судьбой, идти на ее зов, идти по ее мановению — хоть на край бездны, хоть в безумие. Горацио знает, что «призрак обезумил его».
Горацио
Теперь он весь во власти исступленья.
Марцелл
Пойдем за ним. Так оставлять нельзя.
Горацио
Пойдемте позади. К чему все это?
Марцелл
Какая-то в державе датской гниль.
Горацио
Наставь на путь нас, господи!
Марцелл
Идемте.
Уходят.
И опять в исключительно художественном, лаконическом и отрывочном разговоре, опять в отблесках, отзвуках встает с потрясающей силой яркости, как в эпиграфе к трагедии, как тень, как отблеск всего смысла ее, ее неизреченных глубин — и безумие муки Гамлета и безумие всей трагедии. Гамлет и Тень ушли — где-то там происходит слияние этих двух стремившихся друг к другу токов, которое и зажигает трагическое пламя всей пьесы, — там завязывается трагедия, а здесь предварительно ее тень, ее проекция — в обыденных словах и разговорах. Чувствуется из этого одного разговора, что там завязывается трагедия: Гамлет безумен, он в исступлении из-за призрака. К чему все это приведет? Чем кончится все это? Уже предчувствие всего конца! Всей катастрофы! Чем разрешится вся эта начинающаяся здесь трагедия? Что-то подгнило в датском королевстве, и отец, передавая что-то сыну, тем самым губит Данию, отдает ее, отдает (в финале ведь это так, по фабуле!), видимо, побежденному Фортинбрасу — его сыну. Небо направит это. Свяжите это последнее с «без воли провидения…» и «есть божество…» Гамлета, и «отблеск» получится поразительный по причудливой таинственности, игре света и теней, отсветов, отражений мимолетных, неуловимых веяний… Этот отрывок по художественной ценности и значению для уяснения смысла трагедии — одно из драгоценнейших мест в пьесе. Здесь вся трагедия. Имеющие уши да слышат!
401 И дальше, как всегда в «Гамлете», за рассказом, ила разговором, или предчувствием — самая сцена.
Гамлет
Куда ведешь? Я дальше не пойду.
Призрак
Следи за мной.
Гамлет
Слежу.
Призрак
Настал тот час,
Когда я должен пламени геенны
Предать себя на муку.
Гамлет
Бедный дух!
Призрак
Не сожалей, но вверься всей душою
И выслушай.
Гамлет
Внимать тебе — мой долг.
Призрак
И отомстить, когда ты все услышишь.
Гамлет
Что?
Гамлет «связан» слушать, как «связан» будет отомстить. Тень подводит его к самой грани, отделяющей здесь от там, этот мир от иного мира. Прежде чем поведать ему свою тайну — тайну своей смерти. Тень подводит его к последней черте — к грани загробной тайны, чтобы узнать которую надо перемениться физически, слух из крови и костей не может постигнуть откровения вечных тайн, легчайшее слово рассказа охолодило кровь — такова ужасная непостижимость их.
Призрак
Мне не дано
Касаться тайн моей тюрьмы. Иначе б
От слов легчайших повести моей
Зашлась душа твоя и кровь застыла,
Глаза, как звезды, вышли из орбит
И кудри отделились друг от друга,
Поднявши дыбом каждый волосок,
Как иглы на взбешенном дикобразе.
Но вечность — звук не для земных ушей.
Здесь Дух вплотную подводит к тайне загробной, к «тайнам моей тюрьмы», дает коснуться ее. И протяжно призывает он напрячь весь слух души: «О, слушай, слушай, слушай!»
И одно слово Гамлета показывает весь его мистический ужас готовности слушать и сделать.
402 Гамлет
О боже мой!
Призрак
Отомсти за подлое его убийство.
Гамлет
Убийство?
Призрак
Да, убийство из убийств.
Гамлет
Рассказывай, чтоб я на крыльях мог
Со скоростью мечты и страстной мысли
Пуститься к мести.
Это кладет особый отпечаток на его дальнейшую медлительность и бездейственность: это надо запомнить. Тень разоблачает тайну своей смерть: отравление рукой брата, причем говорит не только о брате, но и о жене, матери принца. Страшная завязка трагедии.
Призрак
О ужас, ужас! Если ты —
Мой сын, не оставайся равнодушным.
Не дай постели датских королей
Служить кровосмешенью и распутству!
Однако, как бы ни сложилась месть.
Не оскверняй души и умышленьем
Не посягай на мать. На то ей бог
И совести глубокие уколы.
Теперь прощай. Пора. Смотри, светляк,
Встречая утро, убавляет пламя.
Прощай, прощай и помни обо мне.
Только вначале Дух говорит о мести, дальше он просит: не допусти, пусть не будет датский трон ложем кровосмешения, — об убийстве дяди ни слова, — как бы ты ни преследовал это, каким бы образом ни сделал, не предпринимай ничего против матери, предоставь ее небу и ее терниям. Это необходимо заметить. Здесь завета убийства нет, нет и только мести; нет вообще определенного, земного предписания — есть разоблачение тайны и расплывчатое: не допусти пусть не будет, не подыми руки… Мотив о мести — только общая мысль, только один из всех, только привходящий мотив. Гамлет узнал то, что и раньше было в его душе. «О, мои прозренья!» — восклицает он. Тень подтвердила все. Гамлет коснулся иным мирам, узнал оттуда земную тайну, дошел до грани этого мира, переступил ее черту, заглянул через нее и навеки унес в душе испепеляющий свет замогильной, загробной тайны, который освещает всю трагедию и который в трагическом 403 пламени скорби — есть весь Гамлет101. Такие минуты не проходят, не забываются: он вышел из мира времени, прошедшее воскресло для него, иной мир разверзается, он слышит подземный голос бездны. Он точно снова рождается, во второй раз, получая от отца и новую жизнь (уже не свою, уже связанную, уже обреченную) и новую душу.
Гамлет
О небо! О земля! Кого в придачу?
Быть может, ад? Стой, сердце! Сердце, стой!
Не подгибайтесь подо мною, ноги!
Держитесь прямо! Помнить о тебе?
Да, бедный дух, пока есть память в шаре
Разбитом этом. Помнить о тебе?
Я с памятной доски сотру все знаки
Чувствительности, все слова из книг,
Все образы, всех былей отпечатки,
Что с детства наблюденье занесло,
И лишь твоим единственным веленьем
Весь том, всю книгу мозга испишу
Без низкой смеси. Да, как перед богом!
О женщина-злодейка! О подлец!
О низость, низость с низкою улыбкой!
Где грифель мой? Я это запишу,
Что можно улыбаться, улыбаться
И быть мерзавцем. Если не везде,
То, достоверно, в Дании.
Готово, дядя. А теперь девиз мой:
«Прощай, прощай и помни обо мне».
Я в том клянусь.
Трудно комментировать это: это надо прочесть. Здесь сказано все: это минута второго рождения102. После этого Гамлет на все течение трагедии уже совершенно не тот, что все, не обыкновенный, рожденный вновь. Человек меняется физически (рождается) и остается отмеченным, запечатленным на всю жизнь. Гамлет связан с иным миром, с замогильным, и весь завет Тени: «Прощай, прощай и помни обо мне!» Это замечательное «прощай» — связь по расставании — память о Духе, — в этом вся роль Тени — о ней помнит Гамлет все время, с ней связан он и по расставании замогильным «прощай». Недаром и он только повторяет: «И помни обо мне!» — в этом все: вся память его связывает его с Тенью, и заставляет его порвать со всем прошлым, со страниц памяти (он уже говорит «в шаре разбитом» — уже безумие) он стирает все изречения книг, все следы прошедшего — и только завет («и помни обо мне», а не что иное) отца 404 будет жить в его памяти, новое семя отца (замогильное), давшее ему вновь новую жизнь, новое рождение — рождение мистическое. В этой клятве не забыть, стереть все, в окриках, повторяющих замогильное «помни», весь смысл этого второго рождения. Сила художественная этого места превосходит все в трагедии: это непередаваемо. Гамлет вынут из круга жизни, он разорвал связь со всем, со всем прошлым, он коснулся иным мирам, имел общение с замогильным, пусть один миг — может быть, ничтожнейшую долю секунды на наше время — погружен был в иной мир, мир второй, тайный, ночной, неведомый, и уже навеки он остается иным. Все прежнее от касания новому миру стало пошло — все он стирает (порывание со всем), он помнит навеки слова Тени (новая жизнь) — этого нельзя забывать — в этом ключ к пониманию всего Гамлета: что бы он ни делал, что бы ни говорил, при определении его переживаний и поступков надо всегда указать, что он помнит о Тени, все время, все течение трагедии помнит, то есть связан с ней все время. В этом все. «Стирание» и записывание — до чего реалистически-символическая черта! Связь Гамлета с Тенью в словах Тени, повторяемых Гамлетом, в словах прозвучавших оттуда, — она же связь двух миров в трагедии.
Гамлет
А теперь девиз мой:
«Прощай, прощай и помни обо мне».
Я в том клянусь.
В этом все — весь последующий Гамлет, — вновь рожденный от отца из «того» мира. Ведь есть кровная, семенная, родительская связь, связь рождения (то есть всей жизни, ее корня, ее начала) между отцом и сыном; связь прямо материальная, физическая и осязаемая до ужасной ясности, связь непонятная, нерациональная, мистическая, как самая жизнь и рождение. И кто знает, где эта связь кончается, да и кончается ли она вовсе? Не продолжается ли и за гробом, по смерти отца, — невидимыми нитями привязывая сына к иному миру? По крайней мере в «Гамлете» это именно так. Эта семенная, родительская, теперь замогильная связь Гамлета с Духом проходит через всю пьесу. Но подробно об этой связи одного мира с другим через умершего отца и живущего сына103 — самой явной, самой тайной, самой ужасной связи, — как об единственной причине (мотиве) всех его поступков и отсюда — единственном 405 механизме всего хода действия трагедии, — речь впереди. Теперь же о самом перерождении. В сцене вслед за явлением Тени — сцене свидания друзей Гамлета с ним — совершенно ясно, как нельзя рельефнее проявляется это перерождение. Особенно станет это ясно, если сравнить ее со сценой, непосредственно предшествующей явлению Тени (акт I, сц. 4), — Гамлет с теми же друзьями — его разговоры о пьянстве, весь строй речи — такие обыкновенные. Теперь все меняется совершенно: это уже совсем иной, не тот человек, исступленный, перешедший за грань, не те слова. В этой маленькой сцене уже есть в зародыше весь будущий Гамлет — Гамлет исступленной скорби, иронии и почти скорбно-исступленно-иронического безумия. Его непонятные возгласы, шутки, жесты, слова — все изменилось, все не такое, как прежде. Полнейшее перерождение героя. «Ого-го-го, сюда, мои родные!» — кричит он товарищам и на вопрос, что было, отвечает: «Дела!» Он не рассказывает им, боится, что они разболтают. И отъединение Гамлета, его полнейшая оторванность от людей и его новая жизнь — он предлагает друзьям разойтись:
Гамлет
Итак, без околичностей, давайте
Пожмем друг другу руки и пойдем.
Вы — по своим делам или желаньям,
У всех свои желанья и дела, —
Я — по своим; точней — бедняк отпетый,
Пойду молиться.
У него уже нет — у всякого есть дела и желания, которые ведут его куда-нибудь, а его тяжкий бедный жребий ведет, у него нет уже ни желаний, ни дел — он пойдет молиться104. Таков Гамлет на всю трагедию. Мы вообще здесь хотим только установить это «второе рождение» его, наметить его как основной факт, а объяснить из этого факта всего Гамлета — тема следующей главы. Горацио говорит ему: «Это только вихрь бессвязных слов, милорд». И все время его слова — дикие и несвязанные, «вертящиеся». В его словах здесь впервые появляется эта ужасная рассеянность в мыслях, которая говорит о страшной и напряженной сосредоточенности мыслей там, там все собрано в одну точку, в один пламенно-горящий фокус, а здесь рассеянный свет, здесь они идут расходящимися, разбросанными лучами. У него свой, тайный, невидимый 406 ход мысли, разбросанный снаружи, — нелогичный, непоследовательный, сбивающийся на что-то и стремящийся удержаться на одной точке, вертящийся около нее. Гамлет заставляет поклясться друзей — дать клятву молчания на мече105 (до чего символическая черта) — все построено на молчании — и тайна его меча, который разрешает всю трагедию. Дух требует из-под земли того оке, Четыре раза (сцена клятвы удивительна — как подземный голос бросает и водит людей на земле) доносится его голос:
Призрак (из-под сцены)
Клянитесь! Дух требует молчанья.
«Под» (землей) все время присутствует он с Гамлетом; он все время слышит подземный голос трагедии. Вся эта сцена построена на клятве: сперва отказ Гамлета рассказать, что было с ним, даже друзьям, но здесь есть две замечательные детали разговора, которые характеризуют новое состояние принца — слова без смысла и связи, — Гамлет так приглашает друзей поклясться:
Гамлет
А теперь, собратья23*,
Товарищи по школе и мечу…
Как это удивительно передает состояние человека, стершего все слова книг, — он точно ощупывает словами («собратья»), как ощупывает в бреду человек, или после испуга, очнувшись от сна, и хватается руками за голову. И исступленные надрывные выкрики к Тени — их ироничность передает все безумие его ужаса:
Гамлет
Ага, старик, и ты того же мненья?
Вы слышите, что вам он говорит?
Ты, старый крот? Как скор ты под землей!
Уж подкопался?
Иначе нельзя говорить об этом; только ирония, как это ни дико, передает это.
После третьего призыва Тени Горацио восклицает: «О день и ночь! Вот это чудеса!» И Гамлет, который все время и на всякие лады только и говорит о молчании, отвечает:
407 Гамлет
Как к чудесам, вы к нам и отнеситесь.
Есть в мире тьма, Гораций, кой-чего,
Что вашей философии не снилось.
На этом построена вся трагедия: вся она не снилась «нашей философии». Поистине здесь приходится всему давать смысл молча. Клятву Гамлет требует (и Дух) не только в молчании о том, что они видели, но и в другом:
Гамлет
Вновь клянитесь, если вам
Спасенье мило, как бы непонятно
Я дальше ни повел себя, кого
Ни пожелал изображать собою,
Вы никогда при виде этих штук
Вот эдак рук не скрестите, вот эдак
Не покачнете головой, вот так
Не станете цедить с мудреным видом:
«Кто-кто, а мы…» «Могли б, да не хотим»,
«Приди охота…», «Мы бы рассказали».
Того не делать и не намекать,
Что обо мне разведали вы что-то.
Странность надо принять, как странника; но тот, кто принимает странность как странность, сам становится странным: как сейчас за «странностью» изменяется Гамлет, его язык; второму рождению соответствует и иная душа. Двум мирам вовне — два мира внутри человека106. Не та душа, что живет в обыденном дневном мире, воспринимает касания ночного, мира иного. Ее другая половина. Вот эта «вторая душа» и возобладала теперь в Гамлете. В клятве — двух частях одной клятвы — видно все: Гамлет просит, во-первых, не говорить о явлении Тени и, второе, о его странном поведении и безумии — не выдавать его подлинной причины, то есть единственная причина его дальнейшего странного и «нечеткого» поведения и безумия — явление Духа. Это все. Гамлет знает, что он будет вести себя «odd strange»; он предвидит, что у него будет необыкновенное состояние — disposition107. Причина и того и другого — Тень. Это «условие о безумии»108 ставит вопрос о том, притворяется ли Гамлет или нет. Подробно на этот вопрос мы ответим в следующей главе, посвященной смыслу состояния Гамлета после явления Тени, здесь же мы отмечаем только в зародыше всего будущего Гамлета после рождения только постольку, поскольку эта сцена по контрасту с четвертой сценой оттеняет самое перерождение. 408 Так что обо всем этом дальше. Теперь же мы только отметили странный, бессвязный и бессмысленный строй его речи; его иное состояние. Что это за состояние — мы увидим дальше. Теперь же одно: во всяком случае, анализ этой сцены показывает, что Гамлет после «второго рождения» является не в обычном disposition. И эти слова надо понимать не только как условие и намерение разыграть роль (и об этом ниже), точно так же как и слова о странности поведения, а иначе: сейчас, еще сохранив острую прозорливость душевной мысли, Гамлет видит, что [он] будет «strange or odd» вести себя; «this machine» [определит его] поступки и иная душа — «безумие» — «disposition». И именно предчувствуя, что с ним будет, сгибаясь под тяжестью навалившегося на него бремени, он смятенно и смертельно скорбит, и с его уст срывается страшное рыдание:
Гамлет
Порвалась дней связующая нить.
Как мне обрывки их соединить!
Это опять непередаваемо109, этого нельзя комментировать, смысл этого глубочайше-неисчерпаемого рыдания отлился в двустишии и неразложим, в нем смысл не только трагедии Гамлета, принца Датского, но и трагедии о Гамлете, принце Датском. Гамлет здесь лирически переживает свою трагедию. Он имел общение с иным миром, тонкий покров этого мира — время — для него прорвался, он был погружен в иной мир. Время вышло из пазов — эта последняя завеса, отделяющая этот мир от иного, мир от бездны, земное от потустороннего. Этот мир расшатан, вышел из колеи, порвалась связь времен. Тем, что Гамлет был в двух мирах, — этот мир слился с иным, время прорвалось. Необычайная глубина ощущения иного мира, мистической основы земной жизни всегда вызывает ощущение провала времени. Здесь путь от «психологии» к «философии», изнутри — наружу, от ощущения к мировосприятию: глубоко художественная символическая черта. Расстройство времени сперва, прежде всего — «психология», ощущение Гамлета после общения с Духом, после второго рождения; а потом уж — состояние мира трагедии, ее двух миров. Такова связь («взаимоотношение») трагедии Гамлета и трагедии о Гамлете, которая составляет ключ ко всему и которой посвящена следующая глава. Вот экспозиция трагедии: два мира столкнулись, время 409 вышло из пазов. Таково ощущение Гамлета («экспозиция» его души, если можно так выразиться) и таково состояние мира трагедии. В чем же трагедия? Зачем я был рожден некогда поставить все на место, связать павшую связь времен, осуществить связь этого мира с тем через семенную, немотивированную в пьесе, мистическую связь с отцом, связь рождения? Его связь именно в рождении; он именно рожден (семенная связь с умершим отцом, немотивированная, мистическая) «их соединить», а не должен, не призван. Здесь опять связь трагедии Гамлета (рожден, связь рождения с умершим отцом, с тем миром) и трагедия о Гамлете (через эту связь он рожден связать два мира, «их соединить» — это уже принадлежит общему смыслу трагедии).
Эти рыдающие слова он произносит в тот ужасный час, когда пришедшее утро погружено в неушедшую еще ночь, когда пришло утро, но еще ночь (Тень уходит перед самым наступлением утра); в тот мистический час, когда утро вдвинуто в ночь, когда время выходит из пазов, когда два мира — ночь и день — сталкиваются, сходятся. «О день и ночь!» — восклицает Горацио. И недаром трагедия двух миров, ее завязка, ее рождение, отмечена часом дня и ночи.
Эти слова он произносит, пригибаясь к земле под ужасной и давящей тяжестью, которая точно наваливается ему на плечи110. Он произносит их перед тем, как идти молиться, сгибаясь под тяжестью трагедии рождения. И недаром этим часом отмечено начало трагедии — ее первый акт, который весь точно проникнут двумирностью этого часа и души Гамлета и составляет как бы потустороннее основание трагедии.
Два мира столкнулись вместе (в Гамлете и в трагедии), этот мир вышел из колеи, время вышло из пазов — проклятие судьбы, что Гамлет был когда-либо рожден осуществить через себя, своим рождением связь двух миров, вместить этот мир в колею, вправить время в пазы.
В этом вся трагедия.
V
Гамлет, рожденный во второй раз, отмеченный страшной печатью иного мира, вернувшийся из потусторонней безвестной страны сюда, на землю, и связанный с ней все 410 время страшным «помни», всей памятью, помнящий о ней все время, уже навсегда запечатлен страшной отъединенностью от всего земного, разобщенностью с ним, и подлинно трагическим уединением, последним одиночеством души. Гамлет в трагедии все время один. Поэтому у него столько монологов; поэтому он всегда уединен, всегда с собой и когда говорит с другими, то точно ведет два диалога — один внешний (почти всегда — двусмысленный, иронический, видимо нелепый) и другой внутренний — со своей душой. Мы уже останавливались на удивительном приеме Шекспира в этой пьесе — набросить на действие дымку рассказа о его значении. При рассмотрении Гамлета придется пользоваться тем же материалом. После явления Тени, после перерождения Гамлет, прежде чем появиться перед нами, появляется в рассказе — рассказе потрясающей яркости и силы изобразительности (раздвоение действия получается страшное, точно всегда сцена на сцене). Это точно живописный (все здесь от внешнего к внутреннему, все здесь живопись — костюм, жесты, выражение глаз, лица, неподвижность взгляда, точно он застыл — необходимые условия портрета без движения, уловить статику) портрет — Гамлет после перерождения. Кроме того, в «отражении» этого явления в душе Офелии, в «лиризации» этого отрывка осевшими на ее рассказ ее впечатлениями — еще раз виден тон рассказа. Офелия ужаснулась.
Офелия
Боже правый!
В каком я перепуге!
Полоний
Отчего?
Господь с тобой!
Офелия
Я
шила, входит Гамлет,
Без шляпы, безрукавка пополам,
Чулки до пяток, в пятнах, без подвязок,
Трясется так, что слышно, как стучит
Коленка о коленку, так растерял,
Как будто был в аду и прибежал
Порассказать об ужасах геенны (II, 1).
Здесь весь Гамлет. Таким он остается до конца трагедии — рассеянный, бледный, дрожащий, с жалким блеском глаз. Здесь с удивительной силой живописи (внешнего) уловлено все: и безумная растерянность (костюм, бледность, дрожь), и глубокая скорбь, и, главное, весь 411 ужас всего этого, все то, что испугало Офелию в выражении глаз, в их скорби, в их жалком блеске — уловила она, не знающая ничего, но чувствующая, хоть и обманывающаяся, — этот налет потустороннего, страшную черту замогильного, которая преобразила все. Смысл портрета зажигается в глазах: «… так растерян, как будто был в аду и прибежал порассказать об ужасах геенны». В этом весь Гамлет, его объяснение. И дальше — безумная растерянность жестов и движений и непонятная странность поступков:
Офелия
Он сжал мне кисть и отступил на шаг,
Руки не разжимая, а другую
Поднес к глазам и стал из-под нее
Рассматривать меня, как рисовальщик.
Он долго изучал меня в упор,
Тряхнул рукою, трижды поклонился
И так вздохнул из глубины души,
Как будто бы он испустил пред смертью
Последний вздох. И несколько спустя
Разжал ладонь, освободив мне руку,
И прочь пошел, смотря через плечо.
Он шел, не глядя пред собой, и вышел,
Назад оглядываясь, через дверь.
Глаза все время на меня уставив.
Вот весь Гамлет со спущенными чулками, в расстегнутом костюме, бледный, как рубашка, без шляпы, с гнущимися коленями, не говорящий ни слова, точно безмолвно со всем прощающийся, с остановившимся взглядом, глубоко вздыхающий, точно этот вздох окончит его жизнь, видящий свой путь без глаз: «Он шел, не глядя пред собой». Так он проходит по всей трагедии, ведомый чем-то, без плана, без глаз. Он, вырвавшийся из ада, из потустороннего рассказать об ужасах, он, унесший в скорби глаз замогильный отблеск потусторонней скорби, — в этом весь он. И в течение всей пьесы он проходит точно лунатик, ведомый странной силой, подземным голосом, с остановившимся взглядом. Вот удивительная тень Гамлета в рассказе: таким он остается все время. Здесь весь Гамлет после перемены — уже иной, скорбный и пугающий, здесь Гамлет после перелома. Этот перелом в Гамлете, его второе рождение, которое есть основной факт, определивший собой все, из которого с неизбежной последовательностью трагедии вытекает все остальное, приходится нащупывать в «отражениях», У трагедии есть своя логика, 412 может быть, темная и неотразимая. С некоторого времени — это замечают в пьесе все — с Гамлетом случилось что-то непонятное. Король, призывая Гильденстерна и Розенкранца, друзей Гамлета, подосланных к нему, чтобы выведать причину этой перемены, которая пугает и короля и королеву, как и Офелию, говорит им:
До вас дошла уже, наверно, новость,
Как изменился Гамлет. Не могу
Сказать иначе, так неузнаваем
Он внутренне и внешне.
Не пойму,
Какая сила сверх отцовой смерти
Произвела такой переворот
В его душе. Я вас прошу обоих
Как сверстников его, со школьных лет
Узнавших коротко его характер,
Пожертвовать досугом и провесть
Его у нас. Рассейте скуку принца
Увеселеньями и стороной,
Как только будет случай, допытайтесь,
Какая тайна мучает его.
И нет ли от нее у нас лекарства (II, 2).
Короля и королеву пугает безумие Гамлета. Тайные токи души дают знать, как гибельно это безумие, и король старается исцелить Гамлета. Он просит Гильденстерна и Розенкранца развеселить Гамлета и узнать, что с ним. Но перемена ясна: он не тот, что был, и телом и душой. И королева говорит им: «Пожалуйста, пройдите тотчас к сыну. Он так переменился». Король чувствует только приблизительно — он связывает это с кончиной отца, но думает, что это не просто грусть по умершем. Полоний из рассказа Офелии уловил то же самое: «От страсти обезумел?.. Здесь явный взрыв любовного безумья… Вот он и спятил!» (II, 1).
И королю с королевой он говорит, что это — причина всего. «И знаете, что я вам доложу?.. я узнал причину Гамлетовых бредней». Но королева чувствует вернее.
Король
Он говорит, Гертруда, что нашел,
На чем ваш сын несчастный помешался.
Королева
Причина, к сожалению, одна:
Смерть короля и спешность нашей свадьбы.
А Полоний дальше прямо говорит:
Ваш
сын сошел с ума…
Отвергнутый, чтоб выразиться вкратце,
413 Он впал в тоску, утратил аппетит,
Утратил сон, затем утратил силы,
А там из легкого расстройства впал
В тяжелое, в котором и бушует
На горе всем.
Опять ставится вопрос о безумии Гамлета: это вопрос центральный, им заполнено все почти действие (или, вернее, бездействие) пьесы, все вращается вокруг этого странного поведения или состояния Гамлета. Прежде всего, притворяется ли Гамлет безумным или он действительно безумен? Кроме «условия о безумии» (см. предыдущую главу), об этом в пьесе находим: Гамлет говорит друзьям, точно намекая на это:
Гамлет. Но мой дядя-отец и тетка-матушка ошибаются.
Гильденстерн. В каком отношении, милорд?
Гамлет. Я помешан только в норд-норд-вест. При южном ветре я еще отличу сокола от цапли.
Здесь уже есть намек на двойную сторону этого. Король спрашивает у друзей, что они выведали:
Так, значит, вы не можете добиться,
Зачем он напускает эту блажь?
Чем взвинчен он, что, не боясь последствий,
В душевном буйстве тратит свой покой?
Розенкранц
Он сам признал, что не в своей тарелке,
Но почему, не хочет говорить.
Гильденстерн
Выпытыванью он не поддается.
Едва заходит о здоровье речь,
Он ускользает с хитростью безумца.
Здесь уже есть почти все: он напускает («he puts on») на себя, но что-то и есть («lunacy»), бредни. Он сознался, что он «не в своей тарелке», но хитростью сумасшествия не выдал истинного состояния. И после разговора с Офелией, подслушанного королем, он [король] говорит:
Любовь? Он поглощен совсем не ею.
К тому ж — хоть связи нет в его словах,
В них нет безумья. Он не то лелеет
По темным уголкам своей души,
Высиживая что-то поопасней.
И, наконец, Гамлет сам говорит матери:
И в благодарность за его лобзанья,
Которыми он будет вас душить,
В приливе откровенности, сознайтесь,
414 Что Гамлет вовсе не сошел с ума.
А притворяется с какой-то целью (III, 4).
И тот же Гамлет говорит Лаэрту:
Собравшиеся знают, да и вам
Могли сказать, в каком подчас затменье
Мое сознанье (V, 2).
… И Гамлетов недуг — его обидчик.
Очевидно, есть и то и другое: это чувствуют все, это говорит сам Гамлет. Если не безумие, то какое-то странное превращение — «transformation», какое-то состояние — «distraction», «lunacy», — это отмечают все. С другой стороны, просто сумасшедшим, то есть просто нелепым, невменяемым человеком его не считает никто. Король видит, что слова его хоть и странны, но не безумны и, главное, Полоний, который один считает его просто сумасшедшим, говорит: «Если это и безумие, то в своем роде последовательное». Это не бессмысленное сумасшествие, а глубокое безумие. «Как проницательны подчас его ответы! Находчивость, которая часто осеняет полоумных и не всегда бывает у здравомыслящих». Это безумие иногда глубже рассудка — это чувствует даже Полоний. Но опять все же какое-то «безумие» есть: Горацио говорит, что из-за призрака он в исступлении; в сцене вслед за явлением Духа видно это «безумие» — подлинное, там же, где и «условное». Офелия после разговора с Гамлетом (который убедил короля, что это не безумие, а что-то высиживаемое скорбью) говорит:
Какого обаянья ум погиб!
Соединенье знанья, красноречья
И доблести, наш праздник, цвет надежд,
Законодатель вкусов и приличий.
Их зеркало… все вдребезги. Все, все…
А я? Кто я, беднейшая из женщин,
С недавним медом клятв его в душе.
Теперь, когда могучий этот разум,
Как колокол надбитый, дребезжит,
А юношеский облик бесподобный
Изборожден безумьем? Боже мой!
Куда все скрылось? Что передо мной? (III, 1).
Значит, «безумие» есть, и самое «притворство» есть только следствие, особое выражение этого нового состояния души Гамлета. Это «безумие», которое так нащупывают все — приблизительными и разными словами, — совсем особое состояние души Гамлета после второго рождения. 415 Вопрос о безумии Гамлета есть вопрос о его состоянии после «рождения», только определив его, можно понять смысл его безумия. Этот вопрос о безумии Гамлета, так и неразрешаемый пьесой до конца (притворяется ли Гамлет, прикидывается ли сумасшедшим или он действительно безумен? С одной стороны, явные указания на притворство, с другой — не менее явные следы подлинного безумия), показывает или, вернее, отражает в себе, заключает в себе всю двойственность трагедии: так и нельзя различить до конца ее, что Гамлет сам делает и что с ним делается, он ли играет безумием или оно им. Точно то же и с вопросом о его безволии (оба эти вопроса и составляют всю тему этой главы). Основной факт, определивший и то и другое, — есть второе рождение Гамлета. Гамлет — расколотый, раздвоенный, отданный двум мирам, живущий двумя жизнями, все время помнящий о Тени — отдан и иному сознанию. Его вещая, предчувствующая, видящая насквозь скрытое душа — жилица двух миров, его полное скорбной тревоги сердце бьется на пороге двойного бытия111. Он живет двумя жизнями, потому что живет в двух мирах одновременно. Поэтому он постоянно у самой грани этой жизни, у самого ее предела, на ее пороге, у ее последней черты. Поэтому его бытие — его болезненный и страстный день, его пророчески неясный, как откровение духов, сон — не нормальное, не обычное состояние. Он, точно лунатик. Его сознание поэтому тоже двойное. Двум существованиям в двух мирах соответствует и двойное сознание — дневное и ночное, сознательное и связанное, разумение и «безумие», рассудочное и сверхчувственное, мистическое. Его сознание тоже поэтому у самого предела, у самой грани обычного: его бытие на пороге двух миров — его сознание на пороге сна и бдения, разумения и безумия — между ними. Это иное бытие, которое нельзя назвать именем. Это второе, ночное сознание не имеет выражения, оно проходит и движется в молчании, только отражаясь и проецируясь в болезненном и страстном дне, врываясь в дневное сознание и производя впечатление — отражаясь в нем безумием112. Вот почему мы все время стоим перед Гамлетом, как перед завесой, скрывающей его истинные чувства, настроения, переживания, видя только их странную и непонятную проекцию в «безумии». Здесь обо всем приходится догадываться, здесь ничто не дано прямо. Его разговоры 416 со всеми двусмысленны всегда, точно он затаил что-то и говорит не то; его монологи не составляют ни начала, ни конца его переживания, не дают им полного выражения, а суть только отрывки — всегда неожиданные, где ткань завесы истончается, но и только. И только вся неожиданность их, их место в трагедии всегда вскрывают хоть немного те глубины молчания Гамлета, в которых совершается все и которые поэтому прощупываются за всеми его словами, за всей завесой слов. Гамлет — мистик, и это определяет уже все: мистическое второе рождение решило это и определило его сознание и волю. Он, мистически живущий, идущий все время по краю бездны, заглянувший в иной мир, разобщенный и отъединенный от всего земного, вынес оттуда в проекции на землю скорбь и иронию. Это вовсе не привходящие, извне, произвольно данные элементы его настроения, из которых, как из предпосылок, надо выводить все: это прямое следствие его второго рождения, формы его безумия, его нового состояния, не приемлющего мир (ирония) и связанного мистически с иным миром (скорбь). Гамлет, погруженный в земную ежедневность, обыденность, стоит вне ее, вынут из ее круга, смотрит на нее оттуда. Он мистик113, идущий все время по краю бездны, связанный с ней. Следствием этого основного факта — касания миру иному — является уже все это: неприятие этого мира, разобщенность с ним, иное бытие, безумие, скорбь, ирония.
Его ирония — скорбная, слитая со скорбью — это по большей части то, что составляет притворное безумие его: это только стиль, форма отношения его к окружающим, только выражение его иного бытия, иначе он разговаривать не может. Здесь ирония только завеса, скрывающая его отношение к миру. Она показывает иносказательность его чувств. Это стиль враждебности миру, неприятия его. Он так говорит с Полонием, Гильденстерном и Розенкранцем, королем, Офелией. Это, конечно, то, что считается (в пьесе действующими лицами — Полонием и др.) его притворным безумием. Это «madness in craft». В иронии всегда есть элемент «craft», хитрости, искусственности второй, задней мысли. Но ясно сказывается вся скорбная основа этой иронии. Безумие Гамлета — в его скорби; о ней говорят все, король просит друзей развеселить его, королева говорит: «А вот бедняжка с 417 книжкою и сам»24*. Он говорит так, что его ирония в словах, обращенных к Полонию, Гильденстерну, Розенкранцу, Озрику и другим, перемежается такой скорбью, которая косвенно только выражается в его отрывочных и темных словах. Он уже солнцененавистник, и в нелепых словах, сбивающих с толку придворного, прорывается намек на всю темноту его скорби. В ироническом разговоре с Полонием прорываются такие слова: «Что и говорить, если даже такое божество, как солнце, плодит червей, лаская лучами падаль… Есть у вас дочь?»
Полоний. Есть, милорд.
Гамлет. Не пускайте ее на солнце…
Полоний. Ну что вы скажете?25*
Точно он что-то иное этим говорит. Враг солнца, он проклинает зачатие, олицетворяемое солнцем, которое, лаская падаль, зарождает червей. В таком виде представляется ему это мировое зачатие солнца. Теперь он восстает против зачатия, против солнца — те же слова, что и о рождении в монастыре. О книге, уже познав молчание и слово, говорит он: «Слова, слова, слова», точно осуждая слово. От ветра он хочет укрыться «в могилу», и на просьбу Полония об отпуске он говорит: «Не мог бы вам дать ничего сэр, с чем расстался бы охотней. Кроме моей жизни, кроме моей жизни, кроме моей жизни». И с таким страданием он произносит: «О, эти несносные старые дурни!» Так ирония переплетается со скорбью, так мучительна она для него. И Гильденстерну с Розенкранцем — сцена тоже иронии — он говорит: «Однако давайте поподробнее. Чем прогневали вы, дорогие мои, эту свою фортуну, что она шлет вас сюда в тюрьму?»
Гильденстерн. В тюрьму, принц?
Гамлет. Да, конечно: Дания — тюрьма.
Розенкранц. Тогда весь мир — тюрьма.
Гамлет. И притом образцовая, со множеством арестантских, темниц и подземелий, из которых Дания — наихудшее.
Розенкранц. Мы не согласны, принц.
Гамлет. Значит, для вас она не тюрьма, ибо сами по себе вещи не бывают ни хорошими, ни дурными, а только в нашей оценке. Для меня она тюрьма.
418 Они не понимают, не чувствуют, а Гамлет с первой встречи предчувствует, что они уже связаны, уже отсюда не выйдут, уже вступили в гибельный зачарованный круг трагедии, их судьба послала уже в тюрьму. Сам он чувствует, что он в тюрьме, — и поэтому так скована его воля, он в тюрьме — узник мира (весь мир — тюрьма). Не честолюбие, которое олицетворяет земные стремления, делает его несчастным, а дурные сны, которые он постоянно видит, вот его безумие — сны.
Розенкранц. Значит, тюрьмой делает ее ваше честолюбие. Вашим требованиям тесно в ней.
Гамлет. О боже! Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду чувствовать себя повелителем бесконечности. Если бы только не мои дурные сны.
Гильденстерн. А сны и приходят из гордости. Гордец живет несуществующим. Он питается тем, что возомнит о себе и себе припишет. Он тень своих снов, отраженье своих выдумок.
Гамлет. Сон — сам по себе только тень.
Розенкранц. В том-то и дело. Таким образом, вы видите, как невесомо и бесплотно преувеличенное мнение о себе. Оно даже и не тень вещи, а всего лишь тень тени.
Гамлет. Итак, только ничтожества, не имеющие основания гордиться собою, — твердые тела, а люди с заслугами — тени ничтожеств. Однако, чем умствовать, не пойти ли лучше ко двору? Ей-богу, я едва соображаю.
Здесь темный, внутренний ход мысли Гамлета прощупывается ясно: он в пустом разговоре, болтовне ведет свой собственный разговор. Его мучают «дурные сны», его «гордость» — это тень Тени. И дальше с удивительной силой душевного ясновидения он говорит, что друзья подосланы королем, и знает зачем — выведать причину его скорби. Эта угадка пугает их.
Розенкранц. (Гильденстерну). «Что вы скажете?» Эта немотивированная угадка как предварение раскрытия тайны пакетов.
Гамлет (в сторону). «Ну вот, не в бровь, а в глаз!» И он сам определяет свое превращение, то, что пугает короля, причину чего они посланы выведать. Это безумие — его скорбь.
Гамлет. … Недавно, не знаю почему, я потерял всю свою веселость и привычку к занятиям. Мне так не по себе, что этот цветник мирозданья, земля, кажется мне бесплодною скалою, а этот необъятный шатер воздуха с неприступно вознесшейся твердью, этот, видите ли, царственный свод, выложенный золотою искрой, на мой взгляд, — просто-напросто скопление вонючих и вредных паров. Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает! С какими безграничными способностями! Как точен и поразителен по складу и движениям! Поступками как близок к ангелам. Почти равен богу разумением! Краса вселенной! 419 Венец всего живущего! А что мне эта квинтэссенция праха? Мужчины не занимают меня и женщины тоже…
Вот как отозвалось в нем обращение с Духом, иной мир — вот его мировосприятие и мироотношение — небо, земля, человек… Вот что случилось с ним: он, сам не зная отчего, утратил всю свою веселость, предался скорби. Это весь Гамлет — скорбный принц Датский. Это нелегкая и втайне приятная и сладкая меланхолическая грусть, задумчивая тоска юноши, — это тяжелая и глубокая скорбь. В скорби есть всегда что-то нездешнее, скорбь — это боль, болезнь жизни, земного, его умаление. Скорбь Гамлета — оттуда, (призрак скорбен). Здесь на земле неоткуда быть скорби; в жизни как таковой скорби нет. Скорбь в ней от смерти; скорбь есть тот элемент умирания, отблеск смерти, который есть в жизни. Поэтому в скорби есть всегда что-то мистическое. Отсюда мистическое во всей пьесе, в самом Гамлете, который весь есть скорбь. В течение всей пьесы, за самым обычным разговором Гамлет помнит о Тени; иногда это прорывается: «актеры вынуждены странствовать, дети победили Геркулеса».
Гамлет. Впрочем, это неудивительно. Например, сейчас дядя мой — датский король, и те самые, которые строили ему рожи при жизни моего отца, дают по двадцать, сорок, пятьдесят и по сто дукатов за его мелкое изображения. Черт возьми, тут что-то сверхъестественное, если бы только философия могла бы до этого докопаться.
Он действительно не любит человека: «Use every man after his desert, who should escape whipping?»26* Ему близки актеры, он любит актеров, играющих царей, странствующих рыцарей, вздыхающих любовников. Его призрачному уму близка их призрачность, их представляемость, что они на грани двух миров — действительности и вымысла. Ему близка символика сцены, импульсы актера… Скорбь постоянно удерживает его на грани жизни, и вечно он не знает — быть или не быть?
Быть или не быть, вот в чем вопрос;
Достойно
ль
Смиряться под ударами судьбы
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться.
И знать, что этим обрываешь цепь
420 Сердечных мук и тысячи лишений,
Присущих телу. Это ли не цель
Желанная? Скончаться. Сном забыться.
Уснуть… И видеть сны? Вот и ответ.
Какие сны в том смертном сне приснятся,
Когда покров земного чувства снят?
Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет
Несчастьям нашим жизнь на столько лет.
А то кто снес бы униженья века,
Неправду угнетателя, вельмож,
Заносчивость, отринутое чувство,
Нескорый суд и более всего
Насмешки недостойных над достойным,
Когда так просто сводит все концы
Удар кинжала? Кто бы согласился,
Кряхтя, под ношей жизненной плестись,
Когда бы неизвестность после смерти,
Боязнь страны, откуда ни один
Не возвращался, не склоняла воли
Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться?
Так малодушничает наша мысль,
И вянет, как цветок, решимость наша
В бесплодье умственного тупика.
Так погибают замыслы с размахом,
Вначале обещавшие успех,
От долгих отлагательств (III, 1).
Вот удивительное сплетение земного и потустороннего в Гамлете114 — та грань, по которой он идет все время, грань жизни и смерти. В этом трагедия: Гамлет хотел бы избавиться от жизни, навязанной ему рождением, он не хочет нести бремя жизни, кряхтя и потея; но безвестная страна смущает его волю, загробная тайна связывает его. В душе он всегда самоубийца, но что-то связывает его руку. Вопрос, что благороднее, — не отвечен, но Гамлет остается нести «бремя жизни». Этот монолог лучше всего рисует его постоянное состояние на грани, на пороге, на кладбище. В этом смысле понятно его центральное значение в пьесе. Мысль о самоубийстве, скрытая, подавленная, проходит через всю трагедию — самоубийство — смерть Офелии, желание Горацио. Но только немного раз прорывается наружу. Еще раньше Гамлет сказал: «… если бы господь не запретил самоубийства…» Теперь его связывает уже «страна безвестная». Гамлет точно всегда на кладбище. Поэтому эта сцена в смысле душевных переживаний Гамлета непосредственно примыкает к монологу. Эта сцена вообще глубоко знаменательная и символическая. Но для состояния Гамлета она так же характерна, 421 как грань, точно так же, как и монолог, как и сцена с актерами, — там грань тоже, только иная. Здесь состояние души Гамлета оттеняется светом, отбрасываемым на него могильщиками. Гамлет и могильщики — два разряда людей, простых, обыкновенных, земных, по-земному, цинически понимающих смерть, и человека отмеченного, который в душе всегда на грани жизни и смерти. Могильщики всегда на кладбище — среди могил, черепов, трупов, костей могильщики роют могилу и поют о молодости, старости, смерти — балагурят и острят. Они только внешне в могиле, они не задумались, не почувствовали смерти. Несколько простонародно циничные, грустные и веселые в одно время, песни их и разговоры оттеняют полную противоположность Гамлета. Эти слова воплощают их спокойно-равнодушное отношение к смерти, привычное, как к обыкновенному, к жизненному, к будничному; в смерти для них нет ничего удивительного, она для них только неизбежный, неприятный, но привычный эпизод жизни.
Гамлет. Неужели он не сознает рода своей работы, что поет за рытьем могилы?
Горацио. Привычка ее упростила.
Гамлет. Это естественно. Рука чувствительна, пока не натрудишь.
Гамлет рассматривает черепа. Здесь не рассуждения главное — Гамлет меньше всего рассуждает, — он ощущает, чувствует, переживает. Эти черепа политиков, царедворцев, простых людей, законников, составлявших купчие, приобретателей (замечательная черта: как Гамлету больно говорить с могильщиком, и как могильщик плохо (понаслышке) относится к Гамлету — так что Гамлета не только любит народ). Сцена насыщена таким кладбищенским настроением Гамлета, что, если только проникнуться им, станет невозможно жить — так бесцельно, так бессмысленно делать что-то во внешнем мире. Здесь в Гамлете важны не рассуждения, а глубокое ощущение115 кладбища и то особое состояние могильной печали, которой насыщена вся пьеса. «Стоило ли давать этим костям воспитание, чтобы потом играть ими в бабки? Мои начинают ныть при мысли об этом», — говорит он со сдержанным страданием. Гамлет находится в этом здесь подчеркнутом, но чувствующемся тайно (это тайночувствование Гамлета, то, что мы не знаем прямо чувств и настроений 422 его, а видим их, как за завесой, есть следствие его касания иному миру и его «иного бытия» — безумия) во всей пьесе состоянии той особой скорбной грусти, проистекающей из того, что он все время на краю жизни, у ее грани, которое можно назвать состоянием могильной или, лучше, «порожной» (на пороге) грусти. Череп Йорика особенно живо это чувство выводит наружу: ему почти дурно от грусти.
Бедняга Йорик! Я знал его, Горацио. Это был человек бесконечного остроумия, неистощимый на выдумки. Он тысячу раз таскал меня на спине. А теперь — это само отвращение, и тошнотой подступает к горлу. Здесь должны были двигаться губы, которые я целовал не знаю сколько раз. Где теперь твои каламбуры, твои смешные выходки, твои куплеты? Где заразительное веселье, охватывавшее всех за столом? Ничего в запасе, чтоб позубоскалить над собственной беззубостью? Полное расслабление? Ну-ка, ступай в будуар великосветской женщины и скажи ей, какою она сделается когда-нибудь, несмотря на румяна в дюйм толщиною. Попробуй рассмешить ее этим предсказанием.
После этого новое, особое отношение создается к жизни, к законникам, купчим, всем земным делам, малым и великим, от льстеца придворного и господина, хвалившего лошадь, череп которого теперь бросает могильщик, до Александра Македонского, прах которого пошел, может быть, на замазку стен. Это новое отношение к жизни или, вернее, состояние души — есть восприятие жизни sub specie mortis116, есть скорбное отношение117. Нельзя, однако, думать так, что как сцена на кладбище, так и монолог «Выть или не быть» стоят особняком в трагедии, вне ее действия, как общие картины настроения Гамлета, не связанные непосредственно с ходом действия трагедии: наоборот, эти сцены получают весь свой смысл, только будучи связаны с действием трагедии. Эта скорбь, и ирония, и безумие, и мистическая жизнь души, и память об отце, связь с ним душевная — все это не только отдельные черты душевной жизни Гамлета, господствующие и возвышающиеся над его образом в трагедии, но теснейшим образом связанные со всем ходом действия пьесы, — его отражения; это вовсе не «общие места» трагедии — ее «философия», ее рассуждения — это непосредственно вытекающие из хода действия трагедии (явления Тени) факты душевной жизни Гамлета, в свою очередь: непосредственно входящие в самый механизм трагедии и непосредственно связанные (и потому дающие особое освещение 423 им, особый смысл) с его поступками. Только в связи с ними становятся понятными эти настроения и связь внутренней жизни Гамлета (жизни души) с его внешней (поступки его, this machine…) роль в трагедии, странная и необычная связь, таящая в себе разгадку тайны всего механизма трагедии.
VI
Теперь мы переходим к рассмотрению другой стороны Гамлета — его действования в трагедии или, вернее, его бездействия, ибо содержание всей почти трагедии, за исключением незначительной по размерам части последней сцены, ее. «действие» заключается в «бездействовании» ее героя118. Этот, вопрос о его безволии надо считать центральным в понимании пьесы, поставить во главу угла при толковании Гамлета. В этом должен выясниться весьма существенный взгляд на объяснение фабулы, а отсюда — и трагедии в ее целом. Вопрос стоит не только о загадочном бездействии Гамлета, но и о его странном и непонятном действовании (ибо он все же «действует» в пьесе — пусть странно и непонятно), не только в необъяснимом безволии, но и об удивительно направленной воле его (ибо воля его все же проявляется в трагедии — его поступки, дела и пр.). Другими словами, вопрос стоит так: с самого первого акта и до последней сцены пятого акта Гамлет не действует видимо, то есть не убивает короля, причем его самообвинения в бездействии подчеркивают это и не позволяют считать это бездействие ни вызванным техническими только условиями драмы, ни вынужденным: из-за внешних препятствий, которые должен будто преодолеть он, прежде чем исполнить главное, — очевидно, это бездействие имеет свой смысл в трагедии, который нужно уяснить; с другой стороны, Гамлет все же «действует» в трагедии, проявляет свою волю (представление, убийство Полония, Гильденстерна и Розенкранца, короля, Лаэрта), что должно иметь свой смысл в трагедии. Ясно, что это загадочное бездействие и непонятное действование, необъяснимое безволие и странно направленная воля (то, что подлежит уяснению здесь) суть две стороны одного и того же вопроса, два проявления одной и той же сущности и, в конце концов, это — одно.
424 Ясно сразу и без всяких слов, что в самом душевном состоянии Гамлета, как оно обрисовано в предыдущей главе, уже есть налицо все элементы «безволия», которое и должно было в трагедии проявиться в бездействии. Человек, который этого мира не приемлет, стоит у его грани, разобщен с ним, погружен в скорбь, уединен в последнем одиночестве души, который не хочет жить, которому жизнь навязана рождением, — не может и желать действовать, «волить», проявлять свою волю. Это не вытекает вовсе одно из другого — безволие из скорби, — это две стороны одного и того же душевного состояния. Скорбь Гамлета и безволие его одинаково «центральны» в его образе: в этом интимнейшая связь в трагедии — героя (скорбь) и хода действия, фабулы (безволия) — главный вопрос этого исследования. В этом смысле монолог «Быть…» и сцена на кладбище весьма знаменательны, но они получают еще большее значение в связи с другой стороной этого вопроса (о «странной воле») — там смысл их особый и глубоко значительный. Действование всегда в мире, в жизни, Гамлет вне мира, вне жизни. От этого можно перейти к главному: скорбь Гамлета, объясняющая бездейственность, парализованность его воли, есть не главная, не основная, не первопричина, а причина производная, отраженная, зависимая и проистекающая из его отъединенности от мира, которая, в свою очередь, имеет у Гамлета свой, специфический смысл и характер, на котором мы останавливались выше. Основным фактом Гамлета — его «вторым рождением» и отсюда проистекающим мистическим состоянием двух жизней в двух мирах — объясняется и его «бездейственная» и «странно-действующая» воля. Гамлет — мистик, это определяет не только его душевное состояние на пороге двойного бытия, двух миров, но и его волю во всех ее проявлениях, отрицательных и положительных, бездействии и действовании. Мистические состояния души отмечены глубоким безволием, внутренней парализованностью воли и должны сказаться бездейственностью. Если перечислить все обычные и общеизвестные признаки этих состояний: их неизреченность, невыразимость — тайночувствование Гамлета, завеса, безумие, молчание; их кратковременность и мгновенность или, вернее, вневременность, ощущение провала времени; их видимая необъяснимость, интуитивность; и, наконец, бездеятельность воли, — то на последнем надо будет особенно 425 остановиться119. Мистик ощущает свою волю как бы парализованной; поскольку в мистических состояниях есть нечто не отсюда, что-то нездешнее, неземное, что и составляет их главную сущность, — постольку в них нет элемента воли, постольку они, как внемирные, не от мира, исключают возможность действования. Тем более не мистические состояния вообще, а мистическая скорбь. Но этот последний признак заключает в себе две стороны: это, конечно, в нашем смысле парализованность воли, а отсюда и бездейственность, но, с другой стороны, это есть не безволие, а подчиненность воли, связанность действий. Он ощущает свою волю во власти какой-то иной силы (что, с другой стороны, и есть безволие), которая руководит им. Вот почему эта бездейственность Гамлета, как и его поступки, объясняется не из его характера, а из целого всей трагедии: через Гамлета, находящегося во власти потусторонней силы, подчинившего и связавшего свою волю связью с иным миром, оказывает влияние этот второй мир, эта потусторонняя сила на весь ход действия. Здесь вплетается незаметно через Гамлета нить мистического, потустороннего в реальное. Что это за сила — приводящая в движение весь механизм трагедии, определяющая все ее течение, — об этом дальше. Эта последняя особенность мистических состояний — безволие или подчиненность воли — роднит эти состояния с той подчиненностью чужой воле, которая составляет сущность так называемого «автоматизма» и медиумического транса: провести грань между тем и другим нельзя. А в Гамлете эти две стороны одного и того же: он мистик — это определяет его душевное состояние, и он тем самым медиум трагедии, находящийся во власти неведомой силы; его особым, если можно так выразиться, «трагическим автоматизмом» (подчиненность воли — трагедии; вспомните его: «this machine») объясняется все. Гамлет писал Офелии: «Твой навеки… пока эта машина принадлежит ему, Гамлет». Смысл его безволия в том, что «эта машина» уже не ему принадлежит; она подчинена иной силе, находится в ее власти; смысл его «безволия и воли», бездействия и действования — в трагическом автоматизме120 — подчинении «this machine» трагедии; теперь его поступки, его действия, как и бездействие, не зависят от него — это все делает «эта машина», у которой один мотив в том и другом, во всех случаях: так надо трагедии. 426 Что это за сила трагедии, каков смысл этого «так надо» — об этом дальше. В этом личная трагедия Гамлета — что он человек, а не машина — и в то же время принадлежит не ему. В этом трагическом автоматизме все: и личная трагедия Гамлета и смысл всей трагедии.
Прежде всего Гамлет сам сознает это и — что глубоко важно отметить — мучится и не понимает (это-то главное!) своего безволия, он не знает, что сковывает его волю. В первый раз мучение бездействия приходит к нему после декламирования актера. Эта сцена декламации глубоко знаменательна в смысле выражения настроения Гамлета: он только слушает монолог — рассказ Энея Дидоне об убийстве Приама. Его ум странно радуют трагические картины ужасов Трои — точно здесь, в трагической Дании, отдается отзвук, проносится тень тех событий, как в личной его драме — отзвук драмы Пирра: так сплетается личная, семейная трагедия и трагедия царства — там и здесь (Горацио вспоминает о Риме). Этот монолог — одно из тех превосходных, иносказательных изображений тайночувствования Гамлета, которыми заполнена вся пьеса. Сам он, декламирующий и слушающий монолог об убийстве за смерть отца, о мести Пирра за убийство отца Ахилла и о переплетающейся с этой историей трагической картине гибели Трои и скорби Гекубы, погружен невысказанно в созерцание мистической стороны своей души, где зреет гибель короля и вся катастрофа и где уже обозначились линии гибели Дании, переплетающиеся с линиями его гибели: семена, брошенные из того мира, прозябают в его душе. В страстной, невысказанной муке, вынашивающей в его душе гибель, он забывает обо всем; очнувшись, он сам не понимает ни своего состояния, ни себя. Как лев Гирканский, жаждущий крови, в доспехах черных, как ночь, теперь залитых кровью, Пирр ищет Приама. В Гамлете зреет ярость Пирра, мстящего за отца, и его убийственный гнев, который в один миг из бессознательной темной сферы души выйдет из берегов, зальет и охватит все и решит все дело в миг, отсчитанный маятником трагедии, механизму которой подчинена «машина» Гамлета. От свиста лезвия занесенного меча Приам упал на землю. В этом миг
Ему навстречу подбегает Пирр,
Сплеча замахиваясь на Приама;
Но этого уже и свист клинка
427 Сметает с ног. И тут, как бы от боли,
Стена дворца горящего, клонясь,
Обваливается и оглушает
На миг убийцу. Пирров меч в руке
Над головою так и остается,
Как бы вонзившись в воздух на лету.
С минуту, как убийца на картине,
Стоит, забывшись, без движенья Пирр,
Руки не опуская.
Но, как бывает часто перед бурей,
Беззвучны выси, облака стоят,
Нет ветра, и земля, как смерть, притихла, —
Откуда ни возьмись, внезапный гром
Раскалывает местность… Так, очнувшись,
Тем яростней возжаждал крови Пирр… (II, 2).
И дальше ужасная картина — отзвук катастрофы, удара. Пирр остановился вдруг, занеся меч, его клинок повис в воздухе — не так ли остановился и Гамлет? Пирр недвижен, но это затишье перед бурей, которое вдруг разрывается громами, — не такой ли же напряженный характер «бездействия» трагедии — она «недвижима» вся — все оно насыщено предчувствием катастрофы. Этот монолог художественно — «отображенно» — рисует состояние Гамлета, и, кроме того, в нем отзвук всей трагедии — он как бы висит над трагедией. И скорбь Гекубы, ее страдания воспламеняют актера, как и страсть и ярость Пирра, — он плачет, он изменился в лице. Гамлет испытал на себе потрясающее действие актеров. Он сам не понимает, почему нарастающая в нем страсть разрешается впустую, почему он медлит и не действует, почему в его душе еще нет толкающей, действенной ярости, нет импульса, толчка к совершению всего. Он обвиняет себя во всем, сам не понимает, почему мучится этим, не зная, что это — так надо трагедии.
Гамлет:
Храни вас бог! Один я. Наконец-то,
Какой же я холоп и негодяй!
Не страшно ль, что актер проезжий этот
Так подчинил мечте свое сознанье,
Что сходит кровь со щек его, глаза
Туманят слезы, замирает голос
И облик каждой складкой говорит,
Чем он живет. А для чего в итоге?
Из-за Гекубы!
Что он Гекубе? Что ему Гекуба?
А он рыдает. Что б он натворил,
Будь у него такой же повод к мести,
Как у меня? Он сцену б утопил
428 В потоке слез. И оглушил бы речью
И свел бы виноватого с ума.
А я,
Тупой и жалкий выродок, слоняюсь
В сонной лени и ни о себе
Не заикнусь, ни пальцем не ударю
Для короля, чью жизнь и власть смели
Так подло. Что ж, я трус? Кому угодно
Сказать мне дерзость? Дать мне тумака?
Развязно ущипнуть за подбородок?
Взять за нос? Обозвать меня лжецом
Заведомо безвинно? Кто охотник?
Смелее! В полученьи распишусь.
Не желчь в моей печенке голубиной,
Позор не злит меня, а то б давно
Я выкинул стервятникам на сало
Труп изверга. Блудливый шарлатан!
Кровавый, лживый, злой, сластолюбивый!
О мщенье!
Ну и осел я, нечего сказать!
Я сын отца убитого. Мне небо
Сказало: встань и отомсти.
А я, Я изощряюсь в жалких восклицаньях
И сквернословьем душу отвожу,
Как судомойка!
Тьфу, черт! Проснись, мой мозг! Я где-то слышал,
Что люди с темным прошлым, находясь
На представленье, сходном по завязке,
Ошемлялись живостью игры.
И сами сознавались в злодеянье.
Убийство выдает себя без слов,
Хоть и молчит. Я поручу актерам
Сыграть пред дядей вещь по образцу
Отцовой смерти. Послежу за дядей —
Возьмет ли за живое. Если да,
Я знаю, как мне быть. Но может статься.
Тот дух был дьявол. Дьявол мог принять
Любимый образ. Может быть, лукавый
Расчел, как я устал и удручен,
И пользуется этим мне на гибель.
Нужны улики поверней моих,
Я это представленье и задумал,
Чтоб совесть короля на нем суметь
Намеками, как на крючок, поддеть.
В этом монологе все от первого: «Один я. Наконец-то» — все уединено, сосредоточено на одиночестве души, на себе: и вот Гамлет сам не понимает себя, он бичует себя — «я» для него такая страшная и ужасная вещь, он пугается самого себя, осуждает себя, не понимает причины своего бездействия: почему актер мог подчинить душу тени страсти, горю Гекубы, а Гамлет — не трус и 429 так глубоко ненавидящий короля, призываемый к мщению и небом и адом, — разражается ругательствами. В этих упреках себе глубочайший стиль трагедии — ее «мир, как воля и представление»: глубинными корнями своей воли он коснулся темного корня трагедии, из которого развивается все действие, связан с ним, а в созерцании не понимает сам себя. Этот монолог Гамлета (и следующий) глубоко замечателен по силе выражения в его душе «трагического автоматизма» — и его душевной муки из-за этого. Но это одна часть монолога — о бездействии, другая — о действии. Он хочет, чтобы перед королем сыграли пьесу, похожую на убийство царя. В этом видно, с какой «грубой» реальностью воспринимает Гамлет явление Духа: это не фикция, не условность, а относится он к этому так, как стал бы относиться каждый из нас. И это именно Дух раскрыл ему, а не кто-либо другой, здесь именно призрачное, неземное знание. Для земного действования нужны основания потверже. Он заставит убийство сказаться другим, необыкновенным органом. Это представление, воспроизведенное, разоблаченное Духом убийство, воплощенный рассказ призрака сойдется, столкнется с реальным, бывшим в действительности убийством — через совесть короля. Откровения Духа, воспроизведенные на сцене, должны дать страшную реакцию на земное. В этом смысле сцена на сцене — акт потрясающий. Во-первых, это страшное соединение того и этого, здешнего и потустороннего, их слияние Гамлет переводит на земной язык слова Духа, и, во-вторых, Гамлет своими действиями, поступками непроизвольно нажимает тайные педали трагедии, вызывающие общий ход действия. Так и представление коренным образом меняет ход действия, служит его поворотным пунктом, после которого трагедия быстро идет к развязке. Гамлет вставляет в пьесу «Убийство Гонзаго» свои стихи; актеров он убеждает быть естественными, точно воспроизвести все, наиболее «природно», естественно, близко к действительности — его мучит призрачность, невоплощенность его знания, ему кажется, что этим объясняется его «неимпульсивность», неспособность этого знания дать толчок к действию, к свершению, — он хочет как можно более близкой копии действительности:
Двигайтесь в согласии с диалогом, говорите, следуя движениям, с тою только оговоркой, чтобы это не выходило из границ естественности. 430 Каждое нарушение меры отступает от назначения театра, цель которого во все времена была и будет: держать, так сказать, зеркало перед природой… (III, 2).
Это зеркало природы, зеркало жизни — сцена — глубоко знаменательно в трагедии, как вообще глубоко знаменательна сцена на сцене. Об ее значении для пьесы в целом, для общего хода действия, как и о сцене на кладбище, — дальше. Здесь на сцену выведена самая символика сцены — законы этого зеркала жизни, актер, играющий роль, которая определена не им, и переживающий ее, то есть порядок обратный жизни будто бы, — но по тайному смыслу трагедии тот же. Тут сцена на сцене, но ведь и сам Гамлет — только сцена. Это символика сцены (самого Гамлета — «зеркало жизни»), ее смысл, закон ее действия здесь вынесены наружу, абстрагированы, отвлечены от пьесы, уловлены. Гамлет уславливается с Горацио наблюдать за королем во время представления:
Сейчас мы королю сыграем пьесу.
Я говорил тебе про смерть отца.
Там будет точный сколок этой сцены.
Когда начнется этот эпизод,
Будь добр, смотри на дядю не мигая,
Он либо выдаст чем-нибудь себя
При виде сцены, либо этот призрак
Был демон зла, а в мыслях у меня
Такой же чад, как в кузнице Вулкана.
Итак, будь добр, гляди во все глаза,
Вопьюсь и я, а после сопоставим
Итоги наблюдений.
Гамлет должен казаться веселым: «I must be idle». Но темное волнение от ожидания «реализации», воплощения слов призрака, дает себя знать в разговорах с королем, Полонием, Офелией.
Король. Это ответ не в мою сторону, Гамлет. Это не мои слова.
Гамлет. А теперь и не мои.
Уже не его; его деланное веселье разрывается, как натянутая завеса, и в нем столько скорби.
Офелия. Принц, вы сегодня в ударе.
Гамлет. Кто, я?
Офелия. Да, милорд.
Гамлет. Господи, ради вас я и колесом пройдусь! Впрочем, что и остается, как не веселиться? Взгляните, какой радостный вид у моей матери, а всего два часа, как умер мой отец.
В этом веселье (есть и веселье — радость темная от оправдания, зловещая) уже есть отблеск той дикой радости, 431 ужасной и зловещей, которая охватит его после представления.
Начинается пантомима, — глубоко символическая черта: это только фабула, скелет пьесы, ее пантомима, которая (выделенный и воспроизведенный голый ход действия пьесы) господствует над всей пьесой, предшествует ей и определяет ее, показывая в символическом виде зрителям, что господствует над пьесой, ход ее действия, ее механизм и потом уже подставляя под нее клятвы королевы и пр. — самую пьесу. Глубоко замечательное место для уяснения законов действия в трагедии «Гамлет»: там «пантомима» тоже есть, но она не выделена, а есть в самой пьесе — в душе Гамлета и даже в самом действии: пантомима это то «так надо трагедии», немотивированное, априорное, что висит над ней. Предваренные этим, зрители уже иначе смотрят на диалог действующих лиц, их поступки и т. д. Наметить такую пантомиму в «Гамлете» — глубоко важно. Но об этом дальше. Пока же надо только подчеркнуть, как в сцене на сцене уловлена самая символика трагедии, как бы выделена из нее.
Офелия. Что это означает, принц?
Гамлет. «Змея подколодная», а означает темное дело.
Офелия. Наверное, пантомима выражает содержание предстоящей пьесы?
Начинается самая пьеса: потустороннее воплощается в представлении.
Король. Как название пьесы?
Гамлет. «Мышеловка». Но в каком смысле? В фигуральном.
Вот символика сцены — здесь все в «фигуральном», все в переносном смысле. Принц — от ужасного напряжения — рассказывает, подсказывает, прерывает пьесу.
Офелия. Вы хорошо заменяете хор, милорд.
Гамлет прерывает актера и досказывает сам — об отравлении. Эта сцена по воплощению в ней замогильного, столкновению его с земным — ужасна. Король на сцене уже пророчествует (подчиненный пантомиме пьесы):
Но кончу тем, откуда речь повел,
Превратностей так полон произвол,
Что в нашей воле вовсе не дела,
А только пожеланья без числа,
Так и боязнь второго сватовства
Жива у вас до первого вдовства.
432 Король на сцене болен предчувствиями своей близкой гибели. Здесь — в «отражении» смысл всей фабулы пьесы. Король увидел страшное разоблачение своего греха — слова Духа оправдались, убийство сказалось; на минуту в душе Гамлета — время воплотилось в пазы — нет более разрыва между тем и этим, фантастический призрак превратился в действительность, ужасная реальность, правдивость замогильного — подтверждена. Представление прервано. Гамлет — в исступленной страсти безумия, отчаянной радости и ужаса, сам подавленный побеждающей силой их — точно теперь ощутил всю правду призрака и всю тяжесть своей задачи. Эти бешеные выкрики сумасшедшей радости и исступленной скорби вместе «Ах, ах! А ну музыку! Ну-ка, флейтисты!.. А ну, а ну музыку!» рисуют его состояние — это исступленность страсти, доведенная до высшего предела, струна натянута до последней степени, еще немного, и она лопнет. Его стихи — бессмысленные и скорбно-дикие — о раненом олене, о короле… И вместе с тем это подавляющая страсть (Гамлет подавлен ее тяжестью), а не возбуждающая, не импульсивная, не действенная. Эта подавленность Гамлета лучше всего рисуется в разговоре с Гильденстерном, Розенкранцем и Полонием, пришедшим пригласить его к королеве.
Гильденстерн. Добрейший принц, введите свою речь в какие-нибудь границы и не уклоняйтесь так упорно от того, что мне поручено…
Гамлет. Не могу, сэр.
Гильденстерн. Чего, милорд?
Гамлет. Дать вам надлежащий ответ. У меня мозги не в порядке. Но какой бы ответ я вам ни дал, располагайте им, как найдете нужным. Вернее, это относится к моей матери. Итак, ни слова больше.
И в прекрасной сцене с флейтой, где ирония его (которая одна показывает всю глубину его последнего отъединения) достигает потрясающей силы, он говорит: его тайны, тайны души его, которые они пришли выведать, глубже тайн флейты, на которой они не умеют играть: он все сравнивает себя с «инструментом»:
Смотрите же, с какою грязью вы меня смешали. Вы собираетесь играть на мне. Вы приписываете себе знанье моих клапанов. Вы уверены, что выжмете из меня голос моей тайны. Вы воображаете, будто все мои ноты снизу доверху открыты. А эта маленькая вещица нарочно приспособлена для игры, у нее чудный тон, 433 и тем не менее вы не можете заставить ее говорить. Что же вы думаете, со мной это легче, чем с флейтой? Объявите меня каким угодно инструментом, вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя.
Опять «инструмент», но который можно сломать, но не играть на нем, «играет» на нем пантомима пьесы. И с каким чувством подавленности страстью он говорит Полонию, обещающему сейчас доложить королеве:
Гамлет: «Шутка сказать: “сейчас”, — оставьте меня, приятели». Он опять остается один, сосредоточивается на себе. Гамлет напряжен до крайности, страсть на краю действия.
Гамлет
Теперь пора ночного колдовства.
Скрипят гроба, и дышит ад заразой.
Сейчас я мог бы пить живую кровь
И на дела способен, от которых
Я утром отшатнусь. Нас мать звала.
Без зверства, сердце! Что бы ни случилось,
Души Нерона в грудь мне не вселяй,
Я ей скажу без жалости всю правду
Словами, ранящими, как кинжал,
Но это мать родная — и рукам
Я воли даже в ярости не дам.
Гамлет сам себя не знает: этот земной, рассуждающий Гамлет, которого принимали столько раз за подлинного, сам еще (скоро!) не знает своей тайны. Он относится к себе со стороны, сам не понимая себя и своих поступков, — вот последнее, мистическое раздвоение личности, разъединение «я»: его дневная сторона не знает его ночной. Он не знает, почему он медлит, ищет причин к этому, осуждает себя. Этот монолог особенно замечателен: Гамлет чувствует, что убийство назрело в его душе, теперь он мог бы совершить страшные дела, от которых дрогнет день. Теперь волшебный час ночи, чародейственный миг, когда кладбища зевают и ад дышит заразой на мир, — он чувствует в своей душе убийство, он знает, что оно налилось, есть в его душе, и боится, как бы душа не согласилась послушаться его советов и убить мать. Это глубоко важно, что Гамлет сам сдерживает себя, удерживает от дела, которое назрело в его душе и которое он ощущает, но не понимает. Так же важно, как и то, что он сам побуждает себя к делу, упрекает за бездействие, — причина того и другого одна. Ему кажется, что он движется свободно, он осуждает себя, 434 ищет кругом связывающие и опутывающие его нити, которые не дают ему до нужной минуты сделать того, к чему он стремится, и, напротив, сами влекут его к другому, от чего он удерживает себя. Он совершит убийство, он это чувствует, он упьется горячей кровью — но независимо от своей воли. Но ему кажется, что он свободно движется — и он удерживает себя от одного, стремится к другому. Как магнитная стрелка в поле действия магнитных сил, связан он в движениях и поступках своих магнитными, невидимыми, но властными нитями, протянутыми оттуда и пронизывающими всю трагедию. Точно вся она — магнитное поле сил, где совершает предопределенное движение свое попавшая в водоворот их магнитная стрелка. По дороге к матери Гамлет видит короля — это замечательная сцена!121 Он готов упиться кровью, но рука его с поднятым и занесенным мечом, бессильно скованная, вдруг останавливается, точно у Пирра, — непонятно почему. Услужливый разум подсказывает оправдание — его прозрачная обманность ощутима до боли, — но есть в нем одна правда: теперь он мог бы совершить, но его меч изберет другое мгновение: почему — этого Гамлет не знает, так надо трагедии, — он не отказывается, но это не то, что ему назначено совершить. Он объясняет, почему убийство теперь не было бы отмщением, — но это просто не то: Гамлет совершит сейчас другое убийство, «магнитные» силы влекут его в другое место и дают поднятой руке с мечом упасть — и она замирает в бессильном порыве. Здесь влияние магнитных сил оттуда (их нет на сцене, причин этого нет на сцене — они в «пантомиме» трагедии, за кулисами) показано с невероятной силой и ясностью ощутимости. Здесь показано, как нить свершения одним концом лежит в короле (сцена показывает параллелизм короля и Гамлета: король молится, Гамлет с обнаженным мечом стоит позади — минута еще не пришла для обоих); Гамлет еще не знает этого.
Гамлет
Он молится. Какой удобный миг!
Удар мечом — и он взовьется к небу,
И вот возмездье. Так ли. Разберем,
Меня отца лишает проходимец,
А я за то его убийцу шлю
В небесный рай.
Да это ведь награда, а не мщенье,
Отец погиб с раздутым животом,
435 Весь вспучившись, как май, от грешных
соков.
Бог весть, какой еще за это спрос,
Но по всему, наверное, немалый.
Так месть ли это, если негодяй
Испустит дух, когда он чист от скверны
И весь готов к далекому пути?
Нет.
Назад, мой меч, до боле страшной встречи!
Когда он будет в гневе или пьян,
В объятьях сна или нечистой неги,
В пылу азарта, с бранью на устах
Иль в помыслах о новом зле, с размаху
Руби его, чтоб он свалился в ад
Ногами вверх, весь черный от пороков.
Но мать меня звала. — Еще поцарствуй,
Отсрочка это лишь, а не лекарство.
Короля будто спасла молитва, продлила его болезненные дни — еще не пришло время, еще не исполнился срок. Гамлет полон убийством, в его душе оно созрело, налилось, как зрелый плод, оно готово сорваться; его рука поднята с занесенным мечом, наполнившей его сердце страстью, меч должен упасть — Гамлет это чувствует, он убеждает себя не убить королеву, он чувствует уже, что он не в своей воле. Но — что удивительнее всего (это не мотивировано в пьесе) — королева чувствует это:
Что ты задумал? Он меня заколет!
Не подходи! Спасите!
Это совершенно непонятное восклицание122 — с чего она взяла, что он хочет убить? Убийство, назревшее в душе его, которого он сам боится, которое и его пугает своей неясной, тревожной и неизбежной неотвратимостью, обозначилось уже ясно, отметилось, выступило наружу в его лице, жестах, голосе — уже видимо королеве. Королева в смертном испуге вскрикивает, за занавеской кричит подслушивающий Полоний. Гамлет пронзает занавеску мечом, ударяет через занавеску (как глубоко символично — какая темнота действия, слепота) и убивает Полония.
Гамлет (обнажая шпагу)
Ах, так? Тут крысы? На пари — готово!
(Протыкает
ковер)
Полоний (за ковром)
Убит!
(Падает
и умирает.)
Королева
Что ты наделал?
Гамлет
Разве
там
Стоял король?
436 Он еще не знает, совершивши уже; он спрашивает, король ли это? Полное непонятной связанности, это убийство потрясающе напоминает о тех нитях: ведь оно вызвано той страстью, которая еще при декламации актера поднялась в его душе, только направлялась им не туда: «Тебя я спутал с кем-то поважнее…» В нем есть что-то опасное, что-то убийственное в его иронии — к Полонию и Гильденстерну и Розенкранцу — ведь она убивает их.
Королева
Как ты жесток! Какое злодеянье!
Поистине это rash — безрассудно, безумно, безвольно. Гамлет видит теперь в этом предопределенное событие, себя он считает только орудием. Гибель его необходима — она входит в пантомиму трагедии.
Гамлет
О бедняке об этом сожалею.
Но, видно, так судили небеса,
Чтоб он был мной, а я был им наказан
И стал карающей рукой небес,
Я тело уберу и сам отвечу
За эту кровь. Еще раз добрый сон.
Из жалости я должен быть суровым.
Несчастья начались, готовьтесь к новым.
Гамлет уже (в первый раз) почувствовал глубоко трагическую предопределенность своих поступков, их «автоматизм» (орудие), и он уже почти готов: это только начало — худшее впереди. Тут уже явное предчувствие катастрофы. Сцена с матерью — потрясающей силы. Гамлет сказал: «Я ей скажу без жалости всю правду», — правда, королева говорит: «Твои слова как острие кинжалов и режут слух». Здесь достигается высшая напряженность силы, когда действенность слов-кинжалов готова перейти в живую действенность и убить королеву. Эти слова-кинжалы и есть в Гамлете душевная линия гибели королевы в фабуле пьесы (как есть вообще в его душе линия всей фабулы, — но об этом дальше). Гамлет вонзает свои кинжалы с ужасной силой: позор матери мучит его с самого начала не меньше, если не больше, чем смерть отца, — с самого начала измена матери, ее скорый брак занимают его. Он знает, что это не расчетливость рассудка и не любовь — поступок королевы непонятен и немотивирован 437 в пьесе: «Так какой же дьявол средь бела дня вас и жмурки обыграл?»
Страшный позор, грех матери горит в сердце его, как рана, — столько пламенного страдания в его словах. Мистическая связь с матерью ее рожденного сына, доведенной до пределов земной высоты страстью, вызывает непонятной силой третьего — отца, которого видит Гамлет. Это явление столь же необходимо, сколь непонятно и чудесно. Это последнее явление Тени кладет последний штрих на роль Тени в трагедии и уясняет ее окончательно: если бы Тень была фикцией, служебным эффектом, это ее явление было бы излишне — ее роль была бы кончена с разоблачением убийства. Невидимо живущий все время с Гамлетом, связанный с ним семенной связью, невидимо существующий в мистическом соединении отца — матери — сына123, — он появляется вновь. Королева не видит его, но чувствует, что с Гамлетом творится нечто необычное.
Гамлет
Под ваши крылья, ангелы небес! —
Что вашей статной царственности надо?
Королева
О горе, с ним припадок!
Гамлет
Ленивца ль сына вы пришли журить,
Что дни идут, а он под злую руку
Приказов ваших страшных не свершил?
Не правда ли?
Призрак
Цель моего прихода — вдунуть жизнь
В твою почти остывшую готовность.
Но посмотри, что с матерью твоей.
Она не в силах справиться с ударом.
Кто волей слаб, страдает больше всех.
Скажи ей что-нибудь.
Гамлет
Что с вами, леди?
Королева
Нет, что с тобой? Ты смотришь в пустоту,
Толкуешь громко с воздухом бесплотным
И пялишь одичалые глаза.
Как сонные солдаты по сигналу,
Взлетают вверх концы твоих волос
И строятся навытяжку. О сын мой,
Огонь болезни надо остужать
Невозмутимостью. Чем полон взор твой?
Гамлет
Да им же, им. Смотрите, как он бел!
438 Смерть страшная его и эта бледность
Могли бы растрогать камень. — Отвернись.
Твои глаза мне душу раздирают.
Она рыхлеет, твердость чувств сдает,
И я готов лить слезы вместо крови.
Королева
С кем говоришь ты?
Гамлет
Как, вам не видать?
Королева
Нет. Ничего. Лишь то, что пред глазами.
Гамлет
И не слыхать?
Королева
Лишь наши голоса.
Гамлет
Да вот же он! Туда, туда взгляните:
Отец мой, совершенно как живой!
Вы видите, скользит и в дверь уходит.
Королева
Все это плод твоей больной души.
По части духов бред и исступленье
Весьма искусны.
Гамлет
Исступленье,
бред!
Мой пульс, как ваш, отсчитывает такт
И так же бодр. Нет нарушений смысла
В моих словах. Переспросите вновь —
Я повторю их, а больной не мог бы.
Эта ужасная сцена: раздвоение достигает высшего предела, оно явно показывается на сцене; два мира, две жизни Гамлета — действие происходит одновременно в двух реальностях, в двух мирах — в самом буквальном смысле этого слова — вот где время вышло из пазов! Королева говорит, что это мечта фантазии, экстатически-болезненное видение расстроенного воображения. Она в этом мире: она не видит, не слышит Тени — но видит все, что там. Для нее — Гамлет вперяет взоры в пустоту и говорит с бестелесным воздухом. Столкновение двух миров особенно ясно в этом месте: Тень велит Гамлету заговорить с матерью. Тень — там, в той реальности, в том мире; королева — здесь, в этом. Гамлет на пороге, в обоих мирах одновременно. Оторвавшись оттуда, он говорит: «Что с вами, леди?» Королева: «Нет, что с тобой?» Вот два мира, столкнувшись и удивившись, восклицательно изумляются друг другу. Это — мука двух миров, крест Гамлета, боль вышедшего из пазов времени, коллизия двух жизней. Тень пронесла мимо кинжал Гамлета над матерью — 439 она спасена, ее минута еще не пришла. Тень явилась воспламенить угасшую решимость Гамлета. Он боялся, что Призрак пришел укорять его за то, что, обуреваемый гневом и страстью, он медлит все же, сам не зная почему. Гамлет просит Тень не смотреть так скорбно, а то скорбь вместо крови зальет его слезами. Это обстоятельство глубоко важное, интимнейшим образом вплетенное в трагедию: Тень невероятно грустна, скорбна. Траурная скорбь Гамлета есть отражение, отблеск потусторонней, замогильной скорби — скорби нездешней, скорби иного мира, которой заразил его Призрак, не только не способствуя, таким образом, но препятствуя свершению мести. Это глубоко важно. Гамлет не «пессимист» вовсе в обычном смысле этого слова. Его скорбь не отсюда — опутывает и сковывает его неземная грусть. Здесь надо придать окончательное завершение роли Тени, как она рисуется из ее последнего явления. Связь Гамлета с отцом — не долг, не любовь, не уважение («Гиперион», «человек, во всем значении слова» и пр.). Это все земные чувства, умственные отражения связи. Это все на поверхности. Связь их на такой глубине, что голова кружится: связь эта в пьесе не мотивирована (почему Гамлет обязан исполнить завет Тени?), она просто обойдена молчанием — отец — сын, связь семейная, кровная, родительская, связь рождения и, следственно, всей жизни, связь мистическая. Гамлет не призван мстить (долг), не хочет мстить (чувство мести, любовь, уважение), он не вынужден мстить (рок) — он рожден исполнить что-то. Но здесь возможна одна соблазнительная ошибка, к которой могут повести недомолвки. Тень не единственная причина, не первопричина всех событий в пьесе, не последний двигатель ее механизма. Гамлет находится все время во власти чужой силы, чужой воли. Здесь возможна ошибка: во власти Тени — отсюда загробный характер трагедии, одноцентренность всей пьесы. Но это не так: во-первых, если бы это было так, если бы его рукой водила Тень, он убил бы сейчас по явлении Духа, а тут Тень все толкает его — что же сдерживает? Ведь мы говорили, что одно и то же и сдерживает и толкает; во-вторых, Гамлет не только отмщает, но и убивает Полония, Лаэрта, Гильденстерна, Розенкранца и губит себя, — а здесь Тень ни при чем, то есть, другими словами: 440 Тень не господствует над всей фабулой, не охватывает ее всю, фабула пьесы шире ее роли, она сама подчинена фабуле, которая охватывает и ее — так Гамлет, передавая трон Фортинбрасу, тем губит победу отца. Сама Тень подчинена тому же в трагедии, чему подчинено все и во власти чего находится Гамлет, — «так надо трагедии». Если бы это было верно, «Гамлет» был бы частный случай трагедии рока (рок — отец) — и весь смысл пьесы был бы иной. Но это не так. Сама Тень, ее явления, ее роль имеют определенное и все же хоть и значительное, но ограниченное, узкое место в трагедии и подчинены ее фабуле. Это есть иногда (в определенных случаях и через Гамлета, который помнит о Тени, связан с ней) передаточный механизм трагедии, отсюда роль Тени в «отражениях» на ход событий через Гамлета. Но не ее воля, не воля Тени господствует здесь; она сама подчинена, как и все здесь, иной воле, воле трагедии. Гамлет уговаривает мать: «Покайтесь в содеянном и берегитесь впредь». Но один вопрос королевы: «Что же теперь мне делать?» — показывает, что она еще вся здесь, грядущее неотвратимо и неизбежно, королева не исправится, позор есть и несмываем — в этом смысл трагедии: неотвратимость, неисправимость, неискупимость — она погибнет. Слова его, отвергающие его прежние кинжалы, все пропитаны насквозь, насыщены предчувствием неотвратимой неизбежности гибели: королева все откроет и, как в басне (опять!), сама неотразимо погибнет.
Гамлет
Еще вы спрашиваете? Тогда
И продолжайте делать что хотите.
Ложитесь ночью с королем в постель
И в благодарность за его лобзанья,
Которыми он будет вас душить,
В приливе откровенности сознайтесь,
Что Гамлет вовсе не сошел с ума,
А притворяется с какой-то целью.
Гамлет полон смутных предчувствий, исправиться нельзя, гибельное, катастрофическое нарастает, оно неотвратимо, королева погибнет: будет хуже. Королева говорит, когда Гамлет видит Призрак: «С ним припадок». Вот в чем его безумие: в его безумии, в его душе отпечатлелась линия гибели королевы. Он ее не уговаривает 441 вернуться на путь добра — в этом смысл всякой трагедии, — возврата нет. Вообще вся фабула трагедии, все ее события отмечены (намечены) линиями в душевном состоянии Гамлета — есть полное и странное соответствие его души и фабулы, событий и чувств, так что в зависимости от событий, которые эти чувства впоследствии возбудили, самые чувства получают иной отблеск — они светятся отблеском трагического пламени. В его душе можно найти линию каждого события, точно они нарастают через его душу, линию предчувствия, но всегда сознанного, но и линию совершения (его душа есть источник мистического в пьесе): так, его скорбь есть душевная линия его собственной смерти, печать гибели; его ирония, в которой есть кое-что побольше, чем простая насмешка, есть тоже нечто убийственное, роковое, трагическое, линия гибели, — убийства окружающих, которым он глубоко и трагически враждебен (Гильденстерн, Розенкранц, Полоний), это не простое издевательство над ними, в нем есть что-то опасное, что губит всех, сталкивающихся с ним; его любовь — душевная линия гибели Офелии; обличительные слова и, главное, отказ от них (см. выше) — линия гибели матери; враждебность к королю — линия его гибели. В зависимости от линии (активности или пассивности) стоит и самое событие. Здесь, собственно, и намечаются эти линии. Но дело в том, что есть линии не прямо, не непосредственно приводящие к событию, а косвенно. Таковы отношения его к Офелии. Мы говорили уже о его любви до явления Духа. Там все ясно: он клялся ей, что он ее, пока «эта [машина] принадлежит ему». Как только «эта [машина]» вышла из-под его власти, он с ней безмолвно прощается124. Все время он ее любит, но об этом в пьесе почти ни слова — лучший пример невыразимости его ощущений. Для Гамлета, отмеченного траурной скорбью не отсюда, нет женской любви. Любовь, вся в мире, он вне мира; а его душе нет ей места. Недаром Полоний и Лаэрт боялись этой любви (линия ее гибельности). Гамлет сам предчувствует гибельное, убийственное влияние своей любви: она убьет Офелию.
Гамлет. О Евфай, судья Израиля, какое у тебя было сокровище!
Полоний. Какое же сокровище было у него, милорд?
442 Гамлет. А как же, «единственную дочь растил и в ней души не чаял».
Полоний (в сторону). Все норовит о дочке!
Гамлет. А? Не так, что ли, старый Евфай?
Полоний. Если Евфай — это я, то совершенно верно: у меня есть дочь, в которой я души не чаю.
Гамлет. Нет, ничуть это не верно.
Полоний. Что же тогда верно, милорд?
Гамлет. А вот что: «А вышло так, как бог судил, и клад как воск растаял». Продолжение, виноват, — в первой строфе духовного стиха… (II, 2).
Гамлет не кончает: но каким предчувствием неотвратимой предопределенности дышат его слова — единственная дочь Евфая пала жертвенной смертью за отца — не такова ли судьба Офелии — до чего глубоко вросшее в пантомиму трагедии предвидение. Гамлет, убивши ее отца, убил и ее. После безмолвного прощания, которое определяет все — и любовь, и разрыв, и отказ от нее, Гамлет встречается с Офелией два раза: раз на свидании, устроенном королем и Полонием, раз на представлении. В обоих случаях ясно, видна глубокая сплетенность общей трагедии Гамлета с его любовью к Офелии. Офелия и ее судьба не посторонний эпизод в пьесе, а глубоко вплетена в самую пантомиму трагедии, — но об этом особо. Гамлет после «быть…» говорит: «Офелия! О радость! Помяни мои грехи в своих молитвах, нимфа» (III, 1).
Офелия — это молитвенное начало в пьесе, в трагедии — ее преодоление, ее завершение: и это особенно важно, что к ней с такими словами обращается Гамлет. Он чувствует всегда свою греховность перед Офелией. Это вообще чрезвычайно важное обстоятельство, глубочайшее по значению: он сам относится к себе почти с отвращением, граничащим подчас с гадливостью. Он не только отрешен от людей и к ним так относится — он отрешен от самого себя и к себе относится так же. Он говорит: «Себя вполне узнаешь только из сравнения с другими», — когда Озрик хвалит Лаэрта. Отношения к Офелии вообще очень туманны: любовь их есть весьма существенная сторона пьесы, а между тем нет ни одной сцены в ней любовной или вообще между ними обоими, где бы они сошлись сами, — в высшей степени характерно для трагедии. Офелии говорит он злые слова о целомудрии и красоте.
443 Гамлет. … Прежде это считалось парадоксом, а теперь доказано. Я вас любил когда-то.
Офелия. Действительно, принц, мне верилось.
Гамлет. А не надо было верить. Нераскаян человек и неисправим. Я не люблю вас.
Офелия. Тем больней я обманулась.
Гамлет. Ступай в монастырь. К чему плодить грешников? Сам я — сносной нравственности. Но и у меня столько всего, чем попрекнуть себя, что лучше бы моя мать не рожала меня. Я очень горд, мстителен, самолюбив. И в моем распоряжении больше гадостей, чем мыслей, чтобы эти гадости обдумать, фантазии, чтобы облечь их в плоть, и времени, чтобы их исполнить. Какого дьявола люди, вроде меня, толкутся меж небом и землею? Все мы кругом обманщики. Не верь никому из нас. Ступай добром в монастырь. Где твой отец?
Офелия. Дома, милорд.
Гамлет. Надо запирать за ним покрепче, чтобы он разыгрывал дурака только с домашними. Прощай (III, 1).
Я любил тебя — я не любил тебя: с этим мы остаемся до конца пьесы. Он посылает ее в монастырь — зачем рождать? Его матери было бы лучше не рождать его. Здесь интимнейшая связь с его трагедией рождения и общий смысл пьесы прощупывается особенно ясно: зачем рождения, иди в монастырь. О себе его слова глубоко важны и значительны. Еще одна черта — вопрос об отце, и слова его ясно показывают, что Гамлет понял все:
«Затворись в обители, говорю тебе: “Ступай в монахини, говорю тебе! И не откладывай. Прощай… Довольно. На этом я спятил. Никаких свадеб. Кто уже в браке, пусть остаются в супружестве. Все, кроме одного. Остальные пусть воздержатся. Ступай в монахини!”»
Здесь в Гамлете душевная линия всей судьбы Офелии, в музыкальности его повторений уже все молитвенное, монашеское, монастырское безумие Офелии. Недаром так созвучны его повторения «в монастырь» с ее напевом безумия, ничего не значащим: «Hey nоn nоnnу, hey nunny» (IV, 5)27*, точно отзвук его бесконечных to a nunnery! — «в монастырь»125. В сцене представления Гамлет говорит Офелии колкости. В цинизме этого разговора есть что-то маскирующее126, что прикрывает, завешивает. Но ведь и завеса и маска в высшей степени характерны и важны. Здесь (Гамлет ждет представления, смотрит на сцену) слышится что-то 444 надрывное, что-то унизительно-отрадное и злое, когда позор души, грех сорвал все внешние приличия и стеснения, когда обнаженность души уже не цинична (это необходимо отметить — цинизм — пошлость, а у Гамлета в этих словах глубокая боль и надрыв души). Любовь, как косвенное утверждение жизни (начала жизни), рождения, браков, мира, всего, что отвергает трагедия, — ей нет места в душе Гамлета. Удивительно, что вся сцена на кладбище происходит над могилой Офелии. Это вообще глубоко связано со всей фабулой, но об этом дальше. Он спрашивает, чья это могила, но не узнает. После он видит похороны Офелии: «То есть как: Офелия?!» Гамлета раздражает риторика печали Лаэрта, он спрыгивает в могилу. И в могиле Офелии они схватываются, завязывается борьба. Это символическая сцена: подобно тому как пантомима в представлении показывает будущее содержание драмы, так эта сцена предвещает будущую роковую борьбу Лаэрта и Гамлета, их роковой поединок127. Кроме того, эта борьба в могиле Офелии символизирует ту потустороннюю, загробную сторону их борьбы, которую имеет их видимый поединок, — как удар вслепую, в занавеску, символизирует темноту и неясность, независимость от воли, слепость действий, направляемых оттуда. Гамлет стоит во время рокового их поединка уже в могиле и оттуда, уже будучи там, поражает короля, делает все, — но об этом особо.
Гамлет
Во
имя этой тени
Я соглашаюсь драться до конца
И не уймусь, пока мигают веки.
Королева
Во имя тени, сын мой?
Гамлет
Я
любил
Офелию, и сорок тысяч братьев
И вся любовь их — не чета моей.
Король и королева говорят: «Он вне себя… Не обращайте на него вниманья».
Это не риторическая фраза — «сорок тысяч…» — в стиле Лаэрта, которого Гамлет раньше пародирует: это совсем иное — он ее любил совсем не той, иной, неземной, особенной любовью, так что в нашем смысле, здешнем, он мог сказать: я не любил тебя, и все же он 445 и другое сказал: «я любил тебя» и еще: «как любовь сорока тысяч братьев не сравнится с моей» — он ее любил совсем не так, не просто сильнее брата, а иначе. Ведь он убил ее: трагической любовью убил. Здесь намечается линия убийства Лаэрта: с Лаэртом он схватывается сразу, их разнимают.
Лаэрт
Чтоб тебе, нечистый!
(Борется
с ним.)
Гамлет
Учись молиться! Горла не дави.
Я не горяч, но я предупреждаю:
Отчаянное что-то есть во мне.
Ты, право, пожалеешь. Руки с горла!
Здесь все: хотя он не пылок, не враждебен Лаэрту, в нем есть кое-что опасное, что губит всех, кто с ним сталкивается, чего Лаэрту надо бояться. Хотя Гамлет и любил его.
Гамлет
Лаэрт, откуда эта неприязнь?
Мне кажется, когда-то мы дружили,
А впрочем, что ж, на свете нет чудес:
Как волка ни корми, он смотрит в лес.
Он знает уже, что «на свете нет чудес», не в этом дело, любил ли он его: в нем есть что-то опасное, чего тот должен бояться. Чтобы закончить обзор событий до катастрофы, нам остается еще сказать об убийстве Гильденстерна и Розенкранца. Король после подслушанного разговора его с Офелией убеждается, что Полоний напал на ложный след и что Гамлет безумен не от любви, и решается послать его в Англию (раньше он сам просил его не ездить в Виттенберг) потребовать дань:
Он в Англию немедля отплывает
Для сбора недовыплаченной дани.
Быть может, море, новые края
И люди выбьют у него из сердца
То, что сидит там и над чем он сам
Ломает голову до отупенья (III, 1).
И только после представления и убийства Полония король объявляет об этом решении Гамлету и сам замышляет просить о казни Гамлета в Англии — это акт IV, сцена 3, а в сцене 4 акта III, то есть до этого — в сцене с матерью, Гамлет уже знает (немотивировано) то, что это не ошибка, а что и по замыслу короля раньше 446 он должен говорить с матерью, а потом, в случае неудачи, уехать, видно из слов Полония, сейчас после первого решения короля (акт III, сц. 4), который предлагает раньше попытку королевы выведать и только в случае ее неудачи — отправку в Англию. Король: «Быть по сему». И вот Гамлет знает заранее128.
Скрепляют грамоты. Два школьных друга
Уже давно запродали мой труп
И, торжествуя, потирают руки.
Ну что ж, еще посмотрим, чья возьмет.
Забавно будет, если сам подрывник
Взлетит на воздух. Я под их подкоп —
Чтоб с места не сойти мне — вроюсь ниже
И их взорву. Ну и переполох.
Когда подвох наткнется на подвох! (III, 4).
Два замысла, два подкопа сойдутся — он это знает, хотя у короля еще нет замысла вести его в пасть измены, да у него самого нет еще никакого замысла. Он в рассказе Горацио упоминает только о томительной тревоге в пути, которая открыла ему все, и там же, мгновенно, необдуманно (он это подчеркивает), он совершает все, — но и об этом ниже. Вся история с поездкой в Англию, которая рисует эту бездейственную борьбу Гамлета с королем — король хочет приказами, письмом убить Гамлета, — вне сцены, за кулисами, и так убивает Гамлет товарищей своих. Вся история происходит за кулисами, а здесь, на сцене только тени ее — о ней узнаем по письму Гамлета, сообщающему о его борьбе с пиратами и о том странном и необычное сцеплении обстоятельств и роковом совпадении событии, которые вернули Гамлета обратно129. Гамлет знает все, но он и не пытается противоречить — он просто повинуется королю, ему и в голову мысль не приходит отказаться от поездки — она нужна трагедии. Вот этот глубоко важный разговор: король сообщает ему, что он должен ехать в Англию (Гамлет знает это уже).
Гамлет
Как, в Англию?
Король
Да, а Англию.
Гамлет
Прекрасно.
Король
Так ты б сказал, знай наши мысли ты.
447 Гамлет
Я вижу херувима, знающего их. —
Ну что ж, в Англию, так в Англию! (IV, 3).
По дороге в Англию, на равнине Гамлет встречает войско Фортинбраса, идущее завоевывать клочок земли, не стоящий и пяти дукатов, ждущее пропуска через Данию.
Гамлет
Так в годы внешнего благополучья
Довольство наше постигает смерть
От внутреннего кровоизлиянья (IV, 4).
Гамлет еще не знает себя, он мучится крестной мукой безволия: опять остается один, опять сосредоточивается на себе, на своем бездействии — ведь все это время, всю трагедию он не действует, — почему? Это самое загадочное трагедии, ее центр.
Гамлет
Все мне уликой служит, все торопит
Ускорить месть. Что значит человек,
Когда его заветные желанья
Еда да сон? Животное — и все.
Наверно, тот, кто создал нас с понятьем
О будущем и прошлом, дивный дар
Вложил не с тем, чтоб разум гнил без пользы.
Что тут виной? Забывчивость скота
Или привычка разбирать поступки
До мелочей? Такой разбор всегда
На четверть — мысль, а на три прочих — трусость.
Но что за смысл без умолку твердить
О том, что должно, если к делу
Есть воля, сила, право и предлог?
Нелепость эту только оттеняет.
Все, что ни встречу. Например, ряды
Такого ополченья под командой
Решительного принца, гордеца
До кончиков ногтей. В мечтах о славе
Он рвется к сече, смерти и судьбе
И жизнью рад пожертвовать, а дело
Не стоит выеденного яйца.
Но тот-то и велик, кто без причины
Не ступит шага, если ж в деле честь,
Подымет спор из-за пучка соломы.
Отец убит, и мать осквернена,
И сердце пышет злобой: вот и время
Зевать по сторонам и со стыдом
Смотреть на двадцать тысяч обреченных,
Готовых лечь в могилу, как в постель,
За обладанье спорного полоской,
Столь малой, что на ней не разместить
Дерущихся и не зарыть убитых.
448 О мысль моя, отныне будь в крови,
Живи грозой иль вовсе не живи!
Гамлет сам не понимает, почему он не действует, когда у него есть и повод, и желание, и силы, и средства сделать, а он повторяет: надо это сделать. Что же удерживает его, почему он только «ест и спит», а не свершает? Вдохновленный божественным честолюбием, принц идет на смерть, на великие дела, а у Гамлета все есть, и все же он не действует. Почему? Этого он сам еще не знает, и это главная его мука. Раньше ему нужны были основания потверже, чтобы действовать; теперь он знает все — и все же не действует. Загадочность и необъяснимость его бездействия, непонятного ему самому, подчеркнуты в этой муке безволия удивительно ясно, и с этим надо считаться. Он принял решение: «мысль пусть будет кровавой», и все же продолжает путешествие. Гамлет рассказывает Горацио:
Мне не давала спать
Какая-то борьба внутри. На койке
Мне было, как на нарах в кандалах.
Я быстро встал. Да здравствует поспешность!
Как часто нас спасала слепота,
Где дальновидность только подводила.
Есть, стало быть, на свете божество,
Устраивающее наши судьбы
По-своему.
Горацио
На наше счастье, есть (V, 2).
Далее следует рассказ о вскрытии пакетов и о приказе, данном Гамлетом убить их [Розенкранца и Гильденстерна. — Ред.], причем он говорит, как он действовал:
Опутанный
сетями,
Еще не зная, что я предприму,
Я загорелся. Новый текст составив…
и т. д.
О печати он говорит так: «Ах, мне и в этом небо помогло!» Гамлет смотрит на это, как и на убийство Полония, — это было неизбежно, они ввязались между сильнейших бойцов, вступили в зачарованный круг трагедии.
Гамлет
Сами
добивались.
Меня не мучит совесть. Их конец —
Награда за пронырство. Подчиненный
449 Не суйся между старшими в момент,
Когда они друг с другом сводят счеты.
Гамлет смотрит на это, как на предопределенное событие, — есть божество, управляющее судьбами; обдуманный план не удается, а безрассудство спасает — это он узнал только теперь, почувствовав тайные законы событий, — вот где надо искать ответ на вопрос о плане героя и плане пьесы. Гибель двух придворных — и вся история с поездкой в Англию, которая здесь дана лишь в отзвуках, — глубоко значительна; она меняет Гамлета и короля, она последний толчок, непосредственно вызвавший катастрофу, но об этом ниже. Еще: гибель их не есть сторонний эпизод в пьесе, развязывающий только историю с поездкой и незначительный сам по себе, — она глубоко значительна и нужна для всеобщей гибели в трагедии — об этом свидетельствует то, что в последней сцене послы из Англии сообщают об их казни, в заключительный момент трагедии! После возвращения из Англии и, главное, этой истории отношения Гамлета к королю меняются коренным образом. Собственно, все эти события, которые мы рассмотрели, были вызваны самым ходом действия трагедии во время бездействия Гамлета. Так что это действование не меняет основного характера его роли, — безволия, наоборот, подчеркивает его. Все это было совершенно побочно — ведь Гамлет не хотел вовсе, не поставил себе целью убить Гильденстерна, Полония и т. д. В главном — в отношении к королю — он бездействовал, и эти поступки только подчеркивают это: идя в Англию, он упрекает себя за неделание и пр. Гамлет изнывал в скорбной муке безволия — не понимал сам себя и пр. Об этом говорено выше. Теперь все это коренным образом меняется. Хотя и раньше, до отъезда в Англию, Гамлет говорил: все будут жить, кроме одного, и пр., после убийства Полония, которое случайно только не стало убийством короля, он говорит о червях, о том, что король может прогуляться по кишкам нищего, и пр. На просьбу Розенкранца: «Милорд, вы должны сказать нам, где тело, и пойти с нами к королю».
Гамлет. Тело во владении короля, но король не во владении телом. Да и какую роль играет тут король?
Гильденстерн. Король, милорд?
Гамлет. Не более чем ноль (IV, 2).
450 Но его угнетала крестная мука безволия, которого он не понимал, у него был план, было решение, было твердое намерение, — и он все же не свершал. Теперь совсем иное. Он еще, правда, все выискивает земные основания свершения, но до чего ясно, что не они решат все дело, а решит его совсем иное.
Гамлет
Вот
и посуди,
Как я взбешен. Ему, как видишь, мало,
Что он лишил меня отца и мать
Покрыл позором, и стоит преградой
Меж мною и народом. Он решил
И жизнь мою отнять! Не тут-то было!
Я сам сотру его с лица земли.
И все же, несмотря на все это, Гамлет вовсе не принимает и после этого определенного решения, ничего сам не предпринимает, не идет к свершению, а все свершается иначе.
Горацио
Он скоро о случившемся узнает
Из Англии.
Гамлет
Наверно.
А пока
Остаток дней в моем распоряженье,
Хоть человеческая жизнь и вся —
Чуть рот открыл, сказал раз, два — и точка.
Теперь безволия нет, теперь есть твердая уверенность, знание, что он воспользуется промежутком, образовавшимся вследствие истории с пиратами и его возвращения в Данию. Дело в том, что всем ходом событий трагедии образовался особый промежуток времени, роковой, фатальный «остаток дней», в который и свершается все, как предвидел Гамлет. Он чувствует, что он стоит уже на грани свершения воли трагедии (а не отмщения только, ибо он не только отмщает, а именно свершает все — все равно что сказать «раз»). Он уже не мучается мукой безволия. В его душе уже иная скорбь. Что же вызвало эту перемену? Мы не знаем. Знаем только, что ее не вызвало: не вызвал ее определенный план, взятое решение, обдуманное намерение — все свершается иначе, и сейчас, по свершении всего, приходят послы из Англии известить о казни, то есть «остаток дней» замыкается, и, следовательно, если бы не случилось все так, как оно произошло, Гамлет не убил бы короля — 451 ибо он вовсе не шел убивать его, а, напротив, шел навстречу желаниям его; этот же разговор и приход послов, то есть весь остаток дней — происходит в течение одной сцены. Озрик предлагает Гамлету поединок с Лаэртом, задуманный королем, просто состязание на рапирах. Гамлет предчувствует все. У него срывается: «А если я отвечу: нет?» — последнее колебание — удивительная черта. Но он соглашается. Видимо, это просто дворцовая забава, и, соглашаясь на нее, Гамлет не только не имел в виду во время нее привести в исполнение свое намерение (на это указывает не только отсутствие всяких намерений с его стороны — он об этом ничего не говорит, — но и анализ последней сцены, ниже, которая показывает, как Гамлет совершил все — после того, как Лаэрт открыл ему все, после смерти королевы, уже будучи сам убит и убив Лаэрта, то есть непредвиденно, необдуманно; да он ведь не только убил короля — смысл сцены в катастрофе в ее целом, но об этом ниже, но не мог опасаться даже ничего). Все же он предчувствует все. Перед поединком он даже мирится с Лаэртом (не только по просьбе короля, он сам жалеет, что обидел его, — его слова об этом Горацио).
Гамлет
Собравшиеся
знают, да и вам
Могли сказать, в каком подчас затменье
Мое сознанье. Все, чем мог задеть
Я ваши чувства, честь и положенье,
Прошу поверить, сделала болезнь.
Ответственен ли Гамлет? Нет, не Гамлет.
Раз Гамлет невменяем и нанес
Лаэрту оскорбленье, оскорбленье
Нанес не Гамлет. Гамлет — ни при чем.
Кто ж этому виной? Его безумье.
А если так, то Гамлет сам истец
И Гамлетов недуг — его обидчик.
Здесь весь Гамлет: он страдает тяжелой болезнью; в убийстве Полония, в схватке с Лаэртом он отрешен от самого себя, он сделал это (все вообще), не быв самим собой; это сделал не Гамлет; его странная рассеянность, которая отдает его во власть какой-то силы, его безумие, его «затменье». Король и королева говорят об убийстве Полония, да и обо всем можно сказать то же:
Королева
Рвет
и мечет, как прибой,
Когда он с ветром спорит, кто сильнее.
452 В бреду услышал шорох за ковром
И с криком: «Крысы!», выхватив рапиру,
Убил одним ударом старика,
Стоявшего в засаде.
Король
В горячке принц Полония убил… (IV, 1).
Таковы все его поступки: он все время в течение всей трагедии punish’d with sore distraction — он все время отъединен от самого себя, — he’s not himself, и обо всем он может сказать: «оскорбленье нанес не Гамлет, Гамлет — ни при чем»28*. Безумие — враг Гамлета, его крест; он жертва своей «рассеянности». Вот смысл Гамлета во всей трагедии: сам Гамлет будто «вынут из самого себя», «невменяем», отсутствует все время, и, будучи не самим собой, он все время не здесь, это все «не Гамлет», Hamlet does it not, etc. Вот высшая отъединенность от самого себя. Он все время чувствовал себя, как узник в оковах, — он скован все время. Гамлет сам не свой, не — Гамлет, он «вынут из себя», он во власти своего безумия, кто-то другой, чья-то неведомая рука совершает все это — не Гамлет. В этом все, весь смысл Гамлета. Теперь, перед поединком, Гамлет предчувствует все. Наступает роковой «остаток дней». Гамлет весь меняется. «Есть Божество», — говорит он после убийства Полония. Он весь иной; и хотя он не идет с намерением свершить все на поединке (это особенно важно подчеркнуть), — безволия нет.
Горацио. Вы проиграете заклад, милорд.
Гамлет. Не думаю. С тех пор как он уехал во Францию, я постоянно упражнялся. А тут еще льгота в мою пользу. Я выиграю. Но не поверишь, как нехорошо на душе у меня! Впрочем, пустое.
Горацио. Нет, как же, добрейший принц!
Гамлет. Совершенные глупости. И вместе с тем какое-то предчувствие, которое остановило бы женщину.
Горацио. Если у вас душа не на месте, слушайтесь ее. Я пойду к ним навстречу и предупрежу, что вам не по себе.
Гамлет. Ни в коем случае. Надо быть выше суеверий. На все господня воля. Даже в жизни и смерти воробья. Если чему-нибудь суждено случиться сейчас, значит, этого не придется дожидаться. Если не сейчас — все равно этого не миновать. Самое главное — быть всегда наготове. Раз никто не знает своего смертного часа, отчего не собраться заблаговременно? Будь что будет!
453 Глубочайше потрясающий разговор. Гамлет предчувствует, что надвигается страшное, он знает, что заклад он выиграет — он упражнялся беспрестанно (по количеству ударов впоследствии это именно так), но у него невыразимо тяжело на сердце. Это скорбь — предчувственное переживание своей смерти130, но это ничего, он презирает предчувствия не потому, что не верит им, — у него пророческая душа, и он все предчувствует заранее131 — и это самое глубокое и важное. До явления Тени он чувствует, что есть что-то недоброе, во время разоблачения он говорит «о, дух прозренья», предчувствует гибель Офелии, Гильденстерна и Розенкранца — «тюрьма», Лаэрта — «есть кое-что опасное», королевы — «сама погуби себя…», узнает тайну придворных, подосланных королем, подслушивание Полония, тайну пакетов, отъезд в Англию, — все решительно — в этом смысл взаимоотношения его роли и фабулы пьесы. Теперь он предчувствует катастрофу в поединке — роковую минуту трагедии, «остатка дней». Как эта минута, это чувство минуты определено здесь: теперь — так, не после; не после — так теперь; а не теперь — так, наверное, после. Все совершается в свою минуту. Без воли провидения не погибнет и воробей. Быть готовым — вот все. Вот все. Этого нельзя комментировать: это все. Таково состояние Гамлета теперь, таково его чувство роковой минуты, катастрофического «остатка дней». Он ощущает под влиянием неотразимых предчувствий, такой скорбной тяжестью залегших в его сердце, в своей душе высшую готовность132. Быть готовым — вот все. Гамлет готов. Не решился, а готов; не решимость, а готовность. Вот отчего нет больше непонимания себя, упреков, осуждения, несмотря на то, что он не идет исполнить свое намерение, — что особенно важно еще и еще раз отметить и подчеркнуть.
Гамлет предчувствует в томящей скорби, что минута пришла, срок исполнился, час пробил (вот отчего нет безволия больше!), роковой, трагический «остаток дней», отведенный самой трагедией (всем ходом действия, всем фатальным сцеплением крупных и мелких случайных событий образованный «промежуток времени») для совершения всего, замыкается.
Он готов: пусть будет — Let be!
454 VII
Если мы сравним Гамлета, его положение и роль в пьесе с магнитной стрелкой, находящейся в поле действия магнитных сил, в водовороте — невидимыми нитями протянутыми через трагедию и направляющими ее, — то остальных действующих лиц в пьесе надо сравнить с железными, ненамагниченными стрелками, попавшими в то же поле: направляющее влияние магнитных сил (лежащих за сценой) сказывается непосредственно в Гамлете, но через него их действие передается и «ненамагниченным» остальным лицам; как магнитная стрелка магнетизирует железные, так Гамлет заражает всех трагическим. В этом смысле его роль центральная в пьесе, — трагедии остальных лиц показаны как бы вполоборота, в намеках, в штрихах, с той только стороны, которой они обращены к Гамлету; сами же по себе они протекают в стороне от главного русла пьесы. И нас они все могут интересовать только с этой стороны (той, которой они обращены к Гамлету), на которой отражается действие «магнитных» сил трагедии, которая озаряется отблесками трагического пламени. Из этого уже ясно, что не «характеристика» их нужна нам, а только уяснение их места и значения в трагедии, поскольку это необходимо для того, чтобы наметить ход действия трагедии и выявить ее смысл в целом, отражение и преломление в них магнитных лучей. Прежде всего, переходя к другим действующим лицам, необходимо отметить резкую грань, отделяющую Гамлета от них, — это совсем иные люди, два мира в трагедии: Гамлет и остальные, ночь и день в драме. Гамлет подлинно трагический герой, герой трагедии, носитель ее начала, и поэтому эта пьеса есть именно трагедия о Гамлете, принце Датском. У остальных действующих лиц есть драматические коллизии (не у всех), борьба с внешними и внутренними препятствиями, одним словом, все те моменты переживаний, которые характерны для драмы и могли бы каждое из этих лиц сделать героем самостоятельной, отдельной драмы; это суть лица драматические в пьесе по смыслу роли и по качеству переживаний. Но нам интересны не сами по себе отдельные драмы этих лиц, как бы выделенные из трагедии, а только падающий 455 на них отсвет, отблеск трагического пламени, который делает их из возможных героев отдельных, выделенных драм — трагическими жертвами трагедии о Гамлете.
Прежде всего по силе и яркости трагического отблеска невольно нужно остановиться на Офелии. Образ Офелии глубоко необходим трагедии, без него она не полна, не имеет своего смысла. Этот достигший последних глубин поэзии и запечатленный их неземным пламенем образ как бы господствует над всей трагедией, над ее «музыкой», составляя постоянный, слышимый все время ее «подголосок», аккомпанемент тихо, на много нот ниже основной мелодии, звучащей под (над) ней. Трагедия Офелии та же, что и трагедия Гамлета, но в ином воплощении, в ином проявлении, в иной проекции, в ином отражении — или, лучше сказать, в иной лирике, в иной музыке. Вот эта лирика ее трагедии (лирикой трагедии мы называем глубоко лирическое по существу переживание героем своей трагедии, то есть то, как Офелия сама переживает свою трагедию) составляет под легким покровом высшей поэзии самое глубинное место трагедии. Офелия связана с фабулой пьесы двояко (и тем самым двумя истоками входит в главное русло пьесы, но есть у нее и особое русло своей трагедии, которое, видимо, не соединяется с общим, но внутренне глубоко ему родственно, кровно с ним связано): через то же мистическое начало своей жизни, рождение связью кровной, семенной, убитым отцом, начало отцовства, и через Гамлета — мистической связью любви (мы имеем в виду здесь наметить «магнетические» связи, а не формальные, внешние). Первое — это и есть основная тема всей трагедии133 — общая ее трагическая почва: Гамлет, Офелия, Лаэрт, Фортинбрас — все это трагические дети умерших отцов; тема этих образов одна; почва их — трагическая, общая; но тема разработана в четырех образах, из которых глубоко важен каждый, но наиболее интересен после Гамлета — один. Второе — через любовь Гамлета связывает ее со всей семейной трагедией его, с королевой-матерью, и, таким образом, связывает этих двух женщин в пьесе — мать и невесту Гамлета, не ставшую женой и матерью. И грех королевы, грех матери, отозвался в ней, в невесте, — прекращением 456 брака, отказом от рождения, материнства. И оба эти — внутренне связаны между собой в своем интимном переплетении. Офелия обрисована очень смутно, неуловимо; это один из самых неисчерпаемо-глубоких и сокровенно-очаровательных по силе чистой поэзии образов. Но все же обе эти связи можно свести к одной в драму Офелии, любящей трагического Гамлета, вплетается через Гамлета (ибо обе нити идут через него — убитый отец и любовь!) «магнетическая» нить, которая бросает на всю ее драму особый отблеск, связывает ее всю и притягивает к гибели. И брат и отец глубоко чувствуют гибельность любви Гамлета, волнуемые смутным ощущением ее трагической основы («Гамлет — раб рождения» etc. см. гл. II). Офелия сама говорит на вопрос отца: «Не знаю я, что думать мне…» (I, 3). Офелия знает один ответ на требования отца порвать с Гамлетом: «Я повинуюсь». Момент глубоко важный (сравни с Гамлетом — поездка в Виттенберг, Англию), указывающий в проекции на житейско-семейные отношения, ее податливость, покорность (готовность) «магнитным» нитям, мистическую сущность ее глубоко пассивной, женской души. Гамлета, пришедшего прощаться, — она все еще не знает, что думать, не понимает, — она испугалась: «Боже правый! В каком я перепуге». И на вопрос отца: «От страсти обезумел?» — Офелия: «Не скажу, но опасаюсь» (II, 1). Вот, хоть она и не знает, что думать о нем, она почувствовала все — она ужаснулась, она боится. Ее рассказ об этой сцене должен быть положен в основание всего Гамлета. Королева хочет, чтоб она стала женой Гамлета:
Я
вам желаю,
Офелия, чтоб ваша красота
Была единственной болезнью принца,
А ваша добродетель навела
Его на путь, к его и вашей чести (III, 1).
И над могилой — опять то же самое. Первая ее мука — это любовь Гамлета. После подстроенного свидания с ним она прямо говорит: все, все погибло. И свою муку она определяет, как воспринимание трагедии Гамлета (слышать разногласящую игру колокольчиков и т. д. — см. выше), как отражение его трагедии: «Боже мой! 457 Куда все скрылось? Что передо мной?» В этом ее трагедия, но это еще не воплотившаяся трагедия: она есть отраженная трагедия Гамлета, и это надо выявить. Еще один глубоко важный «лирический момент»: Офелия молится за него — он просил ее помянуть свои грехи в молитвах?
Офелия. «Святые силы, помогите ему! Силы небесные, исцелите его!» Это молитвенное в Офелии, что возвышается над трагедией, и завершает и преодолевает ее (ср. солдаты: Горацио. «Небо да сохранит его!» Марцелл. «Да будет так» (I, 1)). Это молитва за Гамлета, но об этом дальше. Образ ее обрисован в высшей степени неуловимо. В этой сцене, как и в сцене представления, она почти не говорит, только подает реплики, поддерживая разговор, и эта ее невысказанность134 в трагедии придает немало очарования ее роли: вся она полусвет, полутень. И этот незначительный характер ее разговора (только реплики) весьма замечателен. Это Офелия до безумия. Ее трагедия начинается тогда, когда Гамлет убивает ее отца. Здесь оба русла ее трагедии соединяются: трагическая любовь Гамлета и убийство им же отца. Это сводит ее с ума и убивает впоследствии, ведет к гибели. Недаром Гамлет назвал ее отца Евфаем — есть в ее смерти что-то жертвенное (за отца и вообще), как было молитвенное в ее безумии. Связь с иным миром через убитого отца, смерть которого по мистической связи отдается в дочери, проявляется у нее тоже в «ином бытии», в безумии. Офелия в безумии является к королеве — это глубоко замечательно: точно в ней отозвался грех королевы, который она искупает. Недаром Гамлет прямо связывает мысль о позоре матери с разрывом с невестой: «имя женщины — хрупкость» — смысл его разговора, недаром он посылает ее в монастырь; браков больше не будет, не надо рождений, она умирает небрачной — искупительной, жертвенной смертью в трагедии. Прежде чем появиться, она опять является в рассказе придворного королеве.
Королева
Я не приму ее.
Горацио
Она
шумит.
И в самом деле, видно, помешалась.
Ее так жалко!
458 Королева
Что
такое с ней?
Горацио
Все тужит об отце, подозревает
Во всем обман, сжимает кулаки,
Бьет в грудь себя и плачет и бормочет
Бессмыслицу. В ее речах сумбур,
Но кто услышит, для того находка.
Из этих фраз, ужимок и кивков
Выуживает каждый, что захочет,
И думает, нет дыма без огня,
И здесь следы какой-то страшной тайны (IV, 5).
Вот ее безумие — плачущее, темное, видимо бессмысленное, но самая бессвязность которого весьма глубока, пересыпанная бредом об отце, биением в грудь, жестами, — все оно наводит на мысль, что в нем есть что-то хоть и неопределенное, но ужасное. Нигде так слово не бессильно, даже в Гамлете, как в сценах безумия Офелии — это глубины поэзии, ее последние глубины, не освещаемые ни одним лучом; свет этого безумия — необычный и странный — неразложим135. Все впечатление совершенно непередаваемо. Ее безумный бред переплетает Гамлета и отца. Здесь тоже видение отца, его тени, она видит старика с белыми волосами. В ее безумии — все о смерти и саване. Король говорит: «Воображаемый разговор с отцом».
Офелия. Об этом не надо распространяться.
Король. Скорбь об отце свела ее с ума.
Есть в ее безумии, в самом тоне ее речи, замедленно-ритмическом, что-то скорбно-молитвенное: ее песенка о пилигриме, который пошел по святым местам босиком и во власянице, и о его смерти:
Помер, леди, помер он,
Помер, только слег,
В головах зеленый дрок,
Камушек у ног.
Офелия — молитвенное начало в трагедии:
Офелия. Хорошо, награди вас бог… Вот знай после этого, что нас ожидает. Благослови бог вашу трапезу!.. Надеюсь, все к лучшему. Надо быть терпеливой. Но не могу не плакать, как подумаю, что его положили в сырую землю… Поворачивай, моя карета! Покойной ночи, леди. Покойной ночи, дорогие леди. Покойной ночи. Покойной ночи.
Как сходит на нее тень смерти: в самом ритме этих слов есть что-то невыразимо трогательное, просветленное 459 слезами, вознесенное в печали, нежно-молитвенное, самое женское.
Лаэрт говорит:
Когда отцов уносит смерть, то следом
Безумье добивает дочерей.
Любовь склонна по доброй воле к жертвам
И платит самой дорогой ценой
Дань нежности умершим.
Вот смысл ее безумия — непонятный смысл.
Hey nоn nonny, nonny, hey nonny… You must sing «Down a-down, and you call him a-down-a». O, how the wheell decomes it.
Вот ее припев: точно тень смерти уже осенила ее — небрачную, обреченную монашенку. Сцена с цветами непередаваема: символика цветов так близка ее безумию, что цветы — его единственный язык.
Лаэрт
Болезни, муке и кромешной тьме
Она очарованье сообщает.
И недаром королева, осыпая ее могилу, ее девственный гроб цветами, говорит, разбрасывая цветы: «Нежнейшее — нежнейшей. Спи с миром» (V, I), и Лаэрт говорит: «Опускайте гроб! Пусть из ее неоскверненной плоти взрастут фиалки!» Чистота ее девственного, отказавшегося от рождений, брака («неоскверненная»), образа — все связывается с цветами. В ее песне цветов вместе со скорбной мелодией тягучего аромата увядших со смертью отца фиалок звучит целая гамма запахов, ароматов. И эта молитвенная, певучая скорбь смерти, где уловлен самый внутренний ритм слез, их душа, их интимное:
Неужто он не придет?
Неужто он не придет?
Нет, помер он
И погребен,
И за тобой черед.
А были снежной белизны
Его седин волнистых льны,
Но помер он, И вот
За упокой его души
Молиться мы должны,
И за все души христианские, господи помилуй!
Ну, храни вас бог (IV, 5).
460 Вот видение отца в песне. Об ее безумии можно сказать словами Лаэрта: «Набор слов почище иного смысла». В нем есть глубочайший (музыкальный), хоть и неизреченный смысл, что-то молитвенное звучит в ее скорби, напевах, цветах. В ее песнях об обманутой девушке — отголосок трагического изъяна, ведущего к гибели, отвергнутой любви, связавшей ее с Гамлетом, уподобляет это потере девичества — эта любовь сделала ее иной, обрекла смерти. Тень смерти пала на нее: магнитные нити трагедии связали и опутали. Опять в рассказе королевы туманный покров набрасывается на это.
Королева.
Лаэрт!
Офелия, бедняжка, утонула.
Лаэрт
Как, утонула? Где? Не может быть!
Королева
Над речкой ива свесила седую
Листву в поток. Сюда она пришла
Гирлянды плесть из лютика, крапивы,
Купав и цвета с красным хохолком,
Который пастухи зовут так грубо,
А девушки — ногтями мертвеца.
Ей травами увить хотелось иву,
Взялась за сук, а он и подломись,
И, как была, с копной цветных трофеев,
Она в поток обрушилась. Сперва
Ее держало платье, раздуваясь,
И, как русалку, поверху несло.
Она из старых песен что-то пела,
Как бы не ведая своей беды
Или как существо речной породы,
Но долго это длиться не могло,
И вымокшее платье потащило
Ее от песен старины на дно,
В муть смерти.
Лаэрт
Утонула!
Королева
Утонула!
(IV, 7).
Это удивительный рассказ: самая смерть ее (полусамоубийство!) глубоко изумительна: полугибель, полусамоубийство — сук обломился, но она шла навстречу смерти, пела отрывки старых песен, плыла с цветами, венками и утонула. Магнитные нити вплелись в ее венки и потянули книзу, она пошла. Итак, до конца пьесы остается нерешенным вопрос: неизвестно — сама ли она искала смерти, или погибла помимо своей воли. Эта 461 смерть на грани того и другого, когда то и другое сливается, когда нельзя различить, сама ли она утонула или не сама — последняя глубина непостижимости, последняя тайна воли и смерти. Так в рассказе королевы то и другое слилось. И в замечательном разговоре могильщиков, где под грубой диалектикой запутавшихся, мудрствующих мужиков, сбившихся в юридических тонкостях, с удивительной силой иносказательности вскрывается этот же, вопрос о смерти или самоубийстве, о неразделенности того и другого, — окончательная неразрешимость этого выявлена ясно (акт V, сц. 1). Во всяком случае, они говорят о самоубийстве. Гамлет там же говорит, видя похоронную процессию: «Как искажен порядок! Это знак, что мы на проводах самоубийцы». И священник говорит о погребении (могильщики тоже об этом).
Священник. Кончина ее темна… Мы осквернили б святой обряд, когда над нею реквием пропели, как над другими.
Что-то молитвенное было в ее скорби и безумии; что-то искупительное, жертвенное в смерти. Этот глубочайший образ отрекшейся от браков, рождений девственной Офелии, весь сотканный из скорби молитвенного безумия, из просветленного ритма слез, интимнейшей печальной нежности души, невестной, женской, девической, не только глубоко важен для «музыки трагедии» — он глубоко вплетен в самый ход действия. Недаром Лаэрт указывает на «действенное» влияние ее безумия.
Будь ты в уме и добивайся мщенья,
Ты б не могла подействовать сильней (IV, 5).
И недаром он говорит, как только видит ее:
Свидетель бог, я полностью воздам,
За твой угасший разум…
И еще поводы к мщению:
Лаэрт
Итак, забыть про смерть отца и ужас,
Нависший над сестрою? А меж тем —
Хоть дела не поправить похвалами —
Свет не видал еще таких сестер.
Нет, месть моя придет! (IV, 7).
И над ее гробом проклинает он Гамлета:
Трижды тридцать казней
462 Свались втройне на голову того,
От чьих злодейств твой острый ум затмился!.. (V, 1).
И здесь, на кладбище, перед гробом Офелии происходит вся сцена, точно образ мертвой Офелии носится над ней все время, — в ее могиле завязывается борьба Гамлета и Лаэрта, символизирующая их роковой поединок, который решил все, когда Гамлет, уже стоя в могиле (и Лаэрт тоже), будучи убит, — делает свое дело. Если вообще сцена на кладбище — первая сцена пятого акта — показывает кладбищенскую основу, «замогильную» сторону катастрофы, — вторая сцена того же акта (в обеих сценах происходит одно и то же — поединок Лаэрта и Гамлета, о смысле первой сцены — дальше, но смысл их первого поединка тот, что он происходит в могиле — во время рокового поединка они тоже оба стоят в могиле) связана с образом умершей Офелии, который возносится и над катастрофой, озаряя и ее иным светом. Трагедия Офелии, точно лирический аккомпанемент, который возвышается над целой пьесой, полный страшной муки невыразимости, глубочайших и темных, таинственных и сокровенных мелодии, который непонятным и чудесным образом выявляет и заключает в себе, — самое волнующее, самое намекающее и трогательно-больное, самое глубокое и темное, но самое преодоленно-просветленно-трагическое, самое мистическое в целой пьесе. Так трагедия переходит в молитву. Ее образ, сотканный из молитвенного безумия, ритмической слезности (то есть самой сущности слез) и удивительных теней полужеланной, полукатастрофической смерти, овеянной зеркальной печалью плачущей воды, и ивы, и венков, и мертвых цветов, — точно меняет тон всей скорби трагедии, заставляет ее звучать по-иному, преодолевает и просветляет ее; точно жертвенным, и искупительным, и молитвенным — придает религиозное освещение трагедии.
Но о религии трагедии — дальше.
VIII
Для выяснения общего хода действия трагедии, необходимого для рассмотрения катастрофы, остается еще сказать несколько слов об остальных действующих лицах: короле, королеве, Лаэрте, Полонии, Фортинбрасе, 463 Горацио и др. Образ королевы, матери Гамлета, непосредственно примыкает к образу Офелии. Она связана с завязкой трагедии, но и ее образ — женственно-расплывчатый, так что до конца пьесы остается совершенно невыясненным, знала ли она о преступлении ее мужа или нет136. Ее пугает скорбь Гамлета, она хотела бы помирить его с королем, с ней он делится своими планами, — так что она пассивно, недейственно сопутствует ему во всем в пьесе. И вместе с ним она неизбежно, не зная ни о чем, идет к гибели. Ей неизвестно, что Клавдий убил ее первого мужа, — она не посвящена в его замыслы — и в замысел убить Гамлета — и падает сама жертвой этого. Когда Полоний будто сыскал причину расстройства принца, она знает, что одна причина: смерть мужа и поспешный брак, в котором и она чувствует что-то преступное, и все же она еще обманывается и хочет увидеть счастье сына с Офелией, осыпать цветами их брачное ложе. В ее грехе есть какая-то наивность, которая ее и губит, — король предупреждает ее не пить, она настаивает и выпивает: в сцене представления, как и в сцене катастрофы, эта «наивность» греха ясна. «Что с его величеством?» — спрашивает она у короля, смущенного «мышеловкой» (акт III, сц. 2). Есть поэтому что-то страшное в ее гибели — она гибнет сама, ее никто не губит. Ее все же глубоко пугает безумие Гамлета, она чувствует его гибельность — во время разговора с ним она, видя «палившееся» в нем убийство, вскрикивает, что и губит Полония. И после слов-кинжалов Гамлета эта слабая и безвольная женщина приходит в ужас от того, что она так просто делала, не зная даже, что это — грех.
Королева. Что я такого сделала, что ты так груб со мной? … Нельзя ль узнать, в чем дела существо, к которому так громко предисловье? (III, 4).
Она должна выведать у Гамлета причину его скорби — таков смысл его свидания с ней, но вместо этого — слабая мать — она слушает упреки сына. Она приходит в ужас:
Гамлет,
перестань!
Ты повернул глаза зрачками в душу,
А там повсюду пятна черноты,
И их ничем не смыть.
… Ах, Гамлет, сердце рвется пополам!
464 И Тень говорит: мать в ужасе. Но после всего она спрашивает: «Что ж теперь мне делать?» — и это показывает, что делать ей нечего, ей нельзя спастись, и Гамлет говорит ей о гибели. Ее глубоко пугает безумие Гамлета.
Король
В глубоких этих вздохах что-то есть.
Нельзя ль перевести их попонятней?
Где сын ваш?
Королева
О,
что сейчас случилось! (IV, 1)
Но и тут она любит Гамлета:
Сквозь бред в нем блещут искорки добра,
Как золота крупицы в грубом камне.
Он плачет о случившемся навзрыд.
Безумная Офелия пугает ее — у нее все тяжкие вздохи.
Королева
Я
не приму ее.
… Больной душе и совести усталой
Во всем беды мерещится начало.
Так именно утайками вина
Разоблачать себя осуждена (IV, 5).
Она любит короля — это искренность греха, непосредственность, первоприродность его. В сцене, когда Лаэрт бросается с толпою черни на дворец, она не успокаивает его. «Но не король тому виной», — говорит она о смерти Полония. Горе она не предчувствует и придя объявить о смерти Офелии: «Несчастье за несчастьем…» (IV, 7). Она не только не замешана в убийстве Гамлета, она боится за него — во время схватки на кладбище она говорит Лаэрту: «Не трогайте его», И она защищает его:
Не обращайте на него вниманья.
Когда пройдет припадок, он опять
Придет в себя и станет тих, как голубь (V, 1).
И это она просит его помириться перед поединком с Лаэртом. Есть в ее образе, бездейственном, пассивном, что-то ужасное — эта слабость природы, греховность самого естества (рождающего, матери, дающего жизнь), его естественность и глубокая первоприродность. Ее греху нет объяснения — Гамлет прав — это не любовь, не расчет, какой-то черный демон, играя в жмурки, 465 толкнул ее, — это сам грех, ни для чего, сам по себе, в своей природной слабости и невинности. И есть поэтому что-то ужасное в ее неизбежной гибели. Ее влекут нити к гибели — неудержимо, неотразимо, на всем ее образе греховной невинности лежит отблеск страшного огня, который пугает ее и на ее душу налагает тяжкое бремя трагедии. Таков ее образ: на ее судьбе яснее всего общий закон трагедии — ее пантомимы, который господствует над всем действием и неизбежно ведет к катастрофе, в которой весь смысл трагедии: во время трагедии она не действует, она впутана в завязку трагедии (убийство), которая господствует над всей пьесой, я неизбежно подводится в развязке под завершающий, губительный меч катастрофы, занесенный над всей трагедией. И есть что-то странное в ее гибели — странен самый образ ее смерти, она гибнет, и как будто сама, случайно, и в то же время неизбежно, предопределенно еще с завязки трагедии (слова Гамлета о ее гибели): так все действующие лица пьесы, точно слепые лошади, ведут, сами того не зная, вертят роковое колесо трагедии, подпадая в конце концов под него и погибая137.
Король тоже изнемогает под тяжким бременем: он тоже связан с завязкой пьесы, братоубийца, и это делает его главным лицом развязки, катастрофы. Собственно, бездейственная борьба Гамлета с ним, в результате которой оба противника поражены насмерть, и составляет все содержание трагедии, главное русло этой, фабулы. Это те два сильнейших бойца, о которых говорит Гамлет и между которыми попадают и гибнут все остальные. Король в трагедии не преступник, его преступление совершено до трагедии. Он хочет теперь жить в мире с Гамлетом. Пьеса начинается с того, что он хочет уладить — и это, видимо, удается ему — и внешние отношения, расстроенные со смертью брата, я личные. Но в результате гибнет он и троном завладевает Фортинбрас. Но о политической интриге ниже. Он просит Гамлета отбросить скорбь — он чувствует в ней что-то недоброе, не обычную скорбь сына по отце, а нечто гибельное и ужасное. И все время тревога мрачная овладевает его душой. И хотя Гамлет ничего не предпринимает против него, но все же он все старается предупредить гибель, которую ощущает из его дел 466 и слов, и идет навстречу ей, влекомый магнитными нитями. В начале пьесы он думает, что еще все может пойти хорошо: согласие принца остаться при дворе смеется радостью в его душе, как радует его и желание принца устроить представление, развеселиться. Через Полония, Гильденстерна и Розенкранца он пытается выведать причину скорби Гамлета и сбить ее на другой путь, бороться с ней, развеселить Гамлета, — так что те, сами того не зная, попадают в круг борьбы, сами служат орудием короля, как и Лаэрт, и вместе с ним гибнут. Есть много сходного у этих трех лиц и в роли их всех в пьесе (ср. отношение Гамлета к другому придворному, Озрику, акт V, сц. 2, с отношением к Полонию — «облако-верблюд», акт III, сц. 2138). Только роль Полония и после смерти (ср. отец Гамлета) входит в фабулу — через Офелию, Лаэрта. О смерти Гильденстерна и Розенкранца (кстати, то, что делают они вдвоем, не мог бы сделать никто один: удивительный художественный прием139 — два придворных на одно лицо и роль их такая же) извещают в завершительный момент трагедии, что глубоко важно. Эта связанность их с королем и его судьбой — разговор обоих придворных в ответ на приказание ехать с принцем в Англию:
Гильденстерн
Священно в корне это попеченье
О тысячах, которые живут
Лишь вашего величества заботой.
Розенкранц
Долг каждого — беречься от беды
Всей силой, предоставленной рассудку.
Какая ж осмотрительность нужна
Тому, от чьей сохранности зависит
Жизнь множества. Кончина короля —
Не просто смерть. Она уносит в бездну
Всех близстоящих. Это — колесо,
Торчащее у края горной кручи,
К которому приделан целый лес
Зубцов и перемычек. Эти зубья
Всех раньше, если рухнет колесо,
На части разлетятся. Вздох владыки
Во всех в ответ рождает стон великий (III, 3).
Они вовлечены в борьбу вместе с королем, и они хотят с самого начала загнать Гамлета в тенета: поэтому гибель короля есть их гибель. Их роль и судьба в пьесе показывают нам это напряженное, гибельное поле меж 467 бойцов, скрестивших мечи, — поле, в котором гибнет все, что попадает туда. И недаром скорбь Гамлета так пугает короля. Он с тревогой выслушивает сообщении Полония: «О, не тяни. Не терпится узнать» (II, 2). Но все напрасно: придворным не удалось выведать причину его скорби, — надежда на актеров, на развлечения. Готовясь с Полонием подслушать разговор принца с Офелией, он говорит:
Полоний
Все
мы хороши:
Святым лицом и внешним благочестием
При случае и черта самого
Обсахарим.
Король (в сторону)
О,
это слишком верно!
Он этим, как ремнем, меня огрел.
Ведь щеки шлюхи, если снять румяна,
Не так ужасны, как мои дела
Под слоем слов красивых.
О, как тяжко! (III, 1).
Он изнемогает все время — медленно гибнет: все почти содержание сцен трагедии (разговоры Гамлета с Офелией, придворными, Полонием, матерью, даже актеры — все это устроено самим королем, и как и самая последняя сцена, которая его губит), весь почти ее механизм вызван тревогой, опасениями короля, которые ведут его к гибели. Так что он сам все время готовит свою гибель. Он идет к катастрофе не меньше, чем Гамлет, — он спешит к своей гибели сам, идет навстречу руке Гамлета. Все надежды падают: после разговора с Офелией он прямо говорит, что принц болен не любовью, что запало в его сердце семя, плод которого будет опасен; он решается послать его в Англию, соглашаясь все же, по предложению Полония, на разговор королевы с ним (это все толчки его действий: разговор с Офелией, решение послать в Англию; представление усиливает окончательное это решение; разговор с матерью и убийство Полония — решение погубить его в Англии, возвращение принца, заговор с Лаэртом). Глубоко важно отметить, что механизм движения действия весь в короле, а не в Гамлете; не будь его, действие стояло бы на месте, потому что никто, кроме него, ничего не предпринимает в пьесе, даже Гамлет, и все проистекает из действий короля, роль 468 Гамлета статическая в пьесе, не движущая, его поступки только вызваны поступками короля (убийство придворных), так что как начало действия (убийство отца Гамлета), так и весь механизм его дальнейшего движения — в нем; он главное действующее лицо, а не Гамлет. Раз корень всего действия в нем, очень важно установить, помимо общего очерка его образа, подавленного тяжким бременем, мотивы его действований: они всегда сводятся к одному — к смутной боязни, тревоге, опасениям скорби Гамлета; все они вызваны одним — предупредить несчастье; борьбу начинает король, и все они неизбежно влекут его к гибели. Но еще одно чрезвычайно важно: и у короля нет одного плана в течение всего действия, планы меняются, не удаются, выбираются новые, комбинируются с чужими (то Полония, то Лаэрта) — и в результате хоть он и действует, но как единственный мотив его действий, так и их характер ясно указывают, что и не план короля лежит в основе хода действия пьесы, что не он ее ведет, а она (фабула) — его, что у пьесы свой план, который господствует над его планами, употребляя их по-своему, что этот план пьесы неотразимо влечет короля к гибели, что, противодействуя ей, король выполняет сам план пьесы, подчиняется ему. Мудрость Гамлета, отсутствие у него плана, его пророческая готовность состоит в постижении плана пьесы, в полном подчинении ему. На представлении король выдал себя, выдал себя и Гамлет. Вот почему это перелом действия в пьесе.
Король
Я не люблю его и потакать
Безумью не намерен.
Надо ускорить его отъезд: «Пора забить в колодки этот ужас, гуляющий на воле» (III, 3).
Такой невероятной тяжестью бремени душевного проникнута его молитва — удивительное место трагедии:
Король
Удушлив смрад злодейства моего.
На мне печать древнейшего проклятья:
Убийство брата. Жаждою горю,
Всем сердцем рвусь, но не могу молиться,
Помилованья нет такой вине.
Как человек с колеблющейся целью,
Не знаю, что начать, и ничего
469 Не делаю. Когда бы кровью брата
Был весь покрыт я, разве и тогда
Омыть не в силах небо эти руки?
Что делала бы благость без злодейств?
Кого б тогда прощало милосердье?
Мы молимся, чтоб бог нам не дал пасть
Иль вызволил из глубины паденья.
Отчаиваться рано. Выше взор!
Я пал, чтоб встать. Какими же словами
Молиться тут? «Прости убийство мне»?
Нет, так нельзя. Я не вернул добычи.
При мне все то, зачем я убивал:
Моя корона, край и королева.
За что прощать того, кто тверд в грехе?
У нас нередко дело заминает
Преступник горстью золота в руке,
И самые плоды его злодейства
Есть откуп от законности. Не то
Там наверху. Там в подлинности голой
Лежат деянья наши без прикрас,
И мы должны на очной ставке с прошлым
Держать ответ. Так что же? Как мне быть?
Покаяться? Раскаянье всесильно.
Но что, когда и каяться нельзя!
Мучение! О грудь, чернее смерти!
О лужа, где, барахтаясь, душа
Все глубже вязнет! Ангелы, на помощь!
Скорей, колени, гнитесь! Сердца сталь,
Стань, как хрящи новорожденных, мягкой!
Все поправимо (III, 3).
Здесь весь король — он не может молиться, хотя и хочет, разве нет у неба милосердия, чтобы простить даже ужаснейшее преступление (это постоянная молитвенностъ трагедии, обращение действующих лиц к богу трагедии, который неотразимо ведет их к гибели), разве павший не может быть прощен? Но молитва ему не может помочь — в религии трагедии нет прощения, нет искупления, нет молитвы, нет возврата; там один обряд — жертва жизни, смерть, есть неотразимость гибели, — в этом смысл трагедии. Нет раскаяния — последние слова молитвы короля передают весь ужас мрачного отчаяния души, силящейся освободиться и вязнущей еще глубже, — страшное это состояние; он еще надеется на молитву: «все поправимо». Но во время его безмолвной молитвы над ним занесен меч Гамлета — таков смысл трагедии, — которому еще не пришла минута упасть, но который неизбежно упадет в назначенный час. Молитвы нет:
470 Слова парят,
а чувства книзу гнут,
А слов без чувств вверху не признают.
Это метание в агонии, это погрязшая, вязнущая в ужасе душа короля — глубоко необходимый образ пьесы, эта невозможность молитвы — ее необходимо-глубокая черта. Теперь король знает свою гибель: он еще будет бороться, но этим только сам вызовет и ускорит ее. Убийство Гамлетом Полония пугает его:
Быть
не может!
Так было б с нами, очутись мы там.
Что он на воле — вечная опасность
Для вас, для нас, для каждого, для всех (IV, 1).
Он чувствует, что в убийстве Полония он уже убит. Он боится, что в убийстве Полония обвинят его. Гибель надвигается.
Душа в тревоге и устрашена.
Вот как опасен он, пока на воле…
Сильную болезнь врачуют сильно действующим средством (IV, 3).
И только просьба погубить принца в Англии — вся его надежда:
Исполни это, Англия! При нем
Я буду таять, как в жару горячки.
Избавь меня от этого огня.
Пока он жив, нет жизни для меня.
Беды идут одна за другой: мщение Лаэрта сперва обращено против короля.
Король
Повалят беды, так идут, Гертруда,
Не врозь, а скопом…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Эти
страхи
Меня, Гертруда, стерегут везде
И подсекают, как осколки ядер (IV, 5).
Удар Лаэрта не только отвращен, но и обращен против Гамлета — они естественные союзники, у них один враг, у них общее дело:
Король
Теперь ваш долг принять меня в друзья
И в сердце подписать мне оправданье.
Вы видите, тот самый человек,
Который вас лишил отца, пытался
Убить меня (IV, 7).
471 Письма Гамлета открывают неудачу первого плана140. Он избирает орудием своим Лаэрта.
Король
Я буду направлять вас.
Лаэрт
Направляйте.
Но только не старайтесь помирить.
Король
Какой там мир! Напротив. Он вернулся,
И вновь его так просто не ушлешь.
Поэтому я новое придумал.
Я так его заставлю рисковать.
Что он погибнет сам, по доброй воле.
Его конец не поразит молвы,
И даже мать, не заподозрив козней,
Во всем увидит случай.
Лаэрт. Государь, Вы можете воспользоваться мною для вашей цели.
Король. Все идет к тому.
Два плана замышлены сразу: один, обернувшись своим острием, погубит Лаэрта, один королеву, и оба упадут на короля — отравленная шпага, поражающая Гамлета, и отравленный кубок. Признавая мщение Лаэрта за отца, соединяясь с ним и помогая ему отмстить за убийство отца, король этим самым сам заносит над собой меч Гамлета, тоже мстящий за убитого отца. И о схватке на кладбище в могиле Офелии он говорит: «Все идет к развязке» (V, 1). Нити завязаны, узел затянут — он разрешится гибельно.
Лаэрт, который согласился быть орудием короля, занимает странное место в трагедии. Его роль, видимо, та же, что и Гамлета, оттеняет полную противоположность их и всю безвольность Гамлета: он тоже мститель за убитого отца, гибнущий и отмщающий вместе. Но он составляет полную противоположность Гамлету, и в этом смысл его роли — в контрасте их обоих, в нем то, чего нет в Гамлете. Он юноша, живущий во Франции и пользующийся молодостью, — как все; он весь здесь, он пользуется счастливым мгновением, как советует ему король. Его пугает любовь Гамлета к Офелии, и он предчувствует что-то недоброе. Из разговора Полония и Рейнальдо (акт II, сц. 1) мы узнаем, как живет Лаэрт, это сцена контраста Гамлету: все это к нему неприложимо, все это по контрасту рисует его. Игра, кутеж, разврат — обычные, по Полонию, недостатки 472 пылкости и легкомыслия, свойственных молодости, это «брызги свободы, вспышки, взрывы пылкого характера, бурливость необузданной крови» — все то, что не может быть связано даже в воображении с Гамлетом: попойки, кутежи, игра, посещение «зазорных домов разврата» — все то, что хоть и осуждается, но делается всеми, и право на что признается за молодостью. После убийства отца он совершенно меняется: взрыв мести заливает душу, бешенство отмщения, которое сперва направляется против короля, — его месть кипит и бурлит в нем.
Королева
Спокойнее, Лаэрт.
Лаэрт
Найдись во мне спокойствия хоть капля,
И я стыдом покрою всех: себя,
Отца и мать. Могу ль я быть спокойным,
Когда я все утратил, что любил?..
Верьте
слову:
Что тот, что этот свет — мне все равно.
Но будь, что будет, за отца родного
Я отомщу.
Король
А кто вам запретит?
Лаэрт
Никто, когда моя на это воля,
А средства — обойдусь и тем, что есть,
Не беспокойтесь (IV, 5).
Но и его волю, как и безволие Гамлета, трагедия употребляет по-своему. Расчет короля соединяется с пылкостью Лаэрта — он весь жаждет мести, он готов быть орудием короля: «Увижу в церкви — глотку перерву».
На кладбище, только увидя Гамлета, он бросается на Гамлета — их разнимают. В Гамлете есть что-то опасное, чего благоразумие Лаэрта должно было бояться: он сам подает отравленную шпагу Гамлету, которой тот убьет его; и он вовлечен в гибельный круг, связан магнитными нитями и влечется к смерти. Необходимо отметить, что они вовсе не враги сами по себе, но по необходимости. Гамлет говорит о схватке на кладбище.
Мне совестно, Горацио, что я
С Лаэртом нашумел. В его несчастьях
Я вижу отражение своих
И помирюсь с ним. Но зачем наружу
Так громко выставлять свою печаль?
Я этим возмутился (V, 2).
473 И перед поединком он обращается к нему с такой речью, на которую Лаэрт лицемерно отвечает. Еще на кладбище Гамлет (приведено выше) спрашивает у него, почему он так относится к нему — ведь он любил его, но не в этом дело: оба исполняют свои роли, назначенные им, и только по совершении всего оба примиряются, точно они не врагами были все время, но исполняли роли врагов. Лаэрт по контрасту с Гамлетом дополняет образ Фортинбраса, который связывает также нитью общей политической интриги короля и Лаэрта. Эта общая политическая интрига, которой открывается и заключается пьеса и которая составляет крайние точки, полюсы ее фабулы, и проходит через всю драму, в общих чертах такова: как и над семейной частью фабулы, здесь господствует «пантомима» — событие, совершившееся до поднятия занавеса, которое определило собой все: из рассказа Горацио мы узнаем о поединке Гамлета и Фортинбраса отцов, победителем из которого вышел Гамлет. Теперь, со смертью обоих, и в Дании и в Норвегии царствуют братья их. Эта политическая интрига, проходящая вне самой трагедии и охватывающая ее как бы рамкой, придает особый смысл всей фабуле, обеим ее частям, и недаром катастрофа заканчивается переходом датского престола к Фортинбрасу, но об этом дальше. Сейчас надо выяснить только ее в общих чертах, поскольку она связана с образами короля, Лаэрта и Фортинбраса. Так что здесь определены две крайние точки интриги — ее начало и ее конец. Все течение трагедии тянется ее нить, проходя как бы извне, протекая в стороне от главного русла действия и все же будучи связана с ним все время: в роковые минуты трагедии эта связь обнаруживается ясно. Роковое положение дел в Дании, гниль ее, военные приготовления составляют фон трагедии. Победа Гамлета ненадежна, и недаром Горацио и солдаты связывают появление Духа с прологом несчастий для родины. Король говорит о том же:
Королевич
Фортинбрас,
Не чтя нас ни во что и полагая,
Что после смерти братиной у нас
Развал в стране и все в разъединенье,
Возмнил такое о своей звезде,
Что надоел нам, требуя возврата
Потерянных отцовых областей,
474 Которые достал себе по праву
Наш славный брат.
Совпадение слов: «развал в стране и все в разъединенье» с гамлетовскими «порвалась связь времен» — не случайное. Король улаживает это мирным образом, путем переговоров — послы просят дядю его остановить все это, который и соглашается, но взамен этого просит пропустить через Данию племянника с войском, идущего на Польшу. Король соглашается, считая, таким образом, все улаженным. Но этот пропуск (какая черта бездейственности господствует и в политической части фабулы: здесь все — рассказы, разговоры с послами, и Фортинбрас дважды только проходит с войском) оказывается гибельным для Дании: все время как бы происходит бездейственная борьба между Гамлетом и Фортинбрасом, поединок отцов продолжается в сыновьях, которые ни разу не встречаются в пьесе, и Фортинбрас, проходя назад из Польши, попадает в ту самую минуту, когда расшатавшееся и «вышедшее из пазов» королевство почти гибнет, и он, бескровный победитель, имеющий права на трон, получает его. Недаром он сравнивает трупы с трупами на поле битвы: это все не им убитые, не им побежденные противники, вот почему он оказывает Гамлету воинские почести — он убитый противник. И по фабуле — окончательный смысл пьесы не в убийстве короля, а в восстановлении Фортинбраса, к чему ведет вся драма141. Эта интрига происходит все время за сценой, о ней узнаем из рассказов Горацио и послов, и только два раза проходит Фортинбрас — первый, когда Гамлету бросается в глаза контраст их, — туда, и в минуту катастрофы — обратно. Она расширяет рамки фабулы: расшатанное, вышедшее из пазов королевство, в котором что-то гнило, гибнет, и пропуск Фортинбраса, как бы уладивший все политические недоразумения, имеет, получает роковое значение. Но эта интрига имеет глубокий смысл, она необходимая часть фабулы трагедии — она прощупывается за всем. Король все стремится уладить отношения с Норвегией и дает согласие на пропуск Фортинбраса; Лаэрта толпа провозглашает королем — точно все, действительно, расшатано в королевстве, а семейная трагедия переходит в государственную, охватывается народной, и в «комнатную», интимную пьесу вводятся международные 475 переговоры, посольства, народные восстания, мятежи, ожидаемые войны, многотысячные войска. Смысл этой части фабулы, так непосредственно связанной с завязкой и развязкой трагедии и проходящей через всю ее, будет выяснен дальше. Теперь же интересен только образ Фортинбраса, поскольку он оттеняет опять по контрасту Гамлета. Гамлет тоже связан с политической интригой: король боится его наказать, так как он любим народом; он говорит, правда, вскользь, что король стал между его надеждами и избранием; и, главное, его связь непонятная — он дает голос Фортинбрасу, предрекая его избрание, отдает ему Данию, а своим рождением непонятно связан с роковым поединком, лежащим в начале всей интриги.
Гамлет. Давно ли ты могильщиком?
Первый могильщик. Изо всех дней в году — с того самого, как покойный король наш Гамлет одолел Фортинбраса.
Гамлет. А когда это было?
Первый могильщик. Аль не знаете? Это всякий дурак знает. Это было как раз в тот день, когда родился молодой Гамлет, тот самый, что сошел теперь с ума и послан в Англию.
Фортинбрас тоже мститель за убитого отца — не знающий муки безволия — боговдохновенный честолюбец. Гамлет, чувствуя всю особенность его, отличие от себя, восхищаясь им и не понимая себя (приведено выше), уже предрекает его избрание: такие нужны королевству, земле, энергичные, честолюбивые, без трагедии. Полная противоположность Гамлету, его победитель, не знающий разлада с «this machine», он обрисован двумя-тремя штрихами и только с этой стороны. Но и его воля, как и Лаэрта, как и безволие Гамлета, подчинена трагедии, ее законам.
Особняком стоит Горацию. Он стоит вне трагедии, не действователь, а ее созерцатель и рассказчик. Его образ имеет больше значения для стиля трагедии — ее рассказа, чем для ее действия. Действенная роль его не очень значительная (соединение Гамлета с Тенью отмечено выше), но «стилистическая» — чрезвычайно значительная. Он символизирует зрителя, смотрящего в молчании всю трагедию, ее рассказ, ее видимый смысл. Гамлет характеризует его как недейственное лицо:
476 Ты знал страданья,
Не подавая виду, что страдал.
Ты сносишь все и равно благодарен
Судьбе за гнев и милости. Блажен,
В ком кровь и ум такого же состава.
Он не рожок под пальцами судьбы,
Чтоб петь, что та захочет.
О его роли после катастрофы — дальше. Ее рассказчик, он испытывает от этого зрелища такое впечатление, что хочет покончить свою жизнь и остается жить только для Гамлета, только по его просьбе. Это глубоко важная черта стиля трагедии. Дальше идут лица эпизодические: придворные, священники, офицеры, солдаты, послы, могильщики, актеры, матросы, вестники, свита и т. д. Останавливаться на этих лицах не приходится: их роли всякий раз, когда это нужно было для оттенения, попутно отмечались (Гамлет и солдаты, актеры, могильщики, — как трудно ему говорить с могильщиками и легко с актерами, солдатами — те молятся за него). Роль эпизодических лиц в пьесе ясна: не принимая участия в ходе действия, они нужны в его отдельных местах; их бегло очерченные образы (могильщики, актеры, придворные, солдаты и т. д.) глубоко значительны и для стиля трагедии.
Здесь мы в самых общих чертах наметили образы остальных действующих лиц — лишь постольку, поскольку это необходимо для выяснения хода действия и его зависимости (связи, подчинения или господства) от действующих лиц. Теперь остается в самых кратких словах остановиться на общем обзоре фабулы пьесы, хода действия в его целом, который неизбежно ведет к катастрофе, завершая всю пьесу, и на подробном выяснении самой катастрофы, что и составит предмет следующей главы.
IX
Все время, в течение всей пьесы, ощущается, как в обычный ход событий вплетается потусторонняя мистическая нить, которая неуловимо сказывается повсюду и выявляет за обычной, причинной связью часто разлезающейся на нити и оставляющей темные провалы, иную, роковую и фатальную связь событий, определяющую ход трагедии. Несмотря на всю видимую расплывчатость 477 очертаний, туманность и неуловимость, трагедия в сущности своей в высшей степени одноцентренна, монономична, выдержана вся до последней черты. В ней все время господствует один какой-то закон трагического тяготения, который неотразимо с самого начала, с самого первого слова влечет к гибели. Вся она — во всем течении своем, в каждой сцене, в каждом слове — идет к гибели. Катастрофическое, роковое, гибельное все нарастает, все близится, так что катастрофа не является чем-то, со стороны развязывающим эту бесконечную (то есть не имеющую конца в себе) трагедию, а внутренним результатом, неотвратимой неизбежностью внутреннего ее строения. Все время идет к этой минуте, и в ней весь смысл, вся цель. И вот минута настала, час пришел, срок исполнился.
Прежде чем перейти, однако, к самой этой минуте, надо остановиться в двух словах на общем очертании фабулы трагедии, поскольку она выяснилась из предыдущего рассмотрения, для того, чтобы показать, как катастрофа неизбежно намечена в действии трагедии, дана в самой ее завязке, прорастает в каждой ее сцене. Собственно, все действие трагедии заключено в завязке, вынесенной за начало пьесы, и в развязке; все остальное есть слова, бездействие. Из одного того, что все действие заключено в катастрофе, что она — не последний только аккорд, заключительный результат действия, видно, что вся она дана в завязке трагедии. Строение фабулы нашей пьесы в высшей степени странное и необычное: она разветвляется по двум руслам, из которых одно охватывает другое — политическая и семейная интрига. Завязка того и другого отнесена по времени до начала трагедии: два события господствуют над ней, определяя собой уже весь ход событий, как пантомима определяет содержание пьесы. Это роковой поединок Гамлета и Фортинбраса и братоубийственное преступление Клавдия. Это крайние точки, полюсы обеих интриг, лежащие вне самой пьесы, до нее, которые, как события, совершенные до начала ее, входят в пантомиму трагедии, в закон ее действия и, как пантомима, предопределяют роли в ней. Другие крайние точки, полюсы интриг в катастрофе: это невероятная по насыщенности действием сцена, здесь разражается гроза, собиравшаяся все время, здесь через пустыни бездейственной 478 трагедии проносится вихрь действия, здесь оно собрано все в одной сцене, в одной минуте трагедии. Вся трагедия, которая протекает между этими крайними точками, между полюсами действия, — бездейственна; она заполнена в части политической интриги переговорами, посольствами, рассказами о прошлом, и чисто «пантомимическими» — бессловными — проходами по сцене Фортинбраса. И все же все время чувствуется в этой части, наиболее бездейственной, роковое значение роли норвежского принца; его «проходы» по сцене освещены таким светом, что все время чувствуется, как все в ней идет к этой минуте, решающей все. Политическая интрига проходит вне главного русла действия, охватывает его извне и, точно развертывающаяся нить семейной интриги, поворачивает колесо политической. Значение этой политической интриги глубоко важное, это не просто фон, обстановка трагедии. Она, совершенно неразработанная, намеченная общими, схематическими, упрощенными линиями, «пантомимическими» чертами, вся предопределенная «пантомимой» поединка, немотивированная, раздвигает рамки фабулы и, будучи придана пьесе извне, выносит фабулу из-под власти действующих лиц, из-под подчинения характерам, причинам, случайностям и, охватывая семейную историю кольцом, возносит над ней, над целой фабулой, над всей пьесой пантомиму трагедии, утверждая господство над ней немотивированного, единственного закона: так надо трагедии. Так что формально, внешне — целью всей фабулы пьесы, ее задачей было не убийства короля и др., а восстановление, победа Фортинбраса — недейственная, необъясненная, произвольно внесенная в фабулу пьесы, ибо это есть ее конечный, крайний, «целевой» пункт, к которому она все идет. Ход действия семейной интриги протекает параллельно все время, сливаясь и совпадая с политической в последней точке. Здесь тоже — все действие сосредоточено исключительно в завязке, отнесенной ко времени до начала трагедии, и в катастрофе, что одно уже показывает, что вся она дана в завязке, существует уже в ней, так как между ними, между этими двумя крайними точками действия нет, ничто новое не возникает. Так что и здесь вынесенная за трагедию, за ее начало пантомима господствует над всем действием. 479 Чем же заполнена вся трагедия, то есть все между этими крайними точками? Все время, в каждой сцене, в каждом слове, в каждом движении своем — трагедия идет неуклонно к катастрофе, к одной минуте. Над ней точно таинственными силами трагического тяготения вознеслась завязка и заставляет возникать в ней отблески гибели, влечет ее к гибели. Вся пьеса заполнена бездействием, насыщенным мистическим ритмом внутреннего движения трагедии к катастрофе. Здесь неудавшиеся планы, случайности, разговоры, томления бессилия, муки слепоты — и все, все к одному, к одной минуте, которая разрешает все, которая возникает не из планов действующих лиц, не из действия их, а подчиняет их себе, господствует над ними. Завязанный до начала трагедии узел все затягивается и затягивается и разрешается в нужную минуту. Ход действия пьесы или, вернее, бездействия таков в общих чертах: с самого начала ощущается что-то уныло-зловещее, еще есть надежды, что все пойдет хорошо, но мрачные предчувствия оправдываются, спасения нет. Это чувствует Гамлет, этого боятся все смутно и слепо, но все же есть еще надежды, что все уладится, все пойдет хорошо; здесь еще колебания ритма гибели (вся трагедия исполнена этого внутреннего, мистического ритма гибели — не в нем ли и смысл трагического?) — сцена на сцене, перелом в ходе действия, поворотный пункт, кульминационная точка бездействия, после которой вся пьеса неудержимо идет к гибели. Эта сцена, по фабуле открывающая замыслы, тайны, срывающая маски с противников, выявляет самую символику сцены, смысл, ролей, господство пантомимы. Сперва перед зрителями проходят пантомимы пьесы — ее схема, ее скелет, ее фабулы, ее извлеченное действие, — потом уже сама пьеса, где актеры исполняют только роли, предопределенные пантомимой (клятвы королевы и слова короля — приведено выше)142. Это самая центральная сцена драмы. Неотразимость «пантомимы» трагедии, неуклонно ведущей ее к одному, ощущается ясно. После этого (как, впрочем, и события до этого, но в скрытой, невыявленной форме) все события фабулы — убийство Полония, смерть Офелии, поездка в Англию — только толчки, внешние удары, биения этого ритма гибели, а чувствования, переживания героев, на которых мы останавливались 480 выше, вся лирика трагедии — только ощущения и отражения этого ритма, который и их подчиняет себе. Перед самой минутой ритм замедляется, понижается, наступает тишина, которая насыщена таким предчувствием гибели, что делает совершенно понятным весь мистический ужас, с которым все встречают дворцовую «потеху» — поединок, чувствуя, что минута пришла. Пятый акт делится на две сцены, одинаковые почти по действующим лицам и по «пантомиме» их: первая на кладбище — все за гробом Офелии, смотрят борьбу Гамлета и Лаэрта в ее могиле, вторая — катастрофа во дворце. Здесь точно в двух проекциях одно и то же, один акт в двух сценах, точно показана потусторонняя, замогильная сторона катастрофы, кладбищенская, мертвая сторона этого акта. «Пантомимически» борьба принца и Лаэрта в могиле предсказывает их поединок и не только оттеняет его замогильную сторону, посмертную, но и указывает на действительный посмертный характер их борьбы, — об этом дальше. Веяние смерти и посмертного остается от этой сцены и ощущается во время катастрофы, которая есть не что иное, как всеобщая смерть. Так что замедление ритма гибели — есть тишина смерти, повеявшая на край жизни. Такова кладбищенская основа катастрофы. Если все время действие происходило на краю, на грани жизни, то теперь оно продвинулось к самой меже смерти и, что самое ужасное и мистическое в пьесе, перешло за эту межу смерти. Если все время мистическая нить потустороннего неуловимо вплеталась в ход событий, обнажаясь в Гамлете и отражаясь в ужасе и предчувствиях остальных, то здесь эта потусторонняя, закулисная сила начинает явно действовать. Вот почему нет нигде такой потрясающей сцены, как эта: мистическое, всегда скрытое, всегда смутно ощущаемое, всегда тайное — здесь выявляется, обнажается и проявляется в посмертном действии. Эта потусторонняя сила, ощущавшаяся все время за ходом действия пьесы, здесь ясно начинает проявляться143. Здесь судьба трагедии — a divinity — уже «образует концы» — shapes our ends.
После убийства Полония Гамлет говорит: будет хуже. Теперь оно пришло: срок исполнился, час пробил, минута пришла, и свет этой минуты, зажегшийся от 481 обнажившегося мистического пламени трагедии, невыносим для человеческих глаз. Эта сцена даже по стилю представляет резкую противоположность всей пьесе: в ней почти нет слов, до того она действенна, переполнена действием, она сжата вся — по ней проносится буквально вихрь действия, слова — только отрывистые, короткие, как удары рапир, — вся она только в ремарках, поясняющих действие. Едва ли есть сцена, в которой веяние смерти было бы так ощутительно, мистический ужас которой был бы так силен. Гамлет не осматривал рапир. Состязание начинается. Первый удар наносит Гамлет. Король предлагает ему отравленный кубок. Гамлет — это глубоко важно — сражается с увлечением, он весь захвачен поединком, видит в нем не одно состязание: он отказывается, хочет раньше кончить. Гамлет наносит второй удар.
Король. Сын наш побеждает (V, 2).
Как он и предчувствовал, заклад он выиграл. Королева пьет за его успех.
Король. Не пей вина, Гертруда!
Королева. Я пить хочу. Прошу, позвольте мне.
Она пьет не ей назначенный отравленный кубок.
Король (в сторону). В бокале яд. Ей больше нет спасенья!
Лаэрт говорит королю: «А ну, теперь ударю я».
Король. Едва ль.
Лаэрт (в сторону). Хоть это против совести поступок.
Что же заставляет его против совести играть навязанную ему роль, совершив которую, он обратился к Гамлету со словами любви и прощения? И Гамлет его любит, но «не в этом дело» — они сыграют свои роли, назначенные им пантомимой трагедии, убьют друг друга. Лаэрт ранит Гамлета. Затем в схватке они меняются рапирами и Гамлет ранит Лаэрта. Вот все заключено в ремарке, происходит без слов. Рапира отравлена, и оба (в руке Гамлета теперь та же отравленная рапира) ранены смертельно.
Королева падает — ремарка сменяет ремарку.
Гамлет. Что с королевой?
Король. Обморок простой при виде крови.
Королева. Нет, неправда, Гамлет. Питье, питье! Отравлена! Питье! (Умирает)
482 Уже отравленная, уже умирающая, уже со смертью в крови, уже будучи не здесь, уже свесившись за грань, уже оттуда открывает она, что питье отравлено. Темная волна подымается — и в миг захлестнула Гамлета (здесь важно подчеркнуть ход катастрофы — только после нечаянной смерти королевы подымается эта волна).
Гамлет
Средь нас измена! Кто ее виновник?
Найти его!
Лаэрт еще раньше почувствовал все.
Озрик
Откуда кровь, Лаэрт?
Лаэрт
Кулик
попался.
Я ловко сети, Озрик, расставлял
И угодил в них за свое коварство.
И теперь, уже тоже оттуда, уже будучи убит (S’m Kill’d), открывает все.
Лаэрт
Искать
недалеко.
Ты умерщвлен, и нет тебе спасенья.
Всей жизни у тебя на полчаса.
Улики пред тобой. Рапира эта
Отравлена и с голым острием.
Я гибну сам за подлость и не встану.
Нет королевы. Больше не могу…
Всему король, король всему виновник!
Едва ли можно было вообразить, что в обстановке реальной трагедии может быть с такой потрясающей силой показано потустороннее вмешательство. Невозможно представить себе положения, более реального и вместе более мистического в одно и то же время: здесь действие явно переступает межу, отделяющую смерть от жизни, свешивается на грань, это есть сама смерть — последняя черта, отделяющая жизнь от загробного, на этой черте происходит действие. Здесь взят момент невероятный: все эти люди — королева, Лаэрт — уже не здесь, они уже смертельно ранены, отравлены, в них нет жизни и на полчаса, они действуют здесь в удлиненную, растянутую, но именно в самую минуту смерти, умирания. Одно приближение к смерти создает отрешенность от мира и переносит душу за грань, а здесь взято состояние самой смерти, 483 умирания: в минуту смерти, уже убитые, они делают свое посмертное дело. Гамлет особенно: пока у него еще нет намерения сейчас убить короля. Он уже убит144, в нем нет жизни и на полчаса (удар нанесен раньше), смерть уже началась, он уже в смерти, в его руке очутился изменнический клинок, отравленный и острый. Лаэрта Гамлет ранил уже в смерти, уже будучи ранен сам. Последние полчаса жизни — это уже мертвецы, во власти смерти, делают свое посмертное дело, свое загробное, ужасное дело.
Гамлет
Как, и рапира с ядом? Так ступай,
Отравленная сталь, по назначенью!
(Закалывает
короля)
Пусть яд, отрава сделает свою работу. И отравленный кубок заставляет он его выпить. Все обращается против него — король умирает. Действие закончено. Лаэрт сыграл свою роль — он больше не враг Гамлету.
Лаэрт
Ну, благородный Гамлет, а теперь
Прощу тебе я кровь свою с отцовой,
Ты ж мне — свою!
(Умирает)
Гамлет следует за ним; теперь он уже там, здесь он уже все сделал и знает все. Он уже умер. «Все кончено», — говорит он.
Гамлет
Прости тебя господь.
Я тоже вслед. Все кончено, Гораций.
Простимся, королева! Бог с тобой!
А вы, немые зрители финала,
Ах, если б только время я имел, —
Но смерть — тупой конвойный и не любит,
Чтоб медлили, — я столько бы сказал…
Да пусть и так, все кончено, Гораций.
Ты жив. Расскажешь правду обо мне
Непосвященным.
Он уже знает все, он рассказал бы — бледным, дрожащим, немым свидетелям свершившегося, имей он время, — но let it be; он умер — I am dead, — Горацио расскажет все. Но Горацио, этот безмолвный зритель трагедии, зритель всех смертей, не хочет жить.
Горацио
Этого
не будет.
Я не датчанин — римлянин скорей.
Здесь яд остался.
484 Гамлет
Если
ты мужчина,
Дай кубок мне. Отдай его. Каким
Бесславием покроюсь я в потомстве,
Пока не знает истины никто!
Нет, если ты мне друг, то ты на время
Поступишься блаженством.
Подыши Еще трудами мира и поведай
Про жизнь мою.
(Марш вдали и выстрелы за сценой)
Что за пальба вдали?
Озрик
Послам английским, проходя с победой
Из Польши, салютует Фортинбрас.
Гамлет
Гораций, я кончаюсь. Сила яда
Глушит меня. Уже меня в живых
Из Англии известья не застанут.
Предсказываю: выбор ваш падет
На Фортинбраса. За него мой голос145.
Скажи ему, как все произошло
И что к чему. Дальнейшее — молчанье.
(Умирает)
Горацио остается жить по просьбе Гамлета — если он муж, пусть отдаст кубок, нужно мужество, чтобы жить в этом гадком мире и не отворить себе врата блаженства одним ударом. Гамлет оттуда дает свой посмертный, умирающий голос возвращающемуся в это время (в эту минуту) Фортинбрасу, предрекая его избрание. Горацио он завещает рассказать все, всю трагедию; ему рассказать мешает смерть — он рассказал бы, но уносит в могилу тайну этого иного рассказа: «дальнейшее — молчанье». (Умирает.) Гамлет умер. Его трагедия кончилась. Завершается она молитвенно.
Горацио
Разбилось сердце редкостное. — Спи
Спокойным сном под ангельское пенье!
Трагедия Гамлета кончилась. В эту минуту приходят послы из Англии уведомить о смерти двух придворных и несущий победу Фортинбрас146.
Фортинбрас
Игра страстей еще как бы бушует.
В чертогах смерти, видно, пир горой,
Что столько жертв кровавых без разбора
Она нагромоздила.
Первый посол
Просто страх берет.
Горацио хочет обо всем рассказать.
485 Горацио
Я всенародно расскажу о страшных,
Кровавых и безжалостных делах,
Превратностях, убийствах по ошибке,
Наказанном двуличье и к концу —
О кознях пред развязкой, погубивших
Виновников. Вот что имею я
Поведать вам.
Вот вся, в общей схеме, фабула трагедии, ее рассказ, то, что завещал Гамлет передать, — остальное молчание. Фортинбрас с грустью встречает свое счастье: «Не в добрый час мне выпадает счастье». И недаром он оказывает Гамлету воинские почести — он точно побежденный воин, и это — точно поле битвы.
Победные фанфары Фортинбраса переходят в похоронный марш: это музыка смерти, мелодия умирания, песня могилы завершает трагедию. Трагедия завершается смертью, «всеобщим умиранием», это поистине «пир смерти». В этом смысл трагедии. Умерли все — король, королева, Гамлет, Полоний, Лаэрт, Офелия, Гильденстерн, Розенкранц; Горацио остался жить из мужества — это подвиг. Так трагедия вплотную, вся пододвинулась к грани смерти, перешла за ее межу; вся ушла в смерть. И только здесь, наверху, по сю сторону межи протянута еще чуть-чуть нить фабулы — воинские почести, пальба, рассказы, похоронный марш, — а вся трагедия перешла на межу, потонула в смерти, переступила роковую грань, последнюю черту. Вот почему наверху остались только рассказ о трагедии, воспоминание о ней, похоронные почести и марш — все связанное со смертью, все то, что здесь говорит о смерти, ибо сама трагедия вся ушла в смерть и молчание.
X
Мы закончили обзор «Гамлета». И эта трагедия осталась для нас загадкой в конце обзора еще больше, чем в начале его. Не разгадать эту загадку — была цель эти строк, не раскрыть тайну Гамлета, а принять тайну как тайну, ощутить, почувствовать ее. И если загадочность и непостижимость произведения только усилились в этой интерпретации его, то это 486 не прежняя, начальная его загадочность и непонятность, проистекавшие от внешней темноты трагедии и стоявшие помехой на пути к художественному ее восприятию, — а новое, глубокое, глубинное ощущение тайны, создавшееся в результате восприятия этой пьесы. Задача критика только и сводится вся без остатка к тому, чтобы дать известное, свое, определенное направление восприятию трагедии, сделать его именно в этом направлении возможным, а к чему придет читатель трагедии в результате движения его художественного переживания по этому направлению — это вопрос, выходящий из области ограниченно, строго художественного восприятия пьесы. Здесь «чистое» восприятие исчерпывает себя, здесь искусство кончается и начинается… Что? Этот вопрос и стоит сейчас перед нами: что начинается сейчас за нашим «восприятием» трагедии, к чему привело, это его «направление». Не вдаваясь глубоко в существо дела (мы намеренно ограничим тему этого этюда художественной стороной трагедии), все же постараемся узнать в самых общих чертах только, до чего дошли мы, что начинается за этим, если это не искусство, то что это? Прежде всего, трагедия удивительна по основному тону своему, по главному строю своему — взаимоотношению фабулы и действующих лиц. Обзор хода действия и образов действующих лиц с достаточной ясностью указывает, что фабула пьесы при всей особенности своей структуры (политическая интрига, две части фабулы: «пантомима» — катастрофа до начала действия, полная бездейственность, катастрофа) не может быть выведена из характеров героев; нет здесь и предопределенной, предсказанной, действующей вопреки характерам (влекущей добрых и чистых к ужасным преступлениям), ужасной связи лиц и фабулы, которую называют роком, фатумом. Обе эти трагедии — рока и характера — внутренне родственны по идее, их объединяет то, что в обоих случаях фабула подчинена действующим лицам, в первом случае — слепо они делают то, что предопределено роком, во втором — отдаются влечениям своих «характеров», данных тоже заранее, так что трагедия характера есть как бы видоизмененная трагедия рока. «Гамлет», как показывает все предыдущее, не есть ни трагедия рока, ни трагедия характера147. 487 Что же? Как определить ее? Необычная и непохожая ни на какую другую, она не являет нам действенное столкновение воль, борьбу с препятствиями внутренними или внешними. Ее справедливо назвать «трагедией трагедий» не только потому, что каждая иная исходит из такой именно трагедии, но и потому, что она к ней приходит: «Гамлет» начинается там, где кончается обычная трагедия. Это основа и вершина, альфа и омега. Она вся построена на изначальной скорби самого существования печали бытия. В этом основной смысл трагического. По всеобщему толкованию трагическое заключается в роковом столкновении человеческой воли с препятствиями — извне или изнутри. Но ведь здесь дается только обстановка, условия, необходимо сопровождающие трагическое. Драматическая борьба указывает лишь на то, что трагическое достигает такого напряжения, что необходимо выливается в действие. Но при этом говорится лишь об обусловленности, но не о самом трагическом. Что же выявляет трагический герой в процессе драматического столкновения? Ведь не самое столкновение, а то, что лежит в основе его, основопричину трагического состояния героя. Он выявляет нечто более глубокое, чем случайное и преходящее, что лежит в основе всякого драматического столкновения. Он выявляет общее и вечное, так как на трагедию мы смотрим снизу вверх: она — над нами, она — фокус, в котором собралось изначальное, вечное, непреходящее нашей жизни. Во всякой трагедии за бешеным водоворотом человеческих страстей, бессилия, любви и ненависти, за картинами страстных устремлений и непостиганий мы слышим далекие отголоски мистической симфонии, говорящей о древнем, близком и родимом. Мы оторваны от круга, как когда-то оторвалась земля. Скорбь — в этой вечной отъединенности, в самом «я», в том, что я — не ты, не все вокруг меня, что все — и человек и камень, и планеты — одиноки в великом безмолвии вечной ночи. И как мы ни назовем непосредственно, ближайшим образом причину трагического состояния: роком или характером героя, мы придем все равно к истоку этого состояния: к бесконечной вечной отъединенности «я», к тому, что каждый из нас — бесконечно одинок.
На этой изначальной скорби бытия построен «Гамлет». 488 Вся трагедия точно происходит на грани, на пороге двух миров, в ней точно осуществляется через трагедию Гамлета связь обоих миров (Гамлет через Гамлета, Фортинбрас [через] Фортинбраса, тождество имен глубоко символично), восстанавливается прерванное единство, преодолевается отъединенность — так трагедия переходит в молитву, восходит к молитве. Ибо там, где молитва (слияние), там трагического нет, там кончается трагедия. Смысл трагедии именно в этой воссоединенности: точно ее второй смысл, о котором говорит умерший Гамлет, смысл здешней тайны, тайны жизни в трагическом свете.
А вы немые зрители финала.
Ах, если б только время я имел, —
Но смерть — тупой конвойный и не любит,
Чтоб медлили, я столько бы сказал…
Да пусть и так, все кончено, Гораций,
Ты жив.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Скажи ему, как все произошло
И что к чему. Дальнейшее — молчанье (V, 2).
Точно это «дальнейшее — молчанье» сливается с загробной тайной, о которой говорит отец Гамлета:
Мне
не дано
Касаться тайн моей тюрьмы. Иначе б
От слов легчайших повести моей
Зашлась душа твоя и кровь застыла,
Глаза, как звезды, вышли из орбит.
И кудри отделились друг от друга,
Поднявши дыбом каждый волосок,
Как иглы на взбешенном дикобразе.
Но вечность — звук не для земных ушей (I, 5).
Это одно: тайна загробная, с которой пьеса начинается, и тайна здешняя, смысл трагедии, которой она кончается; первая — неизреченная, непостижимая, «не для земных ушей», вторая — «дальнейшее — молчанье» — сливаются; то есть смысл трагедии потусторонний, мистический, «не для земных ушей».
Вот почему вся трагедия построена на смерти и молчании. Эта самая мистическая трагедия148, где нить потустороннего вплетается в здешнее, где время образовало провал в вечности, или трагическая мистерия, произведение единственное в мире. Здесь в общих словах указаны черты этого трагического, положенные в основу Гамлета: отъединенность и двумирность, но не сказано 489 прямо о нем ничего. Что же такое за трагедия Гамлета? Порядок рассмотрения пьесы, в некоторых местах особенно, почти сбивается на пересказ фабулы. Помимо стремления охватить своим толкованием всю трагедию, даже ее мельчайшие части, это объясняется самой мыслью, положенной в основу этого этюда, взглядом на самую трагедию: в ней прежде всего необходимо выявить господство фабулы трагедии, хода действия, самой «пантомимы» трагедии, ее легче пересказать, чем объяснить, нельзя отвлечься в ее рассмотрении от фабулы, нельзя абстрагировать образы действующих лиц. Мы уже останавливались на этой стороне пьесы — на господстве в ней «пантомимы», на единственном ее немотивированном, последнем законе-причине — так надо трагедии. В чем же смысл этой «пантомимы», этого «так надо трагедии»?
Подробное рассмотрение и оценка этого второго смысла трагедии (ибо этот закон и есть второй смысл трагедии «дальнейшее — молчанье», первый в фабуле — рассказ Горацио) выходит за пределы художественного истолкования пьесы, это тема особая. Здесь же надо установить только, к чему мы пришли, какой категории эта тема принадлежит. Смысл трагедии — в ее известной философии, или лучше: религиозности трагедии149, не в смысле определенного исповедания, но в смысле известного восприятия мира и жизни. Трагедия есть определенная религия жизни, религия жизни sub specie mortis29* или, вернее, религия смерти; поэтому вся трагедия уходит в смерть; поэтому ее смысл сливается с загробной тайной. Гамлет завещает Горацио рассказать его трагедию. Что расскажет Горацио, мы знаем — фабулу трагедии. Сам Гамлет, стоящий уже в могиле, мог бы рассказать нам, бледным, дрожащим, немым зрителям, иное, второй смысл трагедии, но он унесен туда, он, как и загробная тайна, молчит. О нем в этюде не сказано прямо ни слова, хотя весь он посвящен этому второму смыслу. Повторим здесь: можно, конечно, и прямо говорить об этом «втором смысле», но это уже тема особая, требующая особого подхода, тема, так сказать, мистическая, потусторонняя (как и сам 490 «смысл»), метафизическая, допускающая к себе только отношение религиозное я выходящая за пределы художественного восприятия трагедии. Здесь же нас занимает «второй смысл» лишь в ограниченных пределах трагедии, в замкнутом кругу ее «слов». В этом цель всего этюда: прощупать этот «второй смысл», это «остальное», что «есть молчание» в чтении трагедии, в ее словах. Мы, закончив обзор, подошли вплотную к чему-то, что мы хотели в настоящей главе определить, к смерти и молчанию, куда ушла трагедия, к ее рассказу (чтению) и «второму смыслу».
Здесь искусство кончилось, началась религия. Смысл «пантомимы» трагедии, смысл «так надо трагедии» определенно религиозный: это известное восприятие человеческой жизни через призму трагедии. Гамлет говорит о божестве, управляющем нашими судьбами, о роковом ритме времени — не теперь, так после; после, так не теперь, — о воле провидения, без особой воли которого не погибнет и воробей. Это все религия трагедии, у которой один обряд — смерть, одна добродетель — готовность, одна молитва — скорбь.
Что это за Бог трагедии, которому молится своей скорбью Гамлет, — это тема особая.
Говорят обычно о «просветленном» ощущении после созерцания или чтения трагедии, наступающем несмотря на всю ужасность трагического. Дело личного ощущения: в нашем чтении трагедии, предлагаемом в настоящем этюде, приходится говорить не о просветленном, а об омраченном впечатлении: трагедия заражает душу читателя или зрителя своей беспросветной скорбью, и в этом ее смысл, смысл восприятия трагического. Вообще не мешало бы задуматься над эстетической формулой «художественное наслаждение»: не является ли это «наслаждение» подчас, особенно при созерцании трагедии, глубоким мучением, омрачением духа, приобщением его трагическому. Мы все испытываем, созерцая трагедию, то, что король, глядя на пьесу «Убийство Гонзаго»: мы, все рожденные, причастны трагедии и, созерцая ее, видим на сцене воспроизведенной свою вину150, вину рождения, вину существования, и приобщаемся к скорби трагедии. Трагедия нас, как и Клавдия, уловляет в сети собственной совести, зажигает трагический огонь нашего «я», и ее переживание поэтому 491 делается для нас глубоко мучительным вместо ожидаемого эстетического «наслаждения». Вот почему мы, как Клавдий, прерываем восприятие трагедии, не выдерживая ее света до конца; вот почему всякая трагедия, как и представление в «Гамлете», обрывается до конца — на молчании, и есть поэтому оборванная, неоконченная трагедия. Трагедию надо закончить, надо восполнить в себе, в своем переживании. Это иное восприятие трагедии ужаснуло бы нас, как ужасна именно загробная тайна Духа для земных ушей, и, кто знает, может быть, и наша рука, как и Горацио, потянулась бы к отравленному кубку. То же и с Гамлетом. Трагедия обрывается. Вся она уходит в смерть и молчание (ср. прекращение представления в «Гамлете»), а здесь, наверху, остается для художественной законченности рассказ трагедии, чуть-чуть развернутая, протянутая еще нить фабулы, которая сворачивает в круг, замыкает трагедию, возвращаясь в ее рассказе к ее началу, к ее новому чтению, ограничивая ее восприятие художественным восприятием, чтением и обрывая на смерти и молчании — ее сущность. Но художественное восприятие есть «испугавшееся», прерванное восприятие, не законченное; оно неизбежно приводит к иному — к восполнению слов трагедии молчанием. Рассказ о «неестественных» событиях, смертях, гибели выделяет, отграничивает художественное восприятие трагедии, ее чтение; замыкает в круг, возвращаясь к началу и повторяя трагедию, ее «слова, слова, слова», ибо весь «рассказ» ее, то, что есть в ее чтении, то, что подлежит художественному ее восприятию, все это — ее «слова, слова, слова». Остальное — молчание151.
492 Комментарии
1 Замечательный советский психолог Лев Семенович Выготский (1896 – 1934) посвятил первое десятилетие своей научной деятельности (1915 год — дата написания первого варианта его большой работы о «Гамлете», 1925 год — дата окончания публикуемой книги) занятиям проблемами художественной и литературной критики, литературоведения, эстетики и психологии искусства. На первом этапе этих занятий, представление о котором дает второй (окончательный) вариант (1916) его монографии о «Гамлете», помещенной в настоящем издании, Выготский стремился к выработке такого метода критического раскрытия смысла художественного произведения, который основывался бы только на материале самого текста. Этому периоду предшествовала напряженная подготовительная работа по исследованию самих текстов и критической и философской литературы (показательно, что уже в этой работе, написанной в возрасте девятнадцати-двадцати лет. Выготский приводит в примечаниях, как он сам говорит, некоторые «из бесчисленного множества заметок, сделанных за много времени в процессе постоянного чтения о “Гамлете” и размышления о нем в течение нескольких лет»). Продолжением работы о «Гамлете» послужили многочисленные литературно-критические статьи, печатавшиеся в различных повременных изданиях в 1915 – 1922 годы; из этих статей постепенно вырос и первоначальный замысел настоящей книги (см. об этом в предисловии автора). К их числу относятся две статьи о только что вышедших тогда книгах ведущих символистов — романе Андрея Белого «Петербург» (первая — «Литературные заметки», — «Новый путь», 1916, № 47, стб. 27 – 32; вторая — рецензия на роман: «Летопись», 1916, № 12, с. 327 – 328), сборнике эстетических и критических статей и эссе Вячеслава Иванова «Борозды и межи» («Летопись», 1916, № 10, с. 351 – 352), книге Д. Мережковского «Будет радость» («Летопись», 1917, № 1, с. 309 – 310). О начале серьезных литературоведческих занятий Выготского свидетельствует также его 493 рецензия на издание Н. Л. Бродским поэмы Тургенева «Поп» («Летопись», 1917, № 5 – 6, с. 366 – 367). Последующая педагогическая работа, связанная с преподаванием литературы в школе, отражена в сохраненной в архиве Л. С. Выготского рукописи «О методах преподавания художественной литературы в школах II степени», — тезисы доклада на губернской научно-методической конференции 7 августа 1922 года в Гомеле (см. также: Шахлевич Т. М. Научно-педагогическая и общественная деятельность Л. С. Выготского в Белоруссии (историко-архивное исследование). — В кн.: Гуманитарные науки. Минск, 1974, с. 326 – 333). За это время рапное увлечение Выготского методами чисто «читательской» критики, воссоздающей общую атмосферу текста, уступило место детальному анализу, использующему достижения формальной школы (со многими теоретическими принципами которой Л. С. Выготский полемизировал; см. третью главу настоящей книги). Внимание к символической природе художественного образа, сказавшееся в ранних литературно-критических опытах Выготского, постепенно привело к выработке им теории, обогащенной как общими социологическими идеями, излагаемыми в первой книге, так и усвоенными им к тому времени методами новейшей психологии (см. в особенности анализ теории бессознательных процессов, данный в настоящей книге) и физиологии (ср. теорию «воронки», используемую в заключительных разделах книги для объяснения функции искусства). Постепенно (с 1924 года) круг психологических интересов Выготского расширяется, охватывая все основные стороны психологии. Непосредственным продолжением эстетической концепции настоящей книги можно считать исследование роли знаков в управлении человеческим поведением, которому Выготский посвящает серию своих теоретических и экспериментальных психологических работ, сделавших его к середине 30-х годов крупнейшим советским психологом. Анализ этой проблемы в книге «История развития высших психических функций» (части которой написаны в 1930 – 1931 годы, но опубликованы лишь в 1960 – 1983 годы; см.: Выготский Л. С. Собр. соч. в 6-ти т., т. 3. М., 1983, с. 5 – 328). Выготский начинает с того, что исследует остатки древних форм поведения, которые сохранились у современного человека, но включены в систему других (высших) форм поведения. Этот анализ (который сам Выготский сравнивает с исследованием психопатологии повседневной жизни у Фрейда) проводится тем методом, который в современной лингвистике называется методом внутренней реконструкции. Из системы выделяются такие элементы, которые внутри этой системы представляют собой аномалию, но могут быть объяснены как остатки более древней системы. Например, в поведении современного человека, раскладывающего пасьянс, обнаруживается окаменевший пережиток той эпохи, когда бросание жребия было одним из важнейших способов решения наиболее трудных задач (в свете современных кибернетических моделей и идей теории игр этот описанный Выготским метод, игравший важнейшую роль в социальной и религиозной жизни древних обществ, можно рассматривать как средство ввести случайный элемент в систему, действующую согласно жестко детерминированным правилам, что является наилучшей стратегией 494 при игре с неполной информацией). В качестве двух других аналогичных архаизмов Выготский анализирует мнемотехнические приемы (например, завязывание узелка на платке, сохранившийся у современного человека, и счет на пальцах, восходящий к одному из древних культурных достижений человека). Во всех этих случаях и в других, им подобных, человек, который не может овладеть своим поведением непосредственно, прибегает к внешним знакам, которые помогают ему управлять поведением. Выготский указывает, что сигнализация, лежащая в основе этих явлений, имеется не только у человека, но и у животных, но для поведения человека и для человеческой культуры характерно употребление не просто сигналов, а знаков, служащих для управления поведением. При этом Выготский выделил особо именно ту систему знаков, которая сыграла наиболее важную роль в развитии человека, — язык (психологическому анализу языка позднее была посвящена наиболее известная монография Выготского, «Мышление и речь»). Напоминая в этой связи о римском делении орудий на три категории — «instrumentum mutum — немое, неодушевленное орудие, instrumentum semivocale — обладающее полуречью орудие (домашнее животное) и instrumentum vocale — обладающее речью орудие (раб)», — Выготский замечает: «Для древних раб был самоуправляющимся орудием, механизмом с регуляцией особого типа» (Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. М., 1960, с. 117). Подобные идеи Выготского о роли знаков в управлении поведением на несколько десятилетий опережали современную ему науку, делая его предшественником современной кибернетики — науки об управлении, связи и информации — и семиотики — науки о знаках. Для человеческой культуры (и в частности, для индивидуального культурного развития) существенно не столько наличие внешних знаков, управляющих поведением, сколько постепенное превращение этих внешних знаков во внутренние, что также впервые было установлено Выготским (в частности, в монографии «Мышление и речь», впервые напечатанной в 1934 году и переизданной в книге: Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М., 1956; а также: Его же. Собр. соч., т. 2. М., 1982). Исходя из работ Выготского можно наметить следующую схему развития способов управления человеческим поведением: 1) команды, материализованные вне человека и исходящие не от него (например, приказы родителей ребенку); 2) команды, материализованные вне человека, но исходящие от него самого (изученная Выготским «эгоцентрическая» речь детей, находящая параллель и в некоторых обществах, где коллективный монолог или эгоцентрическая речь взрослых сохраняются как пережиточная форма общественного поведения); 3) команды, которые формируются внутри самого человека благодаря превращению внешних знаков во внутренние (например, внутренняя речь, которую Выготский описал как «эгоцентрическую» речь, перешедшую внутрь человека; этапом, непосредственно предшествующим внутренней речи, является произносимая вслух речь ребенка перед засыпанием, обязательным условием которой, в отличие от эгоцентрической речи в коллективе, является отсутствие слушателя — именно поэтому речь перед засыпанием была исследована с помощью магнитофонных 495 записей лишь в недалеком прошлом (см.: Weir H. R. Language in the crib. The Hague, 1962)). С этой точки зрения обучение может быть описано в кибернетических терминах как переход команд вовнутрь или как формирование в человеке программы. В статьях и лекциях 30-х годов, посвященных анализу восприятия, памяти и других высших психических функций, Выготский показывает, что эти функции в раннем возрасте еще не управляются самим человеком. Восприятие у взрослого человека может быть описано как перевод на язык эталонов, хранящихся или формируемых в памяти; в раннем возрасте не сформировался ни сам язык эталонов, ни правила (программа) перевода на него. Если управление восприятием, вниманием и памятью отсутствует у детей до определенного возраста, то программное управление эмоциями (аффектами) отсутствует и у многих взрослых (ср. различные практические психологические системы начиная с древнеиндийских, цель которых состоит в выработке такого управления). Эти идеи, хотя они изложены в работах Выготского в терминах, отличных от использованной выше кибернетической терминологии, имеют самое прямое отношение к важнейшим обсуждаемым в кибернетической литературе последних лет проблемам обучения и — шире — сравнения машины и мозга.
Большой цикл работ Выготского, экспериментально выполненных и написанных в 30-х годах, посвящен проблемам развития и распада высших психических функций, которые он исследовал диахронически (в их истории). В связи с этим Выготский исследует проблемы детской психологии, в том числе детского творчества, снова обращаясь к проблеме творчества, занимавшей его в первые годы научной деятельности, а также обучения, педагогики, педологии, дефектологии; в каждой из этих областей он делает крупные открытия. Особую ценность представляет данный им анализ соотношения языка и интеллектуальной деятельности в развитии ребенка (и в развитии человека в сравнении с животным). Выготскому принадлежит заслуга открытия принципиального различия между комплексными значениями слов, характерными для детской речи, но пережиточно сохраняющимися и в языке взрослых, и понятийными значениями, которые формируются у ребенка лишь на более позднем этапе его развития, постепенно преобразуя первоначально сложившиеся комплексные значения. Это различие имеет принципиальное значение также и для понимания разницы между семантикой поэтической речи и научным языком, и в особенности языком формализованных точных наук. Особую ценность для теории обучения и для общей семиотики представляет гипотеза Выготского, по которой осознание родного языка (усвоенного бессознательно) и начало формирования понятийного мышления относятся ко времени, когда ребенок усваивает другую знаковую систему — письменный язык (или иностранный язык), а затем знаковые системы арифметики и других наук. Характерное для многих работ Выготского предвосхищение позднейших научных открытий сказалось в данной им оригинальной трактовке проблемы языка и интеллекта у животных, где он не только оценил работы по языку пчел, тогда еще не нашедшие признания у лингвистов, но и высказал подтвердившуюся 496 позднее гипотезу о возможности выработки у обезьян знаков-жестов; в этом отношении его нельзя не признать одним из ученых, предвосхитивших выводы новой науки — зоосемиотики.
Для исследования занимавшей его в последние годы жизни проблемы структуры сознания Выготский широко использовал данные дефектологии и психологии, которыми, как и смежными областями медицины и экспериментальной психологии, он овладел настолько профессионально, что введенный им тест получил в мировой литературе его имя. Исходя из гипотезы, по которой при распаде сознания обычно на первый план выступают низшие (более примитивные) функции и центры, и из результатов обширной клинической работы Выготский предложил оригинальную концепцию локализации мозговых поражений (в том число и афазий — расстройств речи), позволяющую «наметить путь, ведущий от очаговых расстройств определенного рода к специфическому изменению всей личности в целом и образа ее жизни» (Выготский Л. С. Психология и учение о локализации. — «Первый всеукраинский съезд невропатологов и психиатров. Тезисы докладов». Харьков, 1934, с. 41). Классическим образцом анализа интеллектуальных речевых расстройств с точки зрения социальной психологии является статья Выготского о нарушении понятий при шизофрении, в которой показано, как при распаде высших форм логического понятийного мышления возникают структуры, напоминающие ранние, или архаичные формы комплексного мышления. Исследование комплексного мышления и его пережитков в детской речи и в патологии представляет собой важную сторону психологических и лингвистических этюдов Выготского, которому удалось избежать того ошибочного интеллектуализирования (и логизации) языка и личности, которое распространилось в последующие годы у многих авторов (отчасти и здесь можно наметить связь последних работ Выготского с его наиболее ранними трудами). Исследование структуры личности и соотношения интеллекта и аффекта занимало Выготского в последние годы его жизни, когда он работал над трудом об учении о страстях у Спинозы (написанные части этой работы, представляющей интерес и для истории философии, относятся прежде всего к Декарту).
Ранняя смерть оборвала жизнь этого ученого с чертами гениальности, оставившего по себе неизгладимый след в целом комплексе социальных и биологических наук о человеке (психологии, психиатрии, дефектологии, педагогике, педологии, лингвистике, литературоведении), в том числе и в таких, которые при его жизни еще не существовали (психолингвистика, семиотика, кибернетика). Посмертно (в 1934 – 1935 годы) был напечатан целый ряд работ Выготского, имеющих первостепенное значение (в том числе «Мышление и речь» и сборник статей Выготского «Умственное развитие детей в процессе обучения»). После 1956 года появляются издания его работ и исследования о нем, и становится все более отчетливым его огромное влияние на всю психологическую науку в нашей стране. После выхода в свет в 1962 году американского издания перевода книги «Мышление и речь» Выготский быстро получает признание как один из крупнейших 497 психологов первой половины XX века. Об этом свидетельствуют такие высказывания, как, например, характеристика профессора психологии Лондонского университета Бернстейна, указавшего, что продолжение работ Выготского, наметившего путь к объединению биологических и социальных исследований, может иметь для науки не меньшее значение, чем расшифровка генетического кода.
См. о Л. С. Выготском:
Леонтьев А. Н., Лурия А. Р. Психологические воззрения Л. С. Выготского. — Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М., 1956, с. 4 – 36.
Колбановский В. Н. О психологических взглядах Л. С. Выготского. — «Вопр. психологии», 1956, № 5, с. 104 – 133.
Научное творчество Л. С. Выготского и современная психология. М., 1981.
Леонтьев А. Н., Лурия А. Р. Из истории становления психологических взглядов Л. С. Выготского. — «Вопр. психологии», 1976, № 6, с. 83 – 94.
Ярошевский М. Г., Ткаченко А. Н. Анализ концепции Л. С. Выготского в трудах А. Р. Лурия. — В кн.: А. Р. Лурия и современная психология. М., 1982, с. 21 – 28.
Ярошевский М. Г., Гургенидзе Г. С. Л. С. Выготский — исследователь проблем методологии науки. — «Вопр. философии», 1977, № 8, с. 91 – 105.
Ярошевский М. Г., Гургенидзе Г. С. Л. С. Выготский о природе психики. — «Вопр. философии», 1981, № 1, с. 142 – 154.
Эльконин Д. В. Проблема обучения и развития в трудах Л. С. Выготского. — «Вопр. психологии», 1966, № 6, с. 33 – 42.
Эльконин Д. Б. Проблемы психологии детской игры в работах Л. С. Выготского, его сотрудников и последователей. — «Вопр. психологии», 1976, № 6, с. 94 – 102.
Мазур Е. С. Проблема смысловой регуляции в свете идей Л. С. Выготского. — «Вестн. МГУ. Психология», 1983, № 1, с. 31 – 40.
Левина Р. Е. Идеи Выготского о планирующей функции речи. — «Вопр. психологии», 1968, № 4, с. 105 – 115.
Зинченко В. П. Идеи Л. С. Выготского о единицах анализа психики. — «Психологический журн.», 1981, № 2, с. 118 – 133.
Запорожец А. В. Роль Л. С. Выготского в разработке проблем восприятия. — «Вопр. психологии», 1966, № 6, с. 13 – 28.
Давыдов В. В., Радзиховский Л. А. Теория Л. С. Выготского и деятельностный подход в психологии. — «Вопр. психологии», 1980, № 6, с. 48 – 59; 1981, № 1, с. 67 – 80.
Давыдов В. В. Проблема обобщения в трудах Л. С. Выготского. — «Вопр. психологии», 1966, № 6, с. 42 – 55.
Библер В. С. Понимание Л. С. Выготским внутренней речи и логика диалога (еще раз о предмете психологии) — В кн.: Методологические проблемы психологии личности. М., 1981, с. 117 – 134.
Библер В. С. Мышление как творчество. М., 1975.
Лучков Л. Я., Певзнер М. С. Значение теории Л. С. Выготского для психологии и дефектологии. — «Вестн. МГУ. Психология», 1981, № 4, с. 60 – 70.
498 Шахлевич Т. М. О дефектологических трудах Л. С. Выготского. — «Дефектология», 1974, № 3, с. 76 – 80.
Замский К. С. Лев Семенович Выготский как дефектолог. — «Дефектология», 1971, № 6, с. 3 – 9.
Шахлевич Т. М. Л. С. Выготский о целях и задачах обучения и воспитания аномальных детей. — В кн.: Пути повышения сознательности учения во вспомогательной школе. Ташкент, 1975, т. 155, с. 89 – 92.
Bruner S. J. Introduction to: L. S. Vygotsky, Thought and Language. Cambridge, Mass., 1962.
Piaget J. Comments to Vygotsky’s critical remarks concerning. — In: The Language and Thought of the Child. Cambridge (Mass.), 1962.
Weinreich U. Review: «“Thought and Language” by L. S. Vygotsky». — «American Antropologist», 65, 1963, № 6, p. 1401 – 1404.
О «Психологии искусства» см.:
Берхин Н. В. Общие проблемы психологии искусства. М., 1981, с. 7 – 24.
Берхин Н. Б. Из истории советской психологии искусства. — В кн.: Актуальные проблемы истории психологии. Ереван, 1982, с. 60 – 67.
Сендерович С. Функциональный анализ искусства. — «Вопр. лит.», 1966, № 3, с. 209 – 215.
Vegetti M. S. Arte e psicoanalisi in una scritto di L. S. Vygot-skij. — «La cultura», 1971, № 9, p. 317 – 406.
Vegetti M. S. Una psicologia della creativita. — «Riforma delta bcuola», 1972, № 12, p. 35 – 37.
«Психология искусства», впервые изданная через сорок лет после ее окончания в 1965 году (М., «Искусство»; 2-е изд. — 1968 год), вышла затем в переводах на венгерский (Müveszet pszichológia. Budapest, «Kossuth Kiado», 1968), японский (Geijutsu shiurigaku. Tokyo, «Meiji tosho schuppan», 1971), английский (Psychology ol art. Cambridge — Mass., «M. I. T. Press», 1971), испанский (Psicologia del arte. Barcelona, «Barral», 1972), итальянский (Psicologia dell’arte. Roma, «Editori Riuniti», 1972), румынский (Psihologia artei. Bucuresti, «Univers», 1973), немецкий (Psychologie der Kunst. Dresden, «Verlag der Kunst», 1976), чешский (Psychologie umeni. Praha, «Literárnevedná ráda», 1981) языки.
Hyden С. Psykologi och revolutionen. L. S. Vygotsky och den sovjetiska psykologins utveckling. Stockholm, 1978.
Wertsch J. V. From social interaction to higher psychogical processes. A clarification and application of Vygotsky’s theory, — «Human development», 1979, № 22, p. 1 – 22.
Phillips S. The contribution of L. S. Vygotsky to cognitive psychology. — «Alberta Journal of educational research», 1977, № 23, p. 31 – 42.
Mecacci L. Vygotskij: per una psicologia dell’uomo. — «Riforma della scuola», 1979, № 27 (7), p. 24 – 30.
Brown A. L. Vygotsky: a man for all seasons. — «Contemporary psychology», 1979, № 24, p. 161 – 163.
Ponzio A. Leggende insieme Vygotskyij e Bachtin. — «Scienze umane», 1979, № 1, p. 123 – 134.
499 Di Lisa О. Linguaggio, potere e ideologia: Vygotskij e Bach-tin. — «Prospettive settanta», 1980, № 2.
Fodor J. Some reflections on Vygolsky’s Thought and Language. — «Cognition», 1972, № 1, p. 83 – 95.
Rigottl E. Il problema della filosofia della lingua in L. S. Vygotskij ed altri autori sovietici. — «Rivista di filosofia neoscolastica», 1969, № 1, p. 38 – 71.
Robustelli F. Evoluzione biologica e evoluzione culturale in Vygotskij ed altri autori sovietici. — «Scienze umane», 1980, № 1, p. 165 – 174.
Bain B. Towards an integration of Piaget and Vygotsky bilingual considerations. — «Linguistics», 1978, № 160, p. 5 – 19.
Stewin L., Martin J. The development stages of L. S. Vygotsky and J. Piaget: a comparison. — «Alberta Journal of educational research», 1977, № 23, p. 31 – 42.
Orsolini M. La formazione dei concetti in Piaget, Bruner e Vygotskij. — «Scuola e citta», 1979, № 6 – 7, p. 261 – 270.
Loschi T. Il linguaggio del bambino: le ipotesi di Piaget e Vygotskij. — «Vita d'Infanzio», 1975, № 12, p. 23 – 35.
Gillisen Y., Hendrik Т., Kiens H., Vonchen J. De tegensteelig Vygotsky — Piaget. — «Psychologie en maatschappij», 1977, № 2, p. 57 – 69.
Hewes D., Evans D. Three theories of egocentric speech: a con-trastive analysis (Communication Monographs, № 45), 1978.
Kohlberg L., Yaeger J., Hjerthol E. Private speech: four studies and a review of theories, — «Child Development», 1968, № 39, p. 691 – 736.
Wertsct J. V The significance of dialogue in Vygotsky’s account of social, egocentric and inner speech. — «Contemporary Educational Psychology», 1980, № 5, p. 150 – 162.
Fredericks S. Vygotsky on language skills. — «Classical World», 1974, № 67, p. 283 – 290.
Salmaso D. Vygotskij, Luria e la neuropsicologia. — «Storiaecritica della psicologia». 1980, vol. 1, № 1, p. 53 – 59.
Sutton A. Cultural disadvantaqe and Vygotsky’s stages of development. — «Educational Studies», 1980, vol. 2, № 3, p. 199 – 209.
Tornatore L. Vygotskij e l’educazione linguistica. — «Scuola e citta», 1980, № 31, p. 251 – 256.
Lecaldano E. Psicologia ed educazione secondo Vygotskij — «La ricercha», 1969, 1 apr., p. 1 – 4.
Manacorda M. A. La pedagogia di Vygotskij. — «Riforma deila scuola», 1978, № 26, p. 31 – 39.
Levi G. Alsune idee di Vygotskij sullo sviluppo e il rilardo mentale nel bambino. — «Eta evolutive», 1981, № 8, p. 87 – 90.
Musalti T. Vygotskij e la psicologia dell’ eto evolutive. — «Eta evolutiva», 1981, № 8, p. 69 – 75.
Scaparto F., Morganii S. Osservazioni su L. S. Vygotskij e la psicologia del gioco, — «Eta evolutiva», 1981, № 8, p. 81 – 86.
Лейтмотивом сквозь все научное творчество Выготского проходит его интерес к слову и к знаку, к соотношению интеллекта и аффекта, личности и коллектива. Поэтому его монография «Психология искусства», посвященная именно этим проблемам на материале искусства слова, представляет большой интерес не 500 только сама по себе, но и как звено в развитии творчества этого большого ученого.
В основу первого издания «Психологии искусства» лег машинописный текст книги, подготовленный к печати Выготским. При редактировании в тексте были сделаны незначительные сокращения за счет не имеющих принципиального значения цитат.
При подготовке второго издания текст был сверен с обнаруженной Н. И. Клейманом в архиве С. М. Эйзенштейна беловой машинописной рукописью с авторской правкой Выготского. В комментарий ко второму изданию включены примечания Выготского; они выделены звездочкой.
Текст монографии о «Гамлете» сверен с рукописными тетрадями Л. С. Выготского.
Составитель и издательство приносят искреннюю благодарность Ю. Н. Попову и Н. А. Сверчкову, проделавшим большую работу при подготовке первого издания.
2 «Три литературных исследования — о Крылове, о Гамлете…». — Раннее исследование Выготского «Трагедия о Гамлете, принце Датском, В. Шекспира» сохранилось в его архиве в двух вариантах: 1) черновом, датированном 5 августа – 12 сентября 1915 года (с указанием места написания — Гомель) и 2) беловом, с датой 14 февраля – 28 марта 1916 года (и указанием места написания — Москва), В настоящем издании воспроизводится текст белового варианта.
3 * Напечатаны: «Летопись» Горького за 1916 – 1917 годы о новом театре, о романах Белого, о Мережковском, В. Иванове и других: в «Жизни искусства» за 1922 год; о Шекспире — «Новая жизнь» за 1917 год; об Айхенвальде — «Новый путь» за 1915 – 1917 годы.
4 * Ср.: Евлахов А. М. Введение в философию художественного творчества. Т. 3. Ростов-на-Дону, 1917. Автор заканчивает рассмотрение каждой системы и заканчивает каждую из шести глав своего тома подглавкой-выводом: «Необходимость эстетикопсихологических предпосылок».
5 * Сходным методом воссоздает З. Фрейд психологию остроумия в своей книге «Остроумие и его отношение к бессознательному» (Современные проблемы. М., 1925). Сходный метод положен и в основу исследования проф. Ф. Зелинским ритма художественной речи — от анализа формы к воссозданию безличной психологии этой формы. См.: Зелинский Ф. Ритмика художественной речи и ее психологические основания («Вести, психологии», 1906, вып. 2, 4), где дана психологическая сводка результатов.
6 «… мы не интерпретируем эти знаки как проявление душевной организации автора или его читателей». — В позднейших работах Л. С. Выготского была развита оригинальная теория управления человеческим поведением посредством знаков (см.: Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. М., 1960 (сборник исследований, написанных в 30-х годах, но впервые изданных в 1960 году)). Идеи, сформулированные Выготским в 30-х годах, созвучны современным представлениям о роли семиотических (знаковых) систем в человеческой культуре. Но и в современной семиотике и кибернетике, несмотря на специфическое для кибернетики внимание к проблемам управления, никто еще не подчеркивал 501 управляющей роли знаковых систем с такой отчетливостью, как Выготский (см. о его работах в этой связи: Ivanov V. La semiotica e le scienze umanistiche. — «Questo e altro», 1964, № 6 – 7, p. 58; Иванов В. В. Семиотика и ее роль в кибернетическом исследовании человека и коллектива. — В кн.: Логическая структура научного знания. М., 1965).
7 «Мы пытаемся изучать чистую и безличную психологию искусства…». — Сходная задача исследования модели художественного произведения, которая не зависит от индивидуальной психологии читателя и автора, ставится и в новейших исследованиях, применяющих кибернетические представления (см., например: Машинный перевод. «Труды Института точной механики и вычислительной техники АН СССР», вып. 2. М., 1964, с. 372 (ср. там же сопоставление с теорией dhvani в древнеиндийской поэтике)).
8 «Моя мысль слагалась под знаком слов Спинозы…». — Выготский до конца своей жизни продолжал изучать Спинозу, которому посвящена последняя его монография (об аффекте и интеллекте).
9 * Очень любопытно, что немецкие психологи говорят об эстетическом поведении, а не об удовольствии. Мы избегаем этого термина, который не может еще, при современном развитии объективной психологии, быть оправдан реальным содержанием. Однако знаменательно и то, что, когда психологи все еще говорят об удовольствии, они имеют в виду поведение, связанное с объектом искусства как с раздражителем (Кюльпе, Мюллер-Фрейенфельс и другие).
10 «… искусство может сделаться предметом научного изучения… когда оно будет рассматриваться… как одна из жизненных функций общества…». — Ср. опыт социологического исследования классического романа и современного «нового романа»: Problemes d’une sociologie du roman. Edition de Flnstitut de sociologie. Bruxelles. 1963; см. также: Kofler L. Zur Theorie der modernen Literatur Der Avantgardismus in soziologischer Sicht. Neuwied am Rhein — Berlin — Spandau, 1962; Adorno Th. W. Ideen zur Musiksoziologie, «Klangfiguren (Musikalische Schriften I)». Berlin — Frankfurt, 1959; Его же. Einleitung in die Musiksoziologie. Frankfurt, 1962; Belianes M. Sociologie musicale. Paris, 1921; Silbermann A. Sociologie de la musique. Paris, 1951.
11 «..научное рассмотрение искусства на основе тех же самых принципов, которые применяются для изучения всех форм и явлений общественной жизни».— Из позднейших исследований советских авторов, посвященных социологии искусства, следует особенно отметить литературоведческие труды В. Р. Гриба; см.: Гриб В. Р. Избранные работы. М., 1956. Интересны и работы Б. Асафьева в области музыковедения, начатые в 20-е годы, см.: Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Л., 1963; ср.: Соллертинский И. И. Исторические этюды. Л., 1963, и др.
12 * Социальные механизмы в нашей технике не отменяют действия биологических и не заступают их места, а заставляют их действовать в известном направлении, подчиняют их себе, подобно тому как биологические механизмы не отменяют законов механики и не заступают их, а подчиняют их себе. Социальное 502 надстраивается в нашем организме над биологическим, как биологическое над механическим.
13 «… на долю личного авторского творчества следует отнести… перенесение одних традиционных элементов в другие, системы». — Применительно к творчеству таких поэтов, как Пушкин, роль литературной традиции отчетливо выявлена объективными методами благодаря статистическому исследованию русского стиха, показавшему зависимость каждого поэта от действующих стихотворных норм его времени, см. в особенности: Томашевский Б. В. О стихе. Л., 1929; Шенгели Г. А. Трактат о русском стихе. М.-Пг., 1923; Тарановски К. Руски двоеделни ритмови. Београд, 1953, а также серию статей А. Н. Колмогорова и его сотрудников: Колмогоров А. Н., Кондратов А. М. Ритмика поэм Маяковского. — «Вопр. языкознания», 1962, № 3; Колмогоров А. Н. К изучению ритмики Маяковского. — «Вопр. языкознания», 1963, № 4; Колмогоров А. Н., Прохоров А. В. О дольнике современной русской поэзии. — «Вопр. языкознания», 1963, № 4, 1964, № 1; ср. также: Гаспаров М. Л. Статистическое обследование русского трехударного дольника. — «Теория вероятностей и ее применения», т. 8, вып. 1, 1963; Колмогоров А. Н. Замечания об исследовании ритма «Стихов о советском паспорте» Маяковского. — «Вопр. языкознания», 1965, № 3; Его же. О метре пушкинских «Песен западных славян». — «Рус. литература», 1966, № 1; Его же. О взаимоотношении стихотворного ритма и тематики. — Бобров С. П. Опыт изучения вольного стиха пушкинских «Песен западных славян». — «Теория вероятностей и ее применения», т. 9, вып. 2, 1964; Его же. К вопросу о подлинном стихотворном размере пушкинских «Песен западных славян». — «Рус. литература», 1964, № 3; Гаспаров М. Л. Вольный хорей и вольный ямб Маяковского. — «Вопр. языкознания», 1965, № 3; Его же. Античный триметр и русский ямб. — «Вопр. античной литературы и классической филологии». М., 1966; Иванов В. В. Ритм поэмы Маяковского «Человек». — В кн.: Poetics. Poetyka. Поэтика, 2. The Hague — Paris — Warszawa, 1966; Его же. Ритмическое строение «Баллады о цирке» Межирова. — Там же; Тарановский К. Основные задачи статистического изучения славянского стиха, — Там же; Его же. Методе и задаци савремене науке о стиху као дисциплине на граници лингвистике и истриjе книжевности. — «III Меhунагорни конгрес слависта». Београд, 1939; Его же. Руски чстверостопнп jaмб у првим двема децениjама XX века. — «Jужнословенскц филолог», 21, 1955 – 1956; Его же. Стихосложение Осина Мандельштама (с 1908 по 1925 г.). — «International Journal of Slavic linguistics and poetics», 1962, № 5; «American contributions to the Fifth International congress of slavists». Sofia, 1963, The Hague, 1963; Taranovski K. Metrics. — In: Current trends in linguistics, 1. Sowiet and East European linguistics. The Hague, 1963.
14 * За основу исследования, за его исходную точку объективно аналитический метод берет различие, обнаруживающееся между эстетическим и неэстетическим объектом. Элементы художественного произведения существуют до него, и их действие более или менее изучено. Новым для искусства фактом является способ построения этих элементов. Следовательно, именно в различии художественной структуры элементов и внеэстетического 503 их объединения ключ к разгадке специфических особенностей искусства. Основной способ исследования — сравнение с внехудожественным построением тех же элементов. Вот почему предметом анализа служит форма; она и есть то, что отличает искусства от неискусства: все содержание искусства возможно и как совершенно внеэстетический факт.
15 «… мышь когда-то обозначала — “вор”…». — Имеется в виду предполагаемое многими учеными сближение древнеиндийского «mus» — «мышь» и глагола «mus-ha-ti» — «он ворует».
16 «… этимологически слово “луна” обозначает нечто капризное…». — Этимологически русское «луна» связано с корнем «светить» (ср. латинское lux — «свет» и т. п.), ср. украинское луна — «отблеск, зарево» и т. п.
17 «… в произведении искусства образ относится к содержанию, как в слове представление к чувственному образу или понятию». — В терминологии более новых семиотических исследований можно говорить о соотношении знака, концепта этого знака (то есть смысла или понятия, выражаемого этим знаком) и его денотата (предмета или класса предметов, к которому он относится); под внутренней формой имеются в виду такие случаи, когда концепт некоторого знака (например, «вор») становится денотатом для другого знака (имеющего другой концепт — «мышь»), что особенно характерно для естественных языков. Ср.: Черч А. Введение в математическую логику. М., 1960, с. 19. Понятие внутренней формы было подвергнуто рассмотрению в трудах Г. Г. Шпета и А. Марти; см.: Шпет Г. Внутренняя форма слова (Этюды и вариации на темы Гумбольдта). М., 1927 (ср. в особенности анализ эстетической проблематики внутренней формы в поэтическом языке на с. 141 и след.); Funke О. Innere Sprachform. Eine Einiuhrung in A. Martys Sprachphilosophie. Reichenberg, 1924; Марти А. О понятии и методе всеобщей грамматики и философии — языка. — В кн.: История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 2. М., 1965, с. 12; анализ идей Гумбольдта в сравнении с современной наукой о языке дается в исследовании: Chomsky N. Cartesian linguistics. New York, 1966. Сопоставление структуры знака («символа») в языке и в искусств было последовательно проведено в труде: Cassirer E. Philosophie der symbolischen Formen. Bd 1 – 3. Berlin, 1923 – 1929, а позднее — в исследовании: Langer S. Philosophy in a new key. Cambridge, 1942, и в ряде работ по семантике и семиотике, в частности в работах Ч. Морриса, см.: Современная книга по эстетике. М., 1957; Morns Ch., Hamilton D. Aesthetics, signes and icons. — «Philosophy and phenomenological research», 25. 1965, № 3: ср., Schaper E. The art symbol. — «British Journal of Aesthetics». 1964. № 3.
18 «… поэзия или искусство есть особый способ мышления…». — Понимание искусства как способа познания, близкого к научному, особенно отчетливо проявилось в эстетических воззрениях Б. Брехта (и в его концепции «интеллектуального театра») и С. М. Эйзенштейна (в его концепции «интеллектуального кино» — см. в особенности статьи: Эйзенштейн С. М. Перспективы. — В кн.: Эйзенштейн С. М. Избр. произв. в 6-ти т. М., 1964 – 1971; т. 2, с. 35 – 44; За кадром, там же, с. 283 – 296 и др.). Применительно к проблематике языка литературы вопрос о соотношении науки и искусства 504 детально рассмотрен в последней книге Хаксли. См.: Huxley A. Literature and science. London, 1963.
19 «… двустишие Мандельштама». — Последние две строки стихотворения О, Мандельштама, первые две строки которого стоят эпиграфом к седьмой главе книги Л. С. Выготского «Мышление и речь» (см.: Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М., 1956, с. 320; в этом издании источник, откуда взят эпиграф, не назван; ср.: Выготский Л. С. Собр. соч., т. 2, с. 295), Ввиду важности этого стихотворения для Выготского, о чем свидетельствуют указанные места двух его книг (первой и последней), текст стихотворения приводится полностью.
«Я слово позабыл, что я хотел сказать,
Слепая ласточка в чертог теней вернется,
На крыльях срезанных, с прозрачными играть.
В беспамятстве ночная песнь поется.
Не слышно птиц. Бессмертник не цветет.
Прозрачны гривы табуна ночного.
В сухой реке пустой челнок плывет.
Среди кузнечков беспамятствует слово.
И медленно растет, как бы шатер иль храм,
То вдруг прикинется безумной Антигоной,
То мертвой ласточкой бросается к ногам.
С стигийской нежностью и веткою зеленой.
О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья,
Я так боюсь рыданья Аонид,
Тумана, звона и зиянья.
А смертным власть дана любить и узнавать,
Для них и звук в персты прольется,
Но я забыл, что я хочу сказать,
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.
Все не о том прозрачная твердит,
Все ласточка, подружка, Антигона…
А на губах как черный лед горит
Стигийского воспоминанье звона».
20 На русском языке В. Жирмунский на примере стихотворения Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных» иллюстрирует главную мысль Т. Мейера. См. статью В. М. Жирмунского «Задачи поэтики» в книге «Задачи и методы изучения искусств» (Пг., «Academia», 1924, с. 129 и след.).
21 «… истинное значение найденных формалистами знаков остранения…» — Прием остранения (соответствующий «эффекту отчуждения» в эстетической теории Б. Брехта; см.: Брехт Б. О театре. М., 1960) понимался В. Б. Шкловским и другими представителями формальной школы как способ уничтожения автоматизма восприятия. Этот прием мог бы быть осмыслен с точки зрения теории информации, позволяющей оценить количество информации в некотором сообщении. Сообщение, которое заранее 505 полностью известно, не несет никакой информации (и поэтому воспринимается автоматически). Относительно возможностей применения теории информации к эстетике см.: Moles A. A. Théorie de l’ information esthétique. Paris, 1958 (русский перевод: Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966): Dorfles I. Communication and symbol in the work of art. — «The journal of aesthetics and art criticism», 1957; Porebski M. Teoria informacji a badania nad sztuka. — «Esthetyka», rocznik 3, 1962, s. 23 – 43; Frank H. Grundlagenprobleme der informationsästhetik und erste Anwendung auf die Mime pure. Stuttgart, 1959; Gunzenhäuser R. Aesthetisches Mass und ästhetische Information. Hamburg, 1962; Sense M. Aesthetische Information (Aesthetica II). Krefeld — Baden-Baden, 1956; Moles A. A. L’analyse des structures du message aux differents niveaux de la sensibilité. — «Poetyka», 1961, s. 811 – 826; Fonágy L. Informationsgehalt von Wort und Laut in der Dichtung; Ibid., S. 591 – 605; Abernathy R. Mathematical linguistics poetics; Ibid., p. 563 – 569; Leyy J. Teorie informace a literarni proces. — «Cacká literatura», II, 1963, № 4, s. 281 – 307; Его же. Předbežne poznámky z informačni analýze verše. — «Slovenská literatúra», 11, 1964; Krasnova N. К teorii informacie v literarney vede. — «Slovenská literatúra», 11, 1964; Trzynadlowski L Information theory and literary genres. — «Zagadnienia rodzajów literackich», 1961, 1 (6), p. 41 – 45; Sense M. Programmierung des Schönen. — «Allgemeine Texttheorie und Textästhetik», 4, 1950; Его же. Theorie der Texte. Eine Tinführung in neuere Auffassungen und Methoden. Köln, 1962; Todorov T. Precédés mathématiques dans les études litteraires. — «Annales Économic, Sociétés, Civilisations», 1965, № 3; Cohen J. E. Information theory and music. — «Behavioral Science», 1962, № 7; Pincerton R. C. Information theory and melody — «Scientific American», vol. 94, 1956, à 2; Ревзин И. П. Совещание в г. Горьком, посвященное применению математических методов к изучению языка художественной литературы. — В кн.: Структурно-типологические исследования. М., 1962.
22 «… проповедь заумного языка…». — Необходимо отметить, что обращение к проблеме зауми в нашей поэтике 10 – 20-х годов было сопряжено как с вниманием к параллельным экспериментам в творческой практике художников, так и с исследованием заумных элементов в фольклорных текстах, что в свою очередь повлияло на поэтическую практику Хлебникова, см.: Jakobson R. Retrospect. — In.: Selected Writings. Vol. 4. The Hague, 1966, p. 639 – 670. В более общем виде здесь речь идет об исключительно актуальной для всего современного искусства проблеме бессмысленного («абсурдного») в театре, восходящей еще к Чехову (ср. «тарарабумбия» в «Трех сестрах») и на еще более ранних образцах, рассматриваемой в книге Выготского. Проблема заумного языка (в частности, в связи с вопросом об изоляции — см. ниже) может быть решена сходным образом и применительно к новейшей западной литературе: так, в наиболее крупном художественном произведении, язык которого близок к принципам зауми, — в «Finnegans Wake» («Похоронное бдение финнеганцев») Джойса — можно отметить такое же проникновение смысла в заумный язык, которое Выготский устанавливает на материале произведений русских футуристов. В современной лингвистике сходные проблемы решаются при исследовании грамматически правильных фраз, 506 содержащих такие слова, которые обычно не используются в грамматических конструкциях данного типа. В языке современной поэзии такие фразы часто строятся в особых стилистических целях, ср. у крупнейшего английского поэта Дилона Томаса такие временные конструкции, как «a grief ago» (букв, «печаль тому назад»), «all the moon long» («целую лупу» — во временном смысле), «all the sun long» («целое солнце» — в таком же смысле). Подобные фразы с нарушением обычных для языка смысловых (в частности, временных) соотношений конструируются и темп современными языковедами, которые пытаются экспериментально и теоретически осмыслить проблему таких грамматически возможных фраз с необычным словарным составом, см.: Chomsky N. Aspects of the theory of syntax. Cambridge — Mass., 1965.
23 * А. Крученых в книге «Заумный язык» (М., 1925) приходит как раз к обратному выводу о судьбе заумного языка. Он констатирует «торжество зауми на всех фронтах». Он находит ее у Сейфуллиной, у Вс. Иванова, у Леонова, Бабеля, Пильняка, А. Веселого, даже у Демьяна Бедного. Так ли это? Факты, приводимые автором, убеждают нас, скорее, как раз в обратном. Заумь победила в осмысленном тексте, насыщаясь смыслом от того места в тексте, в котором заумное слово поставлено. Чистая заумь умерла. И когда сам автор «фрейдыбачит на психоаналитике» и занимается «психоложеством», он не доказывает этим торжества зауми — он образует очень осмысленные сложные слова из сочетания двух далеких по смыслу слов-элементов.
24 «… эксперимент явно показывает ошибочность выдвинутых воззрений». — Дальнейшее развитие формальной школы показало, что наиболее одаренные ее представители сами видели недостаточность одностороннего подхода к искусству, сказавшегося в некоторых из первых работ формалистов. В этом отношении показательна, например, статья Ю. Н. Тынянова и Р. О. Якобсона «Проблема изучения литературы и язык» («Нов. Леф», 1928, № 12, с. 36 – 37), где отчетливо формулировалась необходимость связи литературоведческого анализа с социологическим: «Вопрос о конкретном выборе пути или по крайней мере доминанты может быть решен только путем анализа соотнесенности литературного ряда с прочими историческими рядами. Эта соотнесенность (система систем) имеет свои подлежащие исследованию структурные законы» (там же, с. 37). Постепенное включение в сферу исследования семантических проблем, то есть изучения содержания вещи, отмечается в качестве характерной черты развития ученых, принадлежащих к формальной школе, автором наиболее полного исследования этой школы В. Эрлихом (см.: Erlich V. Russian formalism. History — Doctrine, ’s-Gravenhage, 1954), где в этой связи особенно выделены статьи Р. О. Якобсона (Jakobson R. Randbemerkungen zur Prosa des Dichters Pasternak. — «Slavische Rundschau», 7, 1935, S. 357 – 374). Из более поздних литературоведческих исследований Р. О. Якобсона в этом плане особенно важны следующие разборы отдельных стихотворений на формальных и содержательных уровнях: Jakobson R., Levi-Strauss S. «Les chats» de Charles Baudelaire. — «L’Homme», 1962, janv. — april: Якобсон Р. Строка Махи о зове горлицы. — «International Journal of Slavic linguistics and poetics», 3, 1960, p. 1 – 20; Его же. Структурата 507 на последнего Ботево стихотворение. — «Езык и литература», 16, 1961, № 2; ср. также: Jakobson R. Linguistics and poetics. — In.: Style in Language, ed. T. A. Sebeok. New York. 1960; Якобсон Р. Поэзия грамматики и грамматика поэзии. — In. Poetyka, Warszawa, 1960; Jakobson R., Cazacu B. Analyse du poème Revedere, de Mihail Eminescu. — «Cahiers de linguistiques théoretiques et appliquées», 1962, № 1; Jakobson R. «Prześlośc» Cypriana Norwida. — «Pamiétnik literacki», 54, 1963, № 2; Его же. Language in operation. — In.: Mélanges Alexandre Koyré, Paris, 1964; Его же. Dergrammatische Bau des Gedicnts von B. Brecht «Wir sind Sie». — In.: Beiträge zur Sprachwissenschaft, Volkskunde und Literaturforschung, Berlin, 1965; Его же. Selected Writings. Vol. 3. The Hague, 1966. Как подчеркивал еще в 1927 году Б. М. Эйхенбаум, исследование формы как таковой на протяжении первого же десятилетия развития формальной школы привело к исследованию функции этой формы (Эйхенбаум Б. М. Теория «формального метода». — В кн.: Эйхенбаум Б. М. Литература. Теория. Критика. Полемика. Л., 1927, с. 149 – 165). Близкий к этому функциональный подход был развит в работах Пражской школы, ср.: Mukarovsky L Strikturalismus v estetice a ve vede о literature, «Kapitoly z ceské poetiky», dil 1. Praha, 1948. Общий обзор проблем исследования структур и функций в современном литературоведении дается в статье: Wellek R. Concepts of form and structure in twentieth century criticism. — «Neophilologus», 67, 1958, p. 2 – 11; см. также: Wellek R., Warren A. Theory of Literature. Ed. 4-th, New York (где специально рассматривается вопрос о роли исследования психологических структур в литературоведении); Aerol A. Why structure in fiction; a note to social scientists. — «American Quaterly», 10, 1958; см. также хрестоматии классических работ русской формальной школы — «Readings in Russian poetics», «Michigan Slavic Materials», № 2, Ann Arbor, 1962; «Théorie de la Htterature. Textes des formalistes russes», réunis, présentes et traduits par T. Todorov. Paris, 1965, и примыкавшего к ней Пражского лингвистического кружка «A Prague school Reader on Aesthetics, literary structure and style», ed. by P. Garvin. Washington, 1959. Опыт оценки наследия формальной школы дается в работах: Strada V. Formalismo e ncoformalismo. — «Questo e altro», 1964, № 6 – 7, p. 51 – 56. Ср. также замечания в кн.: Лотман Ю. М. Лекции по структурной поэтике. — «Учен. зап. Тартуского гос. ун-та», вып. 160 («Труды по знаковым системам», вып. 1). Тарту, 1964; Иванов В. В., Зарипов Р. Х. Послесловие. — В кн.: Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966; Genette G. Structuralisme et critique littéraire. — «L’Arc», 26, 1965; Rossi A. Structuralismo e analisi Hteraria. — «Paragone. Rivista di arte figurativa e letteratura», 15, 1964, № 180; Todorov T. L’héritage méthodologie du formalisme. — «L’homme», vol. 5, 1965, № 1; Wierzbicka A. Rosyjska szkola poctyki Hguistycznej a jezoznawstwo strukturalne. — «Pamietnik Literacki», 56, 1965, s. 2. В последней из указанных статей проводится сопоставление работ, примыкавших к Опоязу ученых и позднейших достижений структурной лингвистики. В настоящее время начато плодотворное сближение работ, продолжающих те же традиции, и новейших методов изучения языка.
Движение от исследования формальной структуры текста к 508 его семантической и исторической интерпретации может быть прослежено особенно наглядно на примере работ В. Я. Проппа по волшебной сказке: за первым исследованием, подробно анализировавшим структуру следования мотивов друг за другом в формальной схеме сказки (Пропп В. Я. Морфология сказки. Л., 1928), последовала другая работа, дававшая социологическую интерпретацию структуры этой схемы и ее происхождения (Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946); поэтому упреки в недостаточном привлечении семантической стороны могут возникнуть лишь при использовании первой работы без знакомства со второй (ср. дискуссию между В. Я. Проппом и К. Леви-Строссом в приложении к книге: Prорр V. J. Morfologia della fiaba. Torino, 1966. См. также: Greimas A. J. Sémantigue structural. Paris, 1966, с. 192 – 221 (анализ модели Проппа и ее развитие)). Относительно структурного анализа художественных фольклорных текстов, представляющих особо благоприятные условия для такого анализа, ср.: Bogatyrev P., Jakobson R. Die Folklore als besondere Form das Shaffents. — «Donum natalicium Schrijnen», Nijmegen-Utrecht, 1929, S, 900 – 913 (переиздано в кн.: Jakobson R. Selected Writings. Vol. 4. Slavic Studies. The Hague, 1966). Armstrong R. P. Content analysis in folkloristics. — In.: Trends in content analysis. Urbana, 1959, p. 151 – 170; Sebrok I. A. Toward a statistical contingency method in folklore research. — In.: Studies in folklore, ed. W. Edson. Bloomington, 1957; Lévi-Strauss C. Anthropologie structural. Paris, 1958; Его же. La geste d’Asdiwal. — «Ecole pratique du Hautes Etudes», ann. 1958 – 1969, p. 3 – 43; Его же. La structure et la forme. — «Cahiers de l’Institut de science economique appliquée. Recherches et dialogues philosophiques et économiques», 1960, № 29, mars, serie M, № 7, p. 7 – 36; Его же. Analyse morphologique des contes ruses. — «International Journal of Slavic linguistics and poetics», 1960, № 3; ср. также: Его же. La pensee sauvage. Paris, 1962; Его же. Le cru et le cuit. Paris, 1964; Pouillon J. L’analyse des mythes. — «L’homme», 1966, vol. 6, cahier 1; Greimas A. J. La description de la signification et la mythologie comparee. — «L’homme», 1963, vol. 3, № 4. В 30-х годах непосредственным продолжением работ формальной школы явились, с одной стороны, историко-литературные работы крупнейших ее представителей (прежде всего Ю. Н. Тынянова и Б. М. Эйхенбаума); с другой стороны, исследование романов Достоевского, предпринятое М. М. Бахтиным (см.: Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. Л., 1929; изд. 2-е, доп. — М., 1963) и ознаменовавшее собой новый шаг в анализе формальной и содержательной структуры романа (ср. также более позднюю его работу о Рабле: Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965). Постепенное вовлечение в сферу исследования семантики художественного произведения с сохранением всех важнейших достижений формального анализа составило отличительную особенность работ С. М. Эйзенштейна, где владение методами современной науки (в том числе и психологической) сочеталось с глубоким внутренним проникновением в суть исследуемого произведения. В частности, благодаря этому Эйзенштейну (как и Выготскому в настоящей книге) удалось избежать увлечения чисто синтаксической стороной 509 художественного произведения (то есть стороной, характеризующей лишь его внутреннюю структуру), свойственного многим теоретическим и практическим опытам в различных искусствах, относящимся к 20-м годам. Линия развития теоретических исследований здесь совпадает с ходом самого искусства, где на смену чисто формальным построениям все чаще приходят опыты их использования для выражения глубокой внутренней темы, отражающей исторический опыт (ср. хотя бы соответственно первые опыты атональной музыки и «Свидетеля из Варшавы» Шенберга; ранние вещи Пикассо и Брака эпохи зарождения кубизма и «Гернику» Пикассо, по времени написания — 1937 год — близкую к Четвертой и Пятой симфониям Шостаковича, и т. д.). Суммарную характеристику этого пути на примере Пикассо дает сам Эйзенштейн, говоря о «Гернике»: «Пожалуй, трудно найти — разве что рядом с “Destios’ами” Гойи (“Ужасы войны”) — более полное и вопиющее выражение внутренней трагической динамики человекоунижения. Но интересно, что даже на путях к тому, что здесь явилось взрывом пафоса социального негодования боевого испанца, — связь Пикассо с экстазом подмечалась в отношении самого метода его уже на более ранних этапах работы. Там экстатический взрыв не совпадает еще с революционной сущностью темы. И не от темы рождался взрыв. Там — своеобразным слоном в посудной лавке — Пикассо топтал всего-навсего лишь “космически установленный” ненавистный ему порядок вещей, как таковой. Не зная, куда бить в тех, кто повинен в социальном непорядке этого “порядка вещей”, он бил по “вещам” и по “порядку”, прежде чем в “Гернике” на мгновение “прозреть” — увидеть, где и в чем нелады и “первопричины”» (Эйзенштейн С. М. Неравнодушная природа. — В кн.: Эйзенштейн С. М. Избр. произв. Т. 3, с. 170). Следует заметить, что в кинематографической практике сходная концепция творчества Пикассо отражена в фильме Алена Рене «Герника», где осуществлен монтаж ранних вещей художника и фрагментов «Герники», объединяемых одной темой. См. также о «Гернике» Пикассо: Berger J. The success and failure of Picasso. — In.: Penguin Books. 1966, p. 164 – 170.
25 «Этот элементарный гедонизм… составляет едва ли не самое слабое место в психологической теории формализма». — Теория элементарного гедонизма, критикуемая здесь Выготским, была развита лишь в ранних работах В. Б. Шкловского и не может быть отнесена ко всем формалистам в целом.
26 «Теория эта стара как мир и бесконечное число раз подвергалась самой решительной критике». — Речь идет о различных теориях и мнениях, касающихся синэстетического восприятия отдельных звуковых единиц, их комплексов и т. д., а с другой стороны, их семантизации и — в более общем виде — семантизации всего звукового ряда поэтического произведения в целом. Научная постановка этих двух взаимосвязанных проблем (см. довольно полный их обзор в книге: Delbouille P. Poésie et sonorités. Pans, 1961; см. также Brock E. Der heutige Stand der Lautbedeutungslehre. — «Trivium», 1944, № 3, S. 199) была невозможна до появления фонологии, структурных методов и затем применения математического аппарата теории информации. В 20-е годы научное изучение этих проблем только начиналось, а до тех пор их 510 исследование велось без строгой методологии и обычно включало неправомерное обобщение — переход от наблюдений, касающихся ограниченных и специфических текстов (например, именно данного поэтического произведения) ко всей совокупности данного языка.
Более подробные данные об отмеченных разными авторами синэстетических реакциях на отдельные звуковые единицы — фонемы ср. в статье: Эйзенштейн С. М. Вертикальный монтаж. — В кн.: Эйзенштейн С. М. Избр. произв., т. 2, с. 200 и след., где приводится, между прочим, известный сонет Рембо, послуживший прообразом цитируемого Выготским замечания Бальмонта. Из русских поэтов новейшего времени особенно много попытками семантизации отдельных фонем занимался Хлебников (поэма «Зангези», многочисленные практические и теоретические опыты, см., например: Собрание произведений Велимира Хлебникова (т. 3, Л., 1931, с. 325); «Зр-реет, рвет, рассекает преграды, делает русла и рвы» и т. п.).
27 «… звуковая символика». — См., между прочим, Wundt W. Völkerpsychologie I, 1904. История проблемы — в указ, статье Дебруннера. Из новой литературы см.: Sapir E. A study in phonetique symbolism. — «Journal of Experimental Psychologic», 1929, № 12 («Selected writings in language, culture and personality». Berkeleu — Los-Angeles, 1951); La Drière G. Structure sound and meaning. — «Sound and poetry», ed. by N. Frye. New York, 1957, p. 85 – 108; Kayser W. Die Klangmalerei bei Harsdörffer. 2 AufL Cöttingen, 1962; Топоров В. Н. К описанию некоторых структур, характеризующих преимущественно низшие уровни в нескольких поэтических текстах. — «Учен. зап. Тартуского гос. ун-та», вып. 181 (Труды по знаковым системам, II). Тарту, 1966.
28 «… такие исследователи, как Нироп и Граммон…». — Работы этих исследователей, представителей психологической эстетики пользовались популярностью в те годы — см. реферат: Шкловский Влад. — В кн.: Сборники по теории поэтического языка. Вып. 1. Пг., 1916.
29 «Звуки могут сделаться выразительными, если этому содействует стих». — Относительно звуковой организации стиха см. статью: Поливанов Е. Д. Общий фонетический принцип всякой поэтической техники. — «Вопр. языкознания», 1963, № 1, с. 99 – 112 (ср. также исследования С. И. Бернштейна по звуковой структуре отдельных стихотворений и указанные выше работы Р. О. Якобсона). Особое значение имеют недавно изданные отрывки из работ по поэтике Ф. де Соссюра, в которых показано, что звуковая организация стиха (во всяком случае, в поэзии на многих древних индоевропейских языках) определялась ключевым по смыслу словом, звуки которого повторялись в других словах текста (причем само это слово могло и не быть названо в стихотворении), см.: Les anagrammes de Ferdinand de Saussure. — «Mercure de France», 1964. № 2; ср.: Jakobson R. Selected Writings. Vol. The Hague, 1966, p. 606 – 607; 680 – 686. В современной поэзии чаще всего при сходном построении ключевое слово называется, ср. построенное на основе звуковой структуры ключевого слова «Воронеж» четверостишие О. Мандельштама:
511 «Пусти меня, отдай меня, Воронеж —
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь —
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож».
Концепция такой звуковой организации стиха, где звуки задаются ключевым словом, позволяет перейти от исследования звуковой инструментовки и звуковых повторов как таковых (изученных Андреем Белым, а позднее — О. М. Бриком и другими теоретиками Опояза) к изучению связи этих повторов с темой данного стихотворения. Отдельное (ключевое) слово и здесь (как и в языке в целом) оказывается точкой пересечения звуковых и смысловых соотношений.
30 «… ближайшие причины художественного эффекта скрыты в бессознательном…». — Значение исследования бессознательных процессов в связи с кибернетическим изучением искусства в последнее время подчеркивается А. Н. Колмогоровым, ср.: Колмогоров А. Н. Автоматы и жизнь. — В кн.: Возможное и невозможное в кибернетике. М., 1963.
31 * Надо заметить, что есть случаи, говорящие как раз обратное. Дети часто стыдятся своих игр перед взрослыми и скрывают их, даже если ничего непозволительного в них нет. Особенно когда ребенок играет во взрослого, присутствие постороннего мешает ему и заставляет смущаться. Видимо, в этом черта сходства игры с позднейшими фантазиями и глубоко интимный корень игры.
32 «… искусство оказывается чем-то вроде терапевтического лечения…». — Любопытной иллюстрацией этого круга мыслей могу? послужить письма Р. М. Рильке того периода, когда он обсуждал возможность лечения с помощью психоанализа, указывая при этом, что лечение для него оказалось бы возможным только в том случае, если бы он никогда больше ничего не писал, см. письма Эмилию фон Гебзаттелю от 24 января 1912 года (Rilke R.-M. Briefe. Wiesbaden, 1950, S. 349) и Лу Андреас-Саломе от того же числа (Rilke R.-M. Briefe aus den Jahren 1907 bis 1914. Leipzig, 1933, S. 180). Пример художественной критики психоанализа, исходящий из аналогичной точки зрения, представляет последний цикл повестей Сэлинджера, главный герой которых — поэт Симур — погибает (заболевает неврозом и кончает с собой) после попытки пройти курс лечения психоанализом. В замысле Сэлинджера отчетливо противопоставлен психоанализ в его вульгаризованном эпигонском виде и поэтическое творчество, к представителям которого Сэлинджер относит самого Фрейда, но не его последователей (см. в особенности Salinger J. D. Seymeor-An Introduction u Raise High the Room Beaf, Carpenters. Русский перевод последней повести — в кн.: Сэлинджер Дж.-Д. Над пропастью во рожи. Выше стропила, плотники. М., 1965; о концепции Сэлинджера в целом, объясняющей и его отношение к психоанализу, см.: Завадская Е. В., Пятигорский А. М. Отзвуки культуры Востока в произведениях Дж.-Д. Сэлинджера. — «Народы Азии и Африки», 1966, № 3).
33 * Если правы психоаналитики (Ранк, Закс), что в художественном произведении основа всегда исходит из общечеловеческого 512 конфликта (Макбет — всякий честолюбец), становится непонятным, почему же меняются столь быстро все формы искусства. Да и вообще взгляд психоанализа сводит форму, то есть специфику искусства, к украшению, к заманке, к Vorlust, то есть вместо решения проблемы отважно перескакивает через нее.
34 «… бессознательное в искусстве становится социальным». — Критические замечания в адрес психоанализа, отчасти сходные с возражениями Л. С. Выготского, позднее привели к существенному видоизменению психоаналитической концепции искусства, прежде всего в работах К. Г. Юнга: см.: Jung С. G. Psychoanalyse und Dichtung; Jung С. G. Gestaltungen des Unbewussten. Zürich, 1950; Jung C. G. Seelenprobleme der Gegenwart. Zürich, 1946; Bodkin M. Archetypical patterns in poetry. Oxford, 1934; см. также краткое изложение эстетических идей Юнга в книгах: Верли М. Общее литературоведение. М., 1957, с. 167 – 171; Гилберт К., Кун Г. История эстетики. М., 1960, с. 596; Baudouin Ch. L’oeuvre de Jung et la psychologic complexe. Paris, 1963; об эстетике психоанализа см. также указанную выше антологию: Современная книга по эстетике. Стремление к выходу за пределы фрейдовского пансексуализма характерно и для ряда других исследователей, пытавшихся исследовать язык, искусство и другие знаковые системы с точки зрения теории бессознательного, ср., в частности, Sapir Е. Selected writings in language culture and personality, Berkeley — LosAngeles, 1951.
35 «… создают… необходимую для эстетического впечатления изоляцию от действительности». — Проблема изоляции, обсуждаемая в ряде мест данной книги, особенно остро встает в связи с характерным для разных видов искусства XX века включением вещи как факта без ее трансформации в состав художественного произведения (ср. включение в картину кусков бумаги, афиши и т. п. у раннего Брака и Пикассо; использование газетной хроники в «киноглазе» у Дос-Пассоса; «кино-правду» у Дзиги Вертова (см.: Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. М., 1966) и его новейших западных продолжателей и т. п.)
36 «… оно есть раньше всего действующее лицо не в силу того или иного характера, а в силу общих свойств своей жизни». — В экземпляре С. М. Эйзенштейна к этому месту на полях записано: «Верно и для комедии масок, и для Елисаветинского театра». Замечание: «Маска? Комедия масок?» сделано С. М. Эйзенштейном и раньше к месту в книге, где речь идет о сравнении с шахматной фигурой. Интерес к театру масок у Эйзенштейна согласуется с освоением опыта этого театра в его фильмах от мексиканского замысла (маски на народном празднике) до 2-й серии «Ивана Грозного». Роль животных в басне могла заинтересовать Эйзенштейна также и в связи со «звериными» метафорами, используемыми при изображении людей в ранних его фильмах («Стачка», «Октябрь»).
37 «… герой есть только шахматная фигура…». — Понимание героя как шахматной фигуры, то есть как точки пересечения определенных структурных соотношений, согласуется с аналогичным пониманием знака естественного языка в структурной лингвистике, начиная с Соссюра (Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики, М., 1933), и знака формализованного языка в математике. Поэтому 513 данная мысль представляет особый интерес для семиотического сравнения искусства с другими системами знаков. Сходную мысль (позднее Выготского) развивал Пропп в работе о морфологической структуре волшебной сказки, где герои сказки рассматриваются как точки пересечения функций.
38 «… внутри нашей, басни содержится логический порок». — К этому месту книги в экземпляре С. М. Эйзенштейна, часто писавшего заметки для себя на разных языках, на полях написано по-английски: «True to any art» («Верно по отношению к любому искусству»).
39 * Такую же роль «мораль» начала играть в целом ряде других произведений. Напомню очень поучительную для выяснения роль этого элемента морали «Домика в Коломне» Пушкина:
«— Да нет ли хоть у вас нравоученья.
— Нет… или есть: минуточку терпенья.
Вот вам мораль: по мненью моему,
Кухарку даром нанимать опасно;
Кто ж родился мужчиною — тому
Рядиться к юбку странно и напрасно.
Когда-нибудь придется же ему
Брить бороду себе, что несогласно
С природой дамской. Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего».
40 «… тот особый тон рассказчика…». — Здесь для анализа басни используется теория «сказа», которая была в 20-х годах разработана представителями формальной школы (прежде всего Б. М. Эйхенбаумом) и уже позднее М. М. Бахтиным в его анализе слова в художественном тексте (следует отметить, что и здесь теоретические достижения литературоведения шли рука об руку с практическими завоеваниями литературы, давшей в те годы непревзойденные образцы сказа в произведениях М. Зощенко, И. Бабеля и других писателей).
41 «… мы остановились на баснях Крылова…». — В дополнение к старой литературе о Крылове, указанной в книге Выготского, см.: Степанов П. Л. Крылов. Жизнь и творчество. М., 1949; Степанов Н. Л. Вступит, статья. — В кн.: Русская басня XVIII и начала XIX века. Л., 1951; Его же. Мастерство Крылова-баснописца. М., 1956.
42 * Замечательно, что на подобные факты наталкивались и люди, смотрящие с противоположной точки зрения на басню. Ср. у В. Водовозова:
Басня «Ворона и Лисица» изображает ловкость и изворотливость лисы, которая выманивает сыр у глупой вороны. Ее нравственная мысль — показать, как бывает наказан тот, кто поддается на льстивые слова, — урок очень практический и полезный неопытным людям. Но, с другой стороны, искусство льстеца здесь представлено так игриво, что нисколько не видно гнусности лжи. Лисица чуть ли не была права, обманывая ворону, которой вся вина состоит в одной ее глупости: плутовка забавляет вас своею хитростью, и вы не чувствуете к ней ни малейшего презрения. Здесь смех, возбуждаемый глупой вороной, в ином случае был бы не совсем нравствен. Если над ней посмеется ребенок, сам наклонный 514 ко лжи и лукавству, то цель басни вряд ли будет достигнута (с. 72 – 73).
Басня «Тришкин кафтан» заключает на вид очень простой и забавный рассказ. Тришка обрезает рукава, чтобы залатать локти, обрезает фалды и полы, чтобы наставить рукава. Но если вы захотите объяснить как следует смысл этой басни, то вам придется обратиться к предметам, выходящим из крута детских понятий. Дитя скорей поймет, что Тришка был искусен в своем деле; применив же басню к детскому быту, мы лишим ее сатиры. (О педагогическом значении басен Крылова. — «Журн. Мин-ва народного просвещения», 1863, дек., с. 74).
43 «… и момент победы в одном плане означает момент поражения в другом». — В рукописи, принадлежавшей Эйзенштейну, к этому месту монографии Выготского Эйзенштейн записал: «Usual in a good construction» («Обычно так бывает при хорошем построении»).
44 «… крик петуха там оказывается уместным…». — С точки зрения сравнительно-исторической мифологии пение петуха понимается прежде всего как древний мифологический символ, встречаемый у разных народов. Предлагаемая здесь эмоциональная его интерпретация не может объяснить происхождения этого символа, хотя и может оказаться правильной в применении к некоторым позднейшим случаям его употребления.
45 «… секрет… заключается в том, чтобы формой уничтожить содержание». — Относительно понимания термина «форма» см. следующую главу, особенно с. 238 – 240. Мысль Л. С. Выготского о противоречии между формой и содержанием вызвала большой интерес С. М. Эйзенштейна, подчеркнувшего все места книги, где идет об этом речь, в том экземпляре, который недавно найден в его архиве.
46 «Основные элементы… новеллы можно считать… уже выясненными…». — Здесь и далее широко используются результаты исследования строения новеллы в работах представителей формальной школы.
47 «Вот те четыре линии…». — В настоящем издании рисунки 1 – 6 восстановлены по рукописи Выготского, найденной Н. И. Клейманом в архиве С. М. Эйзенштейна. См. с. 192.
48 «… то искусственное расположение слов, которое превращает их в стихи…». — Та же самая мысль применительно к синтаксису в настоящее время может быть выражена в более точных терминах: во фразе, построенной по нормам обычного синтаксиса, запрещается такая расстановка слов, при которой грамматически непосредственно связанные друг с другом слова оказались бы отделенными друг от друга другими словами, с ними не связанными; этот запрет не соблюдается в поэтическом языке.
49 «… так называемые отступления в “Евгении Онегине” составляют, конечно, самую суть и основной стилистический прием построения всего романа, это его сюжетная мелодия». — В связи с анализом отступлений в «Евгении Онегине» следует отметить, что в художественной форме (в качестве аналогичных отступлений) их функция подробно обсуждается в романе: Aragon L. La Mise à mort. Paris, 1965. Сам роман Арагона построен как серия подобных отступлений, причем автор подчеркивает ориентацию на 515 структуру «Онегина», обильно цитируемого в романе (в данном случае ориентация эта совмещена с возвратом к принципам сюрреалистской прозы и с возможным влиянием «нового романа»). См. также анализ Выготского романа «Евгений Онегин» на с. 280 – 286.
50 «Так поступает исследователь стиха, когда он хочет выяснить законы ритма…». — Имеется в виду методика, продемонстрированная, в частности, в трудах Б. В. Томашевского и Г. А. Шенгели (и в последнее время развитая в работах А. Н. Колмогорова), где статистическое обследование ритмических типов слов обычного языка служит основой для выявления того, что является специфическим для данного поэта (например, когда исследуется отличие ямба данного поэта от «расчетного» или «идеального» ямба, который можно построить исходя только из ритмических закономерностей языка и не привлекая никаких дополнительных данных).
51 Данное Выготским представление композиции новеллы в тексте представляет исключительный интерес для дальнейших опытов формализации моделей новеллы, которые могут опираться и на выработанные в современной лингвистике способы представления синтаксической структуры, различающие структуру с пересечением стрелок, соединяющих зависящие друг от друга слова, и структуру без такого пересечения (проективную). В этих терминах «непроективность» (то есть сложное переплетение эпизодов, при котором между событиями, связанными временными и причинно-следственными отношениями, вкрапляются эпизоды, с ними не связанные) характерна для таких произведений искусства XX века, как фильмы Феллини («8 1/2»), Бергмана («Земляничная поляна»), Алена Рене («Прошлым летом в Мариенбаде», «Война окончилась»), пьесы А. Миллера («После грехопадения»), романы Фолкнера. Следует заметить, что к последующим изданиям своих романов с особенно сложной композицией («The sound and the fury», «Absalom, Absalom!») сам Фолкнер прилагал описания «диспозиции» (в терминах Выготского).
52 «… события в рассказе развиваются не по прямой линии…» — Здесь Выготский фактически вводит различение реального времени и времени литературного, которое позднее было исследовано во многих работах, в частности посвященных творчеству авторов XX века; ср. в особенности близкий подход к этой проблеме в исследовании: Müller G. Die Bedeutung der Zeit in der Erzählungskunst. Bonn, 1946; см. также: Staiger E. Die Zeit als Einbidungskraft des Dichters. Zürich, 1939; Poulet G. Etudes sur le temps hum a in. Edinburgh, 1949; Paris, 1950; Paris, 1964. Применительно к древнерусской литературе сходная проблема была изучена в статьях Д. С. Лихачева, См.: Лихачев Д. Время в произведениях русского фольклора. — «Рус. лит.», 1962, № 4, с. 32 – 47; Его же. Эпическое время русских былин. — В кн.: Сборник в честь академика Б. В. Грекова. М.-Л., 1952, с. 55 – 63; Его же. Из наблюдений над лексикой «Слова о полку Игореве». — «Известия Отделения литературы и языка АН СССР», т. 8, 1949, вып. 6, с. 551 – 554; пр.: Иванов В. В., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965, с. 188 и след.; Иванов В. В., Топоров В. Н. К описанию некоторых детских семиотических систем. — 516 «Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Труды по знаковым системам», т. 2. Тарту, 1966, с. 122; Иванов В. В. Проблемы времени в науке и искусстве XX века. — В кн.: Симпозиум «Творчество и научный прогресс». Л., 1966, с. 24; Sartre L. J.-P. A propos de «Le bruit et la fureur»: la temporalité chez Faulkner, — «La Nouvelle Revue Française», 52, 1939, p. 1057 – 1061; 53, 147 – 151 (английский перевод — в кн.: William Faulkner. Three decades of criticism. New York — Burlingame, 1963, p. 225 – 232). Близкое к идеям Выготского графическое представление структуры произведения, где события развиваются не по прямой линии, позднее дал Эйзенштейн, отметивший, что «классическими русскими примерами такого непоследовательного сказа могли бы служить: “Выстрел” Пушкина, начинающего сказ свой с середины, “Легкое дыхание” Ив. Бунина и бесчисленное количество других образцов» (Эйзенштейн С. М. Неравнодушная природа. — В кн.: Эйзенштейн С. М. Избр. произв., т. 3, с. 311). В данном случае «Легкое дыхание» могло быть названо именно в связи с тем, что Эйзенштейн, друживший с Л. С. Выготским, хорошо знал его рукопись о психологии искусства.
53 «… такой доминантой нашего рассказа и является… “Легкое дыхание”». — Вводимое здесь Выготским понятие доминанты является одним из важнейших понятий структурного языкознания и литературоведения; см. о нем: Эйхенбаум Б. М. Мелодика стиха, Пг., 1922.
54 «… показательным для эмоционального действия каждого произведения является та система дыхания…». — В отличие от более ранних сочинений, где отмечалась связь дыхания с эстетическим восприятием (см.: Santayana G. The sense of beauty. New York, 1896, p. 56), Л. С. Выготский стремился к экспериментальной проверке этой гипотезы. Однако результаты описываемых экспериментов не могут никак считаться окончательными. Одной из основных трудностей является трудность выделения тех механизмов, которые могут определить ритм дыхания в зависимости от совершенно различных факторов (эмоционального воздействия произведения, его синтаксической структуры и т. д.).
55 «… король… при таком понимании превращается в героическую противоположность самого Гамлета». — Эта мысль сформулирована в исследовании о «Гамлете», см. 214 – 215.
56 «… попытка уяснить некоторые особенности построения “Гамлета”, исходя из техники и конструкции шекспировской сцены…». — Относительно сцены в шекспировском театре см.: Смирнов А. А. Шекспир. Л.-М., 1963, с. 35 и след.
57 «Надо взять трагедию… в ее нерастолкованном виде…». — Первую попытку Выготского взять «Гамлета» «в нерастолкованном виде» и взглянуть на пьесу «так, как она есть», и представляет его исследование о «Гамлете», публикуемое в настоящем издании.
58 «Он полагает, что Шекспир… осложняет этот характер для того, чтобы он лучше подошел к… концепции фабулы». — Относительно искусственных сторон построения шекспировских пьес ср.: Пастернак Б. Л. Заметки к переводам шекспировских трагедий. В кн.: Литературная Москва. М., 1956, с. 799 – 800.
59 «… сравнения саги о Гамлете с трагедией Шекспира». — В новейшем 517 шекспироведении подробно разработаны вопросы связи «Гамлета» Шекспира с его предтечами не только в саге о Гамлете, но и в трагедии Кида, см.: Аксенов И. А. Шекспир. М., 1937, а также литературу о Шекспире, указанную ниже, в комментарии к ранней работе Выготского о «Гамлете».
60 «… все события трагедии измерены во времени условном…». — Здесь для анализа трагедии используется концепция сценического времени, отличного от житейского. Ср. сказанное выше по поводу анализа времени в новелле.
61 «Бессмыслица отводится, как по громоотводу…». — Анализ соотношения смысла и бессмыслицы в трагедии особенно важен для современной теории театра, где проблема сценического использования бессмыслицы поставлена пьесами Ионеско, Беккета, Олби (последний видит наиболее явного предшественника такого театра в Чехове (ср. «Три сестры»); еще более отдаленные истоки некоторых сторон «антитеатра» можно было бы искать у Аристофана). В анализе Выготского существенно то, что бессмыслица у Шекспира рассматривается как «громоотвод» для спасения смысла (в отличие от некоторых современных пьес, где это равновесие бессмыслицы и смысла нарушается в пользу бессмыслицы, что часто декларируется теоретиками антитеатра).
62 * В последнее время из психологов проф. А. К. Борсук вновь выступил в защиту принципа экономии сил. «Эстетические переживания суть те и постольку, какие и поскольку обусловливаются входящим в их состав процессом ориентации, совершающимся в соответствии с принципом наименьшей траты сил» («Эстетическое» и «прекрасное» в освещении биопсихологии. — В кн.: Вопросы воспитания нормального и дефективного ребенка. М.-Пг., 1924, с. 31). Но тогда геометрическая теорема доставляла бы высшее эстетическое наслаждение, не говоря уже о хорошо составленной деловой телеграмме. И почему эстетическое переживание вызывает такое волнение?
63 «Это наивнейшее… рассуждение, может быть, и окажется верным в приложении к прозаическому расположению мыслей…». — Это различие, в частности, относится к так называемому «актуальному членению» предложения, при котором на первое место выносится слово (или группа слов), играющее особую роль для говорящего.
64 «… противоположность чувств кажется ему необходимо присущей эстетическому впечатлению». — Сочетание трагического и комического начал отмечается уже на самых ранних стадиях искусства, в частности в смехе над смертью, ср. в особенности: Пропп В. Я. Ритуальный смех в фольклоре. — «Учен. зап. Ленинградского гос. Ун-та», № 46. Л., 1939; Bogatyrev P. Les jeux dans les rites funébres en Russie subcarpatoque… — «Le monde slave», N. S., 1926, № 3; Jakobson R. Medieval Mock Mysterv (The Old Czech Unguentarius). — Ih.: Studia philological et litteraria in honorem L. Spitzer. Bern, 1958, p. 292; Эйзенштейн С. М. Монтаж. — В кн.: Эйзенштейн С. М. Избр. произв., т. 2, с. 364 – 366 (о мексиканском народном празднике «Дня смерти», снятом в незавершенном фильме Эйзенштейна); Dundes A. Summonimg deity through ritual fasting. — «The American Imago», vol. 20, 1963, № 3, p. 217. Семиотическая интерпретация смеха над смертью применительно 518 к финалам шекспировских трагедий была дана в цитированной статье Пастернака, с. 807.
65 «… катарсис». — сходные идеи можно найти не только в древнегреческой поэтике (у Аристотеля), но и в древнеиндийской поэтике — в учении о расах.
66 «Четырехстопный ямб». — Более строгое определение ямба сводится к требованию, по которому в случае, если слово приходится на сильный (четный) слог, ударение должно падать на сильный слог. См. о ямбе: Прохоров А. Математический анализ стиха. — «Наука и жизнь», 1964, № 6, с. 152 – 153.
67 «… точное разграничение двух понятий — размера и ритма…». — В связи с анализом метра и ритма в последнее время ряд ученых высказывается против представления о ритме как только преобразовании метра. Ритм сам по себе оказывается активной силой, участвующей в построении всего произведения (см.: Тарановский К. Основные задачи статистического изучения славянского стиха. — В кн.: Poetica. Poetyka. Поэтика, 2. The Hague — Paris — Warszawa, 1966). Так, например, в «Поэме конца» Марины Цветаевой, разные части которой написаны разными метрами (ямбом, хореем, дактилем, амфибрахием, дольником), господствует единый ритмический принцип организации, по которому переносами и ударениями выделяются два первых слога в строке, за которыми должны следовать безударные многосложные промежутки (или многосложные безударные части рифм в двухстопных метрах). Структура всей вещи определяется взаимодействием ритма в таком широком смысле и метра.
68 «Стихотворение построено на соединении двух крайних противоположностей». — Аналогичный анализ фольклорных текстов, построенных на соединении противоположностей (например, весна и зима и т. п.), был дан во многих исследованиях А. А. Потебни; см., например, анализ украинской весенней песни: Потебня А. А. «Слово о полку Игореве». Объяснение малорусской песни XVI века. Харьков, 1914, с. 215.
69 «… настоящее искусство перерабатывает то впечатление, которое в него привносится». — Эти идеи особенно существенны для оценки деформации пропорций в художественном изображении. Органичность диспропорционального изображения предметов подчеркивал в своих ранних статьях С. М. Эйзенштейн, писавший в этой связи: «Представление предмета в действительно (безотносительно) ему свойственных пропорциях есть, конечно, лишь дань ортодоксальной, формальной логике, подчиненности нерушимому порядку вещей. И в живопись и скульптуру периодически оно и неизменно возвращается в периоды установления абсолютизма, сменяя экспрессивность архаической диспропорции в регулярную “табель о рангах” казенно устанавливаемой гармонии. Позитивистский реализм отнюдь не правильная форма перцепции. Просто — функция определенной формы социального уклада, после государственного единовластия насаждающего государственное единомыслие. Идеологическое униформирование, вырастающее образно в шеренгах униформ гвардейских лейб-полков…» (Эйзенштейн С. М. За кадром. — В кн.: Эйзенштейн С. М. Избр. произв. т. 2, с. 288).
70 «В драме Чехова… устранены все те черты, которые могли 519 бы… разумно мотивировать стремление трех сестер в Москву…». — Предлагаемый анализ «Трех сестер» особенно важен с точки зрения проблемы сценического смысла и бессмыслицы (абсурда), актуальной для современного театра; см. примеч. 43 [В электронной версии — 44].
71 «… двойственность актерской эмоции… дает право распространить и на театр формулу катарсиса». — Данное толкование психологии актерской эмоции очень важно для преодоления получивших широкое хождение предрассудков, основанных на неверном толковании глубоких идей Станиславского.
72 «Мир вливается в человека через широкое отверстие воронки…». — Гипотеза о возможной связи физиологических предпосылок искусства с «принципом воронки» была в 60-е годы вновь предложена Л. С. Салямоном, который считает, что «давно известное явление, получившее название “принципа воронки” или “принципа общего пути”, может быть привлечено для объяснения некоторых предпосылок эмоционально-эстетической активности человека» (Салямон Л. С. О возможных физиологических предпосылках эмоционально-эстетической деятельности человека. — В кн.: Симпозиум по комплексному изучению художественного творчества. Тезисы и аннотации. Л., 1963, с. 20 и след.). Ср. также мысли А. А. Потебни о языке: Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905, с. 644.
73 «Искусство есть социальное в нас…». — К этому, вероятно, месту относится сохранившийся в бумагах Выготского экскурс о связи искусства и морали: «В социальном отношении искусство оказывается сложным процессом уравновешивания со средой. Оно, как и биологическое (уравновешивание), рождается из неудобства и направлено к тому, чтобы это неудобство изжить; и только в социальной психологии раскрывается практическое значение искусства до самого конца. Его воспитательная роль вовсе по сводится к тому, чтобы оно служило известным моральным целям, и мы готовы вместе с Евлаховым признать “творчество как антиморальность”» (Евлахов А. Введение в философию художественного творчества. Т. 2. Варшава, 1912, с. 122). Правильнее было бы сказать, что искусство находится в очень сложных отношениях с моралью, и есть все вероятия думать, что оно скорее и чаще вступает с ней в противоречие, чем идет с ней в ногу. Это объясняется самым существом той и другой области. Мораль — это то, что связано в нас уздой; в искусстве находит выход именно необузданное нашей природы: «Пора, наконец, сказать прямо и открыто: искусство не заключает в себе ничего благородного, ничего высокого в нравственном смысле, — напротив, в своей сущности оно есть абсолютное отрицание всякой морали» (там же, с. 190). Но к величайшему заблуждению приходит тот же автор, когда утверждает «творчество как антиобщественность». Он исходит при этом из того факта, что интересы у искусства и общества расходятся, и это расхождение он принимает за первоначальное и основное и склонен видеть корни искусства в индивидуальном творчестве. Но понимать так — значит понимать чрезвычайно наивно взаимоотношения искусства и жизни и не видеть той сложнейшей социальной функции, которую исполняет искусство. Оно, как сказал Плеханов, «может быть прямо противоположно жизни и доставлять горожанину исключительную радость при 520 созерцании пейзажа; оно может изживать именно не воплощенные в жизни и не нашедшие себе осуществления стороны нашего существа. Но и в этом оно всегда остается глубоко социальным».
Мысли о социальной функции искусства убедительно развиты Выготским в тексте книги. Что же касается того банального понимания связи искусства и морали, которое Выготский неоднократно критикует, то ссылка на Евлахова здесь более или менее случайна — с гораздо большим правом он мог бы сослаться на Кьеркегора, который детально разбирал проблему соотношения этического и эстетического и считал эти два пути вполне различными (та же проблема, постоянно волновавшая крупнейших русских поэтов, обсуждается во многих статьях Блока, в дневниках которого в этой связи упомянут и Кьеркегор, и в лучшей статье Цветаевой «Искусство при свете совести»).
74 «Через сознание мы проникаем в бессознательное…». — Проблема соотношения сознательного и бессознательного применительно к искусству и другим видам творческой деятельности человека в настоящее время особенно внимательно изучается в связи с первыми опытами кибернетического исследования художественного творчества (ср. примеч. 21 [В электронной версии — 22]). В работах самого Выготского, написанных после данной монографии, этот же вопрос изучался на материале естественного языка и других высших форм психической деятельности, которые на определенном этапе автоматизируются (становятся бессознательными), а затем могут быть осознаны (то есть создается возможность управления этими бессознательными программами поведения), см.: Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. М., 1960.
75 «… искусство у ребенка…». — Проблема творческой психологии ребенка и детского языка стала в центре внимания Выготского в 20-е и 30-е годы. Именно в этой области им были написаны исследования, принесшие ему мировую известность, см. в особенности: Выготский Л. С. Мышление и речь. — Избранные психологические исследования. М., 1956.
76 «Без нового искусства не будет нового человека…». — Развитием программы исследований, намеченных в последних фразах книги, послужили некоторые из последующих работ Выготского, посвященных роли знаков в управлении поведением; ср. примеч. 2 [В электронной версии — 3].
77 Монография Л. С. Выготского о «Гамлете» представляет большой интерес в ряде отношений. Прежде всего эта работа позволяет полностью понять весь тот материал (в особенности детальный анализ действующих лиц трагедии), на котором основано суммарное изложение проблемы «Гамлета» в VIII главе «Психологии искусства»; этим и объясняется включение всей работы о «Гамлете» во второе и третье издание «Психологии искусства». Вместе с тем названная глава книги отнюдь не является просто суммарным изложением итогов ранее проведенного исследования. За девять лет, отделяющих друг от друга эти работы Выготского о «Гамлете», его интерпретация трагедии существенно меняется. На ранней 521 монографии Выготского о «Гамлете» сказалось сильное влияние господствовавших в те годы представлений о пьесе Шекспира. Эти представления отразились и в спектакле «Гамлет» в Художественном театре, перекличку которого со своим исследованием отмечает Выготский в своих примечаниях к монографии. О глубине проникновения Выготского в то художественное истолкование «Гамлета», которое было сродни спектаклю Гордона Крэга (поставленному при участии Станиславского), свидетельствуют многие почти текстуальные совпадения ранней монографии Выготского с теми местами книги К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве», где описан замысел спектакля «Гамлет» (см. ниже). Будучи воплощением в критике той концепции «Гамлета», которая в театре отразилась в этом спектакле, монография Выготского несет на себе отпечаток этой эпохи с ее подчеркнутым вниманием к возможностям символического истолкования трагедии (см. по этому поводу о спектакле Художественного театра в кн.: Шекспир и русская культура. Под ред. М. П. Алексеева. М.-Л., 1965, с. 778 – 782). Именно эта сторона концепции Выготского, определяемая духом времени, была полностью устранена при написании главы о «Гамлете» для книги «Психология искусства». Следует, однако, заметить, что, хотя связанные с этой более ранней концепцией части монографии страдают не только со стороны содержания, но и по стилю своему от явного увлечения символистическими статьями, разбираемыми в комментариях Выготского, талант молодого автора проявился уже и здесь, так как ряд тем, только намеченных в русской литературе о «Гамлете» начала века, у Выготского развит часто весьма детально и тонко, при этом иногда автор опережает своих современников, предугадывая будущий ход раздумий о «Гамлете». Особенный интерес представляет богатое собрание наблюдений (в примечаниях Выготского к настоящей монографии) о «Гамлете» и Достоевском (тема, к которой позднее обратится западное литературоведение). Обращают на себя внимание также разительные аналогии между развитыми в монографии концепциями и позднейшими высказываниями о трагедии в статье и стихах Б. Л. Пастернака (см. ниже). Поэтому можно считать, что при всей символистической субъективности художественного истолкования Гамлета, которую позднее преодолевал сам Выготский, его монография (не только в своем основном тексте, но главным образом в исключительно интересном авторском комментарии к нему) представляет существенный вклад не только в изучение Гамлета, но и в исследование проблемы «Гамлет и Россия» (о значении этой проблемы много пишет сам Выготский в указанных комментариях).
Вместе с тем Выготский впервые в этой работе пытается обратиться к исследованию пьесы как таковой, вне всех историко-литературных и биографических (внешних по отношению к пьесе) гипотез, накопленных к тому времени. Именно эта сторона работы была последовательно развита в VIII главе «Психологии искусства», где автор отказался и от некоторых априорных философских предпосылок, внешних по отношению к самой трагедии, и вместе с тем учел опыт развития как шекспироведения (критики шекспировского текста в историко-литературном контексте), так и формального литературоведения (со взглядами на «Гамлета» 522 представителей которого — Б. В. Томашевского и Б. М. Эйхенбаума — он полемизирует в этой главе). Обращение к тексту пьесы как таковому в целях художественной («читательской») его интерпретации в первой работе и в целях объективного его исследования во второй работе опережало современное Выготскому литературоведение. Лишь в настоящее время все настоятельнее раздаются требования подойти к «Гамлету» без предвзятых точек зрения, навязанных историей вопроса, см., например: Muir К. Shakespeare: Hamlet. London, 1863 (ср. особенно показательное предисловие к этой книге); Empson W. Hamlet when new. — In.: Discussions of Hamlet, ed. by J. V. Levenson. Boston, 1960; Lewin C. S. Hamlet. The prince or the poem? — In.: Hamlet enter critic, ed. by C. Sacks and E. Whan. New York, 1960, p. 185 – 186 (о необходимости особой критики, которая сосредоточивает внимание на истории пьесы и на характере Гамлета).
Ввиду того что по самому своему замыслу монография Л. С. Выготского строится в отвлечении от всей литературы вопроса, в дальнейшем нет необходимости приводить обширную новейшую библиографию. В нижеследующих комментариях указаны лишь те работы, которые так или иначе прямо соотносятся с какими-либо частями монографии Выготского.
Представление о современном состоянии исследований, посвященных «Гамлету», можно получить из следующих книг: Аникст А. Творчество Шекспира. М., 1963, с. 373 – 402; Верцман И. Е. «Гамлет» Шекспира. М., 1964; Кеттл А. От «Гамлета» к «Лиру». — В кн.: Шекспир в меняющемся мире. М., 1966; Михоэлс С. М. Статьи, беседы, речи. М., 1964, с. 341 – 346; Зубова Н. Два варианта «Гамлета». — В кн.: Шекспировский сборник. М., 1958; Конрад Я. И. Шекспир и его эпоха. — В кн.: Конрад Н. И. Запад и Восток. М., 1966; Урнов М. В., Урнов Д. М. Шекспир. Его герои и его время. М., 1964.
Общий обзор всей литературы о Гамлете дан в книге: Weitz M. Hamlet and the philosophy of literary criticism. London, 1964; см. также хрестоматии лучших работ о Гамлете: Discussions of Hamlet, ed. by J. C. Levenson. Boston, 1960; Hamlet enter critic, ed. by C. Sacks and E. Whan. New York, 1960; «Hamlet». — «Stratford-Upon-Avon Studies». London, 1963; Schulze F. W. «Hamlet», Geschichtssubstanzen zwischen Rohstoff und Endform des Gedichts. Halle (Saale), 1956; Walker R. The time is out of joint. London, 1948; Levin H. The question of Hamlet. New York, 1959; Knights L. C. An approach to «Hamlet». Stanford, 1961; Grebanier B. The heart of Hamlet. The play Shakespeare wrote. New York, 1960.
78 «… разнообразие его пониманий…». — Мысль Выготского можно пояснить сравнением с пониманием языка, где у слушающего может быть несколько альтернативных решений (омонимия, многозначность слова), тогда как у говорящего (автора высказывания) можно предполагать (с некоторым огрублением) наличие одной мысли, выражаемой в данном высказывании.
79 «… в “Русских ночах” В. Ф. Одоевского…». — «Русские ночи» В. Ф. Одоевского, здесь и далее цитируемые Л. С. Выготским, представляют собой один из замечательных образцов художественной мысли прошлого столетия, во многом созвучных не только искусству, но и науке нашего века.
80 523 «… его связывает авторский текст произведения…». — Мысль о том, как толкование должно быть связано авторским текстом, согласуется с принятым в современной науке о языке более общим представлением о том, что анализ (например, языкового текста) нужно производить в соответствии с тем, как осуществлялся синтез текста.
81 «Таинственность и непонятность…». — Те части публикуемой монографии Выготского о «Гамлете», где анализируется проблема «непонятного», «абсурдного» (absurd) в трагедии, подготавливают исследование сценической бессмыслицы в VIII главе «Психологии искусства», которая посвящена «Гамлету». Эти места обеих монографий Выготского в настоящее время являются особенно важными в свете сопоставления театра Шекспира с театром абсурда XX века. Это сопоставление в 60-е годы было не только проведено в очерках польского критика Яна Котта о Шекспире и в статьях его продолжателей, но и оказало большое влияние на новейшие шекспировские спектакли, в частности на постановку «Короля Лира» Питером Бруком (см. об этом в статье: Уэст А. Некоторые аспекты современного употребления термина «шекспировский». — В кн.: Шекспир в меняющемся мире. М., 1966; в указанной статье для сравнения с Шекспиром привлекается пьеса Беккета «В ожидании Годо», см. текст пьесы в русском переводе в журнале «Иностранная литература» (1966, № 11)).
82 «Все это подчиняется главному…». — В последнее время в литературе о «Гамлете» стали высказывать суждение, по которому проблема характера Гамлета слишком долго занимала критиков и поэтому слишком мало внимания обращалось на структуру пьесы (Wanton J. К. The structure of «Hamlet». — «Hamlet». — «Stratford-Upon-Avon Studies»).
83 «невыразимость». — Ср. также характеристику, данную крупнейшим английским поэтом первой половины века Т.-С. Элиотом: «Гамлет (человек) во власти чувства, которое невыразимо» (Hamlet enter critic, ed. by С. Sacks and E. Whan. New York, 1960, p. 57). (Критический тон в отношении всей пьесы в целом, идущий у Т. С. Элиота от его учителя в поэзии французского поэта Лафорга, перекликается с теми критическими суждениями о Гамлете начала XX века, которые разбираются в монографии Л. С. Выготского.)
84 * Этот час, отделяющий ночь от дня, когда утро погружено в ночь, нельзя смешивать с гранью, отделяющей день от ночи. Вечерние сумерки — после захода солнца — полусвет и полутьма, то есть ни свет, ни тьма, а смесь, тоже зыбкая и неустойчивая, но не пугающая, а разрешающая, хоть и скорбная (час лирической резиньяции — ср. «Сумерки» Тютчева): «… вечер ясный: ни день, ни ночь, ни мрак ни свет» (Лермонтов). В этот час — ни день, ни ночь, а в утренние сумерки именно: и день и ночь. В этот час заходящее солнце преломленными, косыми лучами освещает еще сгущающийся мрак, лучи умирают постепенно, тьма надвигается: образуется промежуток полутьмы, час, когда время застыло. Совсем не то предрассветные сумерки. Утро приходит раньше, чем уходит ночь. В литературе нам неизвестно произведение, отмечающее этот час; может быть, это объясняется его медлительностью и неуловимостью. Только боговдохновенный пророк — 524 поэт Исайя отметил его в небольшом, но величайшем лирическом отрывке, где в рыдающем оклике и удивительном ответе сторожа передана с потрясающей силой невыразимость скорбной и необычной красоты и таинственности этого часа. Этот отрывок как бы эпиграф ко всей трагедии — ее ночи и дню. Приводим его в латинском переводе: «Onus Duma. Ad me clamat ex Seir — Gustos, quid de nocte? Gustos, quid de nocte? — Dixit custos: Venit mane, et nox; si quaeritis, quaerite; convertimini venite» (Isaia, XXI, vers. 11 – 12) [«Пророчество о Думе. — Кричат мне с Сеира: сторож? сколько ночи? сторож! сколько ночи! Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите» («Книга пророка Исайи», XXI, ст. 11 – 12). — Ред.]
85 «… все в ней расплывается, двоится…». — Близкие образы содержались в замысле Гордона Крэга, восхищавшем Станиславского: «Так, среди зловещего блеска золота, монументальных архитектурных построек изображается дворцовая жизнь, ставшая Голгофой для Гамлета. Его личная духовная жизнь протекает в другой атмосфере, окутанной мистикой. Ею проникнута с самого поднятия занавеса вся первая картина. Таинственные углы, переходы, просветы, густые тени, блики лунного света, дворцовые сторожевые военные посты… Световая игра темных и светлых теней, образно передающих колебание Гамлета между жизнью и смертью, чудесно передана на эскизе, который мне, как режиссеру, не удалось перевести на сцену» (Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. Л., 1928, с. 591 – 593). Еще более сходна с образами Выготского та атмосфера, которую видит в «Гамлете» Ж.-Л. Барро: «Нет больше ни дня, ни ночи, ни солнца, ни луны, ни радости, ни ненависти, ни вечера, ни утра. Наступают сумерки, и сама природа, кажется, застыла в нерешительности: “Быть или не быть?”, завороженная печальным полумраком, вестником. ночи. Как и в наше время, когда возникает сомнение, торжествует двойственность» (Барро Ж.-Л. Размышления о театре. М., 1963, с. 154 – 155).
86 * Смысл определения «трагедия трагедий» по аналогии с толкованием В. В. Розанова смысла слов «песня песней» (предисловие к русскому переводу Эфроса).
87 * «Ирвинг использовал черный цвет в “Гамлете”», — говорит Оскар Уайльд (Уайльд О. Истина масок. — Полн. собр. соч., т. 3. Спб., 1912).
88 * Критика почти в один голос, несмотря на все различие мнений, отмечает эту темноту и непостижимость, непонятность пьесы. Гесснер говорит, что «Гамлет» — «трагедия масок» (взято в текст). «Мы стоим перед Гамлетом и его трагедией, — излагает это мнение К. Фишер (“Гамлет” Шекспира), — как бы перед завесой: мы все думаем, что за нею находится какой-то образ, но под конец убеждаемся, что этот образ не что иное, как сама завеса». Мнение Берне о «флере» приведено в предисловии; Л. Берне вообще удивительно отмечает общий тон пьесы. Говоря об этой колонии духа Шекспира, где «день — только бессонная ночь», он замечает: «… da ist alles mystisch». Da ist die Nachtseite, die weibliche 525 Natur des ebens, des Empfangende, Gebärende, da hören wir die Wehen der Schopfung [«… Там все мистическое… Там ночная сторона, женская природа жизни, воспринимающая, рождающая, там мы слышим веяние созидания». — Ред.] По его словам, «Гамлет — нечто несообразное, хуже чем смерть, еще не рожденное». Я привел мнение Гете о «мрачной проблеме» и Шлегеля об «иррациональных уравнениях». Баумгартд говорит о сложности фабулы «Гамлета», которая содержит «длинный ряд разнообразных и неожиданных событий» (цит. по К. Фишеру). «Трагедия “Гамлет” действительно похожа на лабиринт», — говорит К. Фишер. «Здесь в “Гамлете”, — говорит Г. Брандес, — нет какого-либо общего смысла. Ясность не была тем идеалом, который витал перед мысленным взором Шекспира. Здесь мы видим достаточно загадок и самопротиворечий, но привлекательная сторона пьесы основывается не в малой степени на ее темноте». Говоря о «темных» книгах, Г. Брандес относит к ним и «Гамлета»: «Такою книгою является “Гамлет”… Временами в драме открывается как бы пропасть между оболочкой действия и его ядром». «“Гамлет” остается тайной, — говорит Тен-Бринк, — но тайной неодолимо привлекательной вследствие вашего сознания, что это не искусственно придуманная, а имеющая свой источник в природе вещей тайна». «Но Шекспир создал тайну, — говорит Дауден, — которая осталась для мысли элементом, навсегда возбуждающим ее и никогда неразъяснимым ею вполне. Нельзя поэтому предполагать, чтобы какая-нибудь идея или магическая фраза могла разрешить трудности, представляемые драмой, или вдруг осветить все, что в ней темно. Неясность присуща произведению искусства, которое имеет в виду не какую-нибудь задачу, но жизнь; а в этой жизни, в этой истории души, которая проходила по сумрачной границе между ночной тьмой и дневным светом, есть… много такого, что ускользает от всякого исследования и сбивает его с толку». Выписки можно было бы продолжить почти до бесконечности (почти все критики останавливаются на этом). «Отрицатели» «Гамлета» — Толстой, Вольтер — говорят о том же: «Ход событий в трагедии “Гамлет” представляет собой величайшую путаницу» (Вольтер. Предисловие к трагедии «Семирамида»). Рюмелин говорит: «Пьеса в целом не понятна». Но вся эта критика видит в этой темноте оболочку, придаточное, то, что составляет трудность, а не кладет ее в основу всей трагедии, что делается в настоящем этюде. Собственно не понятно, почему, если «Гамлет» Шекспира есть действительно то, что говорят о нем критики, он окружен такой таинственностью: такого покрова не надо ни Гамлету Даудена, ни Брандеса, ни Берне, ни Гете и проч. и проч. Для их Гамлета темнота есть недостаток; если не в ней смысл («ночь трагедии»), то она — «путаница» Вольтера и Толстого.
89 * Вячеслав Иванов в прекрасной статье «Шекспир и Сервантес» («Утро России», 1916, 22 апр.) сравнивает время — эпоху Шекспира и Сервантеса — с предутренним часом: «И оба увидели, каждый по-своему, как по ложбинам и горным ущельям скользили и стлались, убегая от солнца, последние тени спугнутой ночи в саванах мглы… Иррациональное в жизни запечатлели они в утро 526 рационализма, тайну подметили при дневном озарении, разрывающем все покровы таинственного, и от этого глубокого отзвучия сокровенных сущностей стали их создания глубоки, как сама жизнь». Удивительные слова о трагедии вообще неизбежно приводят Вячеслава Иванова к признанию «слов загадочного принца» («порвалась дней связующая ночь») «центральными в его творчестве» (Л. Шестов) и даже «многознаменательным и даже всеобъемлющим свидетельством Шекспира о себе самом». «Шекспир в круге своего творчества решает мировую проблему и провозглашает свой религиозный постулат чисто трагически — выходом в безумие и признанием иррационального или сверхразумного начала в видимом мироустройстве, никогда не объяснимом до конца, ибо “много в нем такого”, как напоминает Гамлет другу Горацио, “о чем не снилось нашим мудрецам”. В изображениях безумствования Шекспир сообщает нам свои глубочайшие постижения…
Итак, трагическое мироощущение Шекспира проистекало из узрения при ярком свете наступившего дня двусмысленной слиянности постижимого с непостижимым. Из озаренного солнцем пространства он уследил пути ночных теней, затаившихся в тесницы и пещеры и оттуда высылающих к людям своих призрачных выходцев в решительные и последние мгновения, когда колеблется разум и рассыпается на мертвые звенья живая “связь времен” (V)». К сожалению, Вячеслав Иванов, так удивительно восчувствовавший трагическое («По звездам»), указавший, что «математическим пределом этого тяготения ко внутреннему полюсу трагического является молчание» («Предчувствия и предвестия»), изведавший упоение бездн и horror fati [Ужас судьбы (латин.) — Ред.], так прозорливо отнесший Шекспира к «художникам-облачителям» — «служителям высших откровений», вместе с Достоевским, в противоположность «художникам-разоблачителям» (Сервантес, Л. Толстой), не остановился на тайне Гамлета. В 1905 году, тоже к юбилею, написана им статья «Кризис индивидуализма»: традиция Тургенева — Гамлет — эгоист-индивидуалист, Дон-Кихот — соборность, альтруизм, — усложнение тургеневских терминов и понятий. «Трагедия Гамлета изображает непроизвольный протест своеначальной личности против внешнего, хотя и добровольно признанного императива… Гамлет — жертва своего же “я”. В этой плоскости толкование Гамлета глубоко интересно, но остается все же не понятным, как сквозь разорванный покров времен В. Иванов не увидал в Гамлете трагической тайны. И слово о ней должен был изречь именно он. Он не почувствовал, что вся трагедия “незримыми цепями прикована к нездешним берегам”» (В. Л. Соловьев). «Гамлет — герой новых пересказов старинной Орестеи, которого вина лежит в его рождении и борьба которого — борьба с тенями подземного царства». «Если бы Гамлет был просто слабый человек, трагедия Шекспира не казалась бы столь неисчерпаемо глубокой. Вернее, она вовсе не существовала бы как трагедия. Но Гамлет — некий характер, и загадка первопричины, разрушающей его действие, обращает нашу мысль к изначальным и общим законам духа» («Борозды и межи»). Различие, которое В. Иванов делает (в применении 527 к героям и трагедиям Достоевского) вслед за Кантом и Шопенгауэром между эмпирическим и умопостигаемым характером, трех планов трагедии, — необходимо провести и в Гамлете. В Гамлете явно ощущается, говоря словами Библии, рука Божия. Впечатление — не очистительный катарсис греческой трагедии (религиозно-медицинский), а страх божий, чувство, возбуждаемое трагедией «истинно есть Бог в месте сем». В Гамлете и Офелии сквозь безволие эмпирическое просвечивает метафизическое какое-то безволие. И вся трагедия развивается под непрестанно тяготеющим и возносящимся над ней знаком безволия — креста.
Философ современного символизма Метерлинк хорошо формулирует это, говоря о новой драме: «Тут дело идет уже не об определенной борьбе одного существа с другим или о вечном столкновении страсти и долга». Трагизм повседневности, трагическое начало самого существования человека — это, конечно, удивительно выявлено Метерлинком. Учение его о «неслышимом диалоге», о внутренней, второй драме, о двойном смысле явлений в символической драме, о двух мирах, в которых происходит ее действие, и вытекающем отсюда стремлении символического театра выявить эту двойную сущность явлений — все это глубокое и замечательное учение. Но его литературные оценки старого театра не глубоки и поверхностны: трагизм в «Отелло», на которого нападает Метерлинк, выявлен гораздо глубже, чем во многих новых драмах. В частности, «Гамлет» остается в этом отношении именно не только непревзойденным, но и не достигнутым до сих пор идеалом новой драмы. Например, драмы Метерлинка, несмотря на всю свою замечательность, все же страдают некоторой нарочитой и намеренной тенденциозностью «наоборот», подчас превращающей его символизм в мертвую схему и аллегорию. («Слепые», «Там внутри» и проч. находятся под властью определенной мысли.) «Гамлет» — идеал «новой» символической трагедии. Делались попытки и эту трагедию трактовать как борьбу внешнюю (Вердер) или внутреннюю (Гете и другие). К этим двум группам можно отнести почти все критические разборы «Гамлета». К сожалению, за недостатком места приходится выбросить разбор даже основных взглядов критиков (тема особая) и ограничиться указанием, что настоящий этюд по самой мысли своей отвергает все эти разборы и толкования. Поэтому естественным завершением его мысли была бы подробная и обстоятельная по возможности «критика критики», от которой приходится сейчас отказаться. Недостаточность определения трагедии чувствовал глубоко Шопенгауэр: разбирая вопрос о трагической вине, он сводит его к основному — трагическому: «Истинный смысл трагедии заключается в более глубоком воззрении, что то, что искупает герой, — не его партикулярные грехи, а первородный грех, то есть вина самого существования:
Величайшая вина человека
В том, что родился он, —
как это прямо высказывает Кальдерон». (Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Спб., 1898, с. 263). Если трагическое — основной факт бытия, то трагедия — высший род творчества, наиболее обобщающий, символический.
90 528 «… с этой “музыкой трагедии”…». — Очень близкие по духу мысли о «музыке трагедии» содержатся в статье Б. Л. Пастернака: «… не поддается цитированию общая музыка “Гамлета”. Ее нельзя привести в виде отдельного ритмического примера. Несмотря на эту бестелесность, ее присутствие так зловеще и вещественно врастает в общую ткань драмы, что в соответствии сюжету ее невольно хочется назвать духовидческой и скандинавской. Эта музыка состоит в мерном чередовании торжественности и тревожности. Она сгущает до предельной плотности атмосферу вещи и позволяет выступить тем полнее ее главному настроению» (Пастернак Б. Л. Заметки к переводам шекспировских трагедий. М., 1956, с. 797).
91 «… все должно быть непосредственно воспроизведено…». — То обстоятельство, что Гамлет выражает себя не в действии, а в монологах и сентенциях, отмечается и многими современными литературоведами. См., например: Пинский Л. Е. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961, с. 267 – 268, 286 – 287.
92 * «Вершиной поэзии… должно считать трагедию», — говорит Шекспир. «Не обращайте внимания на сверхъестественное посредство умершего человека, — говорит Белинский, — не в том дело; дело в том, что Гамлет узнает о смерти своего отца, а каким образом — вам нет нужды. Но вместо этого разверните драму и подивитесь, как поэт сумел воспользоваться даже этим “чудесным”, чтобы развернуть во всем блеске свой драматический гений: его тень жива, в ее словах отзывается боль страждущего тела и страждущего духа… О, какая высокая драма: какая истина в положении» («Гамлет, драма Шекспира»). Здесь с удивительной ясностью подчеркнуто это иное, почти всеобщее отношение к Тени: на нее «не обращают внимания», это только драматический способ дать узнать Гамлету истину, и это сверхъестественное принимается как необходимое зло, ему подыскиваются оправдания («вместо этого…»). Но без этого «чудесного» нет и всей трагедии. Приговор В. Белинского становится вполне понятным в связи с его общим взглядом на «фантастическое» в искусстве, изложенным им по другому поводу (по поводу «Двойника» Достоевского): «Фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе и находиться в заведовании врачей, а не поэтов». Этим сказано все: отсюда уже вытекает его отношение к «фантастическому» в искусстве прошлых веков, в частности к Тени в «Гамлете». Взгляд Белинского примыкает ко второму, указанному в тексте: Тень, по его словам, жива, то есть, по смыслу, не вносит неестественного в пьесу, необходимая логически форма и проч. А между тем она жива иной жизнью, реальна иной реальностью, В общем, никто почти из критиков не останавливается на этом и не отмечает приписываемой нами роли Тени. Ю. Айхенвальд мимоходом говорит: «… и восстанавливается, таким образом, прерванная было связь между двумя мирами», но и он далеко не кладет этого в основу толкования. Шестов (Шестов Л. Шекспир и его критик Брандес. — Полн, собр. соч. в 6-ти т., т. 1. Спб., 1911) говорит, истолковывая Брандеса: «Брандес останавливается, между прочим, на очень важном вопросе о роли тени отца Гамлета в трагедии. Между главным действующим лицом и обстоятельствами явилось противоречие. 529 Принц, по своей проницательности равный самому Шекспиру, видит Духа и говорит с ним. Но это противоречие чисто внешнего характера. Роль духа имеет символистическое, так сказать, значение. В рамках одной драмы Шекспиру невозможно было выяснить, каким образом Гамлет, никогда быстро не принимающий решений, затягивающий и медлительный, узнал об убийстве отца и вместе с тем почувствовал необходимость наказать Клавдия. Мотивировать появление такого решения у Гамлета — значило написать еще одну пьесу. Все это изменено явлением Духа, который возвещает Гамлету тайну смерти отца и приказывает отомстить преступнику. Шекспир ничего лучшего и придумать не мог. Благодаря вмешательству Тени отступление для Гамлета становится невозможным: убить Клавдия нужно во что бы то ни стало. Гамлет, сомневающийся во всем, ни разу не ставит себе вопроса: “Да точно ли нужно мстить дяде?” Такая определенность задачи превосходно мотивируется появлением Духа. Конечно, в действительной жизни происходит иначе, и обыкновенно к сознанию необходимости известного поступка приходят путем сложных переживаний. Но Шекспир, чтобы не вдаваться в отступления, — сами по себе, может быть, и интересные, но стоящие вне пределов его задачи, — выводит на сцену тень отца. Она имеет в трагедии очень ограниченное значение и является исключительно за тем, чтобы рассказать принцу, что произошло и что нужно делать. Затем тень эта как будто и не являлась… Очевидно, приняв весть и приказание от духа, принц точно принял их от самого себя, точно он сам узнал, что преступление совершено и что нужно отомстить. Нельзя даже и сказать: “он видит и говорит с духом”. Тень отца не вносит элемента сверхъестественного в драму. Явись вместо духа какой-нибудь живой человек, бывший свидетелем злодеяния Клавдия и имеющий достаточно авторитетности в глазах принца, — ход действия не изменился бы. Гамлет о духе и не вспоминает, точно не видел его. Он помнит лишь, что убили его отца и что нужно наказать убийцу». Последнее и фактически неверно: Гамлет видит еще раз отца и вспоминает его (сцена представления). Вообще взгляд на Тень как на фикцию, олицетворение, «персонификацию» идеи внутреннего долга Гамлета — это весьма характерно для «рационализированного» Гамлета. Зачем же тогда «темнота» пьесы? (По Шестову, ее нет; в ней все ясно как день.) Вместе с этим отрицается и вся пьеса, построенная на том, что не снилось нашей философии: ведь она вся сверхъестественна. Все это было бы так только в том случае, если бы в остальном пьеса не была бы сверхъестественна. Эта основная ошибка в понимании роли Тени роковым образом сказывается на всем понимании пьесы. Л. Шестов в другом месте (предисловие к «Юлию Цезарю», изд. Брокгауз и Ефрон) говорит: «Ведь “дух” в Гамлете не есть плод расстроенного воображения… Никто из критиков ни разу не обвинил Шекспира в том, что он позволил себе внести в реалистическую трагедию такой нелепый вымысел, как явление духа». И раньше: «Гамлет столкнулся с духом, пришельцем из иных стран». Однако не выясняет этого взгляда вовсе.
93 * Приблизительно такова мысль великого историка Моммзена о великих событиях в истории.
94 * 530 На прижизненной завязке событий останавливается подробно К. Фишер, но и он не говорит ничего о роли Тени вообще.
95 * Можно по отрывочным замечаниям, разбросанным в пьесе, представить образ отца Гамлета при жизни, но характеристика Тени нелепа: для Белинского она приемлема потому, что призрачность тени для него есть только форма, на которую не надо обращать внимания — не в этом дело (именно в этом все дело! — таков тезис этой главы), она — жива для него. Так же бессмысленна характеристика Берне, которая, несмотря на все остроумие, кажется нам бесплодной, ничего не выясняющей, а, скорее, затемняющей смысл ее роли. Это, естественно, граничит с явно комической характеристикой (Rohrbach С. Shakespeare’s Hamlet erläutert. Berlin, 1859), где говорится, что Дух оскорблен тем, что его принимают не за настоящий призрак, а за ряженого и т. д. Попытка разгадать характер Тени неизбежно ведет к этому, раз критика обязательно считает Тень живой, так как «мертвого» действующего лица в драме быть не может.
96 * Gild on (Remarks, 1709) говорит: «Эту сцену, как меня уверяли, Шекспир написал в покойницкой или склепе среди ночи». Пение петуха в Евангелии возвещает расторжение связи.
97 * Dr. Onimus (по К. Р.) видит в этих словах самое краткое и самое верное определение галлюцинации. То обстоятельство, что Шекспир не ограничился галлюцинацией, потом подтвержденной представлением, а так «размазал» (разработал) явление Тени, показав ее зрителям и заставив Гамлета увидеть ее не только «очами души», думается нам, служит достаточным опровержением взгляда на Тень как на галлюцинацию Гамлета (см. брошюру А. Н. Кремлева «О тени отца Гамлета и шекспировской трагедии»). В Гамлете есть что-то сомнамбулическое.
98 * Тен-Бринк так говорит об этом художественном приеме Шекспира: «Все эти и подобные им приемы имеют следствием то, что в нас не может возникать сомнение касательно действительности видимого и слышимого нами. Если приводится рассказ о событии, при котором мы сами не присутствовали или в истинность которого нам трудно поверить, хотя мы и были очевидцами его, то автор никогда не преминет убедить нас в действительности этого происшествия разными незначительными подробностями, о которых вспоминают рассказывающие, а часто и тем, что рассказывающие противоречат друг другу в подобных мелочах». Приводится эта сцена расспросов Гамлета о явлении Тени.
99 * Эта предчувственность трагедии отмечается часто многими критиками. Так, о предчувствиях Лаэра и Полония говорит г-жа Джемсон (она хорошо говорит о неизреченности любви Офелии: «Любовь Офелии, которую она ни разу не выговаривает, подобна тайне, скрытой ею от себя самой и долженствующей умереть тайною в наших сердцах так же, как в ее собственном сердце»): «Когда ее отец и брат находят нужным предостеречь ее простодушие, дать ей урок житейской мудрости… мы тогда уже чувствуем, что все эти предостережения и уверения слишком поздни; потому что с той самой минуты, когда является она среди мрачного столкновения преступления, мести и сверхъестественных ужасов, мы предчувствуем уже, какова должна быть судьба ее».
100 * В. Белинский называет этот монолог «слишком длинным 531 для его Гамлета положения и немного риторическим». Белинский «оправдывает» Шекспира: «… но это не вина ни Шекспира, ни Гамлета: это болезнь XVI века, характер которого, как говорит Гизо, составляла гордость от множества познаний, недавно приобретенных, расточительность в рассуждениях и неумеренность в умствованиях» [курсив. — Л. В.]. Все это, очевидно, В. Белинский находит в этом монологе. Остается сказать, что, хотя в этой пламенной исступленной мольбе не видно и следа «гордости от множества познаний» (в этом проникнутом такой тоской незнания монологе!), «расточительности в рассуждениях» (где здесь вообще «рассуждения»?), «неумеренности в умствованиях» (?), однако не этим опровергаются рассуждения Белинского. Указание на длинноты неверно потому, что это не есть завершенный монолог, а ряд прерывающихся и исступленных вопросов все нарастающего безумия, отчаяния и ужаса, ведь Тень молчит, отсюда эта исступленная страстность, возрастание вопросов, длительность, длинность, затягивание муки — из безмолвия Тени. Указание на его «риторичность» говорит о том, что Белинский не почувствовал, не воспринял поэтической красоты и силы этого места. «Риторично» равносильно упреку — «непоэтично»; где риторика — там нет поэзии. Здесь спора, конечно, быть не может. Однако помимо общего указания на непрочувствованность Белинским этого места сделано еще одно: риторично — для Белинского значило непоэтично, не нужно, служебно. В связи с общим его пониманием «Гамлета» ему, как и почти всем критикам (это глубоко важно, что почти никто не принимает «Гамлета» всего ни на сцене, ни в критике; не указывает ли это на то, что их толкования не охватывают всего «Гамлета», что весь «Гамлет» в них не укладывается, приходится урезывать его, приправлять), приходится выбрасывать кое-что из «Гамлета» как риторику. Именно это место для Белинского не нужно. К. Фишер говорит: «Вопрос содержит в себе такой ужас перед мрачной мировой загадкой, что Шопенгауэр особенно охотно приводит именно эти слова». Но К. Фишер понимает его слишком общо (ужас, мировая загадка etc.), не вдвигая его в самую трагедию; для нее, для ее «узких» пределов (в их понимании) он только философское украшение, а не украшение красноречия (риторика).
101 «… в трагическом пламени скорби — есть весь Гамлет». — Отмечаемая самим Выготским близость его понимания «Гамлета» к концепции спектакля Художественного театра видна из изложения этой концепции, данного К. С. Станиславским: «Крэг очень расширил внутренне содержание Гамлета. Для него он — лучший человек, проходящий по земле, как ее очистительная жертва. Гамлет не неврастеник, еще менее сумасшедший, но он стал другим, чем все люди, потому что на минуту заглянул по ту сторону жизни, в загробный мир, где томился его отец. С этого момента реальная действительность стала для него иной. Он всматривается в нее, чтобы разгадать тайну и смысл бытия; любовь, ненависть, условности дворцовой жизни получили для него новый смысл, а непосильная для простого смертного задача, возложенная на него истерзанным отцом, приводит Гамлета в недоумение и отчаяние» (Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве, с. 585 – 586).
102 * 532 Термин взят у Джемса («Многообразие религиозного опыта»), там же указано, кем употреблен впервые. «Второе рождение» — прекрасные слова, показывающие всю силу изменения, перерождения человека. Тень говорит, что загробная тайна не «для земных ушей»: надо перемениться физически, чтобы вынести это. Одно приближение к ней вызывает «иное рождение», изменение. Это удивительное чувство, когда человек на грани, у крайнего предела земного, замечательно передано у Достоевского (вот почему Гамлету открылось все, когда он уже стоял в могиле): Кириллов («Бесы») говорит о минутах, когда кажется, что времени больше не будет: «Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически (ср. слова Тени) или умереть (Гамлет в минуту смерти постигает все)… Если более пяти секунд, то душа не выдержит и должна исчезнуть. Чтобы выдержать десять секунд, надо перемениться физически. Я думаю, человек должен перестать родить»… Ср.: то же чувство (Гамлет Офелии — зачем рождать; не надо браков и т. д.) у Гамлета вызывает его касание неземному. Интересно отметить еще, как всякое касание иному, нездешнему, неземному, взятое до последней глубины, вызывает ощущение провала времени. Ср.: Гамлет — «порвалась дней связующая нить». «В Апокалипсисе ангел клянется, что времени больше не будет», говорит Ставрогин («Бесы»). [Сравнение Гамлета со Ставрогиным, намеченное Выготским, предлагается в исследовании: Knight G. W. The Embassy of Death. — In.: Discussion of Hamlet, ed. by J. C. Levenson, Boston, 1960, p. 61. — Ред.] Кириллов это подтверждает — см. выше — «это неземное». Князь Мышкин («Идиот») говорит о припадках эпилепсии: «В этот момент мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что времени больше не будет». Но это все ощущения неземной гармонии, вызывающей чувство отсутствия времени, а у Гамлета касание иному миру ужасно (слова Тени): «время вышло из пазов» — трагедия его. Но ощущение провала времени одинаково вызывает все неземное, точно время — его внешний покров, который здесь всегда прорывается. Восклицание «The time is!..» как бы разрывает ткань времени над действием, и вся дальнейшая трагедия созерцается и воспринимается в этом зияющем разрыве и через него.
103 * О принципиальной невозможности призраков (о «неестественном элементе» в трагедии): принципиально, теоретически все, что мы знаем о людях, предметах внешнего мира — их внешний вид, то, что мы видим и слышим о них, — есть не что иное, как известный комплекс зрительных и слуховых впечатлений, которые существуют для нас постольку, поскольку существуют воспринимающие их органы. Таким образом, то, что мы видимо и слышимо называем человеком, например, есть известная комбинация световых и звуковых волн, которая, оторвавшись от самого предмета, через известный промежуток времени (пусть ничтожнейший, но все же непременно существующий — скорость световых и звуковых волн) доходит до нас: свет от некоторых звезд доходит за четыреста лет, следовательно, видимое нами небо призрачно, оно давно не существует: принципиальной разницы нет — перестало ли существовать 400 лет тому назад или 1/100000… секунды, важно то, что промежуток времени проходит, мы видим человека, его уже нет: все видимое и слышимое нами призрачно. Важно отметить, что призрак является в том виде, в котором он 533 существовал на земле, в том образе, который, оторвавшись от него в виде комплекса световых лучей, увековечен во вселенной. О трагедии времени в «Гамлете» (реальность прошлого; власть его — см. интересную статью Аскольдова «Время и его религиозный смысл» («Вопр. философии и психологии», 1913)). С этой точки зрения можно осветить трагедию «Гамлет». Об этом приведем слова Достоевского. Свидригайлов («Преступление и наказание»), рассказывая о посещающих его привидениях (кстати, ср. внешние подробности, реалистические детали их, черта Ивана Федоровича Карамазова и тени отца Гамлета), на совет Раскольникова: «Сходите к доктору», отвечает: «… это-то я и без вас понимаю, что нездоров, хотя, право, не знаю чем; по-моему, я, наверное, здоровее вас впятеро. Я вас не про то спросил: верите ли вы или нет, что привидения являются? Я вас спросил: верите ли вы, что есть привидения?.. Ведь обыкновенно как говорят?.. Они говорят: ты болен, стало быть, то, что тебе представляется, есть один только несуществующий бред. А ведь тут нет строгой логики. Я согласен, что привидения являются только больным; но ведь это только доказывает, что привидения могут являться не иначе, как больным, а не то, что их нет самих по себе… Нет? Вы так думаете?.. Ну а что если так рассудить — … привидения это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало [курсив. — Л. В.]. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а стало быть, должен жить одной здешней жизнью для полноты и порядка. Ну а чуть заболел, чуть нарушился нормальный, земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше, — так что когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир» (ч. 4, гл. 1). Здесь важно для нас отметить все: и привидения как отрывки другого мира, и земную жизнь для полноты и порядка, а трагедия, следовательно, всегда болезнь, неземное, с другим миром соприкасающееся; и постепенно соприкосновение с тем миром, куда после смерти переходит человек, следовательно, одно приближение и касание к смерти вызывает соприкосновение с иным миром. Лессинг («Hamburgische Dramaturgie») говорит: «Семя веры в привидения таится в каждом из нас. От искусства поэта зависит заставить это семя пустить ростки. В театре должны мы верить так, как того хочет поэт». Он настаивает именно на реальности призрака в пьесе, анализируя обстановку. Он же говорит, формулируя все в одном: «Призрак Шекспира, действительно, восстает из загробного мира», и он же: «Призрак действует на нас скорее через посредство Гамлета, чем сам по себе». Чтобы покончить с этим вопросом, приведем замечание К. Р., сделанное в скобках к словам Белинского, приведенным выше («вам нет нужды» и т. д.): «Не прекрасный ли это ответ на праздные рассуждения о том, что такое призрак — галлюцинация или действительно привидение?» Нет, прекрасен он лишь постольку, поскольку устраняет самый вопрос; но глубоко неверен по существу: надо определить, как критик понимает роль Тени. Д. С. Мережковский. (Полн. собр. соч., т. 10. М., 1911. Толстой и Достоевский, ч. 2. Творчество Толстого и Достоевского, гл. 6) говорит: «Гамлету Тень отца является 534 в обстановке торжественной [курсив. — Л. В.], романтической (?) при ударах грома и землетрясении (sic!)… Тень отца говорит Гамлету о загробных тайнах, о Боге (?), о мести и крови» (с. 141), Где, кроме оперного либретто к Гамлету, мог вычитать это Мережковский? В. Розанов («Легенда о Великом инквизиторе») противопоставляет «Легенде» Достоевского религиозность Гамлета: «Шутливые и двусмысленные слова, которыми Фауст отделывается от вопросов Маргариты о Боге, темнота религиозного сознания в Гамлете — все это только бедный лепет…» и т. д. Правда этих слов — в «темноте религиозного сознания в Гамлете», уступающего сознанию героев Достоевского, но неправда их — в глубоком превосходстве мистичности роли, поступков, чувств, судьбы Гамлета — а отсюда своеобразной религиозности трагедий — перед «Легендой» Достоевского.
104 * Айхенвальд: «Его религиозность момент в высшей степени важный и многое, особенно в данном случае, объясняющий; но как раз она… и отнимает у датского принца законченность и последнюю стильность его психологического облика». Религиозен ли Гамлет? Фаталист или детерминист? Христианин или язычник, верующий в кровавую месть? Скептик, или материалист, или идеалист? Сопоставляют его «изречения», находят противоречия. Он ничего не знает, как все мы: он хочет молиться (преодолеть трагедию). В этом все. А то, что он узнает в минуту смерти, не может быть названо земным словом. Это не слово: это, скорее, свет трагедии, тон ее, связь слов, — в связи слов религиозность трагедии. Эта религиозность имманентна трагедии в ее словах, во религиозная причина трагедий ей трансцендентна.
105 * Критики как будто чувствуют себя связанными клятвой молчания — не рассказывать «истинной причины» состояния и поведения Гамлета. А ведь до чего она ясна, если придерживаться трагедии: общение с иным миром. Отсюда все. G. H. Lews (по К. Р.): «С минуты исчезновения призрака Гамлет — другой человек». Но и он, отметив это перерождение, сбивается дальше на другое.
106 «… два мира внутри человека…». — См. о Гамлете как о «человеке, чей ум на границе двух миров», в статье: Lewin С. S. Hamlet. The prince of the poem? — In.: Hamlet enter critic, ed. by C. Sacks and E. Whan. New York, 1960, p. 179 (см. в той же статье, с. 184, согласующееся с концепцией Выготского представление о Гамлете как о «человеке, которому призрак дал задание»).
107 «Disposition». — Здесь и далее в качестве ключевого слова, позволяющего многое объяснить в поведении Гамлета, Л. С. Выготский использует английское «disposition» — «расположение духа». Сходным образом интерпретируется это слово и в исследовании: Wilson L. D. What happens in Hamlet. Cambridge, 1956, p. 88 – 89 и далее.
108 * Вопрос о притворном или истинном безумии Гамлета решается разно. Энр. Ферри («Преступные типы»): «Гамлет является преступником-сумасшедшим» etc. (у него попытка связать катастрофу, действия Гамлета, «автоматизм»). Бриет де Буамон (по К. Р.) говорит о Гамлете: «Гамлет не умалишенный, но в нем уже 535 находятся все элементы умопомешательства… он уже стал на первую ступень, ведущую в бездну умопомешательства. Все речи и поступки Гамлета, клонящиеся к выполнению возложенного им на себя обета, свидетельствуют о том, что он обладает полным рассудком. Он находится в состоянии, занимающем середину между здравым рассудком и умопомешательством [курсив. — Л. В.]. Можно, думается нам, формулировать так (если не научно, то художественно понятно — литература приучила нас к этому!) Гамлет не сумасшедший ни в коем случае, но можно его состояние назвать безумием, и, перефразируя слова В. Кузэна: безумие — “божественная сторона разума”, сказать, что так безумны все трагические герои, ибо его безумие — есть “трагическая сторона разума”».
109 * Многие критики «Гамлета» (Гете и другие) видели в этом двустишии ключ к пониманию всей трагедии, но никто, кажется, или почти никто не разъяснил самого образа: the time etc., понимая его просто, как образ большого несчастья, или трудной задачи, или ужаса мира. А между тем в этих словах действительно все.
110 * Этот образ навеян удивительной игрой артиста Качалова (Московский Художественный театр). Вообще интереснейшая постановка «Гамлета» этим театром во многом, но далеко не во всем, — особенно купюры и исполнение остальных ролей приходится исключить из этого, — сближается с развиваемыми здесь взглядами, хотя критика (рецензия) не отметила этого характера постановки. (Только Вл. Гиппиус — приложение к газ. «Дань», № 111 — «Отклики», № 16, 1914, в статье «Шекспир и Россия» — об этой прекрасной статье ниже — говорит: «В этом значении был понят “Гамлет” театром Станиславского; какие бы возражения ни делали против постановки, какие бы идейные натяжки в ней на были допущены: в основании замысел был верный. Гамлет — мистик…»). В частности, игра Качалова (которая вся была выдержана на одной ноте безысходной скорби) удивительна, но это не полное воплощение Гамлета и далеко не выдержанное. Распространяться об этом здесь не место. И. А. Гончаров (приведено в предисловии) говорит о невозможности вообще полного сценического воплощения Гамлета — взгляд глубокий: можно сыграть Лира, Отелло и т. д. «Сильному артисту есть возможность настроить себя на тот тон чувств и положений, которые в Лире и Отелло идут ровным, цельным и нерушимым шагом… Не то в Гамлете, — Гамлета сыграть нельзя, или надо им быть вполне таким, каким он создан Шекспиром. Но можно более или менее слабее или сильнее напоминать кое-что из него». Гончаров делает удивительные замечания о Гамлете: «Гамлет — не типичная роль… Свойство Гамлета — это неуловимые в обыкновенном, нормальном состоянии души явления… Он, влекомый роковой силой, идет, потому что должен идти, хотя лучше, как он сам говорит, хотел бы умереть… Вся драма его в том, что он — человек, не машина…». Здесь уже ясно, что Гамлет — человек, необыкновенная общность этого образа (не типичного именно) отмечена. (Это отмечает и Белинский: «Гамлет! Понимаете ли вы значение этого слова? Оно высоко и глубоко: Гамлет — это жизнь человеческая, это — я, это — вы, это — каждый из нас», — и т. д.). К этим глубочайшим 536 заметкам Гончарова прибавлю его слова из романа «Обрыв»: «Гамлет и Офелия! — вдруг пришло ему в голову [Райскому по поводу свидания с Козловой. — Ред.].
… Над сравнением себя с Гамлетом он не смеялся: “Всякий, казалось ему, бывает Гамлетом иногда”. Так называемая “воля” подшучивает над всеми! Нет воли у человека, — говорил он, — а есть паралич воли: это к его услугам! А то, что называют волей, эту мнимую силу, так она вовсе не в распоряжении господина, “царя природы”, а подлежит каким-то посторонним законам и действует по ним, не спрашивая его согласия. Она, как совесть, только и напоминает о себе, когда человек уже сделал не то, что надо…» (ч. III, гл. XIII, с. 117). Свяжите это с «его драма в том, что он человек — не машина» — и станет ясно глубокое освещение трагического безволия, «автоматизма» датского принца. Возвращаясь к вопросу об игре Гамлета, скажем еще: не тот же ли взгляд Гончарова имел в виду Достоевский в мимоходом оброненной фразе: «Видел я Росси в “Гамлете” и вывел заключение, что вместо Гамлета я видел г-на Росси» (Дневник писателя, гл. III, 1877, март). (Иванов Р. М. Спектакль Эрнесто Росси: «Из шекспировского Гамлета он (Росси) сделал итальянца… Трагедию мысли превратил в драму чувства…») В пламенных строках Белинского о Мочалове можно уловить, что Мочалов подлинно удивительной силы достигал в Гамлете. Особенно удивительна его способность, говорящая о необыкновенном вдохновении в игре, совершенно разно в течение нескольких спектаклей играть (ср. после сцены представления). Но нельзя не отметить, что его исполнение даже в передаче Белинского значительно превосходит и, главное, уклоняется от толкования его. В его исполнении, несомненно, было (из слов Белинского) глубокое и ужасное, чего нет в толковании Белинского. Недаром Белинский упрекает его за исполнение этого места: «The time…» (по Полевому: «Преступление…» в котором он, вслед за Гете, видит все, и, которое, по его мнению, у Мочалова пропадало всегда): «с блудящим взором», «зловещее привидение», у него «все дышало такою скрытою, невидимой, но чувствуемой, как давление кошемара, силою, что кровь леденела в жилах у зрителей…» — уже одни эти слова показывают все: впечатление о Гамлете Белинского нельзя сравнить с кошемаром; здесь ни при чем «кровь леденела…». Ап. Григорьев (ibid.): «Ведь Гамлет, которого он [Мочалов — Ред.] нам давал, радикально расходился хотя бы, например, с гетевским представлением о Гамлете. Уныло зловещее, что есть в Гамлете, — явно пересиливало все другие стороны характера, в иных порывах вредило даже идее о бессилии воли, какую мы привыкли соединять с образом Гамлета».
111 «… сердце бьется на пороге двойного бытия…». — Здесь и далее перефразировано стихотворение Тютчева, первая строчка которого («О вещая душа моя») имеет точное соответствие в словах Гамлета «O, my prophetic soul» (акт I, сцена 6). Выготский специально не отмечает этого соответствия (ускользнувшего от внимания литературоведов), но, вероятно, имел его в виду. Первые два четверостишия стихотворения Тютчева приведены в примечаниях самого Выготского к тексту работы.
112 * Эпиграфом к нашему толкованию «Гамлета» (к этой главе) можно было бы взять стихи Тютчева, обращенные к себе, но 537 удивительно точно, в каждом слове относящиеся к Гамлету. Это удивительнейшее отражение Гамлета в лирике. Кроме того, эти стихи дают всего Гамлета именно в «эпиграфе».
«О вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги!
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!
Так, ты жилища двух миров,
Твой день — болезненный и страстный,
Твой сон — пророчески-неясный,
Как откровение духов…».
Здесь каждое слово необходимо и точно именно об этом написано. Баратынский говорит об отражении этого состояния (состояния Гамлета):
«Есть бытие, но именем каким
Его назвать! — Ни сон оно, ни бденье:
Меж них оно; и в человеке им
С безумием граничит разуменье».
Это иное бытие Гамлета — «Две жизни в нас до гроба есть» (Лермонтов). Брандес: «Жизнь представляется Гамлету полудействительностью, полусном. Он по временам является как бы лунатиком». Но эти замечания Брандеса тонут в море других, совершенно исключающих и противоположных; он не только не кладет их в основу всего, но и не останавливается даже. Как «непостижные видения» вызывают отъединенность от мира, ср. балладу Пушкина о бедном рыцаре — в его образе есть кое-что от Гамлета («Сцены из рыцарских времен»):
«Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему
С той поры, сгорев душою,
Он на женщин не смотрел,
Он до гроба ни с одною
Молвить слова не хотел.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Возвратясь в свой замок дальний,
Жил он, строго заключен;
Все безмолвный, все печальный,
Как безумец умер он».
Это для Гамлета — глубоко интересно, во всяком случав, вспомнить. Недаром Достоевский ввел прекрасный образ этого «рыцаря бедного» в роман «Идиот» (мы сближаем ниже князя Мышкина с Гамлетом).
113 * В прекрасной статье, на которую мы уже ссылались и будем ссылаться ниже, Вл. Гиппиус говорит: «Гамлет — мистик. И потому, 538 что вся его судьба определена голосом из бездны (Тень отца), голосом, в реальности которого он не сомневается. И потому, что он страдает от насилия мысли над волей, и потому более всего, что его трагедия заключена не в этой власти мысли над волей, но в том, что он, погруженный в обыденность, взирает на жизнь свысока и в то же время не перестает из глубины слышать голос бездны. Не говоря уже о фатальности совершающихся событий…» Здесь уже намечено глубоко многое, но все еще сбивается на «насилие мысли» «… Гамлет — мистик; но в чем же трагедия, если он взирает на жизнь свысока? Во всяком случае, глубокое замечание это позволяет перейти к главной мысли всей статьи: она меняет основной взгляд на Шекспира в России. По его мнению, эпоха Белинского протекала вне непосредственных связей с Шекспиром, как в 40-е годы. (“У Белинского отношение к Шекспиру было больше энтузиазмом перед личностью, чем проникновением в его поэзию”.) Но, главное, глубоко неверна привычная связь Тургенева с Шекспиром; его подчас карикатурное понимание Гамлета в статье “Гамлет и Дон-Кихот” (“то кровь кипит”) указывает на его глубокую неродственность этому типу. И его герои (Рудин, Гамлет Щигровского уезда и проч.) близки не Гамлету Шекспира, а его изуродованному и приниженному в толкованиях двойнику. Как бы ни посмотреть на Гамлета, но, если только изобразить его в рост шекспировскому, всякая близость исчезает. Особенно если принять взгляд, предлагаемый здесь» «Мечтательный рыцарь прекрасной дамы… Тургенев мог совпадать с Шекспиром лишь в редких воспламенениях своей женственной музы — и, разумеется, не в Гамлете Щигровского уезда и не в Рудине, но там, где сказалось трагическое пламя, — ощущение фатальности…». По Вл. Гиппиусу, совпадение Шекспира и Тургенева в «Дворянском гнезде» и «Первой любви». Не «Фауст» ли? «Как это случилось, как растолковать это непонятное вмешательство мертвого в дела живых, я не знаю и никогда знать не буду… Я стал не тот, каким ты знал меня: я многому верю теперь, чему не верил прежде… Я все это время столько думал о тайной игре, судьбы, которую мы, слепые, величаем слепым случаем. Кто знает, сколько каждый живущий на земле оставляет семян, которым суждено взойти только после его смерти? Кто скажет, какой таинственной цепью связана судьба человека с судьбой его детей, его потомства и как отражаются на них его стремления, как взыскиваются с них его ошибки. Мы все должны смириться и преклонить голову перед Неведомым…». Вся вещь построена на призраке матери. «И точно, она боялась ее [жизни], боялась тех тайных сил, на которых построена жизнь и которые изредка, но внезапно пробиваются наружу. Горе тому, над кем они разыгрываются!» Вся вещь построена на этих «тайных силах» (трагическое), и если говорить о духе Шекспира, духе трагического, то духом его полна эта вещь, а не духом Фауста. И недаром невысказанно, одним косвенным намеком указывается близость к Гамлету: герой в письмах говорит в предчувствии гибельной любви, «смерти и гибели»: «А все-таки, мне кажется, что, несмотря на весь мой жизненный опыт, есть еще что-то такое на свете, друг Горацио, чего я не испытал, и это “что-то” чуть ли не самое важное». Вообще сознательно (речь о Гамлете и Дон-Кихоте) Тургенев не понимал Гамлета, но бессознательно, в воспламенениях художественного творчества, совпадал с ним… Трагическое, 539 дух Шекспира, дух Гамлета в лирическом отзвуке Тургенева (ср. в «Довольно» — о Макбете и «дальнейшее — молчанье» — конец вещи). «Понимание Шекспира начинается там, где есть “трагическое сознание”, а его не было в эти эпохи в России. Оно начинается с Толстого и Достоевского, — эти два писателя — первые у нас воистину шекспировской стихии, то есть воистину трагической», главное — Достоевский, потому что Толстой «был лишь отчасти трагиком» (его отношение — глубоко интересный вопрос проблемы — Шекспир и Россия). «Они [Достоевский и Шекспир] — явления самые родственные: и в том и в другом дух Библии. Трагическая бездна переживается при чтении Шекспира не в сознании, а в ощущении, в ощущении художественном, как неосязаемые для мысли испарения почвы — или больше того — как ее еще несознанный состав. В таком усвоении, когда отыскивается бессознательная подпочва творческой мудрости, Шекспир мог явиться нам — уже после Ницше, после декадентства». И говоря о «роковых», или трагических страстях, порождаемых «древним хаосом родимым», Вл. Гиппиус продолжает: «Не человек владеет ими, а они владеют им — и несут его, и роняют, и возносят; и крутят и мечут человеческую волю. Таков и Гамлет, и Макбет, и Лир. Таков и Раскольников, и Рогожин, и Ставрогин, и Мышкин, и Карамазовы». Здесь еще Гамлет не выделен из круга Макбета и Лира. Но указание на близость героям Достоевского глубоко верное. Это тема особого исследования, манящая глубочайшими и неожиданными совпадениями. Здесь отдельные черты приводятся (и ниже). Гамлета можно сблизить не с Рудиным, а с Идиотом, с которым его роднит «иное бытие», грань между безумием и разумением, глубинная мистичность души, парализованность воли. А главное, есть в настроении этих образов, в их свете что-то близкое; со Свидригайловым (ниже), который называет себя мистиком и видит привидения; Ставрогиным (Булгаков С. Н.: «Ставрогин — мистик… медиум [курсив. — Л. В.]… одержимый». Особенно его безволие и то, что его драма сдвинута в политическую (Иван Царевич); мать говорит о нем: «… он похож больше, чем на принца Гари, на принца Гамлета»; с Карамазовыми, где отдельные черточки разбросаны по всему роману, в его теме — отцовство, его мистическое начало, — трагедия Гамлета наоборот (в ходе событий «Идиота»); отчасти с Раскольниковым. Об отдельных чертах — ниже (см. выше также); в общем же, это глубочайшая проблема, требующая особого исследования.
114 * В. В. Розанов в некрологе по Ю. Н. Говорухе-Отроке («Лит. очерки». Спб., 1899) говорит: «Однако заветные его темы остались невыполненными… все… год за годом отодвигало выполнение долго лелеянного им плана: написать полный и обширный разбор “Гамлета”, любимейшего его произведения в европейской литературе… Этот… человек был сам Гамлет… Печальная полузадумчивость никогда почти не оставляла его; и вы чувствовали, как бы ни мало времени пробыли с ним, что между предметом текущего разговора и главным устремлением его мысли есть непереступаемая черта; что есть эта черта между предметами всех его видимых забот и центром его души. Он был реалист… и он был мистик… все освещалось в поле его зрения глубоким, неясным, несколько матовым светом… рассеянность… некоторое ощущение вечности… 540 индивидуализм — это еще Гамлетова черта… Он нет-нет и все возвращался к “Гамлету”; помню, он любил цитировать из него часть этого монолога: “Окончить жизнь — уснуть”, и т. д. Вот удивительное сплетение земного с небесным; вот взгляд сюда, на землю, брошенный под углом не раскрытых, но ощущаемых небесных тайн». В. Розанов, давая характеристику Говорухи-Отрока, тем самым обмолвился глубокими словами о Гамлете, которые очень важно отметить (хотя он и говорит, что Говоруха-Отрок близок к трансформации типа Гамлета у Тургенева, чем уничтожается весь почти смысл сказанного здесь: ведь Рудин не мистик, ведь в нем не сплетено земное с небесным…). Эти слова, как и слова Говорухи-Отрока (остались статьи из газет, по которым если нельзя восстановить всей его мысли о Гамлете, то можно уловить, во всяком случае, намеки на нее), глубоко важны для проблемы — Шекспир и Россия. (На ней мы главным образом здесь и останавливаемся, как и ниже: Толстой, Тургенев, Достоевский, Гончаров, Мережковский, В. Розанов и т. д.) Нам известны две его статьи (подписанные псевдонимом Ю. Николаев) в «Московских ведомостях».
Первая статья, «Мнение Брандеса о “Гамлете”», где он подвергает суровой и вполне заслуженной критике мнение Брандеса (он отмечает здесь уже «бесконечную, как бы уже сосредоточившуюся в себе скорбь… без тени утешения и надежды»). Здесь Говоруха-Отрок замечательно обрисовывает, в противовес Брандесу, отношения Гамлета к Офелии: «Он не перестает любить ее ни на минуту, и смысл поведения его по отношению к Офелии совершенно ясен. После появления привидения он уже знает, что он “обреченный”, что он уже не может и не смеет связывать ничью судьбу со своей, тем более судьбу любимой девушки… И вот тотчас же после появления привидения происходит та сцена, которая так великолепно, с такой силой и поэзией воспроизведена в монологе Офелии (II, 1). Знаменитая сцена III акта, после монолога о самоубийстве, есть прямое продолжение этой описанной Офелией сцены. Все, что здесь было выражено взглядом, который “светился каким-то жалким светом”, всем видом, ужасным и трагическим, этим немым прощанием навеки, так чудно описанным в конце монолога, — то самое в так называемой “сцене с Офелией” выражено было уже словами бессвязными, но полными глубокого и трагического смысла. Значение этой сцены совершенно понятно. Это сцена безнадежного прощания. В безумных словах и среди диких выходок Гамлет как бы хочет слить свою душу с душой Офелии. Все его миросозерцание, мрачное и трагическое, высказывается здесь с необыкновенной силой и глубиной, и эти заключительные восклицания “В монастырь! в монастырь!” раздаются как удары похоронного колокола. Он, уже не верящий в жизнь и людей, не хочет оставлять любимую девушку среди этой жизни и среди этих людей… И он хочет поставить между жизнью и ею… святые стены монастыря, за которыми она укроется со своим — он знает это — разбитым сердцем, укроется от “ветра жизни”, от того ветра жизни, от которого он сам бы хотел укрыться в могиле…» О монологе «Быть» etc. он говорит здесь: «Более тягостного монолога нет во всей трагедии…»
В другой статье, «Нечто о ведьмах и привидениях», он приблизительно 541 намечает общий свой взгляд на трагедию, причем слова эти, глубоко замечательные сами по себе, все же страдают некоторой отвлеченностью взгляда от самой трагедии, ее «слов»; дают как бы философскую формулу, оставляя в стороне (он прямо это говорит) самую трагедию. Очевидно, полный и подробный разбор «Гамлета», о котором говорит Розанов и тайна которого унесена «этим Гамлетом» (слова Розанова) в могилу, имел в виду нечто другое. «В “Гамлете” отчетливее, глубже, полнее, чем где-либо у Шекспира, поставлены вековые вопросы, вечно тревожащие всех — и философов и простых людей, — вопросы о жизни и смерти, о смысле мира и о смысле человеческого бытия. Вот что неотразимо влечет всех к этой трагедии, вот что заставляет признавать ее вольно и невольно, ведением или неведением вечного и величайшей трагедии, в которой с неслыханной силой и глубиной отразилась вековечная борьба души человеческой, вечные ее сомнения, вечное ее стремление разрешить загадку и мира и жизни… В самом деле, кого хоть раз в жизни не тревожили “Гамлетовы вопросы”, кто хотя раз в жизни не задумался о той стране, “откуда никогда и ни один пришелец не возвращался”, кого хотя раз в жизни не поражало зрелище этой вечной скорби?.. Кто хоть раз не испытал тяжести того “бремени жизни”, той усталости жить, какую испытывает принц Гамлет? Кому не приходили в голову те же скорбные вопросы, которые мучат его?.. Вот почему он действительно философ во всем значении этого слова — “царь философов”. Не разумом только философствует он, а всем своим существом, и вопрос о смысле мира является для него вопросом жизни и смерти. Борьба глубокого, страдающего скептицизма с верой — вот в чем смысл великой трагедии, вот в чем заключается идея ее. [Ну как не формула? — Л. В.]. Гамлет — великий скептик… В этом заключается сущность трагедии. История же, случившаяся в датском королевском семействе, есть лишь художественный фон для этого главного. [Но ведь эта “история” — вся трагедия! — Л. В.]. На этом мрачном фоне, где ужас кровавых преступлений как бы покрывается иным ужасом — ужасом мистическим, этим таинственным появлением “страждущей тени”, призывающей к мщению, — на этом-то фоне развертывается перед нами история борющейся и страдающей души великого скептика Гамлета, покупающего веру в провидение, без воли которого “и волосок не упадет с головы”, ценою разбитой жизни, несбывшихся желаний, погибших надежд. На этом фоне, на фоне мрачного злодейства и мистического ужаса обнажается перед нами великая душа датского принца во всей неслыханной красоте трагического страдания. В этой трагедии наш, здешний, мир, как он соприкасается с мирами иными, в ней чувствуется таинственное дыхание этих миров [курсив. — Л. В.]. В ней есть все, что потрясает… Но надо всем этим господствуют, всему этому дают смысл и таинственное значение вековечные “Гамлетовы вопросы”… Такова эта трагедия».
Говоруха-Отрок сближает, таким образом, Гамлета с Иваном Карамазовым (цитирует даже его слова о мире и боге).
Статья Ю. Николаева — «Нечто о ведьмах и привидениях» («Моск. ведомости», 29 июня; 11 июля; по поводу статьи Н. Иванцова — 542 Основной принцип красоты. — «Вопр. филос. и психологии», кн. 3, май – июнь). I. «Появились толкователи, посмотревшие на Шекспира с точки зрения чистого эмпиризма и чистого утилитаризма… Главным образом Шекспиру досталось за ведьм и привидения… те “извиняли” Шекспира предрассудками его века… Один из них (актер) говорил мне, что намерен сыграть Гамлета “без привидения” и именно потому, что “теперь естественные науки, а не привидения…”. Он толковал, что “просвещенным ясно, что Гамлет страдал галлюцинациями, а что привидение, которое ввел Шекспир в свою трагедию, есть дань "предрассудкам его века"”», и т. д.
II. (Взгляд Иванцова на Шекспира: характер и среда. «Ничто сверхъестественное на судьбу человека не влияет») — «Таким образом, по мнению Иванцова, миросозерцание Шекспира было чисто рационалистическим… Но сам автор предвидит, что ему могут быть сделаны очень веское возражения… Он думает, что ему могут указать именно на сверхъестественные явления в трагедиях Шекспира, главным образом на привидения в Гамлете и на ведьм в Макбете. (Иванцов сводит все в Гамлете к явлению Тени, она будто первопричина всей фабулы, но это, видимо, только так, потому что, во-первых, история объясняется хроникой, а во-вторых, “литературный прием, чтобы не вводить лишних сцен и не растягивать действия”) — (NB. В. Ю. Николаев сопоставляет философию Шопенгауэра с трагедией Шекспира, сравнивая “волю” с роком античной трагедии; оспаривает глубоко замечательно взгляд на короля Лира и Макбета как на трагические характеры. Слова Иванцова: “У Шекспира жизнь и действия каждого человека являются равнодействующей двух и только двух причин — внутренней природы или характера данного человека и окружающей его среды… Данный характер в данных условиях может действовать только так, а не иначе — таков общий смысл трагедии Шекспира”. Ю. Николаев доказывает, что фабула трагедии является результатом не двух только этих причин, называет это “навязывать Шекспиру механическое воззрение”)».
III. (Цит. по К. Р. — Иванцов: «Гамлет — это великая жизненная трагедия непротивления злу насилием».) Ю. Николаев: «При таком толковании совершенно устраняется из “Гамлета” все “сверхъестественное”, весь “мистицизм”, всякие “привидения”, противоречащие естественным наукам, и великая трагедия совершенно приспособляется к требованиям современности».
IV. «Г-ну Иванцову во что бы то ни стало хочется так растолковать Гамлета, чтобы привидение оказалось совершенно ненужным в этой трагедии» (Иванцов: «Трагизм Гамлета вовсе не в слабости его воли, а в его особом отношении к среде, в которую он поставлен»). Ю. Николаев: «“Среда заела” Гамлета. Его останавливает не страх, а нечто иное. Что же это иное? Г-н Иванцов думает, что “человеческие чувства”. Что же удерживает Гамлета от свершения мести? Не слабость воли и не человеческие чувства… Что же?.. Удерживает его отсутствие полной уверенности в виновности короля, и вот тут-то перед нами выступает все значение привидения в трагедии. [NB. Это удерживает Гамлета до того, как он убедился в виновности короля, до представления, до III акта, а что удерживает его после этого? — Л. В.] … Но если 543 так, если привидение введено в трагедию потому только, что о нем рассказано в новелле, да еще как “литературный прием”, как некоторая аллегория, если притом этой грубой вставкой нарушается весь характер Гамлета, то значит, Шекспир здесь впал в такую глубокую ошибку, в какую может впасть лишь автор посредственных мелодрам, заботящийся о внешних эффектах, а не о внутреннем смысле своих произведений. Но дело в том, что Шекспир не впал в такую ошибку, и в его трагедии привидение является необходимым и реальным лицом. Трагедия именно и начинается с появления призрака. Оставим в стороне вопрос: верил ли Шекспир в бытие привидений? Нам важно то, что в трагедии Гамлет и Горацио видят привидение и не сомневаются в его действительном бытии. Гамлет сомневается не в бытии привидения, не в том, что ему явилось привидение, а в том, кто это привидение, действительно ли это дух его отца. Это сомнение овладевает им сразу… И это сомнение, а не сомнение в бытии привидений или в том, что он видел действительно привидение, — это сомнение все растет в нем в продолжение развития действия; это сомнение приводит его к решительному шагу, чтобы узнать истину, к решимости испытать совесть короля посредством театрального представления… Гамлет действительно “полетел бы к мести”, если бы он сразу и бесповоротно поверил бы в то, что привидение есть действительно дух его отца, а не сатана, принявший “заманчивый образ”. Когда у Гамлета после представления не остается сомнений, что король — убийца его отца, он действует быстро и решительно (?), не думая ни о каких практических соображениях, убивает Полония, предполагая, что за занавеской спрятан не он, а король». (NB. В. Ю. Николаев говорит об «искренности» монолога Гамлета перед молящимся королем: доказательство — убийство Полония. «Я убью его», — говорит Гамлет. Гамлет исполнил это, и «лишь случай спасает короля». Толкование Ю. Николаева после представления явно не выдерживает критики: а каков смысл этого «случая», не приходится ли его трактовать Ю. Николаеву так, как Иванцов трактует явление Тени, как ошибку Шекспира, нарушающую характер Гамлета? А история с поездкой в Англию, а монолог по поводу Фортинбраса (точно соответствует монологу до представления по поводу актеров, а бездействие всего III, IV и V актов, а отсутствие плана перед катастрофой и ее «случайный» характер?). «Причина колебаний Гамлета заключается в одном — в чуткой его совести. Если бы не привидение, которое он считает то “блаженным духом”, то “проклятым призраком”, “сатаной, принявшим заманчивый образ”, если бы не привидение сообщило ему об убийстве, а, положим, случайные свидетели убийства, он бы не колебался и, наверно, оправдал бы свои слова: “На крыльях я к мести полечу”. Теперь ясно значение в трагедии привидения. В нем узел трагедии, ее завязка. В истинном смысле завязкой трагедии надо назвать такое событие, вследствие которого свободно развивается все действие и раскрывается вполне характер героя ее». (NB. Не есть ли это возвращение к учению о трагедийном характере? В конце Ю. Николаев срывается и не выдерживает высоты своего толкования, сбиваясь на иную концепцию, но все же концепция характера Гамлета как чего-то априорно задуманного автором, что раскрывается в трагедии). 544 «Такое событие в Гамлете — явление призрака. Следовательно, в этой трагедии привидение представляет собой нечто неизбежное и необходимое, без чего не было бы и самой трагедии. И, право, не понятно, почему именно привидение смущает столь многих критиков Гамлета? Ведь вера в таинственное, в бытие миров иных, нездешних проникает собой все миросозерцание Гамлета. “На земле и на небе…” — говорит он Горацио. Весь его знаменитый монолог о самоубийстве проникнут верой в бытие таинственной, нездешней жизни; наконец, отрывок из монолога II акта свидетельствует о том, что Гамлет верует в бытие таинственных, нездешних и злых сил. Почему же ему не поверить в проявление этих сил, добрых или злых, почему ему не поверить в привидение? Иванцов, кажется, думает, что Гамлет слишком “образован”, чтобы поверить в привидение. Гамлет не таков. Он философ в истинном и глубоком смысле этого слова; загадка бытия для него не теоретическая задача… а вопрос жизни и смерти. Отсюда его скептицизм (?), но отсюда же и глубокая вера, которая в конце концов побеждает. Борьба этого скептицизма с верой составляет сущность его душевной драмы, а необыкновенные события, окружающие Гамлета, лишь заставляют выразиться эту душевную драму с необыкновенной яркостью и силой». Здесь, по признанию самого Ю. Николаева, собрано и формулировано все о Гамлете, что он писал по разным поводам и мимоходом. Глубокий интерес к его взгляду все же не может заслонить всех его недостатков (неразъясненность фабулы, невыдержанность, натяжки): он не увидел последней мистической глубины в Гамлете, свел его на трагедию Ивана Карамазова, трагедию скептика, хотя подчеркнутые слова и намекают на мистика. Главный недостаток взгляда в том, что из Гамлета-скептика никак нельзя вывести фабулы его трагедии, его поступков. Интересно то, что даже при правильном понимании роли Тени трагедия необязательно вовсе подвергается нашему толкованию.
115 * Мережковский говорит: «Великие поэты прошлых веков, изображая страсти сердца, оставляли без внимания страсти ума, как бы считая их предметом невозможным для художественного изображения. Если Фауст и Гамлет нам ближе всех героев, потому что они больше всех мыслят, то все-таки они меньше чувствуют, меньше действуют именно потому, что больше мыслят. И все-таки трагедия Гамлета и Фауста заключается в неразрешимом для них противоречии страстного сердца и бесстрастной мысли, но не возможна ли трагедия мысленной страсти и страстной мысли? Не принадлежит ли именно этой трагедии будущее?» По мнению Мережковского, Достоевский приблизился к ней первый. Что касается Фауста, то до известной степени эти слова справедливы: это герой (и трагедия) мысли. А Горнфельд мимоходом говорит о нем, что Фауст «полон рациональных элементов и как бы написан à thèse». Но к Гамлету эти слова неприложимы (Мережковский видит в нем, как и многие критики, героя мысли; эта точка зрения отпадает сама собой при развиваемом здесь взгляде на Гамлета). Гамлет — именно «страстно мыслит». Это роднит его с героями Достоевского. Мы уже говорили, что сближение Гамлета с героями Тургенева могло быть вызвано пониманием его трагедии как безволия, вызванного нерешительностью и рефлексией; 545 иное понимание, развиваемое здесь, отмечает это сближение и вызывает совершенно иное с Достоевским. Их сближает (Шекспира и Достоевского) общая им обоим стихия трагического, удивительное соединение реального и мистического. Родственность их (и Гамлета с героями Достоевского) — тема глубокая и совершенно особая. Ср., как мысль только отражает ощущение, скрытое за ней. Достоевский («Братья Карамазовы») — Иван Федорович, излагая «идеи» Алеше, как бы только рассуждает, мыслит, говорит: «У меня как-то голова болит, и мне грустно» (с. 282). Кстати, здесь же (внешне) Иван поминает Гамлета: «Как Полоний оборачивает словечки». О мысли-ощущении (Смирнов А. Творец душ. — «Летопись», 1916, апр.): «У Шекспира даже самые отвлеченные мысли, как, например, в “Гамлете”, облечены в форму чувств». К чувству смерти у Гамлета — Шопенгауэр: «Никто не имеет действительного, живого убеждения в неизбежности своей смерти, ибо иначе не было бы большого различия между его настроением и настроением человека, приговоренного к смертной казни. Напротив, каждый хотя познает такую необходимость абстрактно и теоретически, но отлагает ее в сторону, как другие теоретические истины, которые, однако, на практике не приложимы, — нисколько не воспринимая их в свое живое сознание». Гамлет не таков, он применил на практике эту истину. Л. Толстой (Предисловие к дневнику Амиеля): «Мы все приговорены к смерти, и казнь цанга только отсрочка». Вот что скрыто за всей легендой о «великом инквизиторе». Сцену на кладбище — ср. с Дмитрием Карамазовым — состояние «порожной» грусти. Прокурор (Ипполит Кириллович) говорит о современных ему молодых людях, которые «застреливаются без малейших Гамлетовых вопросов о том: “Что будет там?”» — и т. д. (с. 283). Дальше, говоря о том, что Дмитрий Карамазов все хотел прикрыть самоубийством: «Я не знаю, думал ли в ту минуту Карамазов, что будет там, и может ли Карамазов по-гамлетовски думать о том, что будет там? Нет… У тех Гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы» (с. 850 – 851). Простая справка в романе показывает, что в ту именно минуту, о которой говорит прокурор, Дмитрий Карамазов вспоминал Гамлета, думал по-гамлетовски — правда, не размышлял о том, что будет там, но ощущал в сердце своем «грусть грани» — настроение Гамлета на кладбище, так прекрасно понятое Достоевским, Готовясь умереть, он говорит: «Грустно мне, грустно… Помнишь Гамлета: “Мне так грустно, так грустно, Горацио… Ах, бедный Йорик”. Это я, может быть, Йорик и есть. Именно теперь я Йорик, а череп потом» (с. 485). Совпадение поразительное: Карамазов чувствует по Гамлету, и фраза прокурора получает смысл не противопоставления, а сопоставления.
116 «Sub specie mortis» — «с точки зрения смерти» (латин.). Ср. положения Уилсона Найта — «тема “Гамлета” — это смерть», развитое им в работе: Knignt G. W. The Embassy of Death, «Discussions of Hamlet», ed. by J. S. Levenson. Boston, 1960, p. 58 etc. (относительно метода У. Найта в целом см.: Аникст А. А. Современное искусствоведение за рубежом. М., 1964). Об образе Смерти (das Bild des Todes) в трагедии см. также: Eppelshemer R. Tragic und Metamorphose. München, 1958, S. 122.
117 * К. Р. приводит (т. 3) из «Южного края» (1882) рецензию 546 об игре Сальвини, из которой можно уловить, что исполнение его все было отмечено чертой смерти с самого начала до конца трагедии: «И в этом лице, и в этих глазах, и в этих скорбно сжатых губах, и на этом высоком, омраченном челе ясно читалось одно все разрешающее слово — смерть… Это первое и неизгладимое впечатление, так сказать, основной мотив, который в продолжение всей пьесы, развиваясь, все более и более захватывает зрителя… С самого первого выхода и до конца пьесы вы видите веред собой приговоренного к смерти», «безумно и тихо рыдал один человек со смертью на челе…» Он же, по-видимому глубокий Гамлет, так вел сцену с Призраком, что заставлял «зрителя поверить в привидение, испытать тот же мистический, нездешний ужас, какой испытывает сам»… Живопись недаром избрала этот момент для зафиксирования образа Гамлета на портрете, Гамлета и его трагедии. А. Григорьев («Отеч. зап.», 1850): «Я вспомнил виденный мною эстамп с картины Поля Делароша: вечереющее северное небо, пустынное кладбище и Гамлета, сидящего на могиле с неподвижным, бесцельно устремленным куда-то взором, с болезненной улыбкой: он уселся тут как будто навсегда, он… упивается мыслью о смерти, он здесь в своем элементе, он весь тут, одним словом, — весь меланхолической стороной своей натуры — бесплодный мечтатель, играющий смертью и гибелью». Этот взор Гамлета недаром использован и актерами и живописцами: у Мочалова он с «блудящим взором», здесь «устремленным куда-то», неподвижным, у Сальвини — «глядя никуда помутившимся потухшим взглядом». Ср. рассказ Офелии. Критики, видящие в этой сцене рассуждения Гамлета и так оценивающие ее — теория атомов Дж. Бруно (Чишвиц) и т. д., — недалеко ушли от явно комического утверждения А. Н. Кремлева, который так говорит об этой сцене: «Он возвращается к прежним привычкам, погружается в мир вдохновенной философской мысли, снова живет среди гипотез и научных исследований (!). На кладбище он открывает закон неуничтожаемости материи (!), имеющей в науке такое великое значение» (по К. Р., т. 3). Право, это лишь естественное завершение и небольшое преувеличение мысли Чишвица и др.
118 * Эм. Монтегю говорит: «Бездействие и представляет действие первых трех актов». Берне: «Шекспир — король, не подчиненный правилу. Будь он как и всякий другой, можно было бы сказать: Гамлет — лирический характер, противоречащий всякой драматической обработке». Г. Брандес: «Не надо забывать, что это драматическое чудо — недействующий герой — требовалось до некоторой степени самой техникой драмы. Если бы Гамлет тотчас же по получении от Тени сведений о совершенном убийстве убил короля, пьеса была бы окончена вместе с окончанием одного-единственного акта. Поэтому было совершенно необходимо придумать способы замедлить действие». Отсюда до «так надо трагедии» этого этюда, видимо, рукой подать, но внутренне, в сущности, целая пропасть, полярная противоположность взглядов. По этому взгляду бездействие Гамлета, требуемое техникой драмы, надо принять как необходимую внешнюю условность драмы, ее техники как нечто не имеющее отношения к глубинному смыслу трагедии; по-нашему, в этом весь центр его. Ближе подходит (но тоже с историко-литературной стороны, Брандес — с теоретико-литературной) 547 Генри Бекк: «Кто-то, не знаю, сказал: “Гамлет — это Экклезиаст в действии”, в таком случае на земле ему делать нечего; события проходят мимо него, но он не принимает в них участия; он скрещивает руки на груди». Все он объясняет из противоречия фабулы пьесы и характера героя: фабула, ход действия принадлежат хронике, откуда взял сюжет Шекспир, а характер Гамлета — Шекспиру; между тем и другим есть непримиримое противоречие. Это очень близко подводит к нашему взгляду (тоже с обратной стороны, «полярностью» взгляда): Бекк видит в этом противоречии (его устанавливаем и мы) исторически и литературно объясняемую ошибку Шекспира; мы видим в этом глубочайшее воплощение самой идеи трагедии, ее власти над человеком, «так надо трагедии», а не хронике. «Шекспир не был полным хозяином своей пьесы и не распоряжался вполне свободно ее отдельными частями, — его связывает хроника: в этом все дело, и это так просто и верно, что нам незачем искать каких-либо других объяснений по сторонам». Совершенно верно, остается только это (если не взгляд этого этюда): продолженное это дает взгляд Толстого — Шекспир «испортил» хронику. Но все дело в том, что не хроника — господин в его пьесе, а трагедия, ее закон, но об этом см. в тексте. С. Махалов («Фантазия на трагедию “Гамлет”»): «В трагедии вообще не дано разгадки поведения Гамлета». В. А. Жуковский (по К. Р.): «Chef d’ oeuvre Шекспира Гамлет кажется мне чудовищем, и что я не понимаю его смысла… Те, которые находят так много в Гамлете, доказывают тем более собственное богатство мыслей и воображения, нежели превосходство Гамлета. Я не могу поверить, чтобы Шекспир, сочиняя свою трагедию, думал все то, что Тик и Шлегель думали, читая ее: они видят в ней и в ее разительных странностях всю жизнь человеческую с ее непонятными загадками… Я просил его, чтобы он прочитал мне Гамлета и чтобы после чтения сообщил мне подробно свои мысли об этом чудесном уроде…» Взгляд Жуковского на критику совпадает с развиваемым здесь, но выход обратный: Шекспир, конечно, не думал, сочиняя трагедию, всего того, что думал, читая ее, Тик и Шлегель; и все же, хоть Шекспир и не придумал всего этого, в Гамлете это все есть и есть неизмеримо больше: такова природа художественного создания, и, говоря это, они доказывали не только глубину собственного восприятия трагедии, но и превосходство Гамлета. Вообще взгляд Жуковского на Гамлета как на «чудовище», «чудесного урода» своей полярностью глубоко важен для этюда: это одно и то же, но разно оцениваемое, воспринимаемое, чувствуемое; глаз же видит одно — чудовищность, нелепость, путаницу, противоречие и т. д. Вот в чем глубокое значение для этого этюда так называемых «отрицательных» взглядов: Толстого, Рюмелина, Бекка, Жуковского, Вольтера, Ницше и проч.
119 * Джемс перечисляет признаки мистических состояний: I. «Неизреченность. Самый лучший критерий для распознания мистических состояний сознания — невозможность со стороны пережившего их найти слова для их описания, вернее сказать, отсутствие слов, способных в полной мере выразить сущность этого рода переживаний; чтобы знать о них, надо испытать их на личном, непосредственном опыте, а пережить по чужим сообщениям 548 их нельзя. Отсюда видно, что мистические состояния скорое принадлежат к эмоциональной сфере, чем к интеллектуальной. Нельзя объяснить качество или ценность какого-либо ощущения тому, кто никогда его не испытывал. Нужно музыкальное ухо, чтобы оценить симфонию. Нужно быть когда-нибудь самому влюбленным, чтобы понять состояние влюбленного. Если у нас нет сердца, мы будем рассматривать музыканта и влюбленного как слабоумных или сумасшедших, и мистики находят, что часто многие из нас судят именно таким образом об их переживаниях. II. Интуитивность. Хотя мистические состояния и относятся к сфере чувств, однако для переживающего их они являются особой формой познавания. При помощи их человек проникает в глубины истины, закрытые для трезвого рассудка. Они являются откровениями, моментами внутреннего просветления, неизмеримо важными для того, кто их пережил и над чьей жизнью власть их остается незыблемой до конца. III. Кратковременность. Мистические состояния не имеют длительного состояния. IV. Бездеятельность воли. Мистик начинает ощущать свою волю как бы парализованной или даже находящейся во власти какой-то высшей силы. В. Иванов (“По звездам”): “Истинная воля излучается только через прозрачную среду личного безволия”. Фр. Ницше (“Происхождение трагедии”) говорит о близости Гамлета состоянию дионисийского человека, то есть одержимого чем-то, точно вышедшего из себя (или принявшего в себя), погруженного в летаргию, то есть близок к определению Гамлета как мистика; там же — ср. о том, что слова трагедии (в частности, Гамлета) ниже языка его сцен, самого действия; музыка трагического действия (самый ход его, ритм, темп, расположения сцен) дает больше, чем слова трагедии. Ницше чувствовал, что тайна Гамлета в действии трагедии. Эта последняя особенность роднит мистические состояния с той подчиненностью чужой воле, какую мы видим у личности при ее раздвоенности, а также с пророческими, автоматическими (при автоматическом письме) состояниями и с медиумическим трансом. Но все эти состояния, проявляясь в резкой форме, не оставляют по себе никакого воспоминания [ср. легкость у Гамлета после убийства Гильденстерна и Розенкранца! — Л. В.], и, быть может, даже никакого следа на внутренней жизни человека, являясь для нее в некоторых случаях только помехой. Мистические же состояния, в тесном смысле этого слова, всегда оставляют воспоминания об их сущности и глубокое чувство их важности. И влияние их простирается на все промежутки времени между их появлением. Провести резкую пограничную черту между мистическими и автоматическими состояниями, однако, трудно; мы наталкиваемся здесь на целый ряд постепенных переходов одной формы в другую и на самые разнообразные их сочетания». Здесь особенно удивительно сближение мистических состояний с автоматизмом (слово Майера — психологический термин для обозначения безвольных действий человека в связи с мистическим состоянием души получает особый смысл; мы воспользовались этим научным термином, так как он, казалось нам, весьма близко передает нашу мысль). «В Раскольникове усматривали параллель к Гамлету, и эта параллель, конечно, во многом основательна», — говорит Ф. Д. Батюшков (История русской 549 литературы XIX века. Т. 4, гл. 9). Общую сторону того и другого критик усматривает в том, что оба — не «люди дела». Но мистическая сторона трагического автоматизма, которая роднит обоих, им упущена. Для уяснения этой мысли позволю себе привести несколько черт из романа Достоевского «Преступление и наказание» (вообще есть черты поражающей внутренней близости: чувство разрешающей катастрофы везде у Достоевского)… «Раскольников, совершающий убийство по мысли (это заметьте!) также подвержен этому трагическому автоматизму: “Он вошел к себе, как приговоренный к смерти. Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать; но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли и что все вдруг решено окончательно”, “сам в себе он уже не находил сознательных возражений. Но в последнем случае он просто не верил себе и упрямо, рабски искал возражений по сторонам и ощупью, как будто кто его принуждал и тянул к тому. Последний же день, так нечаянно наступивший и все разом порешивший, подействовал на него почти совсем механически: как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественной силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать”. (Ср. Гамлет — катастрофа!) “… Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально опустил… Силы его тут как бы не было”. Вообще есть черты поражающие: ограничусь двумя-тремя. После убийства он идет навстречу людям: “В полном отчаянии пошел он им прямо навстречу: будь что будет” (Ср. Гамлет — “будь что будет”). “Бредил я что-нибудь?” — спрашивает он у приятеля. “Еще бы. Себе не принадлежали-с”. (Ср. Гамлет — “сам не свой”.) Особенно удивительно это место: “Голова немного кружится, только не в том дело, а в том, что мне так грустно, так грустно! Точно женщине… право!” Дело в том, что эти слова очень близко напоминают слова Гамлета перед катастрофой Горацио, в переводе Полевого, по которому Достоевский знал Гамлета и цитировал его. Подчеркнутые слова (цитирует Дмитрий Карамазов со ссылкой на Гамлета!) совпадают совершенно. Сходство настроения и слова поражающее. Вообще Раскольников, не различающий яви от сна и бреда, смешавший мистическое и реальное, очень во многом близко подходит к Гамлету. Какая-то “нездешность” всего происходящего, особый “нездешний” свет насыщают весь роман, как и “Гамлета”: “Это все теперь точно на том свете… и так давно. Да и все то кругом, точно не здесь делается”. Ср. в “Идиоте”: “Это неестественно, но тут все неестественно” (ч. III). Ср. удивительное замечание Айхенвальда об измене Гамлета природе, естеству; если это продолжить и с личности героя перенести на самую трагедию, получится то, о чем мы здесь говорим. Недаром Вл. Гиппиус говорит о Достоевском и Шекспире: “… в обоих дух Библии”, что-то нездешнее есть в творениях обоих».
120 «… в трагическом автоматизме…». — Мысль Выготского о механизме трагедии, который запущен в начале и далее движется неуклонно почти, текстуально совпадает с концепцией шекспировского театра, изложенной в книге известного современного польского критика Яна Котта «Шекспир — наш современник» (на 550 русском языке о концепции Я. Котта можно прочитать в статье: Уэст А. Некоторые аспекты современного употребления понятия «шекспировский». — В кн.: Шекспир в меняющемся мире. М., 1966). Сопоставляя шекспировский театр с театром гротеска Беккета, Ян Котт отмечает роль слепо действующего механизма в таком театре. В отличие от Выготского он считает, однако, что этот механизм создан самим человеком: «Театр гротеска столь часто прибегает к образу некоего механизма, который, будучи раз запущен, уже не может остановиться. Место, отводившееся в античной трагедии богу, природе или истории, занимают теперь различного рода механизмы, слепые и враждебные человеку. Это представление о нелепом механизме является последней метафизической идеей, все-таки сохраняющейся в театре абсурда. Однако этот механизм отнюдь не трансцендентен по отношению к человеку, не говоря уже о всем роде людском в целом. Нет, он представляет собой западню, которую человек устроил самому себе и в которую он сам попал» (см.: Уэст А. Указ, соч., 366 – 367).
121 * Ее, эту сцену, слитком часто опускают от бессилия справиться с ней: она не укладывается ни в какое толкование, прорывает всякое. Московский Художественный театр тоже опускает ее поэтому, а между тем она глубоко необходима трагедии.
122 * Prof. W. Crezenach (по К. Р.) останавливается на непонятности, немотивированности этого: «Гамлет говорит матери, чтобы она не трогалась с места и выслушала его, и только на основании этого требования у нее является подозрение, что он хочет ее убить. Из слов поэта, во всяком случае, не довольно ясно видна зависимость одного от другого. Актеру приходится дополнять тоном голоса и движениями то, что здесь недосказано». Тик (и К. Р.) хочет восполнить эту немотивированность, считая ее простой ошибкой, пропуском ремарки, а между тем в ней именно глубокий смысл — см. текст этюда.
123 «… отца — матери — сына…». — Взаимоотношения между Гамлетом, его отцом и его матерью послужили предметом детального анализа в ряде психоаналитических работ, выводы которых, однако, страдают значительной искусственностью (это отмечают и многие западные шекспироведы, см.: Jones E. Hamlet and Oedipus, New York, 1949; Wormhoudt O. Hamlet’s Mouse Trap. New York, 1956).
124 * Эту сцену близко напоминает сцена на веранде между князем Мышкиным и Аглаей (ей кажется, что он хочет точно ощупать ее лицо, — так он смотрит) в романе «Идиот».
125 * Это припев, составленный из слов, не имеющих определенного смысла (К. Р., т. 3).
126 * Здесь что-то свидригайловское, карамазовское или лучше — ставрогинское — надрывно циническое до страдания (или от страдания — здесь). Ср.: Гамлета нет на сцене (см. текст) — рассуждения С. Н. Булгакова (Русская трагедия. — В кн.: Русская мысль. Кн. 4, 1914) о Ставрогине, мистичности его образа: «Ставрогин… есть герой этой трагедии… и в то же время его нет, страшно, зловеще, адски нет… Ставрогина нет и, в сущности, и ее нет, как лица [Хромоножки], как индивидуальности…» Эти мистические 551 провалы в нездешнее здесь отражаются зиянием, страшным нет. Так и Гамлета нет. Ср. дальше. Удивительная формула В. Иванова: «fio ergo non sum» — Гамлет — все время fio и его нет. Ср. там же рассуждения о существе трагедии, ее задачах — раскрытие «некоего божественного фатума, который осуществляет свои приговоры с неотвратимой силой. Он, этот божественный закон, есть подлинный герой трагедии, он раскрывается в своем значении провидения в человеческой жизни, вершит на земле страшный суд и выполняет свои приговоры. Содержание трагедии поэтому есть внутренняя закономерность человеческой жизни, осуществляющаяся и раскрывающаяся с очевидностью при попытке ее нарушить или отклониться от своей орбиты. Отсюда возвышающий, но и устрашающий характер трагедии: и некая высшая обреченность ее героев и правда этой обреченности» etc. С. Булгаков вскрывает «трагическую закономерность», «мистериальную сторону» трагедии, ее «надчеловеческий закон» и ближе определяет ее религиозную и эстетическую сущность, чем Вяч. Иванов («Борозды и межи»), который сводит ее на раскрытие диады и объявляет искусство трагическое искусством человеческим по преимуществу. «Рука Божия», что коснулась Иова… определяет этот «божественный фатум». Отсюда впечатление трагедии — не языческий, религиозно-медицинский катарсис, очищение, а «страх трагедии», «страх Божий».
Гамлет осуждает себя: разговор с Офелией — ср. «Бесы», Николай Ставрогин: «Я знаю, что мне надо бы убить себя, смести себя с земли, как подлое насекомое…» Дмитрий Карамазов: «Из всех я самый подлый гад». «Иное бытие» Гамлета — ср. Иван Федорович: «… как будто я сплю наяву… хожу, говорю и вижу, а сплю». Дм. Карамазов об убийстве Григория (ср. Гамлет — об убийстве Полония): «Попался старик, нечего делать, ну и лежи». Эту сцену — убийство Полония, — по К. Фишеру, очень согласно все почти критики считают доказательством бесцельного, необдуманного, непланомерного образа действия Гамлета. В самом деле, она показывает, как мотивы фабулы вынесены за сцену, лежат за кулисами, как действие подвигается оттуда. И ведь убийство Полония — поворотный пункт трагедии. Ср. «семенную» связь с иным миром — слова Зосимы: «Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное, сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным… да и корни наших мыслей я чувств не здесь, а в мирах иных… Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и взошло все, что могло взойти, но взращенное живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным». Тема «Братьев Карамазовых» — мистическая связь с отцом. Защитник, доказывая невиновность Дмитрия Федоровича, говорит, что это не отцеубийство, ибо Федор Павлович не отец: «О, конечно, есть и другое значение, другое толкование слова “отец”, требующее, чтобы отец мой, хотя бы и изверг, хотя бы и злодей своим детям, оставался бы все-таки моим отцом, потому только, что он родил меня. Но это значение уже, так сказать, мистическое». Достоевский именно на этом втором, другом значении слова отец, мистическом — и построил весь роман.
127 * Ср. Брандес: д-р Фр. Рубинштейн «видит предсказание 552 гибели Гамлета и Лаэрта в том, что оба накануне своей смерти спрыгивают в могилу» (К. Р., т. 3).
128 * К. Р.: «Шекспир не объясняет нам, откуда Гамлет узнал, что его пошлют в Англию». Майлз, Деринг — «исправляют» и «объясняют» это подслушанным разговором, выпуском стихов и т. д.
129 * Кольридж: «Это почти единственная пьеса Шекспира, в которой простая случайность является существенной частью завязки». Он говорит о том, что она «приспособлена к характеру Гамлета», а Майлз прямо ее отрицает, говоря, что взятие в плен Гамлет устроил сам заранее, а это вовсе не случайность. Смысл ее не разгадан.
130 * Достоевский в «Идиоте»: князь Мышкин дает Аглае тему для картины — «нарисовать лицо приговоренного за минуту до удара гильотиной, когда еще он на эшафоте стоит, перед тем как ложиться на эту доску… как это рассказать! Мне ужасно бы, ужасно бы хотелось, чтобы вы или кто-нибудь это нарисовал». Из рассказа видно, что его привлекает то необычное состояние, когда человек и здесь и там: «И, представьте же, до сих пор еще спорят, что, может быть, голова, когда и отлетит, то еще с секунду, может быть, знает, что она отлетела… Каково понятие! А что если пять секунд? … Только последняя ступень: преступник ступил на нее — голова, лицо бледное, как бумага, священник протягивает крест, тот с жадностью протягивает свои синие губы и глядит — и все знаете. Эта последняя ступень, голова после того, как отлетела, — состояние и здесь и там: Гамлет во время катастрофы “Let be!”». «Мне кажется, — говорит он [Мышкин], — если например, неминуемая гибель, дом на вас валится, то тут вдруг ужасно захочется сесть и закрыть глаза и ждать: будь что будет». Ср. Раскольникова — приведено выше. Припадки эпилепсии, когда при крике «представляется, как бы кричит кто-то другой, находящийся внутри этого человека», — ср. Гамлет. Предчувствия необыкновенные «Идиота» роднят его с Гамлетом (та же связь с фабулой; но здесь полное безволие — убивает другой; вообще в самом строе этого романа есть что-то трагическое, близкое Гамлету) — так, он сразу предчувствует катастрофу: «Рогожин ее зарежет». Удивительны в высшей степени совпадения трагедии с Евангелием. Для человека, мистически воспринимающего искусство и эстетически — мистическое, это — несмотря на все ужасное различие и нахождение в разных плоскостях — книги, я бы сказал, одного настроения. И, несмотря на все различие, у них есть общие точки, даже общая сторона — это именно настроение, просачивающееся в обоих, — эстетически-мистические категории. С той стороны, с какой мы раскрываем Гамлета, ощущается его близость с Евангелием и Библией. Эстетически-художественное восприятие «того мира» (которое, конечно, наряду с философским, моральным, религиозным все же есть в Библии) роднит обе книги: точно неуловимые нити протянуты через эти книги оттуда. Если сравнивали Гамлета с Германией (Гервинус, Фрейлиграт), то вместе с коренной перестановкой отражений Гамлета в литературе, сделанной здесь, приходится и этот образ изменить, несмотря на всю рискованность подобной спекуляции словами: сопоставление Гамлета с Германией отражает определенный взгляд прежде всего 553 на Гамлета; наш взгляд на Гамлета найдет такое же точно отражение в сопоставлении Гамлета с европейством, героем божественной трагедии — Библии. Недаром у E. Monteque смерть Гамлета вызывает удивительное сопоставление: «… как умирали евреи, когда слуха их касался звук таинственного имени Адонаи». Вл. Гиппиус говорит: «Шекспир как Библия. В отношении к нему всегда сказывалось нечто религиозное — даже у тех, кто не искал в нем прямой мудрости… Шекспир — именно как Библия: хаос религиозного сознания, становящийся космосом… Он остается как Библия. Как художественное и внутреннее религиозное явление вместе. Адам и Ева, Каин и Авель, Ной, Авраам, Иосиф, Моисей — все это не только религия, но и художественные изваяния потрясающей силы и сжатости. Так и у Шекспира: Ромео и Джульетта, Гамлет, Макбет, Лир, Отелло, Офелия, Корделия, Дездемона — все это не только художественные изваяния, совершенно исключительной выпуклости и точности, но и явления религиозной жизни, внутренне, в своем существе… Он услышал гул бездны, как мало кто слышал его, и потому он как Библия… Шекспир именно религиозен, если вслушаться в язык его образов. Не в смысле точного мировоззрения или определенного исповедания. Но стихийно религиозен. Скажем — мистичен». Это тема особая — глубокая до неисчерпаемости: в частности, она должна показать, какова религия Шекспира, что это за религия трагедии, и выяснить, что между Библией и Шекспиром существует полярная противоположность. Это совсем разные религии: Шекспир не как Библия. Но общая сторона, хорошо намеченная здесь, у них есть все же. Здесь, не вдаваясь в самую тему, мы ограничимся указанием отдельных, особенно поразительных совпадений. О готовности и о незнании минуты: «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь: ибо не знаете, когда наступит это время… Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома; вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру. Чтобы пришедший внезапно не застал вас спящим. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте». От Марка, гл. 13, ст. 32 – 37; от Луки, гл. 12, ст. 40: «Будьте же и вы готовы» — борьба Гамлета (а если я отвечу: нет, потом соглашается) сопоставить — от Матфея, гл. 26, ст. 37 – 47: это знание наперед того, что будет; «да минет чаша сия меня»; и смертельная тоска — «душа моя скорбит смертельно» — и «если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И как Гамлет идет к Лаэрту с дружеским приветом: «Друг, для чего ты пришел?» — Христос Иуде (ibid., ст. 50): «Не пять ли малых птиц продают за два ассария? И ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь». От Луки, гл. 12, ст. 6 – 7: «И воробей»… — и, главное, промирностъ; От Иоанна, гл. 17, ст. 11: «Я уже не в мире, но они в мире», — это весь Гамлет; ст. 12: «Когда я был с ними в мире…» Вот это удивительное здесь и не здесь — весь Гамлет. И особенный мистический смысл получают его слова (ст. 14): «Я не от мира…», ст. 16: «Они не от мира, как я не от мира». Гл. 18, ст. 36: «Царство мое не от мира сего… ныне царство мое не отсюда». И обе книги говорят самое большое, что человек может вместить («всего не может вместить…»). «Я рассказал бы… дальнейшее — 554 молчанье» — и обе тонут в невысказанном, в молчании. Но это тема глубокая, мировая, ужасная, как бездна, неисчерпаемая — и вдаваться в нее здесь нельзя.
131 * На этой удивительной мистической и необъяснимой стороне Гамлета — предчувствовании — останавливаются Куно Фишер и Кольридж, но ни тот, ни другой внутренне не связывают этого со всем своим пониманием Гамлета. К. Фишер говорит, что без врожденной Сибиллы-прорицательницы Гамлет немыслим. А в этих предчувствиях — все.
132 «готовность». — В целом концепция личности Гамлета, изложенная в этой ранней работе Выготского (но не повторенная им в «Психологии искусства»). Очень близко в формулировке Пастернака: «С момента появления призрака Гамлет отказывается от себя, чтобы “творить волю поддавшего его”» (Пастернак Б. Л. Заметки к переводам шекспировских трагедий. — В кн.: Литературная Москва. М., 1956, с. 797). Аналогичные мысли о Гамлете развиты не только в прозе, но и в стихах Б. Л. Пастернака:
«Гамлет»
Гуд затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, авва отче,
Эту чашу мимо пронеси.
Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе,
Жизнь прожить — не поле перейти.
133 * «Основная тема в трех образах» — К. Фишер: сыновья — мстители за отцов: Гамлет, Лаэрт и Фортинбрас. Мы дополняем — Офелия, — ибо дело не в мести, а в начале трагедии рождения, связи с отцом.
134 * Левес (Левее Л. Женские типы Шекспира. Спб., 1898, с. 98): «Она говорит немного, и кажется, что ее немногие слова больше скрывают, чем обнаруживают ее сердечные настроения». Это тайночувствование Офелии, скрытость ее образа, ее молчание глубоко значительны: вся она точно пересказана, не нарисована, точно ее еще нет. Апол[лон] Григорьев в кратком рассказе «Офелия» истолковывает этот образ хотя и близко к Гете, как простой и наивной, недалекой девушки, тем не менее говорит и об ином: он улавливает всю невоплощенную сторону его, точно он не движется на сцене, а изъят из общего закона тяготения, нет в нем сценической плотскости, в его чистой и метафизической пассивности, безволии есть что-то от Тени, поэтому [его] можно принять 555 за марионетку. Какое-то совершенно неземное безволие, иное существо. Отсюда, если толковать ее в смысле реалистическом, то получится покорная, наивная, чувственно-прекрасная, но какая-то недалекая девушка (Гете). В сущности, это единственный в литературе образ — абсолютно невоплощенный, точно из нематериальных лучей сотканный, точно одно магнитное веяние души. Это высшая безвольность, покорность Офелии воплощена в ее низшей, реальной покорности с удивительной силой; ее нет как лица, как индивидуальности, как предмета поэтической характеристики; ее нет в пьесе; это образ чистой трагической музыки.
135 * Гете (Вильгельм Мейстер. — Собр. соч. в 10-ти т., т. 6. Спб., 1879, с. 262): «В этих странностях и в этой кажущейся несообразности заключается глубокий смысл». Однако после «разложения» безумия Офелии, делаемого Гете, никакой глубины в нем не оказывается: «доброе дитя… чувственное раздражение…» и т. д. А ведь в ее безумии действительно есть последняя глубина трагедии.
136 * К. Р.: «Во всей трагедии в теперешнем ее виде не разъяснено, была ли королева соучастницей преступления Клавдия» (т. 2).
137 * Ср. Берне о Гамлете: «Как слепая лошадь, он ведет колесо судьбы и попадает сам под него и гибнет». Апол[лон] Григорьев («“Гамлет” на одном провинциальном театре»): «В его (Гамлета) болезненной, мечтательной натуре лежит грустное сознание бесплодности борьбы, покорность вечной воле рока, заключенной в нем самом, в его слабости… (NB. Здесь новое понимание слабости Гамлета)… бессильному, больному, признающему волю рока…», «но вот ему уже нельзя сомневаться… ему должно действовать, он заливается адским смехом, адским проклятием — и вновь падает под бременем бессилия, и вновь отлагает казнь до будущего времени… На душе его лежит убийство, и убийство бесплодное; но он не раскаивается в нем, он видит волю рока над другими и над собой, видит волю рока надо всем, что он любит, над матерью, которую убеждает не осквернять себя прикосновением дяди, и на вопрос которой: “Что же делать?” — со страшной грустью отвечает: “Ничего не делать” (NB. В этом весь Гамлет!), не веря нисколько в возможность для нее восстановления. Покорный року, он едет в Англию… Гамлет возвратился с немой покорностью року и незыблемой верой в то, что “чему быть потом, то не будет сегодня”. Гамлет спокойно, тихо, величаво идет на смерть и мщение — и “смерть торжествует страшную победу”; по Гамлет падает, исполнивший свое назначение, падает тогда, когда должен был пасть, ибо ни он, ни Офелия не могли жить: над ними обоими лежала воля рока…» Здесь глубокое толкование рока трагедии и безволия Гамлета.
138 * Ср. у К. Фишера: Озрик — Полоний в молодости — отношение к обоим Гамлета — сцена «облако-кит» и т. д. с Полонием и сцена «со шляпой» с Озриком.
139 * Ср. Гете («Вильгельм Мейстер»): «То, что представляют собой оба эти человека, то, что они делают, не может быть представлено одним человеком» и т. д. Уайльд: «С художественной точки зрения я не знаю во всемирной драматической литературе приема более несравненного, более поразительного, чем тот, которым Шекспир рисует Гильденстерна и Розенкранца». Смерть обоих 556 придворных «шокирует» критиков. К. Р. объясняет ее «грубостью нравов времени» (подлог, убийство — Гамлет). Стивенс говорит о небрежности поэтического правосудия Шекспира — перед лицом беспристрастной правды критики осуждают поступок Гамлета, не принимая во внимание его глубокого смысла в трагедии.
140 * Глубоко важно отметить, что король говорит (начинает говорить, вернее) с Лаэртом о гибели Гамлета еще до получения от него письма, то есть заготовляет новый план, еще не зная о неудаче первого (гибели Гамлета в Англии), — опять можно отнести к «несуразностям», противоречиям пьесы, но, в сущности, здесь глубоко иное.
141 * По Дитериху, Гамлету должно не наказать убийцу, а восстановить Фортинбраса во владениях, отнятых у его отца старым Гамлетом (по К. Р., т. 2).
142 * В представляемой пьесе (сцена на сцене) не объяснено, почему королева, дающая клятвы и обещания не выйти второй раз замуж, впоследствии нарушает их, неизбежность чего предчувствует король. Вообще до этого пьеса не доходит; она обрывается раньше; мы узнаем это только из пантомимы, которая определяет все роли. К «символике сцены»: вывеска шекспировского театра «Глобус» (1598) — «Весь мир — театр». Эразм Роттердамский: «Что такое, в сущности, человеческая жизнь, как не одно сплошное представление, в котором все ходят с надетыми масками, разыгрывая каждый свою роль, пока режиссер не уведет его со сцены». Ср. у Шекспира, у Оскара Уайльда. Н. Евреинов: «Театр для себя» — проблема театра в жизни, то есть жизнь как театр: «каждая минута — театр», «режиссура жизни» и т. д.
143 * NB. Сокольский: «Последняя сцена драмы основана на коллизии случайностей, соединившихся так внезапно и неожиданно, что комментаторы с прежним взглядом даже серьезно обвиняли Шекспира в неудачном окончании драмы… Надо было придумать вмешательство именно какой-либо посторонней силы… Этот удар был чисто случаен и напоминал в руках Гамлета острое оружие, которое иногда дают в руки детям, управляя в то же время рукояткой» [курсив. — Л. В.]. В этом — весь смысл удара через Гамлета. Гамлет убивает короля — это вовсе не только отмщение за отца, но и за мать и за себя (Берне). Катастрофа не ограничивается этим только ударом — она не то, что требовала Тень, не финал плана Гамлета, а всего хода пьесы. Вердер видит в последней сцене тоже вмешательство иной силы (Высшего Правосудия) — Мелоне «не понимает драмы» (по Соколовскому). Джонсон упрекает Шекспира за то, что убийство короля происходит не по обдуманному плану, но как неожиданная случайность (Соколовский). D’Alfonso «La personalita di Amleto» (по Энр. Ферри): «… так что король убит не вследствие хорошо обдуманного намерения Гамлета (благодаря ему он, может быть, никогда не был бы убит), а благодаря событиям, независимым от воли Гамлета».
NB. У Энр. Ферри — недоразумения: 1) «Гамлет в своем письме к Офелии говорит о своем болезненном состоянии». — Ubi? 2) «Искусно придуманный план театрального представления для разрешения знаменитого “быть или не быть?”» — Sic! Впрочем, такое понимание этих слов, как убить или нет, — встречается не раз.
557 Дополнительно взгляды Толстого и Вл. Соловьева. Критика Л. Толстого имеет громадное отрицательное значение. Она убедительно заставляет пересмотреть учение о характере в трагедии Шекспира и… сдать его в архив. В самом деле, не пора ли отказаться от упрощенного понимания шекспировских трагедий, как «трагедий характера»? Разве не очевидно, что в это понятие не укладывается ни одна почти трагедия. В той своей части, где отрицается «трагедия характера» в Гамлете, эти заметки совпадают со взглядом Толстого и опираются на него. «Но ни на одном из лиц Шекспира так поразительно не заметно его — не скажу неумение, но совершенное равнодушие к приданию характерности своим лицам, как на Гамлете, — поступки и речи его не согласуются…». Вл. Соловьев: «… все происходящее в мире, и в особенности в жизни человека, зависит, кроме своих наличных и очевидных причин, еще от какой-то другой причинности, более глубокой и многообъемлющей, но зато менее ясной. Если бы жизненная связь всего существующего была проста, как дважды два — четыре, то этим исключалось бы все фантастическое… Представление жизни как чего-то простого, рассудительного и прозрачного, прежде всего противоречит действительности, оно нереально. Ведь было бы очень плохим реализмом утверждать, например, что под видимой поверхностью земли, по которой мы ходим и ездим, не скрывается ничего, кроме пустоты. Такого рода реализм был бы разрушен всяким землетрясением [трагедией. — Л. В.] и всяким вулканическим извержением, свидетельствующими, что под видимой земной поверхностью таятся действующие и, следовательно, действительные силы… Существуют такие естественные наслоения и глубины и в жизни человека… Мистическая глубина жизни иногда близко подходит к житейской поверхности…» etc. Но сам Вл. Соловьев не заметил этого «подземного» в «Гамлете». Он считал «Гамлета» трагедией характера, не видел в нем той «синтетической драмы» рока и характера, о которой говорит, но сам же отмечает: «Подобно некоторым древним трагедиям, а также “Гамлету” Шекспира, эта драма не только кончается, но и начинается катастрофой». Элементы древней трагедии — трагедии рока в «Гамлете» — отмечали многие: ср. «случайность, ход событий» etc. Элементы эти должны усмотреть все критики, говорящие о характере Гамлета (например, судьба остальных действующих лиц, Клавдия вытекает уже из рока, из хода событий; Гамлет кем-то оберегается, планы Клавдия рушатся, а ведь его характер решительный и смелый), признающие фатальность событий, «случай», смысл которого вообще нарушает всю философию трагедии характера (а ведь «случай» неустраним из трагедии Шекспира!), катастрофа. Для нас и это, подобно взгляду Толстого, ценно в отрицательном отношении только. О «непроизвольности» катастрофы A. Mezières говорит: «Гамлет мстит, как может, не доходя до решительного действия. Он желал бы, чтобы события пришли к развязке сами собой, без его участия, и это так случается [курсив. — Л. В.]. Он отдается на произвол судьбы, предоставляет року разрешить вопрос, и рок его разрешает. Действительно, в последней сцене все возбуждает наше удивление, все неожиданно от начала до конца…»
144 * К. Фишер: «Уже пораженный насмерть, он совершает дело 558 мести». Это удивительное обстоятельство недостаточно отмечено.
145 * Occurents, по объяснению Стивенса: случаи, происшествия, события. Lettsom толкует: «Передай ему это (голос предсмертный) и все великие и малые события, приведшие к этому». Solicited происходит от латинского глагола «двигать», оттуда подвигнуть [курсив. — Л. В.], «побудить» (К. Р. вообще отказывается определить смысл с точностью) — глубоко замечательное значение слов.
146 * Гете различал две стороны в пьесе: «внутреннее отношение лиц и событии» и «внешние отношения действующих лиц, их передвижение… связь случайностей всякого рода». Вторая часть фабулы (почти совпадает с нашим делением на две интриги) и ее значение не были поняты Гете: он ее изменял, уродуя смысл пьесы: «Все это такие обстоятельства и случайности, которые, пожалуй, очень уместны в романе, но которые сильно вредят целости всей пьесы, в которой и без того уже герой действует без всякого определенного плана, и могут быть поэтому отнесены к недостаткам ее».
147 * Вл. Соловьев (Соловьев Вл. Жизненная драма Платона. — Собр. соч. в 10-ти т., т. 9. Спб., 1897), сравнивая Гамлета с Орестеей — трагедию характера с трагедией рока, — говорит о синтетической драме — внешней необходимости и глубокой индивидуальности, которой он не знает в поэзии, но видит в жизненной драме Платона. Но ведь в «Гамлете» и есть эта «синтетическая драма». К. Фишер считает ее «самой образцовой трагедией характера. Вся фабула изменена и обработана так, что ход ее событий развивается в чисто характерных образах, действиях и речах». Гораздо проще и непосредственнее, художественно-правдивее уловил Толстой (о Шекспире и драме) в Гамлете отсутствие характера. Его взгляд глубоко верен в этой части и очень важен для этюда полярностью: пусть два полюса противоположны, они определяют друг друга, они на одной оси. Говоря о нехарактерности Гамлета, он объясняет, как Шекспир героя легенды превратил в свой «фонограф», заставляя высказывать свои мысли (сонеты): «В легенде личность Гамлета понята… Но Шекспир… уничтожает все то, что поставляет характер Гамлета и легенды. Гамлет во все продолжение драмы делает не то, что ему может хотеться, а то, что нужно автору (не автору, а трагедии — в этом вся разница: в первом случае нехудожественно, во втором — высшая художественность). Нет никакой возможности найти какое-либо объяснение поступкам и речам Гамлета и потому никакой возможности приписать ему какой бы то ни было характер [курсив. — Л. В.]. Шекспир не сумел, да и не хотел [это главное! — Л. В.] придать никакого характера Гамлету». Гете: «Хотя в пьесе ничего не отступает от предначертанного плана, но герой не следует никакому определенному плану… Пьеса имеет определенный план, и никогда не было в замыслах поэтов более великого плана». В этой удивительной формуле — о плане пьесы, а не героя — все. Вл. Соловьев говорит о мистическом в искусстве: «… ярких, осязательных и, так сказать, членораздельных явлений сверхъестественного… не бывает. Здесь все подернуто как-то неуловимо колеблющимся туманом, который во всем дает себя чувствовать, но ни в чем, не обособляется… То, что идет “оттуда”, можно сравнить с такой нитью, неуловимо вплетенной во всю ткань жизни и повсюду мелькающей для внимательного 559 взгляда, способного отличить ее в грубом узоре внешней причинности, с которой эта тонкая нить всегда или почти всегда сливается для взгляда невнимательного». Отсюда два вывода для художественного воплощения мистического: оно не должно сваливаться с неба, а входить в общую ткань произведения: воспроизводить его — неуловимо и неопределенно (т. 2, с. 171 – 175). То же — т. 9, предисловие к «Упырю»: о мистической глубине жизни («подземное»), иной, роковой связи событий и явлений. Это как нельзя лучше подходит к «Гамлету». Вплетение мистической нити ср. у Достоевского («Идиот», «Братья Карамазовы» и др.) — подозрения, предчувствия, тревога, прозрения, совпадения, сны, бред — мистическая пить фабулы. В «Идиоте»: «Мы чувствуем, что должны ограничиться простым изложением фактов, по возможности без особых объяснений и по весьма простой причине: потому что сами во многих случаях затрудняемся объяснить происшедшее».
К. Фишер говорит о «пессимистической черте, которая там господствует… и в качестве идеи возвышается над целым произведением, подобно хору древних» («второй смысл»?). Но в Гамлете эта черта проявляется (сливается) в нем одном, в его характере. О трагедии он говорит: «Тут, по-видимому, властвует темная и загадочная сила, перед которой мы охватываемся таким же тяжелым страхом, каким проникнут Гамлет при появлении призрака». Он обращается к этой силе словами Гамлета к Тени, то есть признает ее потусторонней (вспомним слова Гамлета beyond etc.), — не противоречит ли это всему его толкованию пьесы, по которому все причины — здесь. Откуда эта темная и загадочная сила, к которой обращаются с такими словами в самой образцовой трагедии характера? «Гамлет» — мистическая трагедия, это в конце концов чувствуют все как нерастворившийся в их толковании осадок, сгусток, состав трагедии.
148 «мистическая трагедия». — Мистическую интерпретацию Гамлета пытается соединить с теорией архетипов Орнстейн в работе, где вместе с тем признается отражение «больного общества» в трагедии: Ornstein R. The Mystery of Hamlet Notes toward an archetypal solution. — In.: Hamlet enter critic, ed. by C. Sacks and E. Wban. New York, 1960, p. 198 – 199.
149 «религиозности трагедии». — Критику новейших работ, в которых дается интерпретация «Гамлета» как религиозной пьесы, см. в статье: Аникст А. А. Современное шекспироведение на Западе. — В кн.: Современное искусствознание за рубежом. М., 1964, с. 183 – 184. Помимо работ, названных в указанной статье Аникста, ср. книги, построенные на сопоставлении «Гамлета» (интерпретируемого как религиозная драма) с греческой трагедией: Alexander P. Hamlet. Father and son. Oxford, 1955; Kittc H. D. Form and meaning in drama. London, 1960 (за концепцией последней книги, где развитие действия в «Гамлете» поднимается как последовательное осуществление зла, следует и автор брошюры: Kirschbaum L. Two lectures on Shakespeare. In defense of Guildernstern and Rosenkranz. Oxford, 1961).
150 * Ср. учение о вине Шопенгауэра: первородный грех. Кальдерон:
560 «Величайшая вина человека
В том, что родился он».
Эту вину свою — вину жизни, вину рождения — чувствуем мы в «Гамлете», как Клавдий в «Убийстве Гонзаго» — свою.
151 «остальное — молчание». — Относительно роли «молчания» в «Гамлете» см. в особенности: Jaspers K. Uber das Tragische, Von der Warheit. München, 1947, S. 940 – 949; Eppelsheimer R. Tragik und Metamorphose. München, 1958 (последняя книга может представить интерес и в свете идей, развиваемых в «Психологии искусства», так как в ней проблема «Гамлета» рассматривается с точки зрения теории катарсиса).
561 Литература
1. Маркс К. Введение (из экономических рукописей 1857 – 1858 годов). — Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 12.
2. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 13.
3. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология, — Соч., т. 3.
4. Энгельс Ф. Письмо к Ф. Мерингу от 14.VII 1893. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 39.
5. Айхенвальд Ю. Похвала праздности. Сб. статей. М., 1922.
6. Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. Вып. 1. М., 1908.
7. Айхенвальд Ю. Этюды о западных писателях. М., 1910.
8. Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957.
9. Аскольдов С. Форма и со держание в искусстве слова. — В кн.: Литературная мысль. Сб. 3. Л., 1925.
10. Балли Ш. Французская стилистика. М., 1961.
11. Бальмонт К. Поэзия как волшебство. М., 1915.
12. Батюшков Ф. Д. История русской литературы XIX века. Т. 4, гл. 9. М.
13. Белинский В. Г. Гамлет, драма Шекспира. — Собр. соч. в 3-х т., т. 1. М., 1948.
14. Белый Андрей. Поэзия Блока. — «Ветвь» (сборник Клуба московских писателей). М., 1917.
15. Белый Андрей. Символизм. Книга статей. М., 1910.
16. Берне Л. «Гамлет» Шекспира. — Полн. собр. соч. в 3-х т., т. 3. СПб., 1899.
17. Берне Л. Из моего дневника. Разговоры. — Полн. собр. соч., т. 3.
18. Бехтерев В. М. Коллективная рефлексология. Пг., 1921.
19. Бехтерев В. М. Личность художника в рефлексологическом изучении. — В кн.: Арена. Театральный альманах под ред. Евг. Кузнецова. Пг., 1924.
20. Ялонский П. Педагогика. М., 1922.
21. Брандес Г. Шекспир. Его жизнь и произведения. В 2-х т. Т. 2. М., 1901.
22. Брюсов В. Синтетика поэзии. — В кн.: Проблемы по этики. М.-Л., 1925.
23. Бюлер К. Духовное развитие ребенка. М., 1924.
24. Бюхер К. Работа и ритм. М., 1923.
562 25. Вересаев В. В. Живая жизнь. В 2-х кн. Кн. 1. М., 1913.
26. Веселовский А. Три главы из исторической поэтики. — Собр. соч., т. 1. СПб., 1906.
27. Водовозов В. О педагогическом значении басен Крылова. — «Журн. Мин-ва народного просвещения», 1862, № 12.
28. Волькенштейн В. Драматургия. Метод исследования драматургических произведений. М., 1923.
29. Вундт В. Основы физиологической психологии. Т. 3. СПб., б. г.
30. Гаман Р. Эстетика. М., 1913.
31. Гаузенштейн В. Искусство и общество. М., 1923.
32. Гаузенштейн В. Опыт социологии изобразительного искусства. М., 1924.
33. Геннекен Э. Опыт по строения научной критики (Эстопсихология). СПб., 1892.
34. Гершензон М. Видение поэта. М., 1919.
35. Горнфельд А. Боевые отклики на мирные темы. Л., 1924.
36. Горнфельд А. Муки слова. Памяти Пушкина. СПб., 1906.
37. Горнфельд А. О толковании художественного произведения. СПб., 1912.
38. Горнфельд А. Пути творчества. Статьи о художествен ном слове. Пг., 1922.
39. Григорьев Ап. Великий трагик. — В кн.: Одиссея о последнем романтике. М., 1915.
40. Григорьев Ап. Офелия. — Полн. собр. соч. и писем в 12-ти т., т. 7.
41. Григорьев М. С. Введение в поэтику. Ч. 1. М., 1924.
42. Гросс К. Душевная жизнь ребенка. Киев, 1916.
43. Гюйо Ж.-М. Искусство с точки зрения социологии. СПб., 1891.
44. Дарвин Ч. О выражении ощущений у человека и животных. СПб., 1896.
45. Дауден Э. Шекспир. Критическое исследование его мысли и его творчества. СПб., 1880.
46. Джемс В. Многообразие религиозного опыта. М., 1910.
47. Дидро Д. Парадокс об актере. М., 1922.
48. Евлахов А. Введение в философию художественного творчества. Опыт историко-литературной методологии. Т. 1. Варшава, 1910.
49. Ермаков Ив. Дм. Очерки по анализу творчества Н. В. Гоголя. М.-Пг., 1923.
50. Ермаков Ив. Дм. Этюды по психологии творчества А. С. Пушкина (Опыт органического понимания «Домика в Коломне», «Пророка» и маленьких трагедий). М.-Пг., 1923.
51. Жирмунский В. Введение в метрику. Теория стиха. Л., 1925.
52. Жирмунский В. Вопросы теории литературы (статьи 1916 – 1926 годов). Л., 1928.
53. Жирмунский В. Задачи поэтики. — В кн.: Задачи и методы изучения искусства. Пг., 1924.
54. Жуковский В. А. Соч. М., 1954.
55. Иванов Вяч. Борозды и межи. Опыты эстетические и критические. М., 1916.
56. Иванов Вяч. По звездам. СПб., 1909.
57. Ивановский В. Методология введения в науку и философию. 1923.
58. Измайлов А. А. Статья в Полн. собр. соч. А. П. Чехова в 23-х т., т. 22. Пг., 1918, с. 264 – 265.
59. Каллаш В. В. Лирические стихотворения и басни 563 Крылова. — Крылов И. А. Полн. собр. соч. в 4-х т., т. 4. СПб., 1905.
60. Кеневич В. Библиографические и исторические примечания к басням Крылова. СПб., 1868.
61. Кирпичников А. И. Очерки по истории новой русской литературы. СПб., 1896.
62. Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. М., 1920.
63. Крученых А. Декларация заумного языка. Баку, 1921.
64. Кюльпе О. Введение в философию. СПб., 1908.
65. Кюльпе О. Современная психология мышления. — В кн.: Новые идеи в философии. Сб. 16. Психология мышления. СПб., 1914.
66. Лазурский А. Ф. О влиянии различного чтения на ход ассоциаций. — «Неврологический вестн.», 1900, т. 8, вып. 3.
67. Лазурский А. Ф. Психология общая и экспериментальная. Л., 1925.
68. Лало Ш. Введение в эсте тику. М., 1915.
69. Луначарский А. В. К во просу об искусстве. Этюды (сб. статей). М.-Пг., 1922.
70. Луначарский А. В. Основы позитивной эстетики. М.-Пг., 1923.
71. Мейман Э. Эстетика, ч. 1. М., 1919.
72. Мейман Э. Эстетика. Система эстетики. Ч. 2. М., 1920.
73. Мережковский Д. С. Толстой и Достоевский. — Полн. собр. соч. в 24-х т., т. 9. М., 1914.
74. Моложавый С., Шимкевич Е. Проблемы трудовой школы в марксистском освещении. М., 1924.
75. Мюллер В. К. Драма и театр эпохи Шекспира. Л., 1925.
76. Нейфельд П. Достоевский. Психоаналитический очерк под ред. проф. З. Фрейда. Л.-М., 1925.
77. Ницше Ф. Происхождение трагедии. СПб., 1899.
78. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. СПб., 1899.
79. Овсянико-Куликовский Д. Собр. соч. в 9-ти т., т. 6. Психология мысли и чувства. Художественное творчество. Лирика как особый вид творчества. Кризис русских идеологий. СПб., 1914.
80. Овсянико-Куликовский Д. Язык и искусство. СПб., 1895.
81. Одоевский В. Ф. Русские ночи. М., 1913.
82. Оршанский И. Механизм нервных процессов. СПб., 1898.
83. Оршанский И. Художественное творчество. М., 1907.
84. Петражицкий Л. И. Введение в изучение права и нравственности. Основы эмоциональной психологии. СПб., 1907.
85. Петровский М. Морфология пушкинского «Выстрела». — В кн.: Проблемы поэтики. Сб. статей под ред. В. Я. Брюсова.
86. Платон. Диалог «Ион». — Полн. собр. соч. в 15-ти т., т. 9. Л., 1924.
87. Плеханов Г. В. Искусство. Сб. статей. М., 1922.
88. Плеханов Г. В. Литература и эстетика. В 2-х т. Т. 1. М., 1958.
89. Плеханов Г. В. Основные вопросы марксизма. М., 1922.
90. Покровский В. (сост.). И. А. Крылов. Его жизнь и сочинения. Сб. историко-литературных статей. Изд. 3-е. М., 1911.
91. Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Поэзия и проза. Тропы и фигуры. Мышления поэтическое и мифическое. Харьков, 1905.
564 92. Потебня А. А. Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка. Харьков, 1894.
93. Потебня А. А. Мысль и язык. Харьков, 1913.
94. Прилуко-Прилуцкий П. Г. (сост.). И. А. Крылов. Жизнь и творчество. СПб. — Варшава, 1901.
95. Пушкинский сборник. М.-Пг., 1922.
96. Реформатский А. А. Опыт анализа новеллистической композиции. М., 1922.
97. Романов К. Соч. в 3-х т.
98. Садок судей. Т. 2. СПб., 1914.
99. Сологуб Ф. Искусство наших дней. М., 1915.
100. Стороженко Н. И. Опыты изучения Шекспира. М., 1902.
101. Театр и сцена эпохи Шекспира. М., 1918.
102. Тен-Бринк Б. Шекспир. Лекции. СПб., 1898.
103. Титченер Э. Б. Учебник психологии. Ч. 1. М., 1914.
104. Толстой Л. Н. Крейцерова соната. — Полн. собр. соч. в 100-та т., т. 27. М., 1936.
105. Толстой Л. Н. О Шекспире и о драме. — Полн. собр. соч., т. 35. М., 1950.
106. Толстой Л. Н. Письмо Н. Н. Страхову 23 апреля 1876 г. — Полн. собр. соч., т. 62. М., 1953.
107. Толстой Л. Н. Предисловие к дневнику Амеиля. — Полн собр. соч., т. 29. М., 1950.
108. Толстой Л. Н. Что такое искусство? — Полн. собр. соч., т. 30. М., 1951.
109. Томашевский Б. Русское стихосложение. Метрика Пг., 1923.
110. Томашевский Б. Теории литературы (Поэтика). Л., 1925.
111. Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. Л., 1924.
112. Тэн И. Об искусстве М., 1922.
113. Уайльд О. Кисть, перо и отрава. — Полн собр. соч. в 4-х т., т. 3. СПб., 1912.
114. Уайльд О. Критик как художник. — Полн. собр. соч., т. 3. СПб., 1912.
115. Узин В. С. О повестях Белкина. Из комментариев читателя. Пг., 1924.
116. Фишер К. Гамлет Шекспира. М., 1905.
117. Фолькельт И. Современные вопросы эстетики. СПб., 1900.
118. Фрейд З. Леонардо да Винчи. М., 1912.
119. Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. М., 1923.
120. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. М., 1925.
121. Фрейд З. Психологические этюды. Навязчивые действия и религиозные обряды. Поэт и фантазия. «Культурная» сексуальная мораль и современная нервозность. Изд. 2-е. М., 1912.
122. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «я». М., 1925.
123. Фриче В. М. Очерки социальной истории искусства. М., 1923.
124. Христиансен Б. Философия искусства. СПб., 1911.
125. Чужак Н. Ф. Под знаком жизнестроения (Опыт осознания искусства дня). — «Леф», 1923, № 1.
126. Чуковский К. Лепые нелепицы. — «Рус. современник», 1924, № 4.
127. Шекспир в переводе и объяснении Л. Л. Соколовского. Т. 2. СПб., 1909.
128. Шиллер Ф. Собр. соч. в 6-ти т., т. 6. М., 1957.
129. Шкловский В. Искусство как прием. — В кн.: Поэтика. Сборники по теории 565 поэтического языка. Вып. 3. Пг., 1919.
130. Шкловский В. О поэзии и заумном языке. — В кн.: По этика. Сборники по теории поэтического языка. Вып. 3. Пг., 1919.
131. Шкловский В. Потебня. — В кн.: Поэтика. Сборники по теории поэтического языка. Вып. 3.
132. Шкловский В. Розанов. — В кн.: Сборник по теории поэтического языка. Вып. 4, ч. 1. Пг., 1921.
133. Шкловский В. Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля. — В кн.: Поэтика. Сборники по теории поэтического языка. Вып. 3.
134. Шкловский В. «Тристрам Шенди» Стерна и теория романа. — В кн.: Сборники по теории поэтического языка. Вып. 4, ч. 2. Пг., 1921.
135. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Пер. Фета. СПб., 1898.
136. Шпет Г. Проблемы со временной эстетики. — «Искусство», 1923, № 1.
137. Эйхенбаум Б. Вокруг во проса о «формалистах». — «Печать и революция», 1924, кн. 5.
138. Эйхенбаум Б. Молодой Толстой. Пг. — Берлин, 1922.
139. Эйхенбаум Б. М. Сквозь литературу. Л., 1924.
140. Энгельгардт Б. М. А. Н. Веселовский. Пг., 1924.
141. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. 3. СПб., 1891.
142. Якубинский Л. О звуках стихотворного языка. — В кн.: Поэтика. Сборники по теории поэтического языка. Вып. 3.
143. Frebes J. Lehrbuch der experimcntalen Psychologie. Bd 2, 1922.
144. Freud S. Inseits des Sustprinzips, 1921.
145. Goethe’s Gespräche mit Eckermann (28 April 1827) Berlin, 1955.
146. Goethe’s Werke, Bd 28. Berlin.
147. Grammont M. Les vers français, ses moyens d’expression, son harmonie. Paris, 1913.
148. Külpe O. Der gegenwärtige Stand der experimentalen Aesthetik. 1906.
149. Lafontaine J. de. Fables, précedées de la Vie d’Esope. Tours, 1885.
150. Lange K. Das Wesen der Kunst. Bd 1, 1901.
151. Lessing G. E. Gesammelte Werke, hrsg. von Paul Rilla. Bd 4. Berlin, 1955.
152. Maier H. Psychologie des emotionalen Denkens. Tübingen, 1908.
153. Meyer Th. A. Das Stilgesetz der Poesie. Leipzig, Hirzel, 1901.
154. Müller-Freienfels R. Psychologie der Kunst. Bd 1. Leipzig — Berlin, 1922.
155. Müller-Freienfels R. Psycholgie der Kunst. Bd 2. Leipzig — Berlin, 1923.
156. Münsterberg G. Grundzüge der Psychotcchnik. Leipzig, 1920.
157. Rank O., Sachs H. Значение психоанализа в науках о духе. СПб., 1913.
158. Rank О. Der Künsller, Ansätze zu einer Sexualpsychologie. Leipzig, 1918.
159. Rümelin G. Shakespcare-Studien. Stuttgart, 1866.
160. Schilder P. Medizinische Psychologie für Ärzte und Psychologen. Berlin, 1924.
161. Schlegel A. W. Vorlesungen. Über dramatische Kunst und Literatur, Heidelberg, Mohr und Winter. 1817, S. 3 – 14.
162. Volkelt J. System der Aesthetik. Bd 1, 1900.
163. Wundt W. Völkerpsychologie. Teil 2.
566 Указатель имен30*
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Я
Авенариус Р. 250
Айхенвальд Ю. И. 114, 173, 323, 338, 340, 342, 500, 528, 534, 549
Аксель (Бодмер И. Я.) 124
Альфонсо 230
Аристотель 10, 27, 114, 146, 251, 267, 268, 290, 299, 308
Аристофан 291
Аскольдов С. А. 533
Афтониус 114
Ах Н. 60
Бабель И. 506
Бабрий 141
Байрон Дж. Г. 276
Балли Ш. 88
Бальмонт К. Д. 87
Баратынский Б. Л. 537
Барнай Л. 34
Батюшков Ф. Д. 548
Белинский В. Г. 167, 178, 322, 353, 528, 530, 531, 533, 535, 536, 538
Белый Андрей (Бугаев Б. Н.) 32, 87, 89, 272, 273, 316, 500
Бенеке 352
Берлиоз Г. 23
Бернайс 268
Берне Л. 207 – 209, 211, 230, 238, 341, 350, 351, 524, 525, 530, 546, 555, 556
Бетховен Л. ван 86, 302, 303, 305, 317, 319
Блонский П. П. 203
Борсук А. К. 517
Боярдо М. А. 77
Брандес Г. 208, 209, 212, 216, 350, 351, 525, 528, 537, 540, 546, 551, 552
Брейтингер И.-Я. 123
Бриест де Буамон 534
Брик О М. 181
Бруно Дж. 546
Брюллов К. П. 51
Буало — Депрео Н. 295
Бунин И. А. 195, 203, 204, 269, 330
Вагнер Р. 351
Вальтер В. Г. 303
Верной Ли (В. Паджент) 295
Веселовский А. Н. 20, 250, 253, 307
Веселый А. 506
Витасек С. 261
Водовозов В. И. 144, 150, 157, 162, 167, 168, 171, 513
Волькенштейн В. М. 211 – 213, 287, 292
Вольтер (Аруэ Ф.-М.) 208, 351, 525, 547
Вундт В. 25, 27, 66, 85, 86, 262, 263, 269
Выгодский Д. 89
Галахов А. Д. 159
Гаман Р. 31, 113, 129, 264, 293, 294
Гамсун К. 72
Гаузенштейн В. 35
Геннекен Э. 17, 35, 264, 316, 319
Гердер И.-Г. 257
Геро 134
Гершензон М. О. 33, 59, 323 – 325
Гете И.-В. 48, 205, 208, 238, 256, 278, 289, 339, 342, 343, 350, 351, 524, 527, 535, 536, 554, 555, 558
Гиппиус В. В. 535, 537, 538, 539, 549, 553
Говоруха-Отрок Ю. Н. 539 – 541
Гоголь Н. В. 62, 63, 97, 114, 144, 173
Гончаров И. А. 89, 210, 242, 353, 535, 536, 540
568 Горнфельд Л. Г. 40, 53, 58, 87, 338 – 342, 544
Горький М. 500
Граммон М. 88
Грепт-Аллен 312
Григорьев А. А. 32, 157, 343, 344, 352, 354, 355, 536, 540, 554, 555
Гросс К. 263
Данте А. 58
Де-ля-Грассери 29
Де-ля-Мотт А.-У. 113, 117, 137
Демьян Бедный (Придворов В. А.) 506
Дессуар М. 255
Дильтей В. 32
Дитерих 556
Дмитриев И. И. 174
Доде А. 355
Достоевский Ф. М. 97, 106, 107, 253, 291, 355, 526 – 528, 532 – 534, 536, 537, 539, 540, 544, 545, 549, 551, 552, 559
Евлахов А. М. 276, 286, 303, 500
Евреинов Н. 556
Жирмунский В. М. 63, 74, 76, 77, 274
Жуковский В. А. 156, 159, 164, 175 – 179, 210, 547
Закс 511
Иванов В. И. 55, 344, 347, 500, 506, 525, 526, 548, 551
Иванов-Разумник (Иванов Р. В.) 67, 536
Измайлов А. А. 296
Кальдерон де ла Барка 527, 559
Качалов В. И. 535
Келер В. 79
Кеневич В. 135
Кирпичников А. И. 154
Клингер М. 299
Ковач 97
Крученых А. 506
Крылов И. А. 15, 17, 114 – 116, 122, 128 – 131, 134, 136, 144, 145, 149, 150, 152, 155, 157 – 160, 163 – 167, 172 – 175, 177, 178, 189, 514
Кузэн В. 535
Лало Ш. 295
Лафонтен Ж. 114 – 116, 122, 125, 128 – 131, 134, 136, 141, 144, 149, 150, 152, 156, 158, 164, 166, 174
Лебон Г. 25
Левее Л. 554
Леонардо да Винчи 66, 105, 106
Леонов Л. 506
Лермонтов М. Ю. 129, 178, 276, 324, 354, 523, 537
Лессинг Г.-Э. 112 – 118, 120, 121, 123 – 128, 130 – 141, 145 – 150, 152, 157, 175, 178, 179, 268, 533
Липпс Т. 16, 20, 85, 197, 257 – 259, 260
Ломброзо Ч. 96
Майер Г. 66, 67, 260, 262, 548
Мак-Дауголл 25
Мандельштам О. Э. 61
Маркс К. 7, 8, 26, 34, 54, 104
Махалов С. 547
Мейер Т. 64
Мережковский Д. С. 209, 500, 533, 540, 544
Мессер А. 60
Метерлинк М. 527
Микеланджело Буонарроти 295
Миклашевский В. 187
Михайловский 87
Моммзен Т. 529
Мунэ-Сюлли 341
Мюллер-Фрейенфельс Р. 18, 38, 41, 97, 254, 259, 264, 266, 501
Нафан 146
Нироп 88
Ницше Ф. 309, 342, 344, 355, 539, 547, 548
Овсянико-Куликовский Д. Н. 44 – 46, 48 – 50, 52, 57, 61, 67, 247, 249, 250, 251, 268, 270, 304, 305, 313
Одоевский В. Ф. 143, 339, 343, 352
Пастернак Б. Л. 81, 227, 242, 554
Потражицкий Л. И. 230, 251, 304
Петровский М. А. 184
Писемский А. Ф. 48 – 49, 50, 268, 270
Плеханов Г. В. 16, 23, 26, 34, 266, 306, 307, 322
Потебня А. А. 42, 44, 45, 50, 53, 57, 58 – 63, 65, 112 – 118, 120, 122, 123, 125, 127, 129, 132, 133, 136, 139 – 141, 146 – 148, 151, 154, 158, 177, 178, 250, 325, 339
Пушкин А. С. 28, 33, 48, 54, 60, 65, 68, 77, 107, 118, 119, 144, 277 – 284, 288, 290, 323, 513, 537
Пыпин А. Н. 67
Ранк О. 93, 94, 97 – 100, 102, 103, 511
Розанов В. В. 524, 534, 539, 540, 541
Розен 276
Розенкранц К. 295
Роршах Г. 58
Рубинштейн Фр. 551
Рукавишников И. 33
Рутц О. 320
Рюгг А. 222
Сальвини Т. 546
Свифт Дне. 73
Сейфуллина Л. Н. 500
Солли Дж. 327
Сервантес де Сааведра 525, 526
Сивере Э. 320
Сигеле 29
Сократ 131, 132, 136, 266, 339
Соловьев В. С. 230, 526, 557, 558
Софокл 344
Спенсер Г. 250, 252, 253, 312, 314
Станиславский К. С. 535
Стивенс 558
Стороженко Н. И. 355
Стоюнин В. Я 160
Сумароков А. П. 151
Сюлли-Прудом 345
Тард Г. 29
Тен-Бринк Б. 208, 351, 525, 530
Теон из Александрии 114
Толстой Л. Н. 49 – 51, 56, 57, 73, 83, 89, 90, 116, 208, 220 – 225, 286 – 287, 298, 302 – 307, 312, 316 – 319, 322, 340, 342, 351, 525, 526, 533, 539, 540, 545, 557
Томашевский Б. В. 74, 137, 184
Тургенев И. С. 59, 89, 144, 177, 211, 526, 538 – 540, 544
Тютчев Ф. И. 59, 343, 523, 536
Уайльд О. 340, 343, 355, 524, 555, 556
Узин В. С. 278
Уот (Уатт) 60
Успенский Г. И 277
Утиц Э. 16
Федр 120, 131, 139, 142, 143, 150, 175
Фишер К. 208, 216, 228, 351, 524, 525, 530, 531, 551, 554, 555, 557 – 559
Фонтенель Б. 159
Фоссиус Г.-И. 117
Фребес 31
Франк 310
Фрейд З. 25, 29, 94, 95, 98 – 101, 105 – 109, 247, 252, 294, 312, 313, 319, 500
Фрейлиграт Ф. 552
Фриче В. М. 328
Хвостов Д. И. 150
Христианин Б. 64, 65, 78, 200, 240, 241, 256 – 258, 299
Шекспир У. 6, 7, 44 – 46, 55, 56, 72, 97, 136, 189, 205 – 209, 214 – 218, 220 – 225, 230, 234 – 239, 286 – 290, 294, 305, 336, 337, 340, 341, 350, 363, 366, 367, 410, 500, 524 – 526, 528 – 531, 533, 535, 538 – 547, 552 – 560
Шестов Л. Н. 350, 526, 528, 529
Шиллер Ф. фон 72, 172, 182, 217, 270, 312
Шильдер П. 266
Шкловский В. Б. 54, 62, 65, 69, 71, 76, 82, 89, 113, 184, 185, 187
Шопенгауэр А. 61, 344, 527, 531, 545, 559
Шпет Г. 20
Штеккель 96
Эзоп 116, 121, 123, 124, 130, 138, 142, 147, 150, 175, 179
Эйхенбаум Б. М. 73, 89, 218, 219
Эразм Роттердамский 556
Эфрос А. 524
Постраничные примечания
1* Психология и марксизм. Л.-М., 1925.
2* Проблемы современной психологии. Л., 1926.
3* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 12, с. 737.
4* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 191 – 192.
5* Известны лишь его ранняя статья «Современная психология и искусство» («Советское искусство», 1928) и статья, опубликованная в виде послесловия в книге П. М. Якобсона «Психология сценических чувств актера» (М., 1936).
6* Выготский Л. С. К вопросу о психологии творчества актера. — В кн.: Якобсон П. М. Психология сценических чувств актера. М., 1936. с. 204.
7* Там же, с. 201.
8* Общественное животное (Аристотель. Политика, т. 1, гл. 1).
9* Что они знают об этом больше, чем я (франц.)
10* Что довод сильнейшего всегда наилучший (франц.). — Ред.
11* Отрывки из «Гамлета» даются в переводе Б. Пастернака.
12* В переводе Б. Пастернака: «Твой навеки, драгоценнейшая, пока эта махина принадлежит ему». — Ред.
13* Перепечатывается по изданию: Бунин Ив. Господин из Сан-Франциско. Произведения 1915 – 1916 гг. Книгоиздательство писателей в Москве, 1916, с. 105 – 112.
14* Смысл существования (франц.). — Ред.
15* «Восторг — вот с чего начинается высокая критика» (франц.). — Ред.
16* Исповедание веры (франц.). — Ред.
17* Первоначальная данность (латин.).
18* «Я писал для самого себя» (латин.).
19* Здесь и далее курсив Л. С. Выготского. — Ред.
20* В английском оригинале Выготский подчеркивает: «unnatural acts» — (сверхъестественные деяния). — Ред.
21* В оригинале «this thing». — Ред.
22* В оригинале: «This very strange» (Это очень странно). — Ред.
23* В оригинале: «friends, as you are friends» («друзья, поскольку вы друзья»). — Ред.
24* В оригинале: «But, look, where sadly the poor wretch comes reading».
25* В оригинале: «Now say you by that?» (Что вы хотите этим сказать?). — Ред.
26* Если каждому воздать по заслугам — кто избежит кнута?
27* «Скок-скок со всех ног» — в переводе Б. Пастернака.
28* В оригинале: «Hamlet does it net, Hamlet denis it».
29* С точки зрения смерти (латин.) — перифраз — sub specie aeterjuitatis — «с точки зрения вечности» (латин.). — Ред.
30* В указателе даны имена, встречающиеся в тексте и комментариях Л. С. Выготского.

