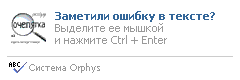9 К читателю
Разными путями, но неотвратимо и закономерно творческая интеллигенция России шла навстречу Октябрю, когда великая революция совершилась.
Предлагаемая книга посвящена пооктябрьскому пятнадцатилетию. Тогда крупнейшие театры России под воздействием Великой Октябрьской социалистической революции и послереволюционной действительности выходили на позиции нового искусства и все увереннее состязались с лагерем «театрального Октября».
Театрам, рожденным революцией, автор посвятил книги «Зори театрального Октября» (1976), «Будни и праздники театрального Октября» (1978). Тогда же возникла потребность в еще одной работе о молодости советской сцены — книге о театрах, доставшихся народу в наследство от свергнутого строя и перешагнувших рубеж революции. Теперь эта книга перед вами.
Развертывавшийся процесс видится в ней как реальность культурного строительства, предуказанного В. И. Лениным и направленного партией большевиков. Это был путь лучших театров страны к образному познанию и отражению революционной яви. В контексте процесса проходят судьбы художников и их существенные произведения: спектакли, памятные советской сцене. Нет тяги к всеохватности. Критерий отбора — симптоматичность явления, перспективность тенденции. Краткость подачи промежуточных звеньев входила в замысел. Маршрут движения актеатров по путям Октября хотелось выделить генерально.
Ибо, как писал В. И. Ленин, «исторические заслуги судятся не по тому, чего не дали исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они дали нового сравнительно с своими предшественниками»1*.
10 Книги об ассоциации академических театров до сих пор не было. Предпринимается первый опыт. Все же временные попутчики этой ассоциации — театры, не имевшие с ней прочных творческих связей (Камерный, Показательный и Детский), — в этой книге не рассматриваются. Их судьбы — особые самостоятельные темы. Страницы о Показательном театре читатель может найти в упомянутой книге «Зори театрального Октября».
Опуская второстепенные ответвления темы, автор ни в коей мере не порывался освободить прошлое от сложностей, противоречий, издержек. Актуальной задачей было выделить в этом прошлом жизнеспособные побеги, прораставшие в наше театральное сегодня. Молодость советского театра дорога нам не достижениями только, но и преодолением трудных подступов к ним.
Полезными советами и замечаниями автора снабдили К. Л. Рудницкий, В. М. Миронова, С. М. Осовцов, А. Я. Трабский. Ценными сведениями и материалами поделились Г. Ю. Бродская (Музей МХАТ СССР имени М. Горького), М. Л. Вивьен и Э. П. Смирнова (литчасть Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина), Т. А. Демидова и Н. В. Кудряшева (научная библиотека ЛГИТМиК), К. Н. Кириленко (ЦГАЛИ), В. В. Киселев (ЦТМ имени А. А. Бахрушина), Э. К. Норкуте (ЛТМ), Л. С. Овэс (ЛО ВТО), В. Н. Чуваков (Архив ИМЛИ имени М. Горького). Каждому приношу большую благодарность.
11 В ДНИ ОКТЯБРЯ И ПОСЛЕ
Глава первая
АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ТЕАТРОВ
ПРЕЛЮМИНАРИИ
7 декабря 1919 года народный комиссар по просвещению А. В. Луначарский официально предписал заведующему государственными театрами И. В. Экскузовичу: «От сего числа впредь именовать театры: Мариинский, Александринский, Михайловский в Петрограде и Большой и Малый в Москве “Государственными академическими ассоциированными театрами”, а Театр Художественный “Художественным академическим”»2*.
Система «театрального Октября», противница «аков», была творческим движением, но не знала организации.
Система академических театров, если видеть ее в целом, не была единым творческим движением, но сразу возникла как организация и направлялась специальным государственным учреждением: 18 февраля 1918 года в структуре Наркомпроса был образован подотдел государственных театров во главе с И. В. Экскузовичем; в июне подотдел стал отделом. Одной из задач этого органа, условием его успешной работы Луначарский считал активизацию общественного самоуправления в государственных театрах, участие выборных представителей актерских коллективов в советском театральном строительстве.
Однако актеры бывшей казенной сцены не были готовы к планомерной общественной деятельности. Их гражданская активность, вспыхнув, быстро угасала. Разные мастера старой сцены встретили Октябрь по-разному сложно и — с одинаковой почти опаской. В либеральной оппозиции Александринского театра отозвалась общая настороженность актерской среды. Правда, в других крупных театрах не было такого запальчивого фрондерства. Но и там поначалу имелась только видимость приятия. Общественные объединения, например «верховный 12 совет» государственных театров 1917 года, сначала возникали как формы организованного оплота, как виды круговой обороны, рожденные испугом перед революцией. Испуг оказался напрасным. Понадобились явные и истинные угрозы слева, чтобы очень разные театры могли добровольно построиться в оборонительное каре. На них неслась лавой конница «театрального Октября», их штурмовали ополченцы Пролеткульта. Но атаки на «аки» захлебывались одна за другой.
Процесс, полный превратностей и кропотливого труда, Луначарский впоследствии охарактеризовал с излишней, может быть, простотой: «В то время я занимался быстрым приручением театров к Советской власти»3*. Дипломатическому такту и выдержке Луначарского необходимо отдать должное. Однако решающую роль играла историческая закономерность происходившего: процесс был необратим.
Подобную закономерность установил уже осенью 1918 года В. И. Ленин в статье «Ценные признания Питирима Сорокина». Ленин писал, что непреложные факты заставляют мелкобуржуазных демократов России «повернуть от враждебности к большевизму сначала к нейтральности, потом к поддержке его. Миновали те объективные условия, которые особенно резко оттолкнули от нас таких демократов-патриотов. Наступили такие мировые объективные условия, которые заставляют их повернуть в нашу сторону». В этом Ленин видел «отнюдь не случайность, а проявление неизбежного поворота целого класса, всей мелкобуржуазной демократии». Он звал к умелому политическому соглашению с такой демократией, в том числе «с вчерашним саботажником из служащих или из интеллигенции», с той частью интеллигенции, «которая вчера еще была сознательно враждебна нам и которая сегодня только нейтральна», ибо «такова одна из важнейших задач теперешнего момента»4*.
В сфере театральной политики задачу во многом блестяще решал Луначарский при поддержке передовых деятелей сцены. Не оттолкнуть, не расколоть творческие силы, а убедить, привлечь на свою сторону, объединить — такова была его цель.
Академический блок вызревал исподволь. Непосредственный толчок к тому, чтобы актеатры ассоциировались, дала дискуссия об их национализации. Возникшие было страхи оказались пустыми. В общеизвестном «Декрете об объединении театрального дела», подписанном 26 августа 1919 года Лениным и Луначарским, права старейших театров были надежно ограждены от самочинных посягательств. Реально угрожали этим театрам не действия власти, а архиреволюционные призывы левых, особенно лидеров Пролеткульта.
13 Неясности с проблемой национализации театра во многом были вызваны многозначностью понятия театр: он и род искусства, и труппа, и здание, где труппа играет. Поэтому не всегда сходились на том, что же именно следует национализировать, то есть передавать в собственность нации, государства. Здания и имущество? Но здания и имущество императорских театров и до революции были собственностью государства. Труппу? Но она при любых толкованиях вопроса никому в собственность не давалась.
Правда, иные горячие головы не останавливались и перед такой возможностью. Например, в одной газетной заметке предлагалось социализировать — передать в собственность общества… Шаляпина. Как «гениальная в художественном отношении личность» он должен быть социализирован, если уж «сам в себе не находит внутреннего требования такой социализации по своему убеждению»5*. Через два года вопрос о социализации Шаляпина всплыл опять, хотя и в более мягкой форме. В. В. Игнатов, один из лидеров театрального Пролеткульта, заявлял: «Шаляпина надо социализировать. Мы должны освободить гений Шаляпина от экономического удушения. В основу его социализации должен быть положен принцип: дать ему все, избавить его от всяческих материальных забот о семье; его же обязать лишь одним условием: петь только тогда, когда он захочет и где захочет…»6* Праздная демагогия такого сорта лишь сеяла тревогу в актерских умах.
В Пролеткульте вопрос о национализации театра вообще ставился круто. Еще 18 сентября 1918 года Первая Всероссийская конференция пролеткультов, заслушав доклад П. М. Керженцева, приняла резолюцию о театре, где говорилось: «В области буржуазного театра предстоит: а) национализировать театры… б) произвести учет всех артистических сил и коллективов в целях равномерного распределения их по стране, в) взять под строгий контроль репертуар театров». Таким образом, здесь под национализацией театров подразумевалась уже национализация трупп, актеров, самой субстанции искусства. Что же касалось помещений, резолюция устанавливала: «По мере создания законченных пролетарских трупп лучшие из существующих театров должны быть переданы в руки пролеткультов»7*. Можно не добавлять, что «буржуазными» слыли все театры, кроме пролеткультовских. И все они подлежали национализации в пользу последних.
Через месяц Керженцев требовал сплошной национализации, без разбора и уступок: «Буржуазный театр до такой степени 14 обанкротился, что после прокалки в огне социальной революции от него почти ничего не останется». Поэтому «театральная политика должна быть проведена путем принуждения», «театральная политика приведет к созданию нового театра через стадию разрушения…»8* Театра Керженцев не любил. Даже близкий Пролеткульту режиссер В. В. Тихонович так характеризовал его: «Крайний отрицатель существующей театральной культуры т. Керженцев…»9*
Деятели образцовой сцены вполне справедливо расценили национализацию «по Керженцеву» как губительную для искусства. Русское театральное общество созвало срочное совещание: оно состоялось 3 февраля 1919 года в фойе Московского Художественного театра. Открыла его А. А. Яблочкина, председательствовал «староста Малого театра» А. И. Южин, товарищем председателя был избран режиссер Александринского театра Е. П. Карпов. Выступавшие горячо протестовали против национализации театров. В отчетах так излагалось кредо Южина: «Если национализация коснется существа театра, то это будет означать его гибель. Никакое вмешательство в свободный труд и подвиг актера недопустимо»10*. В противовес одной крайности возникала другая. Но как было не посчитаться с мнением актерской громады…
Впрочем, Луначарский и сам не хотел обсуждать вопрос о какой бы то ни было театральной реформе без участия актеров. Национализация «по Керженцеву» не радовала и его. Он хотел, чтобы театры не несли потерь ни в артистическом составе, ни в творческом своеобразии, ни в материальной части. В конце концов он достиг этого вместе с актерами, но не без трудностей и не сразу.
Полной ясности тут не было. Это опять обнаружилось в марте 1919 года, когда стало известно о революции в Венгрии. Едва взяв власть, венгерские Советы национализировали театр. Шаг оказался поспешным. В. И. Ленин скептически отнесся к тому, что театры были национализированы раньше, чем заводы и банки. Он прямо спросил одного из видных деятелей венгерской компартии: «Какая же это диктатура, если вы национализируете прежде всего театры, и кабаре? Разве у вас нет других, более важных дел?»11*
Луначарский не поддавался напору сторонников национализации: «Что касается меня, я охотно повременил бы с национализацией 15 до тех пор, пока на меньшем объеме управления окрепнет рабочий аппарат, до тех пор, пока на местах подберутся и приобретут опыт соответственные люди. Но жизнь течет стремительно. Мы постоянно стоим перед опасностью, что осторожных государственных людей могут обогнать неосторожные экспериментаторы»12*. Цель объединения театрального дела и заключалась в том, чтобы уберечь театры от скоропалительных административных экспериментов и ретивых упразднителей.
Тем временем декрет о национализации театров разрабатывался в правительственных инстанциях. 13 мая Малый Совнарком обсудил проект декрета и отклонил его, потребовав доработки; 6 июня принял в новой редакции «Декрет о национализации предприятий театрального и циркового искусства в РСФСР». Предстояло утвердить его на Совнаркоме.
Печать постоянно освещала ход этих событий. Актерская общественность наблюдала за ними с понятной заинтересованностью и, прослышав про национализацию театра, снова пришла в возбуждение. Вечером 16 июня Художественно-просветительный союз рабочих организаций созвал в помещении театра б. Зон (на этом месте теперь Концертный зал имени Чайковского) открытый диспут. Накануне диспута «Известия» уведомляли: «В связи с предстоящим на днях опубликованием декрета о национализации театров в среде театральных деятелей возникает много недоумений и вопросов, которые желательно выяснить и обсудить».
Участники диспута, протекавшего бурно, выразили резкий протест против национализации театра и направили соответствующую резолюцию В. И. Ленину и А. В. Луначарскому. Там указывалось на то, о чем, в сущности, уже писал и Луначарский: отсутствуют опытные кадры для руководства театрами страны из единого центра; нельзя одинаковыми методами руководить бывшими казенными и всеми остальными театрами; расходы на национализацию подорвут материальную базу театрального творчества, а это практически грозит упадком и ликвидацией крупнейших театров. Резолюцию подписали А. И. Южин, К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко, А. Я. Таиров и председатель диспута — заведующий ХПСРО Я. И. Новомирский.
А так как 17 июня в «Известиях» появился отчет, неточно осветивший направленность диспута, Новомирский направил В. И. Ленину письмо, где разъяснял сложившиеся обстоятельства. К тому времени, когда Ленин получил письмо от Новомирского, Совнарком уже отклонил декрет Малого Совнаркома. Оттого Ленин испещрил это письмо подчеркиваниями и вопросительными знаками, выражая, в частности, недоумение насчет 16 того, что отмененный декрет где-то проводится в жизнь. На письме Ленин сделал надпись, обращенную к члену президиума ВЦСПС и Моссовета Л. П. Серебрякову и председателю Малого Совнаркома А. В. Галкину: «Разве проводится национализация? ведь мы отменили декрет? в чем дело? Ответьте!»13*
Ленин счел дело важным. Вот почему в середине июля он совещался о будущей реформе с представителями Большого, Малого, Художественного и Мариинского театров, а в конце июля беседовал о том же с Луначарским, Экскузовичем и Шаляпиным. В итоге разработка декрета была поручена Луначарскому.
Позиция наркома по просвещению оставалась определенной. Он хотел обеспечить нормальные условия для творчества всем театрам страны. Сберечь группу ведущих государственных театров он считал своим первоочередным долгом.
Зная это, в ночь на 18 июня руководители государственных театров Москвы и Петрограда собрались на экстренное совещание. Было решено ходатайствовать перед Луначарским о том, чтобы шести крупнейшим театрам страны присвоить звание академических и образовать из них ассоциацию академических театров. В коллегию будущего руководящего органа театральной жизни страны — Центротеатра — ассоциация выдвинула своими представителями И. В. Экскузовича и А. И. Южина, хотя Экскузович входил туда и по должности заведующего государственными театрами. Протокол об этом подписали, в числе других, Ф. И. Шаляпин, дирижер Мариинского театра Э. А. Купер, представитель Большого театра виолончелист В. Л. Кубацкий, К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко, А. И. Южин, П. М. Садовский, А. А. Остужев, Д. Х. Пашковский. Под протоколами стояла и подпись Экскузовича. Впоследствии он сам анонимно рассказал об этом совещании в печати14*.
19 июня Луначарский утвердил протокол совещания со следующей резолюцией: «Проект Ассоциации одобряю и приветствую»15*. Еще бы! Во многом это был плод его дальновидных усилий.
Созданный «единый фронт», как выразился Экскузович, позволил старейшим театрам выстоять в битвах, сопутствовавших выработке декрета. Когда декрет наконец был принят и подписан Лениным, они фигурировали там со своими правами и привилегиями. Декрет закрепил форму управления ими, существовавшую к тому времени. Никаких перемен в их деятельности не предусматривалось.
17 Мастера образцовой сцены были удовлетворены. Ассоциация придала им спокойствие и силу. Как упоминалось в начале главы, 7 декабря 1919 года был официально установлен разряд ассоциированных академических театров. Вскоре к ассоциации присоединились студии МХАТ, Камерный, Показательный и Детский театры. А 16 февраля 1920 года Луначарский обратился в Малый Совнарком с ходатайством о том, чтобы распространить привилегии академических театров на вошедшие в ассоциацию новые театры.
Тем временем ассоциированные театры и сами занимались собственным материальным обеспечением. Печать сообщала, что работники Большого, Малого, Художественного, Камерного и Показательного театров решили создать в Москве объединенный театральный кооператив во главе с Е. К. Малиновской: «Наряду с культурно-просветительными работами кооператив в ближайшее время приступит к образованию центральной столовой, открытию распределителей продовольственных продуктов и предметов широкого потребления»16*.
Наконец, 1 февраля 1921 года в Москве вышел первый номер двухнедельного «журнала московских ассоциированных театров» — «Культура театра», ставшего творческой трибуной ассоциации.
УЗЫ ДРУЖБЫ
Участники ассоциации пробовали сблизиться и раньше. Во многом совпадал репертуар бывших императорских театров в первый пооктябрьский сезон. Малый театр играл тогда восемь пьес Островского — у александринцев на афише их было одиннадцать. Дал себя знать обоюдный интерес к обличительным мотивам Шиллера и Бомарше, к прежде запретному Горькому, к новооткрытому драматургу Луначарскому. Историческую хронику Гнедича «Декабрист» Малый театр показал раньше, чем Александринский, а тот не забывал о пьесах Сумбатова-Южина: к «Ночному туману» прибавился «Старый закал».
Случалось, что мастера одного театра выступали в спектаклях другого. Комедией «Горе от ума» Александринский театр, по доброй старой традиции, собирался блеснуть к началу сезона 1917/18 года, благо исполняться она должна была в 375-й раз. М. В. Добужинский написал новые декорации, режиссер А. И. Долинов освежил привычные мизансцены, а Фамусова не было. «Постановка этой пьесы, как известно, давно готова, — сообщала хроника. — Задерживается она по причине ухода из Александринского театра В. Н. Давыдова, который должен был выступить в названной роли»17*. Давыдов отказался играть 18 Фамусова, несогласный творить суд над тем, что стало прошлым, и покинул театр. С его уходом еще очевидней стала потребность в контактах — она и побудила александринцев пригласить на роль Фамусова москвича Южина. Он только что сыграл Фамусова впервые, отметив тридцатипятилетие своей службы в Малом театре: это было в сентябре 1917 года, в день открытия сезона18*. А в Петроград Южин приехал год спустя — открывать следующий сезон. Петроградцам, привыкшим к мягкой комедийной игре Давыдова, темпераментная читка Южина показалась непривычной. Но суть трактовки осталась близка тогдашней александринской труппе. Актер снимал сатирические моменты роли, играл Фамусова — столпа, Фамусова — идеолога. Накануне гастролей он предупреждал петроградских коллег в обстоятельном письме: «В эпоху Грибоедова Фамусов — объект сатиры гениального автора. В нашу эпоху — это историческая фигура, типизирующая весь склад русской жизни той полосы»19*.
Но и александринцы не склонны были потешаться над прошлым. Южин сыграл у них четыре представления: на последнем труппа чествовала его речами и венком20*.
У видных представителей обоих театров, при всех индивидуальных различиях, обнаружилась в те дни общая черта: отказ от сатирической трактовки прошлого. Общность взглядов и позволила Давыдову в 1922 – 1924 годах войти в ансамбль мастеров Малого театра, а бывшему Александринскому — в 1922 году избрать Южина и Ермолову почетными членами своей труппы21*.
Бывшие императорские театры обменивались актерами и пьесами, послами и посланиями, завязывали прежде небывалые творческие и организационные связи. В критические дни, например в разгар дискуссий о надвигавшейся национализации театра, полномочные представители петроградцев сидели в Москве наготове. Силы стягивали дружно.
Все же ассоциация преследовала не столько прямые творческие цели, сколько тактические — в защиту творчества, в защиту самобытности творцов. Консолидация не предполагала обезлички, единый фронт сохранял своеобразие частей и подразделений. Пусть В. Н. Давыдов мог с успехом играть в «Ревизоре» или «Нахлебнике» на сцене Малого театра. Пусть питомица Малого театра В. Н. Пашенная могла отправиться в долгую поездку за океан с Художественным театром. Исключения 19 лишь подтверждали правило: актеры рано или поздно возвращались под отчий кров.
Художественный театр никогда так не сближался с бывшими казенными театрами Москвы, как в те дни. Еще в сентябре 1917 года, в пору организации актерского профсоюза, А. И. Южин обратился к труппе Художественного театра «с прочувствованным призывом к объединению» и был «приветствован овациями», а затем перед труппой Малого театра «с призывом о союзе выступил К. С. Станиславский, говоривший более часа. Его провожали бурными рукоплесканиями»22*.
Когда свершилась Октябрьская революция, контакты стали еще теснее. Октябрьские уличные бои в Москве прервали спектакли (с 28 октября по 7 ноября ст. ст.), но не связи. В ноябре делегация Художественного театра во главе со Станиславским и Немировичем-Данченко нанесла визит Малому театру, здание которого немного пострадало в дни боев.
Еще в разгар уличных боев актеры Большого, Малого и Художественного театров приняли совместную резолюцию об отношении к «переживаемому моменту». Три театра заявили, что их работа «должна продолжаться вне зависимости от событий политического характера» и «спектакли должны начаться, как только осуществятся элементарные гражданские требования, обеспечивающие нормальное течение художественной жизни театров»23*. Позиция москвичей была лояльней, чем позиция петроградских академистов, которых и в пооктябрьские дни подстрекал Ф. Д. Батюшков, литературовед по профессии, главноуполномоченный Временного правительства при театрах Петрограда. Попытки Батюшкова повлиять на московские театры оказались безрезультатными. Когда в декабре 1917 года уже уволенный Батюшков предложил Южину создать, в пику Луначарскому, свое подобие будущей ассоциации — «верховный совет» всех государственных театров, его призыв не был поддержан.
А дружеский визит делегации Художественного театра в Малый театр не остался без последствий. 22 ноября посланцы «дома Щепкина» нанесли «дому Чехова» ответный визит, чтобы договориться о совместных дальнейших действиях.
Осенью 1918 года Станиславский, Немирович-Данченко, Москвин пришли на вечер Малого театра, посвященный столетию со дня рождения Прова Садовского. Звучали речи о национальных корнях реалистического искусства, роднящих оба театра.
Весной 1920 года мхатовцы вместе с делегатами Александринского и других театров чествовали Ермолову. Осенью того же года на сцене МХАТ состоялся совместный спектакль Двух трупп, беспримерный в истории каждой: шли сцены из 20 «Дмитрия Самозванца и Василия Шуйского» Островского с Ермоловой, из «Ричарда III» с Южиным, из «Царя Федора Иоанновича» с Москвиным, из «Провинциалки» с Лилиной и Станиславским. 2 апреля 1922 года актеры МХАТ во главе со Станиславским сыграли на сцене Малого театра отрывок из комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты», чествуя Федотову и Никулину по случаю шестидесятипятилетия их артистической деятельности, а рядом, в других отрывках, выступали и Ермолова, и Давыдов. В 1922 году Ермолова, Федотова и Южин были избраны почетными членами МХАТ, а Станиславский и Немирович-Данченко — почетными членами Малого театра.
Поддерживались и связи москвичей с петроградцами. Как упоминалось, Ермолова и Южин были избраны одновременно и почетными членами Акдрамы. Отчет о шестидесятипятилетнем юбилее Южина сообщал, что «юбиляру был поднесен диплом на звание почетного члена труппы б. Александринского театра с занесением А. И. Южина во все постоянные штатные списки труппы… Делегация, приветствовавшая А. И. Южина, обратилась к нему как к управляющему труппой Малого театра с просьбой вручить диплом народной артистке М. Н. Ермоловой на звание почетного члена труппы б. Александринского театра»24*.
А в начале сезона 1924/25 года руководитель ленинградской Акдрамы Ю. М. Юрьев сообщил интервьюеру о предстоящем участии в спектаклях его театра корифеев МХАТ и МХАТ-2 во главе с К. С. Станиславским и М. А. Чеховым25*. Весной гастроли состоялись и вызвали большой интерес общественности. Станиславский и Качалов выступили в «Горе от ума» и в «Царе Федоре Иоанновиче», Чехов — в «Ревизоре». С. С. Мокульский писал: «Невольный трепет охватывал при мысли, как-то наши актеры “сомкнутся” здесь с Качаловым и Станиславским. Но уже после первого акта тревога стала рассеиваться, а к концу спектакля — и вовсе исчезла. Смычка МХАТа с Акдрамой не скомпрометировала ни одной из сторон»26*.
ПОСЛЕ ГРОЗЫ
Единый фронт ассоциированных театров понемногу начал терять сплоченность с введением новой экономической политики. Субсидии были теперь аскетически урезаны. По этой причине свернулась сеть пролеткультовских студий, но тем самым 21 отпали и их недавние посягательства. Еще раньше покинул пост заведующего Тео Мейерхольд. Академические театры, туже стягивая ремни, могли притом вздохнуть свободнее. Сохраняя общее централизованное управление, они получали большую творческую независимость и меньше опасались левых упразднителей. Правда, вопросы материально-денежного порядка порой остро вставали перед ними. Особенно на первых порах нэпа академические театры иногда оказывались на грани финансовой катастрофы, государство подчас не имело возможности обеспечивать их всем необходимым, возникала опасность урезки или отмены субсидий27*. Но выход из положения, более или менее приемлемый, находился, и театры ассоциации продолжали регулярную творческую жизнь.
При всех условиях каждый из этих театров убежденно исповедовал свою веру в искусстве, отстаивал традиции своего творчества, принципы собственного организационного устройства. Порой отношения внутри ассоциации теперь омрачала полемика «между своими». Возражая Немировичу-Данченко, указавшему в одном из публичных докладов на консервативность устоев Малого театра28*, Южин защищал преимущества стабильной структуры своего театра перед сравнительно менее стойкой структурой МХАТ. Южин писал: «Мыслим ли Художественный театр даже при наличии в нем Москвиных, Качаловых, Чеховых и др. без Станиславского и Немировича? Останется ли он самим собою? Нет. Малый без кого угодно? Всегда»29*. Спор шел между театром актерской традиции и театром режиссерской воли, а потому задел многих. Особенно досталось Южину от деятелей «театрального Октября». Предмет спора, однако, поныне не снят с повестки дня, время не опровергло ни упреков Немировича-Данченко, ни контрдоводов Южина.
Отношения внутри ассоциации, таким образом, не походили на идиллию, но представляли собой достаточно прочный деловой союз. Творческая и идейная близость, несомненно имевшая место, демонстрировалась куда чаще, чем моменты разногласий. Тогдашняя идеология ассоциированных театров, занимавшие их вопросы жизни и оценка современности наиболее выразились в содержании творчества. Оценка не была устойчивой, она менялась, и направленность сдвигов примечательней всего остального.
Во многих значительных пьесах наследия каждый мог прочитать и услышать то, что больше всего хотел бы там сегодня прочитать и услышать. Потому обольщаются иллюзиями те, кто 22 усматривает в ранних пооктябрьских трактовках Пушкина и Горького, Шекспира, Шиллера, Бомарше лишь факты мгновенной революционизации академических театров. Ход рассуждений бывает примерно таков. Горького прежде не допускали на казенную сцену? Теперь он появился и в Малом театре, и в Александринском. Значит, прогресс, значит, приятие нового. Тираноборческие мотивы звучали у Шиллера? «Посадник» А. К. Толстого говорил о народной вольности? Пушкинский «Пир во время чумы» славил солнце и разум? Байрон в «Каине» воспел мятеж, несогласие с жизнью? Что же сомневаться в направленности соответствующих спектаклей!
Содержание пьесы и содержание спектакля не тождественны. Понимание пьесы не дается раз навсегда, оно подвижно, оно испытывает высокое давление времени. На материале классического репертуара театры то и дело высказывались о времени, размышляли о будущем.
Здесь имелись оттенки и градации. Вполне обоснованно писал П. А. Марков о том, что «Малый театр, ставя “Посадника”, отнюдь не был полон каких-либо оппозиционных настроений, близких настроениям бывшего Александринского театра, давшего своей постановкой “Смерти Иоанна Грозного” явный и поощрительный повод к недвусмысленным монархическим демонстрациям»30*. Да, оппозиционностью спектакль Малого театра «не был полон». Вместе с тем он содержал раздумья труппы о собственной участи, совсем еще неясной, и нес тему борьбы за собственную вольность. Недаром еще до премьеры Малого театра «Посадником» заинтересовались и александринцы; осенью 1918-го печать извещала, что там уже идут монтировочные работы31*. Но появился спектакль позже московского, в 1922 году, и оказался вялым. В защиту свободы творчества звучали монологи Кручининой — М. Н. Ермоловой. Свободу слова защищали тирады Фигаро — Н. К. Яковлева (Малый театр) и Фигаро — Б. А. Горин-Горяинова (Александринский театр). От кого защищались все эти свободы? В чей адрес произносились антитиранические монологи «Ричарда III», «Вильгельма Телля», «Заговора Фиеско»? В адрес королей и феодалов? Несомненно. Но и не только их. Розовое свободолюбие прельщало академических актеров куда сильнее, чем красная диктатура. На борьбу с ней они, естественно, не шли. Но им то и дело мерещились подкопы под независимость творчества.
Не случайно Южин в феврале 1918 года так опасливо обговаривал с Луначарским «Временное положение» о Малом театре. Там предусматривалась, например, независимость искусства 23 «от влияния всяких тенденции, политических доктрин и партийных взглядов». И хотя Луначарский принял и этот пункт, по его позднейшему рассказу, Южин все равно «был невероятно осторожен, словно ступал по льду, заподозривая подвох чуть ли не в каждом параграфе, ему все казалось, что его свяжут какими-то условиями, которые он сам подпишет и которые потом должен будет свято блюсти, но которые уронят театр, позволят сделать из него какое-то низменное в глазах Южина, то есть антихудожественное употребление»32*.
Луначарский понимал: прежде чем коммунистически обновится мировоззрение практиков искусства, прежде чем созреет готовность к такому обновлению, надо завершить исторически необходимые мероприятия буржуазно-демократической революции (например, такие, как автономия бывших императорских театров), которые при Временном правительстве были, в общем, больше заявлены, чем осуществлены. Доведенные до конца, они тут же и исчерпают себя, неизбежно потребуют качественной замены в новом, социалистическом духе. Вдобавок, Луначарский умел уважать принципиальность несогласных и колебать несогласие, но не принципиальность. Иначе он не возвратил бы в Александринский театр Евтихия Карпова, который был правой рукой Батюшкова в дни «фронды» и не доверил бы ему руководства труппой, как потом Ю. М. Юрьеву. Он предоставлял чаемую свободу, коль скоро убеждался, что дело идет о честных художественных поисках. На первых порах этого было достаточно обеим договаривающимся сторонам. Свободолюбцы быстро начинали испытывать нужду в помощи, руководстве, твердой власти. И тогда наставало доверие, приходила дружба. Кто мог подумать в дни зарождения ассоциации, что к середине 1920-х годов Малый театр поставит несколько пьес драматурга Луначарского, а 19 апреля 1926 года даже посвятит особый спектакль пятидесятилетию со дня рождения наркома33*. В 1927 году Южин умер. На гражданской панихиде Луначарский сказал: «Мы были с Александром Ивановичем друзьями, нас жизнь свела и спаяла достаточно тесно». И добавил, что эта дружба «целиком покоилась на основе художественно-общественной»34*.
Можно продолжить эту мысль и сказать, что друзьями на художественно-общественной основе, даже при несходстве вкусов, были у Луначарского все крупные деятели ассоциации, все академические театры вместе взятые и каждый из них в отдельности.
24 Проводя ленинские партийные принципы руководства искусством, Луначарский многого добился в 1925 году, когда возбудил ходатайство перед Совнаркомом о том, чтобы решить больные вопросы финансирования академических театров35*. Как уведомляла печать, «Совнарком предложил Наркомпросу произвести окончательное утверждение сети актеатров, цирков, театральных студий и школ…»36* К решению вопроса о типологии актеатров был привлечен Государственный ученый совет: он быстро принял некий отвлеченно-бюрократический документ, не получивший практического применения37*. Важную позитивную роль в создавшейся ситуации сыграл прежде всего сам Луначарский. Во многом благодаря его энергии решение Совнаркома стало важным мероприятием в поддержку академических театров, их гражданских прав и материальных интересов. Об этом Луначарский рассказал в обстоятельном интервью. Утверждая, что «академические театры несомненно составляют нашу гордость», нарком сообщал: «Я считаю своим обязательным долгом ознакомить советскую общественность, в том числе и работников прессы, с точкой зрения руководящих советских и партийных органов и с их взглядами на положение академических театров. На заседании Большого Совнаркома, при самом подробном обсуждении положения этих театров, было признано, что академические театры не только не мертвы, не только не превращаются в мумии и музеи, но что в них бьется пульс жизни, что они делают нужное Советскому государству культурное дело, что положение этих театров, хотя и медленно, но безусловно улучшается. Большой Совнарком в соответствии с этим вынес постановление о незыблемом дальнейшем существовании академических театров. Мало этого: Совнарком решил ассигновать на уплату долгов академических театров крупную сумму, и ныне эта сумма будет, по всей вероятности, увеличена»38*.
О том, что поддержка академических театров велась всесторонне, свидетельствуют слова Луначарского, добавившего: «На заседании Совнаркома, между прочим, был поднят вопрос о наблюдающейся травле академических театров со стороны некоторых советских журналистов». Луначарский откровенно признался, что за это прежде всего досталось ему самому. По его словам, ему было указано, что «ни один Народный Комиссар, 25 кроме меня, не допустил бы подобного отношения к академическим театрам, поддерживаемым и охраняемым государством».
Академическим театрам особенно доставалось тогда в ленинградских театральных журналах, куда поступали и зубодробительные рецензии москвичей на московские премьеры. Чего стоили хотя бы две рецензии, напечатанные 17 февраля 1925 года журналом «Жизнь искусства» под рубрикой: «Живущие в отживающем». Речь шла о спектаклях Малого театра и МХАТ-2. Не менее сурово обходились и ленинградские критики с Акдрамой.
Поэтому Луначарский в своем интервью предупреждал: «Я считаю необходимым довести до сведения ленинградской театральной критики следующее: благодаря враждебным и подчас немотивированным выпадам, благодаря сознательной и мало чем оправданной травле отдельных театров, в Ленинграде создается крайне тяжелая атмосфера, не только не содействующая дальнейшему театральному строительству, но, наоборот, пытающаяся как бы сорвать это строительство, которому и Советское государство, и партия придают несомненно большое значение. Я имею в виду главным образом академические театры в Ленинграде, которые находятся как бы на положении осажденной стороны». И еще решительнее нарком повторял: «Я считаю необходимым подчеркнуть, что, по общему нашему мнению, травля академических театров, которая уже свелась почти на нет в Москве, но которая считается еще “хорошим тоном” в Ленинграде, является актом нелояльной оппозиции к Государству и, значит, Партии, что эта травля является срывом и саботажем мероприятий Советской Власти». Ибо, как говорил он дальше, «академические театры проявляют не только значительную жизненность, но принимают все активные меры к тому, чтобы приблизить себя к запросам современности»39*.
Журнал «Жизнь искусства», которого больше других касались упреки наркома, перепечатал выдержки из интервью40*. Номером раньше он дал и подробный отчет о докладе на сходную тему, с которым выступил Луначарский в Акдраме41*.
Наблюдая творческий процесс в его противоречиях, по-ленински направляя его путь, вынося противоречия на общеобозримую поверхность, придавая конфликтам гласность, Луначарский много полезного делал для того, чтобы театры имели прожиточный минимум, дышали в здоровом климате, чувствовали свою необходимость народу. И сполна достигал цели. «Любовь 26 Яровая» Малого театра и «Конец Криворыльска» Акдрамы (1926), «Бронепоезд 14-69» на сценах МХАТ и Акдрамы и «Разлом» вахтанговцев (1927) прозвучали как весомые творческие ответы академических театров на оказанную им поддержку, — с ними проблема советской сценической классики получила живые, зримые контуры.
Создание классики не было прерогативой академических театров: советская сцена показала уже и «Мистерию-буфф» (в Театре РСФСР-1), и «Шторм» (в Театре имени МГСПС). Важна была прежде всего гражданская, политическая, а значит, и качественно новая творческая зрелость старейших театров страны. Став театрами революционного новаторства, они вступили в свободное и успешное соревнование с лагерем «театрального Октября», — тот попросту терял монополию на революционность из-за реальных побед «аков».
Разумеется, звание академического не определяло меры художественности театра. Оно являлось тогда не почетным, а означало ведомственную подчиненность. Принадлежа к ведомству «аков», театр мог не афишировать эту подчиненность. Так поступал Камерный театр. МХАТ-2, выросший из Первой студии МХАТ, то числил себя академическим, то забывал об этом. Театр имени Евг. Вахтангова, возникший из Третьей студии МХАТ, на афишах не именовал себя академическим, хотя оставался в системе актеатров. Звание академического он принял как награду лишь в 1956 году.
Бывало, к званию академического театра прибегали в поисках спасительного убежища. Бывало, этим званием и тяготились, а от перевода в систему актеатров отбивались, как от угрозы существованию. В 1925 году ленинградская общественность выручала Большой драматический театр от возведения в академический ранг, будто от злой напасти. «Я не представляю себе, как молодой, возникший в революцию и строящий на ней свою театральную работу театр может быть слит с другим, чуждым ему театром», — бил тревогу писатель Н. Н. Никитин42*. Критик Н. Ю. Верховский видел тут посягательство на жизнь театра и беспокоился из-за того, что «дальнейшая участь Большого драматического театра неизвестна»43*. На самом деле было хорошо известно, что театр хотели сделать филиальной площадкой Акдрамы. «Большой драматический должен жить», — писал в вечерней «Красной газете» А. И. Пиотровский. Выступления печати возымели действие. Хроника сообщала, что «возбуждено как по партийной, так и по профессиональной линиям ходатайство о пересмотре Губисполкомом этого постановления, как направленного на уничтожение всякой индивидуальности 27 в художественной работе театра»44*. И наконец 24 апреля «Ленинградская правда» оповестила: «Большой драматический сохранен». Свое нынешнее звание академического театр опять-таки получил много лет спустя, как свидетельство крупных художественных заслуг.
Управление академических театров существовало в системе Наркомпроса до августа 1928 года, когда вместо него и остальных подразделений наркомата, ведавших делами искусств, было создано единое главное управление — Главискусство, через год реорганизованное. Еще в июле хроника уведомила, что «управляющий госактеатрами И. В. Экскузович освобожден от занимаемой им должности»45*. Вслед за тем были упразднены и должность, и учреждение. Мало того. Отмене подлежала сама категория академических театров. Этого добивался начальник Главискусства А. И. Свидерский. По его почину было принято соответствующее постановление. Как сообщалось в печати, 13 августа «в Наркомпросе под председательством А. И. Свидерского состоялось заседание коллегии Главискусства… Коллегия постановила упразднить термин “академические театры”, сохранив наименование “государственные” за театрами республиканского масштаба, имеющими крупное художественно-показательное значение»46*.
Отменить термин не удалось. Он продолжает жить поныне как конкретное и устойчивое определение ведущих театров страны. Однако августом 1928-го следует датировать конец ассоциации государственных академических театров. Фактически она перестала существовать раньше. Ей уже не суждено было возродиться. Да в том и не виделось теперь особой нужды.
Свою историческую миссию ассоциация выполнила сполна. Она позволила лучшим, старейшим театрам выстоять в переломный момент жизни страны как единому блоку, без серьезных потерь в творческих силах и качественном своеобразии каждого.
Ассоциация явилась средоточием живых национальных традиций русского театра, становящегося советским. Храня традиции, завещанные мастерами великого русского реализма XIX века и вдохновенными искателями начала XX века, ассоциированные театры развивали их под воздействием обновлявшейся жизни и, наряду с другими театрами, формировали традиции новые, рожденные в искусстве советской действительностью.
Академические театры, как и встарь, одерживали свои высшие победы тогда, когда воссоздавали правдивые образы народа, черты народного характера, дух народного патриотизма. Вместе с тем в зрелищах народно-патриотических все отчетливей 28 выступал план конкретного историзма, и эти зрелища становились все чаще историко-революционными. Спектакли о современности несли открытия в сфере характера и психологии, личности и общества, что обращало их нередко в политические спектакли, заставляло окрашивать лирикой, героикой, сатирой собственно политические выводы о жизни.
Оттого образы народа в таких спектаклях становились теперь и образами советского народа, черты народного характера — чертами советского народного характера, идеи патриотизма — идеями советского патриотизма.
Это позволило театрам академической ассоциации, не отгораживаясь стеной от остальных революционных театров, к концу 1920-х – началу 1930-х годов занять авангардное место в расстановке творческих сил и больше многих других театров сделать для создания советской классики, для расцвета многообразия на сцене.
Глава вторая
АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР И РЕВОЛЮЦИЯ
НАКАНУНЕ ОКТЯБРЯ
К революции Александринский театр пришел, обладая стойкими традициями векового опыта, образцовой труппой во главе с В. Н. Давыдовым, большим репертуаром, значительной режиссурой. Притом он не был театром репертуара или театром режиссера, а исстари слыл театром актера, и только его одного. Актер — художник, истолкователь, мастер — оставался определяющей величиной. В расчете на него строился репертуар, складывались постановочные замыслы. Актер имел веское слово в выборе пьес и ролей, в вопросах трактовки и подачи. Здесь была и сила, и слабость реализма Александринского театра: талантливый актер иной раз проводил на сцену посредственную пьесу с выигрышной для себя ролью, подчинял себе рисунок мизансцены — и показывал чудеса жизненно правдивого искусства.
В труппе играли Н. С. Васильева, М. А. Ведринская, М. П. Домашева, Н. Г. Коваленская, Е. П. Корчагина-Александровская, В. А. Мичурина, М. А. Потоцкая, Н. В. Ростова, Е. Н. Рощина-Инсарова, Е. И. Тиме, А. А. Чижевская, Р. Б. Аполлонский, Л. С. Вивьен, Г. Г. Ге, Б. А. Горин-Горяинов, В. Н. Давыдов, М. Е. Дарский, Ю. В. Корвин-Круковский, И. В. Лерский, П. И. Лешков, Я. О. Малютин, А. Ф. Новинский, А. П. Пантелеев, Н. В. Смолич, Е. П. Студенцов, И. И. Судьбинин, И. М. Уралов, А. А. Усачев, Н. П. Шаповаленко, Ю. М. Юрьев, К. Н. Яковлев и др. Крупные индивидуальности, громкие имена.
29 Всем делом ведал с 1916 года управляющий труппой и главный режиссер Е. П. Карпов, которому исполнилось шестьдесят лет как раз 25 октября 1917 года. Драматург «позднепередвижнического» толка, он был в театре оплотом художественного консерватизма. Самым близким ему очередным режиссером был А. И. Долинов, а также П. С. Панчин, возобновлявший главным образом отдельные чужие спектакли. Наиболее далек Карпову был В. Э. Мейерхольд. Он работал в Александринском театре с 1908 года и проводил принципы эстетизма и традиционализма, воскрешая на сцене стилистику старых, дореалистических театральных эпох в постановках классиков и романтиков прошлого, от Кальдерона и Мольера до Лермонтова, но ставил попутно «Грозу» Островского, трилогию Сухово-Кобылина и т. д.; с ним иногда сотрудничала И. А. Стравинская. В 1910-х годах были приглашены молодые воспитанники МХТ А. Н. Лаврентьев и Н. В. Петров, А. Л. Загаров и Ю. Л. Ракитин. Помимо разного рода режиссерских обязанностей им предназначалась работа в задуманной студии при театре. Наибольшим авторитетом пользовался Лаврентьев, являвшийся в 1910 – 1916 годах, до возвращения Карпова, главным режиссером. Загаров же и Петров к осени 1917 года отошли от Александринского театра.
Репертуар сезона 1917/18 года был достаточно академичен. 9 октября театр показал «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого, 23 октября, в канун революции, — «Смерть Тарелкина» Сухово-Кобылина в постановке Мейерхольда. Избыток «смертей» на афише мог смутить публику, и потому комедия Сухово-Кобылина шла под старым нейтрализованным названием «Веселые расплюевские дни». В ноябре — декабре последовали дальнейшие премьеры: «Невольницы» и «Богатые невесты» Островского в постановке Ракитина, «Дочь моря» Ибсена в постановке Мейерхольда и Стравинской, «Кукушкины слезы» А. Н. Толстого в постановке Карпова. Исполнялись и спектакли прежних лет: еще пять пьес Островского, «Свадьба Кречинского» Сухово-Кобылина, «Вишневый сад» Чехова, «Живой труп» Л. Н. Толстого, «Профессор Сторицын» и «Милые призраки» Л. Н. Андреева, «Флавия Тессини» Т. Л. Щепкиной-Куперник, «Ночной туман» А. И. Сумбатова-Южина. Параллельно на сцене Михайловского театра, в промежутках между спектаклями французской труппы, александринцы давали попеременно Шекспира («Венецианский купец»), то Скриба («Стакан воды»).
Ничто, даже сама революция, казалось, не в силах было поколебать давно установленный образ жизни казенного театра.
А так как общекультурная ценность этого театра была неисчислима, Советская власть и не предполагала ничего ломать в академическом распорядке старой «Александринки». Подобные ценности, доставшиеся народу в наследство, она считала 30 нужным беречь, с тем чтобы постепенно, тактично помогать художникам бывшей императорской сцены обновляться.
Правда, организация Александринского театра таила в себе вместе с навыками бюрократического прошлого, и весьма живые противоречия текущего бытия.
Лозунги буржуазно-демократической поры (от автономии до актуализации репертуара) в непосредственной близости к Октябрю фактически свелись на нет. В августе выборный художественно-репертуарный комитет разошелся в вопросе о постановке «Смерти Иоанна Грозного». Избегая ответственности за судьбу театра, раздираемый междоусобицей, комитет сложил с себя полномочия. С тех пор все вопросы решали единолично Е. П. Карпов и главноуполномоченный Временного правительства Ф. Д. Батюшков.
Эпизод с постановкой «Смерти Иоанна Грозного» особенно характерен, ибо относился еще к дооктябрьской поре, но заглядывал в предстоящее. В августе 1917 года исполнялось сто лет со дня рождения А. К. Толстого, и актеры горячо спорили о том, возобновлять ли трагедию, поставленную в 1906 году А. А. Саниным. Слывшая антитиранической, она в период первой русской революции обнаружила и противоположные возможности. Тогда рецензент премьеры Санина недоумевал: «Корректная публика Александринского театра вчера вела себя необычно: в первом акте дважды были аплодисменты произнесенным со сцены словам о власти: в первый раз аплодисменты благонадежного свойства, во второй раз — неблагонамеренного»47*. Теперь, в 1917 году, представители александринской «левой» выступали против этой трагедии как… монархической. «Чем объяснить появление в настоящий острый момент монархизма пьес А. Толстого?..» — спрашивал труппу в открытом письме Н. Н. Ходотов48*.
Тогда раскол захватил всю труппу. Консервативная пресса сокрушалась, что «под влиянием большевистских тенденций гг. Ге, Студенцова, Вивьена, Коваленской и комп. театр катится по наклонной плоскости…»49* Перед самой премьерой страсти пылали. «Молодежь восстала против возобновления трагедии гр. Ал. Толстого “Смерть Грозного”, когда же начальство все-таки решило поставить эту прекрасную пьесу, многие артисты из “противленцев” стали бойкотировать репетицию. Режиссер Е. П. Карпов слезно умолял посещать репетиции, говорил большевикам (как их называют старые артисты) о необходимости труда, о том, что нельзя игнорировать исторические пьесы», — 31 сетовал за два дня до премьеры Н. А. Россовский50*. Радикальность несогласных, конечно, сильно преувеличивалась. Это выяснилось сразу после Октября, когда от мнимого большевизма некоторых актеров, в том числе Коваленской, Студенцова, Ге, не осталось следа.
Пьеса имела защитников среди умеренно настроенных актеров. В анкете «Петроградского листка» за нее высказались Аполлонский, Ведринская, Горин-Горяинов, Лаврентьев51*.
Спектакль показали с отсрочкой — 9 октября. В первой же картине, в сцене боярской думы, где Годунов — Аполлонский убеждал бояр держаться за царя, «в зале театра раздались шумные аплодисменты, прерванные свистками», — сообщал назавтра Россовский. Позже Горин-Горяинов возлагал ответственность на своего былого единомышленника Аполлонского, который будто бы произносил текст «с особым ударением»52*. Но разве это было важно? Охотники в зале сами выискивали поводы.
То, чему именно аплодировали, документально зафиксировал А. Р. Кугель. «Некоторая часть публики, — писал он, — подчеркивала демонстративными аплодисментами такие слова Годунова в I картине: “Что лучше — видеть Русь в руках врагов или сносить владыку, богом данного?”, а то еще прямее: “Единое спасенье нам, бояре, идти к царю всей думой, собором целым и вновь молить его: да не оставит престол он и да поддержит Русь!” Придраться, конечно, можно», — добавлял критик53*.
Впрочем, другая часть публики рьяно приветствовала Сицкого — Лешкова, когда он уговаривал бояр полагаться лишь на самих себя. В отличие от Аполлонского, молодой Лешков был одним из вожаков александринской «левой». В сценическом поединке наглядно отразился конфликт общественных позиций актеров.
Зал тоже делился на два лагеря, и оба ловили поводы для политической демонстрации. Это повторялось почти на каждом представлении «Смерти Иоанна Грозного» и после Октября (их до конца 1917 года было около десяти).
Исторический парадокс состоял в том, что органы Советской власти сразу же встретились с необходимостью завершить, довести до логического конца те процессы демократического переустройства, которые не хотела и не могла провести в жизнь Февральская революция.
32 Смута и саботаж в первые месяцы после Октября, по сути дела, выдавали растерянность александринцев, прощавшихся с прошлым. В дни актерской «фронды» выплеснулись на поверхность не разрешенные прежде внутренние противоречия. Мучительная борьба в труппе, помимо издержек, несла и положительные результаты. Она позволила переболеть и исцелиться, стряхнуть предрассудки, изжить иллюзии, а кроме того, впервые сознать себя коллективом. Ведь до революции, как говорил Вивьен, «труппа в театре была (и по актерскому составу очень сильная), а коллектива никогда не было»54*. Теперь превратности «фронды» оживили на свой лад общественную активность в театре. Под нажимом Батюшкова и его ставленников александринские актеры упорно отказывались от контакта с новой властью. Но как же они были удивлены и обезоружены тем, что Луначарский, которого они наконец посетили, чуть ли не больше их самих настаивал на полной, безоговорочной автономии Александринского театра…
ДНИ «ФРОНДЫ»
Вечером 25 октября 1917 года в Александринском театре шла назначенная по репертуару «Флавия Тессини», сентиментальная пьеса Т. Л. Щепкиной-Куперник об участи модной актрисы, далекая и от событий дня, и от судеб самих александринцев. Афиша недели включала в себя «Смерть Тарелкина» и «Смерть Иоанна Грозного», комедию Островского «Грех да беда на кого не живет», драму Сумбатова «Ночной туман». Но афиша не была доиграна. 28 октября, в знак протеста против незадачливого письма комиссара Военно-революционного комитета М. П. Муравьева, труппа прекратила спектакли.
Муравьев, недавний режиссер Суворинского театра, не пробывший комиссаром и трех дней, был далек от партии большевиков. Он разослал во все государственные и частные театры циркулярное письмо, обязавшее актеров и служащих «оставаться на своих местах, дабы не разрушать деятельности театров». При этом он высокомерно добавлял, что «всякое уклонение от выполнения своих обязанностей будет считаться противодействием новой власти и повлечет за собой заслуженную кару»55*. Угроза возмутила бывших императорских актеров, увидевших здесь посягательство на свою автономию, да еще со стороны какого-то заурядного суворинца. 28 октября на общем собрании труппа Александринского театра постановила прервать спектакли, отказалась выполнять циркуляры Муравьева и заявила, что подчиняется только Ф. Д. Батюшкову. Забастовка 33 перекинулась и в Мариинский театр, где настроения актеров подогревал дирижер А. И. Зилоти, подобно тому как в Александринском это делал режиссер Е. П. Карпов.
И тут Муравьев дрогнул. Он тотчас же сложил с себя звание комиссара, так как, по его словам, «не имел никакого желания вступать с товарищами артистами в борьбу за власть той партии, к которой я не принадлежу»56*. Уход Муравьева ободрил актерскую «фронду».
5 ноября артисты бывшей императорской сцены на общем собрании в Мариинском театре постановили перейти от саботажа к бойкоту новой власти. Решение не было единодушным. Например, В. Э. Мейерхольд горячо говорил о борьбе за свободу искусства в мировом масштабе, бросал анархичные призывы, только пугавшие зал. Но за ними крылось приятие Октября и плохо пока сформулированная вера в революцию. С тех пор Мейерхольд прослыл в Александринском театре «красногвардейцем».
Переход от саботажа к бойкоту означал, между тем, конец забастовки. Налаженная машина покатила своим чередом по путям репертуарного плана.
Чтобы уберечь театр от возможных последствий бойкота, Луначарский неоднократно пробовал договориться делом и миром с Карповым, предлагал диалог о сотрудничестве. Враждебная позиция Батюшкова и Карпова сорвала диалог, труппа большинством голосов решила не отвечать Луначарскому и вынесла резолюцию о том, что независимое искусство считает невозможным принимать «директивы политических партий»57*. Многие ведущие актеры заявили, что покинут театр, если пострадает автономия. Среди них были Васильева, Ведринская, Коваленская, Потоцкая, Ростова, Рощина-Инсарова, Тиме, Аполлонский, Ге, Давыдов, Корвин-Круковский, Лаврентьев, Лерский, Юрьев.
Сотрудничать с Луначарским хотели Мейерхольд, Вивьен, Новинский, Судьбинин, Уралов, Лешков, Смолич и другие. Самый активный из них, актер Д. Х. Пашковский, получил от своих противников прозвище «большевик», которое теперь имело другой, гораздо более подлинный смысл, чем в дни Февраля.
Часть труппы колебалась, меняла позиции, выжидала.
Все хотели защищать интересы театра, но чуть ли не каждый понимал и эти интересы, и способы их защиты на свой лад. «Сколько актеров в Александринке? 60? Значит, 60 комитетов? Не так уже много…» — меланхолически шутил безвестный репортер58*.
34 К середине ноября александринцы сорганизовались в союз артистов государственной драматической труппы и утвердили устав59*. Целью была круговая оборона от мнимых посягательств власти. Прошло свыше месяца, прежде чем союз удосужился избрать исполнительный комитет. Актеры пресытились митингами и речами. К выборам, назначенным было на 2 декабря, энергичнее всех готовилась «молодая часть труппы во главе с г. Лешковым, делающаяся все более многочисленной, так как неудовольствие существующими порядками в театре растет, как снежный ком»60*. Группа Лешкова, лояльная к революции, вербовала сторонников, чтобы дать бой «непримиримым». Но выборы откладывались со дня на день за отсутствием кворума. «Вообще артисты сильно разочарованы своей автономией и не прочь видеть в театре “сильную власть”», — сообщал «Вечерний час» 6 декабря.
Выборы состоялись только потому, что умонастроения труппы вновь изменились. На пост председателя исполкома прошел один из «непримиримых» — Лаврентьев. Кандидатура «красногвардейца» Мейерхольда собрала лишь около 20 голосов61*. «Непримиримым» удалось сыграть на обстоятельствах чисто внешнего порядка.
Масла в огонь подлил так называемый «захват» Александринского театра 8 декабря, когда ЦИК, Совнарком и другие организации, которым понадобилось помещение для многолюдного собрания, отменили назначенный по афише спектакль. После Февраля в Александринском театре происходило сколько угодно митингов и собраний, но теперь фронда вскипела. В тот же вечер на спектакле в Михайловском театре Студенцов, сопровождаемый Тиме, обратился к публике с речью протеста62*. Назавтра «непримиримые» пылко толковали о невозможности работать, хотя спектакли шли своим чередом. 10 декабря на общем собрании казенных трупп в Мариинском театре разрабатывалась тактика совместного отпора Луначарскому и вообще «захватчикам». Делегат александринцев Ге произнес резкую речь63*. На этом же собрании Батюшков был провозглашен задним числом главноуполномоченным по избранию64*, хотя, как все хорошо знали, он никем не избирался, а был назначен Временным правительством.
Почувствовав почву под ногами, Батюшков в тот же день отверг письменное приглашение Луначарского явиться к нему. 11 декабря Луначарский вторично вызвал к себе Батюшкова, 35 предупредив о последствиях в случае неявки. 12 декабря приказом за подписями Ленина и Луначарского главноуполномоченный был смещен65*.
Актерам же Луначарский резонно объяснил, что, если бы они поддерживали с ним контакт и вовремя поставили его в известность, никакого «захвата» и не было бы66*.
Батюшков не сдавался. Он попробовал создать верховный комитет (или совет) всех государственных театров. Ему, а не Луначарскому он на словах соглашался передать свои полномочия. На деле же таким комитетом удобно было бы прикрыться, как ширмой. «Для противодействия стремлениям большевиков захватить государственные театры по инициативе артистов решено образовать особый верховный комитет, который бы принял на себя управление театрами», — совершенно недвусмысленно уведомляла печать67*, выдавая и цели борьбы, и способы маскировки («инициатива артистов»). За содействием Батюшков обратился в Москву, к Южину. 14 декабря московские делегаты прибыли на совещание в Петроград. Но повели они себя уклончиво и не сочли свои полномочия достаточными, чтобы решить вопрос в угодном Батюшкову смысле68*. Тогда Батюшков поспешил расставить силы хотя бы в Петрограде и форсировал выборы в верховный комитет. 18 декабря, в тот же день, когда Лаврентьев прошел на пост председателя исполкома, членом верховного комитета от Александринского театра был избран Юрьев. Уже назавтра состоялось первое заседание верховного комитета. Председательствовал Батюшков, отнюдь не сложивший своих полномочий. От александринцев присутствовали Юрьев, Карпов и Лаврентьев, выступивший с докладом. Но среди делегатов не было единства. Представители оперной труппы, находившиеся под влиянием Мейерхольда, усомнились в самой идее такого скоропалительного комитета. Собравшиеся разошлись, не придя к согласованным решениям по основным вопросам69*.
Одновременно был предпринят другой обходный маневр. В середине декабря на очередном собрании в Александринском театре режиссер Долинов сообщил о предложении компании капиталистов перекупить труппу за 30 тысяч рублей в месяц для регулярных спектаклей на стороне. Труппа дала согласие, с условием, что и на александринской сцене спектакли не 36 прекратятся до последней возможности, а антреприза будет не более чем частным предприятием, без вывески Александринского театра70*. Спектакли государственной сцены и прежде находились под угрозой каждодневного срыва, а теперь «непримиримые» обеспечивали себе путь отхода на заранее заготовленные позиции. С этой целью был снят пустовавший театр «Аквариум» на Каменноостровском проспекте. 27 декабря комедией Островского «Волки и овцы» в нем открылись «спектакли при участии артистов Александринского театра», как гласили афиши. Шли «На всякого мудреца довольно простоты», «Бесприданница», «Свадьба Кречинского», «Коварство и любовь». Преобладал, однако, откровенно коммерческий репертуар: «Обыватели» Рышкова, «Сестры Кедровы» Григорьева-Истомина, «Мисс Гобс» Джерома, «Незрелый плод» Бракко. Рощина-Инсарова и Юрьев играли «Даму с камелиями». В некоторых спектаклях участвовали Давыдов и другие корифеи труппы. Подобным образом они, как им казалось, демонстрировали свою независимость от политики.
Сторонние спектакли александринцев попутно шли и на сцене Литейного театра. Переводная комедия «Мисс Гобс», «Дама с камелиями» и другие боевики кочевали с одной гастрольной площадки на другую.
Однако миф об аполитичности александринцы разбивали собственными руками.
К концу декабря — началу января кипение страстей в театре достигло высшей точки. Батюшков и шедшие за ним возлагали все надежды на близящийся созыв Учредительного собрания и последующий крах пролетарской диктатуры. Они даже намеревались послать «особую делегацию в Учредительное собрание для защиты интересов государственных театров»71*. Но Учредительное собрание, открывшееся 5 января 1918 года, к утру было распущено декретом ЦИК. Это смешало карты Батюшкова и его партнеров в азартной игре. Главная ставка игроков была бита.
14 января, после бурных многодневных дебатов, труппа решила, наконец, послать делегацию на переговоры с Луначарским. В ее состав вошли Мичурину, Ге, Лешков, Пашковский и Судьбинин72*. Наступал перелом.
Не дожидаясь исхода встречи, Карпов покинул театр. В газетном интервью он негодовал на актеров: «Если они нашли возможным пойти на компромисс, то мне оставалось только уйти. Артисты сами не знают, чего они хотят»73*. Под компромиссом 37 подразумевался шаг труппы к сотрудничеству с новой властью. Но в чем-то Карпов был и прав: далеко не все актеры достаточно хорошо знали, чего хотят. Позиции некоторых действительно не поддавались четкому определению.
Например, избранный в делегацию Г. Г. Ге проделал за несколько лет зигзаги поистине головокружительные. Актер на амплуа эффектных романтических злодеев и автор наивных «сценичных» мелодрам, Ге в 1914 году своей пьесой «Реймский собор» положил начало циклу трескучих зрелищ императорской сцены, выдержанных в духе официальной концепции «войны до победного конца». После Февраля он прослыл среди актеров чуть ли не «большевиком», а в ноябре 1917 года стал одним из инициаторов и главных ораторов-исполнителей «Апофеоза Учредительного собрания» на сцене Михайловского театра. На сходках актерского вече славил независимое искусство и обличал «узурпатора» Луначарского, но после первых же встреч с ним озадаченно признавался репортеру: «Луначарский в смысле автономии дал нам больше того, что мы хотели»74*. Всякий раз он был искренне шумлив и поверхностно простодушен. «Товарищи!.. — восклицал он, обращаясь к актерам. — Сдерживая стоны, будем бодро делать свое дело, помня, что в наших страданиях залог будущего, может быть, скорого, может быть, великого расцвета театра. В погребальном звоне, провожающем траурные колесницы, уже звучит будущий торжественный гимн возрождения, ибо все минет — одна любовь останется, одна бессмертная красота воссияет новым блеском»75*. Слова и порывы опьяняли старого актера, монументального по облику и казавшегося странным в спортивном костюме. Таким он запомнился пролеткультовцам, у которых преподавал актерское мастерство. Будущий драматург, а тогда заведующий театральной студией петроградского Пролеткульта Д. А. Щеглов вспоминал: «Навстречу мне поднялся огромного роста седой старик, только что прочитавший какую-то патетическую фразу. Он был в коротких бриджах и смешном для его возраста спортивном клетчатом костюме… Старомодный и чудаковатый вид имел этот большой актер и одаренный человек. В нем было что-то театрально-напускное и в то же время вдохновенное. Была ли это маска или настоящее человеческое существо, я так и не узнал, но, безусловно, он был любим и почитаем аудиторией, несмотря на то, то “метод” его обучения заключался в прямом натаскивании, в показе жеста, в демонстрации своего богатого голосового аппарата…»76* Работа в Пролеткульте — Довершающий штрих портрета, сотканного из несовместимых как будто крайностей.
38 Члены актерской корпорации воспринимали политику Луначарского порой весьма активно. И при этом все больше втягивались в ее русло. Тревоги улеглись после первой же встречи с наркомом. Она состоялась 17 января в Зимнем дворце и длилась около трех часов77*. Луначарский предложил «почетный мир» и консолидацию на деловой основе. Пашковский вспоминал, что нарком осведомился об участниках оппозиции. В ответ были названы имена тридцати пяти актеров. «Ну, друзья мои, — сказал Луначарский, — как ни грустно, но без них нам Александринский театр не нужен»78*.
Мичурина в мемуарах передавала суть его тогдашних напутствий: «Театр ни в коем случае не может быть закрыт. Именно теперь нужно начать работать особенно дружно. Наркомпрос всегда будет на страже интересов театра»79*.
Луначарский гарантировал александринцам автономию и посоветовал создать временный комитет по управлению театром. Комитет был избран в тот же день. Туда вошли Вивьен, Пашковский, Смолич, Судьбинин и бутафор А. О. Соков, занимавший потом ответственные административные посты в Театре госдрамы. Назавтра, 18 января, временный комитет кооптировал в свой состав Мейерхольда, Новинского, Панчина, Ракитина и Уралова, а также избрал комиссию по выработке проекта автономии80*. Лаврентьев сложил с себя обязанности председателя исполкома и вскоре покинул театр.
Опираясь на временный комитет, Луначарский стремился сохранить и объединить труппу. Многие из былых «непримиримых» остались в театре. Юрьев в своих «Записках» вполне объективно признавал, что Луначарский немало способствовал «умиротворению страстей»81*.
Не обошлось без потерь, подчас чувствительных. Старейшина и слава труппы В. Н. Давыдов в январе 1918 года ушел в товарищество артистов бывшего Суворинского театра, весной отправился в трудную поездку по стране и надолго застрял в Архангельске, оккупированном англичанами. Он возвратился в Александринский театр только весной 1920 года, после освобождения Архангельска, обратившись к Луначарскому с письмом о помощи. «Маститый артист б. Александринской сцены пишет, что безумно тоскует по столице Советской республики — Москве и всей душой рвется к ней», — сообщал в этой связи 39 орган Театрального отдела Наркомпроса82*. Через месяц старый мастер был уже в Петрограде. Печать оповещала: «На днях вернулся в Петроград после двухлетнего с лишком отсутствия заслуженный артист Академического драматического театра В. Н. Давыдов»83*. Еще через несколько дней он переступил порог родного театра. Как сообщала хроника, «25 июня в бывшем Александринском театре состоялась торжественная встреча, при поднесении хлеба-соли, заслуженного артиста В. Н. Давыдова по случаю его первого появления в стенах театра»84*.
Уехали за границу Е. Н. Рощина-Инсарова и Н. Г. Коваленская. Главным образом творческими интересами был вызван временный уход Ю. М. Юрьева. В марте 1918 года Юрьев пришел к Луначарскому с идеей организации Театра трагедии, встретил поддержку и тотчас начал готовить постановку «Царя Эдипа» на арене цирка Чинизелли. Премьера состоялась 27 мая с участием александринцев Е. И. Тиме, Н. М. Железновой, Е. П. Студенцова, Н. С. Барабанова и др. Ставить спектакль должен был А. Н. Лаврентьев, но он перешел в Театр художественной драмы, созданный на месте Литейного театра. Режиссировал в Театре трагедии А. М. Грановский, который стажировался у Макса Рейнгардта и имел опыт драматических постановок в цирке.
К началу 1919 года Юрьев вошел в число организаторов Большого драматического театра. В день открытия, 15 февраля 1919 года, Юрьев играл маркиза Позу в «Дон Карлосе» Шиллера. Последний раз Юрьев выступил на этой сцене 24 декабря 1920 года в «Отелло»85* — и затем возвратился в Александринский театр.
Еще раньше, в июне 1919 года, вернулся Евтихий Карпов; он занял должность очередного режиссера. Его первой постановкой по приходе явилась пьеса Горького «На дне». 11 июня 1920 года он вновь стал управляющим театром.
Таков был счет потерь; через два года самые существенные оказались возмещены.
Но и на первых порах Александринский театр преодолел многие трудности. Он по-прежнему не мог жаловаться на равнодушие зрителей. «Несмотря на тягостные условия (отсутствие топлива и т. п.), театры продолжают служить искусству, и даже посещаемость их публикою не падает», — сообщала хроникерская заметка86*.
21 января 1918 года труппа постановила прекратить спектакли в «Аквариуме», перешедшем к тому времени в руки городских 40 властей. Это постановление не понадобилось проводить в жизнь: инцидент разрешился мирным путем, и александринцы вполне легально продолжали играть свой репертуар в «Аквариуме».
1 февраля, по новому стилю 14-го (новый стиль был введен как раз в этот день), труппа с участием Луначарского обсудила доклад Пашковского о проекте автономного устройства. Нарком поддержал проект: «А. В. Луначарский сказал, что он не видит ни одного пункта, из-за которого может быть расхождение, что он всегда был того мнения, что люди, творящие искусство, могут сами управляться»87*. В поддержку проекта выступил и Мейерхольд.
А 16 (3) февраля Александринский театр дал первый спектакль для рабочих и солдат. Слово перед занавесом произнес Луначарский — об этом его просил комитет. Затем исполнялся «Ревизор». Актеры, как сообщал отчет, наслаждались вместе со зрителями, и спектакль прошел «подобно празднику возрождения». Театр «радостно сиял в этот вечер… вот как комиссар Луначарский»88*.
Контакт налаживался. Мало-помалу жизнь театра начала входить в ровную колею.
РЕПЕРТУАРНЫЕ ПРИЗНАНИЯ
Репертуар Александринского театра в 1917 – 1921 годах был внушителен. Классика преобладала. За четыре сезона прошли «Недоросль» Фонвизина, «Горе от ума» Грибоедова, сборный пушкинский спектакль, «Маскарад» Лермонтова, «Ревизор» и «Женитьба» Гоголя, шестнадцать пьес Островского, пять пьес Тургенева и пять — Л. Н. Толстого, «Смерть Иоанна Грозного» и «Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого, инсценировки «Идиота» и «Преступления и наказания» Достоевского, трилогия Сухово-Кобылина, «Вишневый сад» Чехова, «Мещане» и «На дне» Горького, четыре пьесы Л. Н. Андреева. Исполнялись «Ипполит» Еврипида, «Венецианский купец» и «Усмирение строптивой» Шекспира, «Стойкий принц» Кальдерона, «Благочестивая Марта» Тирсо де Молины, четыре комедии Мольера, «Женитьба Фигаро» Бомарше, три трагедии Шиллера, «Дочь моря» и «Нора» Ибсена, «Флорентийская трагедия» Уайльда. Половина этого репертуара была поставлена заново или капитально возобновлена. Такой афишей Александринский театр давно не мог похвалиться.
41 Как правило, спектакли были добротны, обеспечены крупными исполнителями и достойно поддерживали традицию. Некоторые из них вместе с тем неизбежно отражали черты переходного времени. Менялся театр, менялся его зал, и те или иные реакции зрителей играли не последнюю роль в общих внутритеатральных делах.
В спектакле «Живой труп» перед дверью суда стоял городовой в парадной форме, с бляхой и тесаком. Изображал его бессловесный статист. При виде этого символа прошлого в зрительном зале «раздались аплодисменты, перешедшие в овацию, продолжавшуюся несколько минут». «Сам Шаляпин не видал таких оваций…» — добавлял хроникер89*. И в финале «Сестер Кедровых» (постановка 1914 года) определенная категория зрителей не скупилась на аплодисменты, приветствуя пристава — Уралова с городовыми, которые наводили порядок. Поэтесса И. А. Гриневская рассказывала: «Настоящую овацию сделали “городовому”, явившемуся для составления протокола в дом сестриц, тянущихся в буржуйный свет! Часть публики, более спокойная, лучше сказать, более революционная, едва могла успокоить контрреволюционный восторг остальной, большей части публики, истосковавшейся, очевидно, по городовому»90*. Как ни уныл, как ни безрадостен был этот символ старого «порядка», приветствия городовому, становому, уряднику одно время после Октября вошли в своеобразную традицию у реакционной прослойки зрителей.
Повинен ли был в том театр? Намеренно ли он разжигал страсти в зрительном зале? Только в той мере, в какой труппу изнутри раздирали центробежные и центростремительные силы. Точной оценке происходящего у актеров бывшей императорской сцены взяться было еще неоткуда.
Случаи с городовым на сцене особенно наглядны, случай с пьесой А. К. Толстого наиболее типичен. В условиях буржуазно-демократической республики спектакль Александринского театра дал повод к монархической манифестации. В дни Октября и «автономистов», и «непримиримых» увлекали разные уровни буржуазных свобод. В обоих случаях свободолюбцы бывшего императорского театра смотрели, конечно же, не вперед, а назад.
Ближайшие годы многое переменили в творческом сознании театра. Так или иначе, с той или иной степенью успеха он пробовал самоопределиться в новой современности, а попутно ответить и на вопросы первоначальной поры, остававшиеся без ответа. В частности, театр попытался взять реванш за овации городовому.
42 8 марта 1920 года на его сцене прошла двухактная комедия В. Я. Шишкова «Мужичок», рекомендованная Горьким. Действие происходило в современной, пооктябрьской деревне. Хозяйственный мужичок Панкратыч сетовал на невзгоды «военного коммунизма», вздыхал о добром старом времени. Фигура была почти автобиографической для театра. Чтобы старик опомнился, пришел в разум, сельские активисты, среди них дети Панкратыча, сговорившись, нарочно разыгрывали перед ним невероятное — возврат чаемого прошлого. Лютый становой пристав раздавал зуботычины, отбирал последнее. Панкратыч спохватывался, прошлое уже не улыбалось ему. Когда розыгрыш открывался, он с облегчением вздыхал, отплевывался и, браня свою серость, приветствовал новую жизнь. Такова была цель непритязательной комедии. Но достигалась она на сцене не вполне. Пьесу ставил П. С. Панчин, из «вторых режиссеров», редко получавший самостоятельные работы. Роли были распределены также среди «вторых актеров». Только А. П. Пантелеев в роли Панкратыча дал живой образ: его «мужичок» был себе на уме, занозист, не без мрачноватой хитрецы, а попадая из одной передряги в другую, весьма агрессивно отстаивал свои права, права труженика и собственника. Преимущества нового над старым доказывались путем выкладок «от противного», а окружающая разруха такие доводы сильно колебала. Было ошибкой ставить эту тему в том узкобытовом, однозначном плане, в каком она была задана. «Мужичок» прозвучал двусмысленно и сошел с репертуара сразу после первого представления.
Не многим счастливее сложилась судьба «Мужичка» в других театрах Петрограда. В мае пьесу сыграл как незатейливую притчу, с шутками и прибаутками, театр Марем (Мастерская революционной миниатюры). На роль Панкратыча был приглашен тот же А. П. Пантелеев. Новый театр под руководством А. Н. Борисоглебского в Смольнинском народном доме поставил пьесу с уклоном в характерность и жанризм. «Мужичок» шел и на открытии Московского Теревсата 7 ноября 1920 года. Действие развертывалось в приемах плаката. Но и бодрый теревсатовский финал разбивался о реальность деревенской жизни тех дней. Тонкости, политического такта недоставало ни самой пьесе, ни ее постановкам в разных театрах.
Неизмеримо острее развертывал сходную тему Маяковский в агитпьесе-раешнике «А что, если? Первомайские грезы в буржуазном кресле». Там тоже, как наваждение прошлого, врывался в советскую современность городовой. О нем грезил во сне, тоскуя по минувшему, буржуй Иван Иванович. И вот являлся рыкающий городовой Феодорчук, орал на обывателей, лезших к нему с объятиями, сбрасывал с себя, как насекомых, топал ногами, размахивал кулаком — и они, перепуганные, измордованные, уползали на четвереньках. Эффект был заведомо 43 балаганного свойства. Эту пьесу в том же 1920 году разыграла московская Студия Театра сатиры в постановке А. П. Зонова и Н. М. Фореггера. Александринцы о ней вряд ли слыхали. Еще осенью 1918 года они отвергли «Мистерию-буфф», тихо ужасаясь кощунствам поэта, и с тех пор их связь с Маяковским не имела перспектив. К приятию современности они двигались не путями богоборчества, а своеобразно понятыми путями христианского непротивления. Мистерия манила и их, но только без всякой буффонады.
Такой мистерией стала для александринцев легенда Л. Н. Толстого «Петр Хлебник». Они увидели в ней программный, исповеднический смысл. Богач, сердито бросив в назойливого нищего краюхой черствого хлеба, сам того не ведая, творил доброе деяние, которое перевешивало тяжесть его грехов. Просветленный благодатью, Петр раздавал имущество бедным, а себя продавал в рабство. Мыслью о постановке загорелся И. М. Уралов, актер «почвенной» складки, пришедший в Александринский театр в 1911 году из Московского Художественного, где с успехом играл городничего. Еще раньше он служил в петербургском театре В. Ф. Комиссаржевской — там и повстречался с Мейерхольдом, за ним последовал в студию на Бородинской. Идеями толстовства Уралов увлекся тоже давно и получил легенду о Петре Хлебнике еще до войны от наследников автора, — может быть, летом 1912 года, когда в устроенных толстовцами спектаклях для крестьян Тульской губернии он сыграл Ахова в комедии Островского «Не все коту масленица», вызывая «неудержимый восторг крестьянской толпы»91*.
Александринский театр показал «Петра Хлебника» 8 апреля 1918 года в постановке В. Э. Мейерхольда и декорациях А. Я. Головина, с музыкой Р. И. Мервольфа. Таинственным сумраком полнились древние жилища. Знойное небо, палящее солнце нависали над сонным базаром в Дамаске, лениво сновала пестрая разомлевшая толпа.
Постановщик сочетал «благостность стиля самой пьесы с задачами подлинного театрального представления. Условной и абстрактной схеме драмы режиссер подыскал соответствующие конкретные образы театральной выразительности. Умело размещая на сценической площадке персонажей и театральные аксессуары и пользуясь системой боковых сукон, он показал зрителям представление современного миракля»92*. Речь шла о не новой попытке Мейерхольда воскресить на сцене воображаемые приемы одной из давно ушедших театральных эпох. Попытка возбудила протесты непредвиденного характера: режиссера бранили 44 не за традиционализм, а за излишний будто бы реализм и за невнимание к «мистике» Толстого. «Весь подход к “Легенде” — определенно реалистический, — сожалела Б. И. Витвицкая, — все исполнение отдельных ролей противоречит мистической сущности “Петра Хлебника”»93*. Упрек разделяли другие рецензенты94*. А претензии были несостоятельны: ничего мистического пьеса не содержала, тем более не помышлял о мистике режиссер. Обоснованней звучали упреки другого рода: в преизбытке подробностей экзотической среды. «Картиной базара можно было любоваться, позабыв о пьесе, — писал В. П. Полонский. — Но это торжество декоративности, дополненное нежной музыкой Мервольфа, затуманило содержание легенды. Оно было подавлено красотой драпировок, яркостью живописи, этнографической роскошью быта, роскошью, для легенды ненужной и неприятной»95*.
Спектакль был узорчатей, «многословней», чем пьеса, аскетичная, зовущая к графике. Театр щедро вложил в нее все, что имел, стремясь передать мотивы покаянного приятия суровой судьбы. С полной верой в полезность своей проповеди талантливые актеры звали очиститься от скверны, отряхнуть прах прошедшего, обуздать гордыню и с легким сердцем войти в новую действительность. «Ни к одной роли, даже к гоголевскому городничему, я не подходил с таким трепетом, с таким благоговением, как к Хлебнику… — признавался Уралов. — Чувствую какой-то подъем, какое-то упоение ролью»96*. Актер играл вдохновенно, но не все стадии духовного преображения давались ему одинаково. Как раз жестокость богача этот могучий художник быта передавал много убедительней, чем последующую евангельскую кротость. По творческой природе, по самой фактуре Уралову были заказаны бесплотные краски. Материальное, плотское преобладало над духовным и во всем спектакле. Самым сильным оказался образ юродивой. В единственном эпизоде Е. П. Корчагина-Александровская, по словам рецензента, «взволновала и передернула зал… И жути в ней много и вместе с тем ничего надуманного. Эта артистка — большой праздник и светлая радость в казенном театре»97*. Во многих 45 других актерских решениях на первый план вышла монотонная пластическая стилизация.
Сначала театр исполнял короткую легенду дважды в вечер, затем к «Петру Хлебнику» прибавилась двухактная пьеса Толстого «От ней все качества» — призыв к всепрощению. Уралов играл темного мужика Михаилу, Судьбинин — простоватого Прохожего.
«Как хорошо передает Уралов Михаилу, — писал драматург Д. Я. Айзман. — Идет бить жену. Свиреп. Прохожий — щуплый и голодный — загородил дорогу:
— Не позволю эксплоатировать женский пол!
Отшвырнуть бы его Михаиле ногой, как надоедливого котенка. Но Михайло озадачен. Изумлен. И обрадован. И счастлив. Ах, как же это хорошо, что не дают ему бить жену! Ведь его жена — “первый сорт”. И слава богу, что помешал Прохожий совершить злое дело.
Г. Уралов в этой сцене очень хорош»98*.
Толстовский спектакль должен был показать целительную силу милосердия, чудо рождения «богочеловека». Но чуда на сцене не произошло. То, что было тогда задушевной исповедью александринцев, не встретило ожидаемого отклика у зрителей: зал, обычно переполненный, здесь пустовал.
И порыв, и его невоплощенность были симптоматичны. Обнаружилось, что не на путях покаянной мистериальности могла идти творческая перестройка труппы. В этом чуть раньше убедился московский театр Незлобина, ставивший «Петра Хлебника» на иконописный лад. В этом удостоверился Московский Художественный театр, который в 1918 году начал было репетировать другую пьесу-притчу Толстого, «И свет во тьме светит», но после года работы остыл к пьесе. Впрочем, это не помешало Вахтангову готовить со Второй студией МХАТ толстовскую «Сказку об Иване-дураке и его братьях» в инсценировке М. А. Чехова (1919), направленную против войны братоубийственной и корыстной.
Александринцы оставались богобоязненными, даже рассуждая о социализме. Они искренне искали переклички с вопросами дня в сентиментальной драме Т. А. Майской «Над землей». Пьеса, написанная вскоре после революции 1905 года, содержала весьма наивные разговоры о социалистическом будущем. Надежда примирить религию и социализм составляла ее пафос. В свое время пьеса не была допущена на сцену. Этого казалось театру достаточным, чтобы приурочить премьеру к первой годовщине Октября. Постановка даже встретила противодействие у наиболее консервативных элементов труппы. Между тем прекраснодушные мечты героев — Анатолия Луганова (П. И. Лешков) 46 и его юной воспитанницы, которая звалась Сестренка (М. А. Ведринская), — сбивались на декламацию дурного тона. Как писала Майская, они жили «над землей в каком-то экстазе духовного творчества, верующие в пришествие богочеловека на землю»99*. Им противостояли благополучные обыватели-интеллигенты. Прочно «на земле» покоились бескрылый поэт Орловский (Н. Л. Южаков), художник с кавказским акцентом Азбеков (А. С. Любош), недалекий профессор Дрейлинг (И. В. Лерский) и прочие ходовые типажи. На свой лад томилась Анна Луганова, сестра героя. Переболев иллюзиями, она находила выход в черной работе земского врача. В. А. Мичурина средствами тонкого и умного искусства сообщала роли дыхание жизни, особенно в сцене финального ухода. «Единственное место в пьесе, где весь зал захвачен», — писал после премьеры К. К. Тверской100*. «Из исполнителей неподражаема Мичурина», — подтверждал отчет о спектакле, шедшем для красноармейцев101*. В остальном трафаретная постановка И. А. Стравинской тяготела к театру настроений. Все же спектакль свидетельствовал о пробудившемся интересе театра к вопросам социализма, о попытке дать нечто созвучное Октябрю, и в этом была обещающая черта. Поднимались же вопросы, далекие от реальности: театр и сам еще витал «над землей».
Ту же благочестивую кротость и узость театр проявил, показав ко второй Октябрьской годовщине пьесу Д. Я. Айзмана «Светлый бог». Напечатанная в 1908 году, она еще дальше отстояла от проблем современности, целиком принадлежала давно ушедшей поре, когда интеллигенцию манили искусы богоискательства. Действие происходило в Испании XIV века, героем выступал добросердечный пророк Альгамар, обновитель божественной веры на началах равенства и братства, признанный в народе мессией и гонимый официальной церковью. Многие в театре с испугом отнеслись и к этой пьесе. Понадобилась даже консультация ученых богословов. И хотя те не усмотрели в тексте ничего, что могло бы оскорбить религиозные чувства, актеры и режиссеры опасливо сторонились участия в постановке. «Светлый бог» стал спектаклем александринской «левой»: режиссуру взял на себя глава временного комитета Пашковский, роли исполняли Лешков (Альгамар), Вивьен (халиф) и др. В мессианской символике пьесы исполнители надеялись уловить ранние истоки социалистических идей. Снова революция и социализм рядились в религиозные одежды. Но противники 47 спектакля внутри труппы не соглашались и с такой робкой попыткой: они, как умели, защищали религию от социализма. Их стараниями «Светлый бог» был снят сразу после премьеры и больше не исполнялся.
Спустя три года критик Б. И. Бентовин вспоминал происшествие со «Светлым богом»: «Давно уже было известно, что среди александринских актеров имеется группа лиц — с Аполлонским и Стравинскою во главе — очень религиозных и культивирующих всякие обрядности… Как это ни странно, личная религиозность гг. Аполлонского, Стравинской с компанией отражается на репертуаре Александринского театра. Известна в общих чертах грустная история с пьесой Айзмана “Светлый бог”, которая не понравилась “богоносцам” Александринского театра, и они путем всяких угроз, интриг и суеверных запугиваний труппы заставили снять с репертуара эту интересную пьесу даровитого автора после первого же представления»102*. Критик сообщал и о других случаях «террора, учиняемого александринскими “богоносцами”».
Здесь нет нужды особо рассматривать взгляды актера Аполлонского и его жены Аполлонской-Стравинской, актрисы, режиссера и теоретика театра, автора книги «Христианский театр» (Спб., 1914). Достаточно обозначить их именами крайний фланг тогдашнего александринского консерватизма.
Основная же часть труппы занимала промежуточные позиции, предпочитала выжидательную тактику. В таких постановках, как «Петр Хлебник», «Над землей», «Светлый бог», Александринский театр обращался не к революционному народу, а всего лишь к интеллигенции, к старой столичной интеллигенции без столицы. Но именно оттого, что он и сам был частью этой растерянной интеллигенции, его субъективные положительные намерения на первых порах не всегда совпадали с объективными итогами. Новый зритель видел его спектакли по-своему, иные корректировал, некоторые отбрасывал сходу.
Поддержку демократического зрителя встречали другие тенденции репертуарных поисков, тенденции, которые опирались на коренные основы реализма Александринского театра. Признание, получаемое у верховного судьи искусства — народа, давало и театру надежные ориентиры на трудном перегоне от прошлого к будущему. Понятно поэтому, отчего Луначарский приветствовал даже скромные сдвиги в репертуаре, которые уже сегодня, сейчас могли представить реальную культурно-просветительную ценность для масс.
Наркома обрадовала, например, историческая хроника П. П. Гнедича «Холопы», шедшая в театре еще с 21 декабря 1907 года, а 23 сентября 1918 года радикально возобновленная 48 под наблюдением автора без прежних цензурных изъятий. События разворачивались в царствование Павла I, когда холопством были придавлены все классы общества, от крепостных до князей. Рост недовольства, отблески вольнолюбивых идей Французской революции (эти мотивы до Октября вымарывались цензурой) вели к вспышке дворянской «фронды», ознаменованной цареубийством.
Содержание пьесы рождало в зале сочувственный отклик. Тема по-своему была близка и актерам: среди участников были вчерашние «фрондеры», рядом с Мичуриной, Корчагиной-Александровской, Ураловым играли бывшие «непримиримые» Васильева, Потоцкая, Ге. Объективное звучание «Холопов» свидетельствовало о сдвигах в сознании исполнителей. Луначарский рассказывал труппе после премьеры, что смотрел спектакль вместе с двумя «сознательно революционными рабочими. Они остались в восхищении от театра, они говорили: как можно допустить, чтобы до сих пор не показывали этого рабочим! Они были, повторяю, в каком-то бешеном восторге, и не проходит дня, чтобы они не обращались ко мне с просьбой — покажите “Холопы” нашим товарищам». Луначарский добавлял, что теперь он гордится театром и его «добрыми намерениями обслуживать народ»103*. Спустя неделю он высказал эти мысли в печати104*. Ободренный успехом, театр в том же октябре показал в постановке Смолича продолжение «Холопов» — историческую хронику «Декабрист», прежде не исполнявшуюся. В ближайшие сезоны обе хроники, особенно первая, шли чаще других пьес. (Последнее представление «Холопов» состоялось 28 марта 1926 года).
Своими силами труппа возмещала нехватку режиссуры. Карпов, Лаврентьев, Мейерхольд покинули театр почти одновременно, хотя и по разным причинам. Режиссеров вербовали из среды актеров. Осенью 1918 года печать известила, что «в скором времени некоторым артистам государственной драматической труппы будет дано официальное звание режиссера. Кандидатом в режиссеры называют артиста Н. В. Смолича, поставившего только что пьесу Гнедича “Декабрист”. Артисты находят, что г. Смолич удачно справился со своей задачей, а потому его следует зачислить в постоянный кадр режиссеров, тем более что в настоящий момент в Александринском театре почти нет постоянных режиссеров»105*. Заметка характерна. Вопросы режиссерской смены решались опять-таки в среде актеров.
49 Что касалось данного конкретного выбора, он был вполне оправдан. Среди постановок Смолича ближайших лет были «Женитьба Фигаро» и «Заговор Фиеско». Декларативные спектакли той поры, когда александринцы собирались праздновать первую годовщину Февральской революции «Севильским цирюльником» Бомарше (постановке не дано было осуществиться)106*, получали непредвиденно позитивный отклик у революционно настроенного зала. Направленность таких спектаклей зал подчинял себе, регулировал своей бурной реакцией их звучание, брал их в союзники. В ноябре 1918 года театр выпустил две премьеры: упомянутую «Женитьбу Фигаро» с Горин-Горяиновым — Фигаро и «Вильгельма Телля» в постановке Долинова с Ге в главной роли. Обе премьеры выдавали расплывчатое понимание свободы и борьбы за свободу. Но уже «Заговор Фиеско», майская работа Смолича 1920 года, зрелая и строгая по мысли, свидетельствовала о том, что труппа о многом задумалась, многие вопросы решала заново. «Александринский театр безусловно одолел колоссально трудную задачу», — писал старый театральный репортер Мартын Двинский107*. Но и тонкий поэт М. А. Кузмин заявлял, что для Александринского театра «этот спектакль очень важен, более важен, чем это можно предполагать», ибо в нем открывались достижения и настоящего, большого искусства, и «доброй воли»108*. Играли республиканскую трагедию Шиллера молодой Студенцов, Ведринская, Домашева, Тиме, Ге, Лешков, недавно вступивший в труппу В. А. Бороздин.
Преобладающее место на афише занимала отечественная классика. Мастерство труппы сверкало прежде всего в пьесах Островского. Исполнители нередко выступали и авторами спектакля. Крупным событием была, например, постановка «Леса», осуществленная Н. С. Васильевой и Н. П. Шаповаленко (премьера — 7 декабря 1918 года). Заигранная пьеса, которая в старом императорском театре, по признанию В. А. Теляковского, служила «дежурным блюдом» на случай всяких экстренных замен109*, теперь исполнялась в лучших заветах реалистической школы. Шаповаленко был участником первого представления «Леса» в Александринском театре (1871) и играл тогда мальчика Тереньку. Теперь он выступал в роли Аркашки Счастливцева. Васильева играла Гурмыжскую, Уралов — Восмибратова, Малютин — Несчастливцева. Спектакль стал энциклопедией опыта актерских поколений. «В Государственной драме лучшие сборы делает “Лес” Островского», — сообщала театральная 50 хроника110*. Подобных актерских праздников было много в тогдашнем Александринском театре.
Пьесы русского классического репертуара позволяли не потеряться, не потускнеть искусству актеров, помогали сблизиться с новым, пролетарским зрителем. Особенно много значили для александринцев встречи с Горьким, чьи пьесы прежде не имели доступа на императорскую сцену.
С ГОРЬКИМ…
Свой первый горьковский спектакль труппа сыграла через несколько дней после падения самодержавия. 26 марта 1917 года, когда Александринский театр уже сложил с себя звание императорского и стал государственным, на сцене Михайловского театра в постановке Карпова шли «Мещане» — спектакль в пользу Литературного фонда.
Многое говорило о радостном подъеме среди участников, о новых открывшихся возможностях и ожиданиях. Играла почти сплошь молодежь: Лешков — Нил, Домашева — Поля, Вивьен — Петр и другие. Роли стариков Бессеменовых и Перчихина исполняли маститые Уралов, Чижевская, Кондрат Яковлев. Молодежь преобладала и в зрительном зале. Казенный театр словно помолодел. Свежим воздухом повеяло уже на генеральной репетиции. «Артисты точно воспрянули духом, — говорилось в отчете “Петроградского листка”. — Опытные и молодые, первоклассные и вторые — все они объединились в дружном и темпераментном созидании благородных театральных ценностей… Близкая к жизни инсценировка “Мещан” вместе с тем далека от грубого натурализма. В наиболее характерных сценах сквозит простая житейская правда»111*. Постановка «Мещан» и впрямь обозначила серьезный шаг на пути от театра императорского к театру народному.
В спектакле были принципиальные по тем временам актерские удачи. «Особенно порадовал… Лешков — яркой, в деталях продуманной передачей роли Нила», — писал анонимный рецензент «Петроградского листка». Критик «Речи» находил, что «Лешков — жизнерадостный пролетарий Нил» — играл «увлекательно». Это не вызвало, впрочем, особого восторга у кадетского критика. Он воспринял романтический пафос Лешкова как «напыщенную декламацию»112*. Еще один недоброжелатель спектакля, Россовский, жалел, что Уралов и Чижевская были далеки от идеализации стариков Бессеменовых. Бессеменова он защищал, считая его «главным действующим лицом пьесы», и 51 сердился на актера, не расположенного к персонажу. Огорчала его и Чижевская, которая «изображала жену Бессеменова вопленицей и несимпатичной старухой»113*.
Было естественно, что буржуазная печать порицала обещающие, пусть слабо выявившиеся пока тенденции спектакля, где молодой, жизнерадостный Нил усмехался над миром «бессеменовщины». Для театра же был тут трудный отказ от иных привычных взглядов и исхоженных троп. Не поспевая за бурными событиями, он медленно эволюционировал, раздираемый внутренними противоречиями.
23 февраля 1918 года «Мещане» впервые шли на основной сцене Александринского театра. По красноречивому стечению обстоятельств новый герой — пролетарий Нил — шагнул на подмостки старейшего русского театра в день боевого крещения Красной Армии. Но то, что год назад представлялось театру и зрителям ошеломляющим новшеством, уже никого не могло удивить. Условия изменились. Теперь куда отчетливей, чем прежде, выступили в спектакле уязвимые места. Они были не те, какие в свое время находили здесь критики, огорченные излишней якобы радикальностью подачи. Развитие революции не отразилось на развитии трактовки; напротив, обнаруживалась непоследовательность и робость утверждающей темы спектакля.
Становилось ясно, что Лешков лишь приближался к воплощению замысла драматурга: у Нила за минувший год будто поубавилось страстности, его призывы уже не звучали так запальчиво, как прежде. Другой исполнитель, А. С. Любош, выделял комедийные моменты в своей игре, изображал Нила добродушным балагуром. Зрителям, в результате, особенно запомнился комедийный дуэт второго акта, разыгранный Любошем в паре с Домашевой — простоватой и смешливой Полей. Резервы оптимизма в спектакле, впрочем, были невелики, их главным носителем выступал незлобивый, умилительный Перчихин — Шаповаленко. Упор был сделан на жанровые детали, на изображение быта, на экзотику «темного царства». Мир мещан оказался всепоглощающим содержанием зрелища, хотя Уралов и Чижевская, играя стариков Бессеменовых, по-прежнему были далеки от их поэтизации. Черты неврастеничной вялости, потерянности Петра передавал Вивьен. Театр словно колебался, обдумывая свой приговор прошлому, и судьей выступал мрачный скептик Тетерев — Малютин.
Первый горьковский спектакль говорил о трудностях перестройки и о половинчатости решений. Возвращаясь к «Мещанам» теперь, после Октября, актеры-александринцы меньше 52 всего намеревались рисковать. Пьеса, возобновленная наспех Панчиным в сборных декорациях, была трактована достаточно односторонне. В театре еще только зрели силы, способные овладеть горьковской темой.
И все же спектакль, при всех противоречиях и даже как раз благодаря им, представлял собой факт конкретно-исторической жизни театра, уходящего от прошлого. Именно «Мещане», спорные и несовершенные, шли в торжественный вечер 27 марта 1919 года, когда страна — с отсрочкой на год — отмечала пятидесятилетие Горького. Юбилейный спектакль, организованный Петроградским Советом, собрал, как гласил газетный отчет, «переполненный зрительный зал из представителей политических, профессиональных и культурно-просветительных организаций». По словам газеты, после первого акта «Мещан» «на настойчивые вызовы зрителей в директорской ложе показался Максим Горький. Все как один человек поднялись с мест. Обширный театр задрожал от бурных оваций. Несмотря на утомление публики, вызванное двухчасовым опозданием, пьеса слушалась с неослабевающим вниманием. Актеры имели огромный успех»114*. То был достопамятный день в жизни всего советского театра.
Первоначально александринцы хотели ознаменовать этот день новым горьковским спектаклем — «Старик». Но постановка не состоялась: она опровергла бы богобоязненную кротость «Петра Хлебника» и «Над землей». 1 января 1919 года «Старика» сыграл Малый театр. Неуспех москвичей лишь утвердил петроградских актеров в их опасливой позиции.
Все же они расширяли творческие связи с Горьким. Постановка «Старика» отпала, но в июне 1919 года печать сообщала, что в репертуар Александринского театра включены «Враги» и «На дне». Обращение к «Врагам» было симптоматично. И хотя эта пьеса тоже не появилась тогда на основной сцене, она вошла в репертуар гастрольных поездок по провинции. В летних поездках сложились и контуры спектакля «На дне». Еще 5 июня 1918 года в Петрозаводске, на открытии местного Народного театра драмы под руководством Н. В. Петрова, исполнялась именно эта пьеса с участием Корчагиной-Александровской, Немировой-Ральф, Рашевской, Лешкова и самого Петрова в роли Костылева115*. А в день первой Октябрьской годовщины — 7 ноября 1918 года — пьеса была сыграна и в Петрограде, на сцене бывшего Литейного театра, где ее поставил с актерами-александринцами Е. П. Карпов.
53 В самом Александринском театре Карпов показал «На дне» сразу по возвращении. Премьера состоялась 14 октября 1919 года, «когда над Питером уже свистели пули»; для постановки «была мобилизована вся старая гвардия этого театра»116*. Так, языком военной сводки, сообщала печать об этом событии в городе-фронте.
Впрочем, боевым событием спектакль не стал. Карпов был озабочен натуралистической передачей быта. Тут и дверь скрипела совсем по-настоящему, и напильник в руках Клеща — Пантелеева резал слух надсадным скрежетом, и какое-то тряпье сушилось на веревках, словно распространяя едкий туман в сумраке ночлежки, — художник М. П. Бобышов помогал режиссеру. И некоторые исполнители передавали, главным образом, разбитые судьбы людей, жалких жертв жестокого времени. В самые патетические минуты Ге не давал забыть, что герой его Сатин пьян, и слова о гордом человеке звучали впустую. И когда Любош, игравший Актера, произносил романтические стихи из полузабытой роли, в его голосе звучала не разбуженная мечта о будущем, а воспоминание о невозвратном.
Романтизирован же в спектакле был Васька Пепел. Этот щеголь в яркой красной рубашке, кудрявый красавец-сердцеед походил у Лешкова на интеллигентного разбойника Сашку Жегулева из романа Леонида Андреева. Акценты соответственно смещались.
Значителен в спектакле был образ Луки. Благодушная трактовка Кондрата Яковлева, оттененная комизмом, не имела целью сознательного обличения «утешительства». Лука здесь был и в самом деле лукавый праведник, с плутоватым беспокойством щелочек-глаз, полысевший «от этих вот самых разных баб». В те годы это было ново и свежо.
Успех Кондрата Яковлева, удачи в бытовых ролях Корчагиной-Александровской (Анна), Ростовой (Василиса), Шаповаленко (Костылев) оказались главными достижениями спектакля. «Дым ночлежки не застелил их прекрасно выявленной сущности», — писал Г. М. Ромм117*. И не случайно эти четыре исполнителя были приглашены участвовать в спектакле театра Горохр на Троицкой, 13. Свою постановку «На дне» театр милиционеров Городской охраны готовил под наблюдением Горького и показал ее в праздничный вечер 7 ноября 1919 года. Тем самым Горький как бы авторизовал лучшие сценические воплощения александринцев.
Культурно-образовательная коммуна милиционеров революционного Питера с ее театром, где постоянно играли мастера 54 александринской сцены, и литературным кружком, которым с августа 1919 года до апреля 1921 года руководил Горький, представляла собой место тесного общения писателя и актеров. Посетители клуба позднее вспоминали, как Горький, в шубе и без шапки, наблюдал из первого ряда давно не топленного зрительного зала репетиции своей пьесы, обмениваясь мнениями с сидевшей рядом Корчагиной-Александровской. Порой он оставался на вечерние спектакли118*. Шедшие здесь пьесы — «Женитьба», «Бесприданница», «Горькая судьбина», «Дети Ванюшина» и другие, наряду с «На дне», много значили в системе культурно-просветительных мероприятий клуба. Корчагина-Александровская, Ростова, Тиме, Бороздин, Вивьен, Любош, Шаповаленко, Кондрат Яковлев — эти имена наиболее часто встречались в афишах театра.
Всего лишь год-другой миновал после эскапад «Аквариума» и Литейного театра. Далеким прошлым казались те времена. На сцене Горохра актеры брали своего рода искупительный реванш…
Горький занимал видное место и на афише летних спектаклей в Павловске, традиционных для старой Александринки. Но летом 1919 года Павловский театр перешел в ведение Горохра. В августе там шли «Дети солнца». Критика выделила несколько актерских удач, вплоть до Корчагиной-Александровской в роли няньки Антоновны. «Говорить ли о Корчагиной-Александровской и Шаповаленко? Что даст этим артистам исключительных дарований моя восторженная, искренняя похвала?» — писал Ромм. Похвалы заслужил и «прекрасный Чепурной — Малютин, сочный, характерный, на большой дороге артист»119*. Приветствуя постановку «Детей солнца», одну из первых на советской сцене, рецензент отметил «идейную цельность» репертуара нынешнего Павловского театра, где александринцы ставили Островского, Чехова, Горького.
Возникла новая традиция — постоянные выезды театра в рабочие, солдатские, матросские клубы и непосредственно на фронт. В январе того же 1919 года александринцы играли в Кронштадте «Грозу», «Не все коту масленица». После 20 мая, когда Петроград перешел на осадное положение и обычные спектакли прекратились, театр систематически играл для Красной Армии. В июне группы актеров продолжали обслуживать Кронштадт, форты Тотлебен, Красная горка, посетили Тихвин. На общем собрании 18 июля актеры постановили: «Все члены труппы обязаны участвовать в фронтовых спектаклях». Была образована комиссия «для равномерного распределения военно-театральной 55 работы между членами труппы»120*. Александринцы отправились в прифронтовой Новгород, в Новую Ладогу. Играли они главным образом русскую классику: Фонвизина, Островского, Сухово-Кобылина, Толстого, чеховскую «Хирургию». В декабре вывозили на районные и заводские площадки горьковских «Мещан» и «На дне».
Корчагина-Александровская получила 22 марта 1919 года удостоверение: «Предъявительница сего есть действительно стрелок команды специалистов (бывш. театральной) 3 Стрелкового полка Петроградской отдельной бригады Корчагина Екатерина, что подписью и приложением печати удостоверяется»121*. Подобные документы имелись у многих в театре. Подписью и приложением печати удостоверялся тот необыкновенный факт, что их искусство поступило на вооружение революционного народа.
В условиях города-фронта крепли связи александринцев с советской современностью. Под воздействием трудной, стремглав менявшейся жизни совершались обновляющие сдвиги в опыте и сознании. Горьковское в театре, при всех несовершенствах подхода, больше всего определяло новое в творческом мировоззрении.
Отзвуком тогдашних выступлений Горького в защиту мелодрамы, воспитывающей прямые и чистые чувства масс, явилась речь Вивьена на заседании репертуарной секции Тео Наркомпроса. Блок, председатель секции, помянул эту речь в дневнике122*. Вскоре александринцы сыграли один из классических образцов мелодрамы — «Парижских нищих». Премьера состоялась 2 октября 1919 года в Михайловском театре. Ставил спектакль Р. Б. Аполлонский, оформлял М. П. Бобышов. Играла преимущественно молодежь.
Из рук Горького театр получил в 1920 году и первые пьесы своего советского репертуара.
… И С ЛУНАЧАРСКИМ
За неудавшимся «Мужичком» Вяч. Шишкова последовала драма Луначарского «Фауст и город», показанная 7 ноября 1920 года. Эта «драма для чтения», как гласил ее подзаголовок, выдвигала перед театром задачи особой сложности. Режиссер Н. В. Петров, уже ставивший ее раньше в Костроме, создал свою редакцию текста. Ознакомившись с ней, Горький написал на первой странице пьесы: «Я нахожу, что сокращения сделаны 56 в достаточной степени умело: устранено почти все, что могло бы затянуть действие. Актуальность выигрывает, логика событий стала более рельефной. Уверен, что в таком виде пьеса будет иметь успех»123*.
Взяв один из мотивов второй части трагедии Гете, Луначарский изображал Фауста — основателя, строителя и главу свободного города. «Взаимоотношения этого детища гения с ним самим, решение в драматической форме проблемы гения с его стремлением к просвещенному абсолютизму, с одной стороны, и демократии — с другой» — так определил автор основную тему пьесы124*.
Вольный город воздавал должное мудрому, справедливому правителю, «первому работнику» Фаусту и все же свободу ставил превыше всего. Массу тяготила неограниченная власть герцога Фауста, просвещенный абсолютизм гения. Альтернативу, поставленную Фаустом: или его единовластие сохранится, или город лишится главы и подвергнется всем превратностям судьбы, — граждане решали в пользу народоправства. «Лучше свобода со всеми ее опасностями, чем самый мудрый господин», — отвечали они. И Фауст оставлял созданный им счастливый город. Но и в добровольном изгнании творец думал только о своем творении, о благе народа. В финале он возвращался — не как правитель уже, а как равный среди сограждан. Конфликт между творцом и силами, вызванными им к жизни, теперь был снят: созидатель растворялся в созданном им. Непримиримо проходил другой, побочный конфликт — между духом созидания, сплотившим Фауста и город, и духом разрушения, олицетворенным в образе барона Мефисто, царедворца-искусителя, зарящегося на душу Фауста. Победа Фауста над собой в ходе главного конфликта предрешала и его победу над Мефисто, который оказывался бессилен в изощренной борьбе за Фауста.
Философская природа пьесы, ораторский склад монологов и диалогов-диспутов, насыщенных литературными реминисценциями, не преследовали целей сценической действенности. Текст не был индивидуализирован: просвещенный герцог и простые рабочие изъяснялись одним и тем же авторским языком. Но имелась в «драме для чтения» тема, славящая созидательную мощь народа, зовущая людей творчества поставить свой талант на службу свободному обществу, слиться с массой в едином для всех деле. В том и состояла актуальность пьесы — она могла увлечь зал и самих актеров, многое испытавших и передумавших. Среди персонажей народных сцен имелся один, непокорный, анархически смятенный, с символическим именем Бунт. Эту роль играл недавно возвратившийся в театр Давыдов. 57 Факт был символичен сам по себе. Гордый уход Фауста и его мужественное возвращение старейшина труппы как бы пережил на собственном опыте за минувшие два года. Теперь Давыдов со славой дебютировал в советском репертуаре. «Удивительной силой воздействия обладал этот закованный в цепи старик с всклокоченной бородой и горящими глазами, мечтавший поставить свой “грязный стоптанный башмак на благовонный затылок” свергнутых властителей», — рассказывал много лет спустя участник спектакля К. И. Адашевский125*.
Главную роль играл молодой Малютин и «создал Фауста как раз таким, каким он должен быть по Луначарскому, — величавый спокойный старик, медленно двигающийся, неторопливый…»126* Одной из серьезных удач этого спектакля был Мефисто — Вивьен, «приятно поразивший своей мимикой, интонациями, а в особенности своими движениями, быстрыми и в то же время мягкими, дающими ему возможность как бы внезапно вырастать и исчезать»127*. Актеры, как это часто бывало в Александринском театре тех лет, вновь выступили соавторами драматурга.
Притом «Фауст и город» был одним из самых «режиссерских» спектаклей тогдашнего Александринского театра. Н. В. Петров, вернувшийся после трехлетнего отсутствия, ставил пьесу по собственному макету. Ее условно-метафорическую образность режиссер передавал конструктивным приемом, в системе сменяющихся «сукон» — белых некрашеных холстов, двух боковых монументальных колонн из такого же холста, шаровой полусферы, кубов и бесконечности ступеней. В прологе сразу определялись жанровые нормы мистериального действа, с событиями, происходящими на земле и над землей, с борьбой инфернальных сил за судьбу героя. Из кромешной тьмы высвечивалась фигура Мефистофеля — Вивьена (в дальнейшем действии он был бароном Мефисто). Враг творчества и свободы парил в сценическом поднебесье, над гигантской полусферой земного шара. Внизу скульптурно-пластическими группами располагался многочисленный хор. Его участницы и участники в одинаковых «метерлинковских» мантиях и балахонах изображали то хор птиц, сопровождавший монолог Мефистофеля, то шумы города, а потом — поющих монахов, обычных горожан и т. п. В финале спектакля сотни рук в едином порыве, организованном ритмически, вскидывались навстречу Фаусту. Седовласый, в позе библейского пророка, он распахивал объятия согражданам, и широкие складки мантии ниспадали к плоскости куба, на котором он возвышался над толпой. Эскорт знаменосцев на верхних 58 ступенях по бокам сцены представлял собой крылья сплошной массовой группировки, обрамлявшей явление Фауста. Это несколько напоминало знаменитую мизансцену «Эдипа» в постановке Макса Рейнгардта. В других местах отзывались мизансцены Гордона Крэга из мхатовского «Гамлета», опыты символистского «театра неподвижного действия», прежде всего постановки Мейерхольда в театре Комиссаржевской. В целом же образное решение отвечало природе пьесы и в то же время извлекало из нее скрытые ресурсы сценичности.
Революционная мистерия духа, поставленная Петровым, лишь в малой мере опиралась на предшествующие мистериальные пробы Александринского театра; в гораздо большей степени она полемически опровергала их. Арнс в цитированной рецензии находил, что «детище А. В. Луначарского попало в хорошие руки, которые его тщательно и любовно выхолили», и отметил «уместность тянущихся вверх линий, спокойствие полутонов в освещении, в эффектной, гармонирующей с общим спектаклем музыке Шапорина, в движении масс и манере большинства отдельных исполнителей».
Премьера состоялась в тот же день, что и премьера мейерхольдовских «Зорь» в Театре РСФСР-1. При всех стилевых отличиях, совпадали некоторые подробности действия (и там и тут — борющийся за свои права свободный город, абстрагированная выразительность сценического убранства, хор в условной прозодежде, пророк, возвышающийся на кубе, и т. п.). Близка была и ораториально-митинговая природа двух зрелищ, которые славили свободу, звали к революции в душах.
Одновременно, в те же ноябрьские дни 1920 года, актеры Александринского театра сыграли и другую пьесу Луначарского — «Канцлер и слесарь». Ее подготовили для выездных спектаклей, премьера прошла в театре Балтфлота. Роль канцлера исполнял Ге, слесаря Фрица Штарка — Берляндт, его отца Макса Штарка — Шаповаленко и Бороздин, Франка Фрея — Горин-Горяинов и Пашковский. Последний выступил и постановщиком спектакля128*. Через три года, к шестой Октябрьской годовщине, пьесу заново поставил на основной сцене Смолич, сохранив некоторых прежних участников.
Союз с Луначарским из сферы административно-организационной перешел в сферу творчества. Еще несколько лет спустя, в 1925 году, театр показал его пьесу «Яд», посвященную советской современности, за ней — обработанную Луначарским пьесу Эдуарда Штукена «Бархат и лохмотья» (1927).
Что же касалось организационно-управленческой структуры, она все это время менялась по мере творческой перестройки театра. Сезон 1918/19 года начался на подъеме. «В Александринском 59 театре кипит работа… Среди артистов царит бодрое настроение. Все работают не за страх, а за совесть. “Начальства” теперь нет, но каждый ответственен перед самим собой», — сообщал хроникер129*. Правда, бодро начатый сезон оказался самым трудным в истории Александринского театра. Подъем разбивался о невзгоды военной зимы. Холод на сцене и в зрительном зале, голодный паек, нехватка одежды, стояние в очередях, болезни изматывали труппу, отражались на уровне творчества и прочности репертуара. Замены исполнителей и целых спектаклей становились бедствием. Перед зрителями в шубах и валенках актеры в легких летних платьях делали вид, что изнемогают от зноя, отирают платком пот со лба, а в это время у них зуб на зуб не попадал от холода. В 1919 году скончались А. Ф. Новинский, И. И. Судьбинин, в 1920-м — Н. С. Васильева, И. М. Уралов и еще несколько актеров. С их смертью театр понес ощутимый урон. То были в полном смысле слова фронтовые потери. Но невзгоды театр разделял со всеми петроградцами, не сдавался, проявлял поистине героическую стойкость. И. С. Розенберг писал: «В зрительном зале казалось, что все на сцене идет нормально. Если бы зритель хоть на десять минут заглянул за кулисы, например, Александринского театра, прислушался к разговорам артистов и увидел, в какой обстановке им приходится играть, он наверно преклонился бы перед их выдержкой и выносливостью»130*. Что бы ни происходило, спектакли шли своим чередом.
Они прервались 20 мая 1919 года, с переходом Петрограда на осадное положение, не по воле актеров.
В это время и осуществилась реформа управления театром. Прежний временный комитет, который затем именовался советом русской драмы, отныне был упразднен. Взамен была учреждена директория с выборными представителями театра и с представителями, назначаемыми сверху. В состав директории вошли управляющий государственными театрами Экскузович, актеры Аполлонский, Лешков, Пашковский и бутафор Соков. Первое время функции художественного руководства театром осуществлял Аполлонский. Но уже 15 октября 1919 года из состава директории выбыл Пашковский, и избранный вместо него Смолич фактически возглавлял театр до конца сезона. Директория просуществовала недолго. 11 июня 1920 года она была распущена. Коллегиальное управление сменилось единоначалием. Управляющим театром стал Карпов.
Тот факт, что столь ответственный пост был доверен недавнему вдохновителю «непримиримых», уже сам по себе выказывал 60 политическое остроумие Луначарского. Главный ревнитель автономии занял кресло единоначальника. С остатками «фронды» было покончено. Формы руководства театром становились стабильными.
И хотя эклектичная художественная практика Карпова во многом не отвечала запросам современности, стабилизация организационной структуры была принципиально важна как итог терпеливой, подсказанной жизнью перестройки. Она означала полное саморазоружение «усердных автономистов», как их впоследствии назвал Луначарский131*, и, говоря его же словами, — начало действительного перехода Александринского театра «на советские рельсы».
Широкий зритель любил этот театр, его актеров. Сезон 1920/21 года открылся «Ревизором» с Давыдовым — городничим. В марте для первого выхода Юрьева новый в театре режиссер Н. Н. Арбатов поставил «Коварство и любовь». Переполненный зал собирали и другие премьеры: «Без вины виноватые» и «Нора» в постановке Карпова, «На всякого мудреца довольно простоты» и «Царь Федор Иоаннович» в постановке Арбатова, «Светит да не греет» в постановке Панчина. Охотно посещались спектакли прежних лет: «Недоросль», «Женитьба», «Провинциалка», «Свадьба Кречинского», «Последняя жертва», «Шутники», «Заговор Фиеско», «Шут Тантрис», пьесы Леонида Андреева «Екатерина Ивановна», «Профессор Сторицын», «Тот, кто получает пощечины». Среди участников были Ведринская, Домашева, Корчагина-Александровская, Мичурина, Потоцкая, Тиме, Чижевская, Аполлонский, Бороздин, Вивьен, Ге, Горин-Горяинов, Корвин-Круковский, Лерский, Лешков, Любош, Малютин, Смолич, Усачев, Шаповаленко, Кондрат Яковлев.
Резонанс искусства александринцев выразительно передала короткая заметка «Известий Петроградского Совета» от 28 января 1921 года: «Ввиду чрезмерного переполнения лож в Академических театрах, грозящего катастрофой, управление театров отдало распоряжение о недопущении в ложах более семи человек».
Искусство академической сцены теперь принадлежало народу.
61 Глава третья
МАЛЫЙ ТЕАТР И РЕВОЛЮЦИЯ
УСТОИ
Трудный путь к новому жизненному содержанию своего искусства Малый театр совершал не быстрее, но планомернее, чем другие бывшие императорские театры. Он двигался к этому новому без крутой ломки устоев и — сравнительно с Александринским театром — без болезненных внутренних встрясок. Все в опыте «дома Щепкина», «дома Островского» подготовило переход на сторону революционного народа.
Во-первых, сказался общий демократизм московской театральной жизни — очевидный в сопоставлении с порядками официального Петербурга.
Во-вторых, к такому переходу вела народность прославленных мастеров Малого театра, их доподлинное знание народной жизни, русского национального характера. Реализм Щепкина, Садовского, Федотовой, Ленского, развиваясь исторически закономерно, поднимал театр, вырабатывал сознательное, критическое отношение к действительности и звал вперед.
В-третьих, к этому вела романтическая струя его искусства. На разных перекатах пути она выливалась в творчестве Мочалова, Ермоловой, Южина, воспитывая в зрителях, да и в труппе, гражданственность мысли и чувства. Южин определял реализм своего театра как единство быта и романтики.
В-четвертых, вела к тому и общественно-просветительная миссия Малого театра — второго университета Москвы, очага передовой русской культуры.
Недаром Луначарский утверждал в 1921 году, что пролетариат начнет строить новое театральное искусство, опираясь, скорее всего, на классический опыт Малого театра, как музыку он начнет, скорее, с подражания Бетховену132*.
Качества народности, гражданственности, просветительства были помножены на таланты и мастерство отборной труппы.
В первый октябрьский сезон труппу Малого театра возглавляли выдающиеся мастера: М. Н. Ермолова, Е. К. Лешковская и О. О. Садовская, О. А. Правдин и А. И. Южин. Рядом с «заслуженными» играли А. А. Левшина, В. О. Массалитинова, Е. И. Найденова, В. Н. Пашенная, В. Н. Рыжова, Н. А. Смирнова, Е. Д. Турчанинова, В. А. Шухмина, А. А. Яблочкина, С. В. Айдаров, А. В. Васенин, С. А. Головин, М. М. Климов, В. Ф. Лебедев, М. Ф. Ленин, Н. Н. Музиль, А. А. Остужев, И. А. Рыжов, П. М. Садовский, Н. К. Яковлев и др.
Малый театр искони были театром драматурга, театром актера, собственно — в первую очередь театром актера. От поколения 62 к поколению передавались традиции, навыки, почерк. Содержательную родословную вел ансамбль, где преданность правде, гражданственность чувств не подавляют индивидуальное в актере, а, напротив, предполагают богатство талантов, требуют ярких вспышек. Горение актера становилось действенной силой спектакля, наряду с выразительной подачей роли, с искусством пластической и речевой характеристики. Слово, живая московская речь были в числе положительных героев на подмостках Малого театра, в творчестве таких, например, мастеров, как О. О. Садовская — неподражаемая исполнительница старух в комедиях Островского, как ее сын П. М. Садовский. «Пров Второй», наследник своего прославленного деда в ролях романтических и бытовых.
Театр прочно оберегал традиции — ими в самом деле стоило дорожить и гордиться. Опора на них давала стойкость в испытаниях временем, они были условием самобытного развития в будущем и мерилом оценок для тогдашней критики. Именно здесь прежде всего скрещивались критические клинки.
Расположенная к этим традициям критика утверждала: «Малый театр является единственным из всех государственных театров, сохранившим на протяжении всего года революции свой художественный облик; Малый театр — единственный из всех государственных театров остался верен всем заветам и традициям»133*. Такого рода оценки, минуя привходящие частности, несколько приукрашивали истинное положение вещей. Имелся и резко противоположный взгляд на Малый театр, на жизнестойкость его опыта: традиция «испепеляется, становится преданием и, никакой действенной силы за собой не сохраняя, неизбежно делается легендарной… Старую традицию в Малом театре некому теперь поддерживать, ибо, когда оборвется блестящее творчество Ермоловой и Садовской, никто не придет сменить их на славном посту»134*. Как оказалось, столь пессимистические выводы и вовсе не имели под собой почвы.
Все же они повторялись часто и звучали воинственно. Лидер «театрального Октября» В. Э. Мейерхольд в известной статье «J’accuse!», принимая обличительную позу Золя, противопоставлял былому «дому Щепкина» Малый театр 1920 года, бросал не лишенные демагогии упреки в утрате традиций, актерских и репертуарных. «Я обвиняю тех, кто, прикрываясь фетишизмом мнимых традиций, не знает способа охранить подлинные традиции Щепкина, Шумского, Садовских, Рыбакова, Ленского». Считая же, что текущий репертуар засорен там второсортными 63 пьесами, В. Э. Мейерхольд настаивал: «Малый театр, я утверждаю, систематически и планомерно разрушает “Дом Щепкина”»135*.
Но подобные упреки уже тогда, при всех трудностях творчества и быта, разбивались о непреложные факты. Трудности были велики. Их усугубляли своими нападками на старое искусство ниспровергатели наследия. Многим из тех, кто хотел немедленно строить новое, революционное, недоставало выдержки, проявленной Луначарским. Малый театр находился под обстрелом. «Дом Островского» предлагали отдать на слом, и разве что самые великодушные из «левых» соглашались терпеть его как «музей Островского».
В первый октябрьский сезон классика определяла репертуар Малого театра. Раньше, до революции, такого не было. «Впервые за все время существования этого театра классика составляла 65 процентов всех спектаклей», — отмечал В. А. Филиппов136*. По его данным, в следующем сезоне процент поднялся до 98. Это ничуть не походило на засоренность репертуара.
В труппе спаянной, династически замкнутой, роли и трактовки наследовались по прямой линии. Когда покинула сцену Г. Н. Федотова, ее поздние роли — Чебоксарова («Бешеные деньги»), Мурзавецкая («Волки и овцы»), Звездинцева («Плоды просвещения») — перешли к А. А. Яблочкиной. Когда в 1919 году скончалась О. О. Садовская, ее репертуар переняли другие замечательные «старухи» Малого театра — В. Н. Рыжова, В. О. Массалитинова. Естественно, ни Федотову, ни Садовскую нельзя было повторить или заменить вполне, но традиция переходила из рук в руки, живая и обновляющаяся.
«Музейное» искусство Малого театра на деле доказывало свою жизнеспособность. Тот же репертуар Островского обновлялся, испытывая влияние нового зрителя, новой общественной среды. Объективные, от личных склонностей исполнителей не зависевшие воздействия самого исторического хода обстоятельств исподволь переворачивали устоявшееся в искусстве. День ото дня менялись акценты, интонации; образы получали непредвиденные социальные краски.
В давнем спектакле «Без вины виноватые» Ермолова — Кручинина, не поступаясь драмой страдающей матери, с возросшей гражданской скорбью несла мысль о достоинстве актера, о назначении театра, и в зале это воспринималось как приговор былому общественному неравенству. «Ермолова, играя Кручинину, все время художественно корректирует Островского… — находил рецензент. — И с какою простотою, с какою скупостью на сценические эффекты, даже на жесты, достигается все это 64 Ермоловой! Вот совершенный образец сценического реализма»137*. Правдин, играя скромного учителя Корпелова в «Трудовом хлебе», позволял увидеть в чудаковатом герое обличителя социальной несправедливости, давал ощутить гордое превосходство человека труда, разума, чести над богатыми бездельниками, что опять-таки находило сердечный отклик в обновившемся зрительном зале. Одна из послеоктябрьских премьер — комедия «Бешеные деньги», показанная 20 декабря 1917 года в постановке Е. А. Лепковского с участием Правдива, Южина, Садовского, Максимова, Яблочкиной, Гзовской, — позволяла говорить о «безнравственности» дворянско-буржуазного уклада138*, и силой художественной правды критика с позиций морали оборачивалась критикой социальной.
Общегуманистические мотивы старых, давно игранных пьес часто воспринимались новым зрителем в сегодняшней социально-исторической определенности, получали дополнительный смысл, не лишенный соответствий с современностью. Пусть поначалу соответствия рождались у зрителей не совсем такие, какие подразумевали актеры, пусть взгляды на революционную современность расходились, — все равно, зал выступал истолкователем увиденного, слышал то, что ему надо было и хотелось услышать, вносил поправочный коэффициент, в конечном счете тоже корректируя звучание спектакля.
Новый зритель вел за собой старого актера, и искусство обновлялось, того не ведая. Зритель словно исполнял обязанности главного режиссера Малого театра. Характерная черта: в споре о традициях этого театра ни сторонники, ни ниспровергатели, будто сговорившись, не касались одного вопроса — о режиссуре. Даже Мейерхольд обошел его молчанием. Подразумевалось, что Малый театр никогда не был театром режиссерским.
И действительно, там издавна повелось, что ведущие актеры (иногда с помощью драматурга) сами толковали пьесу, ладили ансамбль, строили мизансцены. В этом состояла еще одна родовая особенность Малого театра. «Режиссер не имел власти, — вспоминала предреволюционные годы В. Н. Пашенная. — Партнеры, низшие по рангу, не только не имели права возражать высшим по рангу на репетиции, но не могли даже высказывать своего мнения без риска потерять место»139*. Так было и теперь, хотя бы на афише и значилось имя И. С. Платона, штатного режиссера, служившего здесь с 1892 года. Этот опытный мастер своего дела, знаток сценичности, в меру консервативный, остерегавшийся новшеств, был обречен укладом театра на подчиненную роль и раз от разу «умирал в актере» в достаточно безысходном 65 смысле этих слов. За редкими исключениями (о них речь впереди), твердая рука актера-вершителя давала себя знать в каждой очередной постановке.
Главой театра также был актер, пользовавшийся непререкаемым авторитетом в труппе, — А. И. Южин. Пост управляющего он занял еще в 1908 году, после смерти А. П. Ленского, и продолжал возглавлять театр в первом Октябрьском десятилетии, до кончины (с 1926 года он числился почетным директором Малого театра).
Когда пришла революция, Южин был знаменит и немолод. Теперь он играл уже Фамусова, Шейлока, Ричарда III. Он не был революционером. Но его политическая нейтральность все больше окрашивалась сочувствием к новому.
Симпатии к новому начали зарождаться на творческой почве. Едва ли не решающую роль сыграл опять-таки демократический зритель, полюбивший театр и полюбившийся театру.
«Нового зрителя, пришедшего в театр, можно только приветствовать, — заявлял Южин осенью 1918 года. — Для актера нет большего наслаждения, чем играть перед аудиторией, открывающей перед ним свои чуткие к прекрасному сердца. Об этом я говорил раньше. Ведь мне приходилось часто выступать перед таким искренним и жадным к красоте зрителем. Наоборот, ужасно играть перед зрителем блазированным, пресыщенным, перед так называемыми “знатоками”. Об этом тоже сложилось давным-давно мое мнение, еще тогда, когда этот вид зрителя господствовал в театре».
Южин настойчиво давал тут понять, что его симпатии к новому не внезапны, что они были подготовлены раньше, еще до революции, независимо от нее, а теперь только подтвердились. Ибо приветствия новому зрителю еще не означали безоговорочного приятия всей новизны современности в ее полном охвате. «Что нравится “новому зрителю”? — продолжал Южин и так отвечал на свой вопрос: — Я могу сказать смело, что действительно прекрасное. В этом отношении у нового зрителя есть настоящее чувство красоты. И я еще могу отметить: чем более лишен новый зритель в своем восприятии предвзятости, условностей и партийных шор, тем непосредственнее отдается театру, тем глубже и ярче его художественное наслаждение»140*. Таким образом, народности зрителя пока что противопоставлялась его партийность, будто бы ограничивающая эстетические эмоции, будто бы равнозначная предвзятости. Разумеется, здесь говорила о себе вовсе не преданность «чистому искусству», — им Малый театр никогда не обольщался, — а безотчетная боязнь неких неведомых «партийных» крайностей, чем-то грозящих свободе художника.
66 В этих приветствиях и в этих тревогах — весь Южин тех лет, откровенно выражающий позиции руководимого им театра. Но такого именно Южина, прямодушного художника и твердого правителя театра, почитала труппа, ценила советская общественность.
Сорокалетию деятельности Южина на московской академической сцене Луначарский посвятил статью «Староста Малого театра» (1922). Там говорилось: «Никогда А. И. Южин не скрывает своего политического лица. Ни в малейшей форме не занимается он хамелеонством, хотя бы только в оттенках. Ему присущ широкий внепартийный гуманный либерализм, за который он держится твердо. И его отношения к власти всегда полны достоинства. В нем чувствуется старый барин, аристократ от искусства, которому не к лицу хотя бы малейшая тень заискивания или лести… Поскольку А. И. убедился, что Советская власть искренне желает сохранить лучшее из прошлого искусства, он широко и полностью пошел ей навстречу, встал на путь самого искреннего делового сотрудничества»141*.
При всех парадоксальных особенностях портрет типичен для определенной актерской прослойки той поры. Сказанное можно отнести и к Ю. М. Юрьеву, крупному актеру-трагику, который в 1922 – 1928 годах возглавлял Ленинградский академический театр драмы (б. Александринский). Портрет свидетельствует о такте портретиста, о реальных трудностях руководства.
ВЕРНОСТЬ СЕБЕ
Падение царского режима застигло Малый театр, старый громоздкий корабль, в открытом море. А. И. Южин, его кормчий, осторожно прокладывал курс среди мелей и рифов кипящей современности. Груз добрых традиций давал устойчивость, но бури, бушуя вокруг, кидали из стороны в сторону тихоходное судно. В последние предреволюционные годы силы Малого театра тратились порой расточительно: верность традициям оборачивалась рутиной, а подмостки наводнял, тесня нетленные ценности, расхожий второсортный репертуар, поделки эпигонов-«бытовиков». Оглядываясь на те времена, театральная печать, даже нейтральная к революции, находила, что, сравнительно с его возможностями, «Малый театр в последние годы царизма влачил жалкое существование»142*.
Февраль всколыхнул было этот могучий организм, стряхнул путы чиновной опеки, отменил драматическую цензуру, принес самоуправление. В марте 1917 года театр откликнулся на события 67 спектаклем, составленным из фрагментов «Горя от ума», «Ревизора», «Доходного места». «Весь сбор поступает в распоряжение Московского Совета рабочих депутатов», — извещала афиша. Но настоящего обновления в театре не произошло. Как указывал обозреватель, после Февраля «ни расцвета, ни новой эры в смысле широких художественных достижений не оказалось. Автономия даже привела театры к упадку как художественному, так и материальному»143*. Говоря так, обозреватель имел в виду бывшие императорские театры Москвы, Большой и Малый.
О том, что обновления не состоялось, свидетельствовала, например, последняя премьера февральской поры — «Саломея». Пьеса Уайльда, прежде запретная для сцены, шла по выбору популярной актрисы О. В. Гзовской, которая в 1906 – 1910 годах начинала свой путь в Малом театре, а теперь поставила условием возвращения в него роль Саломеи. Хотя на афише режиссером значился И. С. Платон, фактически правила репетициями, как исстари велось в Малом театре, главная исполнительница. Н. А. Смирнова, игравшая Иродиаду, рассказывала: «Гзовская пришла к нам из Художественного театра, где работала по системе К. С. Станиславского. Она предложила нам начать работу с читки за столом, чего мы, актеры Малого театра, никогда не делали. Обычно мы после прочтения пьесы начинали репетировать прямо на сцене, читая роли по тетрадкам. Нам показалась очень приятной “работа за столом”. Но Гзовская гораздо интереснее читала роль, чем исполнила ее на сцене, и знаменитый “танец семи покрывал”, который имеет в пьесе большое значение, был неудачен»144*. Новшества застольным периодом и ограничились. В остальном «система Станиславского» оказалась ни при чем. Участники зрелища испытывали неловкость и не скрывали ее: «Все партнеры Гзовской в Малом театре не проявили ни любви к своим ролям, ни увлечения ими, отнеслись к ним поверхностно, как к обязанности, подчеркнув лишний раз, что Уайльд — не их сфера и их не интересует»145*.
Вдобавок премьера пришлась на 27 октября 1917 года. К ночи в Москве завязывались решающие бои: «Когда давали последний занавес “Саломеи”, на некоторых улицах города гремели выстрелы»146*. Смирнова вспоминала, как после спектакля она, «недоумевающая и испуганная, пробиралась вместе с Остужевым, держась близ стен домов… по темным улицам взбудораженной, тревожной Москвы»147*. «На улицах было огромное возбуждение — проносились грузовики, полные вооруженных 68 рабочих и солдат, раздавались выстрелы», — подтверждала Пашенная148*, которая играла Бьянку в уайльдовской «Флорентийской трагедии», шедшей перед «Саломеей».
Никакой связи с потрясениями жизни уайльдовский спектакль не обнаруживал, экстатический излом Гзовской — Саломеи пришелся не ко времени. Зрелище это и вообще было неорганично для Малого театра. «Саломея» и ее исполнительница ненадолго там задержались.
Трехнедельный перерыв в деятельности труппы, наставший после премьеры «Саломеи», оказался невольным: он был вызван обстановкой уличных боев. 4 ноября по приказу Военно-революционного комитета из театра ушли занявшие его две сотни красногвардейцев, и, «по приведении Малого театра в некоторый порядок», как писал в одном из деловых отчетов Южин149*, спектакли возобновились 21 ноября. Иначе говоря, спектакли прервались отнюдь не по мотивам саботажа, как это было в Александринском театре. Напротив, уже 7 ноября старого стиля работники Малого театра на общем собрании приняли резолюцию, где, в частности, говорилось: «Деятельность Малого театра как учреждения, служащего вечным задачам всенародного просвещения и художественной культуры, должна продолжаться без зависимости от переворотов политического характера и смен государственной власти и имеет быть возобновлена в кратчайший срок, как только будет восстановлена полная гарантия свободы деятельности всех культурных учреждений и печати и как только позволит возможное восстановление разгромленного помещения и расхищенного имущества театра»150*.
Через несколько дней совместная резолюция Большого, Малого и Художественного театров повторила эти положения почти дословно.
Другой пункт резолюции Малого театра касался автономии: «Впредь до выработки Основного статуса Московского Малого театра и утверждения его учредительным собранием или уполномоченным им органом, Малый театр действует и ведается на началах полного самоуправления выборными его органами, без всякого вмешательства в дело его управления каких бы то ни было учреждений или лиц, не входящих в его состав»151*. Самоуправление понималось буквально, вне контроля идеологических и даже финансирующих органов. Вскоре практика жизни продиктовала необходимые поправки к позиции Малого театра.
С разработкой основ автономии театр до сих пор не торопился. Еще в марте 1917 года была избрана комиссия по составлению 69 статута, во главе с Южиным. Теперь автономия виделась прибежищем от политических бурь, и Южин завершал «хартию вольности» в срочном порядке. Не во всех разделах она была осуществима, и это видел сам составитель. Как извещала хроника, «кн. А. И. Сумбатовым-Южиным выработан обширный статут Малого театра, который, однако ж, пока не будет проводиться в жизнь и два ближайших года будет заменен временным положением, составленным по основным положениям статута»152*. По материалам южинского проекта С. А. Головин, М. Ф. Ленин и И. С. Платон подготовили краткое «Временное положение», принятое общим собранием 26 февраля 1918 года и 13 мая утвержденное наркомом Луначарским.
«Временное положение» провозглашало верность художественным и просветительским заветам дома Щепкина. Принимая его, театр прежде всего стремился остаться самим собой, оградить и сберечь нажитые ценности своего искусства. Об этом декларативно говорилось в первом же пункте: «Московский Малый театр, как государственный, академический художественно-просветительный орган, имеет своею задачею: а) со стороны художественной: охрану, развитие и совершенствование высших достижений русского драматического театра в области сценического воплощения как оригинальных, так и переводных произведений, отвечающих строгим требованиям литературного творчества; всестороннее выявление и развитие сил русского актера и режиссера в спектаклях, возможно совершенных по репертуару, законченной подготовке и обстановке, отвечающей замыслу автора, бытовой, исторической и психологической правде, требованиям художественной красоты; сохранение чистоты и выразительности русской речи и образности языка исполняемых произведений соответственно лучшим сценическим и литературным традициям; б) со стороны народно-просветительной: распространение всех художественных достижений и подъем этим путем этических начал и эстетических вкусов в широких народных слоях»153*.
Сжато и продуманно Малый театр определял исходные принципы своего искусства в программе-минимум, какой явилось «Временное положение». Там же устанавливались черты новой организационной структуры. Отпадали прежние формы руководства: от уполномоченного, то есть комиссара, назначенного Временным правительством (этот пост занимал Южин), и управляющего, избранного театром (с августа 1917 года им был Правдин), до художественно-репертуарного комитета. Отныне театром руководил совет из пятнадцати человек, выбранный 70 всем коллективом. Совет выделял из своей среды исполнительный орган — правление: оно ведало практическими делами и было подотчетно совету. Председателем совета стал А. И. Южин, членами — актеры Е. К. Лешковская, Н. А. Смирнова, А. А. Яблочкина, Е. А. Лепковский, О. А. Правдин, И. А. Рыжов, Н. К. Яковлев и др., технические работники, а также Е. К. Малиновская — представительница Наркомпроса. В правление вошли члены совета П. М. Садовский, И. С. Платон и С. А. Головин. На этих началах театр работал до середины следующего сезона.
27 – 28 февраля 1919 года двухдневное общее собрание приняло «Основное положение». Его составили Южин, Правдин и Головин. Творческая суть конституции оставалась той же. Но управленческая структура менялась.
Она перестраивалась из-за общей реорганизации руководства театрами. Наркомпрос в феврале 1919 года заменил выборные советы, эти многолюдные форумы самоуправления, директориями. Директория драматического театра состояла из трех членов: двое избирались на общем собрании актеров и технического персонала, один назначался отделом государственных театров.
Для государственных театров переход к директории означал начало конца автономии, которая, как правило, не оправдывала себя, ибо лишь обостряла внутренние противоречия и разжигала страсти. В Александринском, Мариинском, Большом театрах этап самоуправления был омрачен групповой борьбой, расколом, демонстративными отставками. Но, как уже говорилось, следовало пройти этот исторически неизбежный этап, чтобы не загонять болезнь внутрь, а вскрыть ее симптомы и изжить причины. Подобно актерам-петроградцам, москвичи тоже очень скоро затосковали по «твердой власти» в театре и разочаровались в автономии154*. Это прежде всего относилось к Большому театру. Директория представляла собой гибкую форму перехода от самоуправления к единоначалию.
Малый театр стоял тут особняком. Его однородный, сплоченный актерский коллектив почти не испытал превратностей групповых междоусобиц, хотя и в нем различались известные оттенки. Большинство труппы шло за властным, зорким, осмотрительным Южиным. Часть молодежи симпатизировала относительно «левому» Правдину. Но естественные разногласия не вырастали в конфликты. Е. К. Малиновская чуть преувеличивала, когда конфиденциально писала А. В. Луначарскому в феврале 1918 года, что в Малом театре «два течения»: «крайнее правое с Южиным во главе и крайнее левое — Правдин и сравнительно 71 молодые артисты»155*. Крайностей-то и не было. Ничто не переходило за пределы парламентской полемики. Южин и Правдин благополучно делили руководящие посты в театре после Февраля. Теперь они напряженно работали над совместными проектами конституции Малого театра, оставаясь партнерами и за кулисами, и на сцене. На первой же премьере Малого театра, состоявшейся после Октября, 20 декабря 1917 года, — в «Бешеных деньгах» — роль Телятева исполнял Южин, роль Кучумова — Правдин. Критика находила, что «А. И. Южин и О. А. Правдин играли в тоне и в стиле прекрасной старой школы»156*. В апреле 1918 года Малый театр отпраздновал сорокалетие бессменной службы Правдина: чествование имело «радушный и торжественный характер»157*. Ничто не переменилось до самой кончины О. А. Правдина, последовавшей в 1921 году.
Монолитность, конечное единодушие труппы позволили ей оговорить себе особые права у Наркомпроса. При том что теперь театр подчинялся идеологическому контролю отдела государственных театров и согласовывал с ним репертуарные планы, Южин получил реальную самостоятельность. Директория Малого театра, сразу переименованная в дирекцию, состояла из пяти, а не трех человек и вся избиралась коллективом театра, обходясь без лиц, назначенных «сверху». Таким образом, внутренние дела театр, как и прежде, решал сам. Луначарский спокойно предоставил Малому театру эти привилегии. 25 марта 1919 года он утвердил «Основное положение», а следовательно, и видоизмененную, но все-таки автономную структуру. Малый театр, единственный из всех государственных, сохранил в принципе полное самоуправление. Председателем дирекции стал Южин, директорами — Головин, Платон, Садовский и избранный техническим персоналом Остужев. Год спустя на перевыборах рабочие и служащие ввели в дирекцию взамен Остужева представителя из своей среды, а Садовского сменил Правдин. Автономная дирекция Малого театра просуществовала до 1923 года.
Всячески отстаивая автономию и доказывая делом, что способен с ней совладать, Малый театр прежде всего хотел сберечь собственное лицо и богатства завещанных ему традиций. Верность изначальной культурно-просветительной миссии он считал своим первым долгом перед народом и временем. Выполнить долг ему удалось. И все же выстоять в шторме было не так-то просто.
Репертуар нуждался в планомерном пересмотре, разбухшую труппу следовало сократить и омолодить. Внутреннее устройство 72 театра требовало упорядоченности, здание давно взывало о капитальном ремонте, а материальные ресурсы по условиям войны и разрухи были ограничены, несмотря на хорошие сборы. Как только было утверждено «Временное положение», совет Малого театра приступил к действиям. Состоялась перебаллотировка актерских кадров. В результате отсеялась четверть труппы. Среди отчисленных и ушедших по доброй воле были О. В. Гзовская, Е. Т. Жихарева, М. М. Климов, М. Ф. Ленин, Е. А. Лепковский, популярные актеры экрана В. В. Максимов, В. А. Полонский, И. Н. Худолеев. Уволена была даже А. Л. Щепкина, внучка М. С. Щепкина.
Операция протекала остро и вызвала вопли о «распаде» Малого театра. Все же трудно было не понять ее необходимости Раздавались и трезвые голоса. «Новости сезона» писали: «Конечно, государственные театры больны, переживают кризис, вполне естественный в такое время, когда больна тяжкой болезнью вся страна…
Но рано читать им отходную…
Искренне жаль, что театр теряет Гзовскую, Климова, Ленина, Максимова и других, что их не сумели удержать, но надо верить, что им на смену придут другие, новые, как они в свое время сменили прежних…
Радикальные меры всегда страшны: но когда рубят лес, щепки неизбежно летят… А тут давно пора прорубить просеку для свободного проникновения света…»158*
Потом, когда уже опустился занавес первого октябрьского сезона, театральный хроникер резюмировал: «Если не считать ушедших по собственному почину, как Максимов, Климов, Худолеев, утрата которых для театра очень серьезна, или Жихаревой, относительно которой суждения могут расколоться (эта одаренная трагическая актриса служила с 1915 года и не успела проявить себя в Малом театре. — Д. З.), решение управления по отношению к выбывшим не может вызвать двух мнений»159*.
«Переучет» труппы нужен и целесообразен — таков был конечный вывод. Уже очень скоро, как только вошли в систему выездные спектакли Малого театра на районных площадках, труппа начала пополняться свежими силами и даже выросла в численности, а некоторые из ушедших актеров — Климов, Ленин, Худолеев — вернулись. Во всех случаях условия диктовала производственная необходимость.
Сильно сократил театр и количество новых постановок. Не в пример на редкость плодовитому тогда Александринскому театру, 73 Малый театр 1917 – 1921 годов ограничивался четырьмя, а то и тремя премьерами в сезон. Пресса объясняла столь скромные результаты тем, что Малый театр «и без того делает полные сборы и к тому же трудно ставить новые пьесы при нынешних настроениях. По этим же соображениям отказывается от новых постановок и Художественный театр, который вполне обеспечен сборами»160*. Но блестящие сборы, о которых охотно и часто сообщала театральная хроника, все равно не покрывали нужд театра в годы разрухи, а скупой перечень премьер не всегда оказывался гарантией их художественного богатства.
Семейно-исторической хроникой П. П. Гнедича «Декабрист», показанной 2 апреля 1918 года в постановке И. С. Платона, завершился первый октябрьский сезон. Премьера не явилась событием для театра. Интерес спектакля сосредоточился на одном, в сущности, вставном эпизоде, где старая княжна Плавутина-Плавунцова — Ермолова перед смертью открывалась родным в грехах молодости. Ермолова, Лешковская, Правдин концертно сыграли эпизод, так что он отдавал жутью минувших дней и нравов, много говорил о жестоких самодурах и жалких жертвах крепостничества.
Что до темы декабризма, она звучала в спектакле приглушенно. Браня увиденное за лоскутность и скуку, рецензент писал: «Может быть, вы думаете по названию пьесы, что перед вами раскроется что-либо яркое и новое из жизни декабристов или что-нибудь, чего нельзя было показать при дореволюционном режиме, но и в этом вы разочаруетесь»161*. И действительно, пьеса, написанная в 1908 году, лишь с большого перепугу могла быть не допущена на тогдашнюю сцену. После весьма беглой завязки декабристского заговора все больше сгущались мотивы разуверенности, покаянного смирения бывшего декабриста князя Платона Плавутина-Плавунцова. Недаром все завершала встреча героя со «старцем» Федором Кузьмичем, в котором молва признавала удалившегося от мира, кающегося Александра I. От бунта к схиме — таков был путь действия. Соответственно в спектакле трудно было усмотреть что-нибудь другое помимо горького сомнения в исходе революционной активности. Спектакль не имел утверждающей темы. «Нет должного подъема в сцене собрания заговорщиков, сильных “людей 14 декабря”, — свидетельствовал В. К. Эрманс, — нет значительности во встрече князя Плавутина со старцем Федором Кузьмичем, всем известную легенду о котором П. П. Гнедич, видимо, считает вполне правдоподобной»162*. И сам герой, которого играл М. Ф. Ленин, жил на сцене словно в предощущении пессимистического 74 финала. Последние эпизоды и получились наиболее оправданными у актера. По словам Ю. В. Соболева, исполнителю «очень удались последние действия, где уже явственно выступают и скепсис, и душевное утомление князя», зато «весьма не хватало романтической настроенности и пламенности для молодого Платона, свято и убежденно верующего в торжество дела “Союза Благоденствия”»163*. Другие рецензии отзывались о М. Ф. Ленине в этой роли еще сдержаннее.
Критика отметила добросовестные работы П. М. Садовского в роли молодого декабриста-романтика Катарбина, Н. К. Яковлева в роли Силантия, мужика-сибиряка из ссыльных, В. В. Александровского — гротескного штатского генерала Веточкина, добровольного шпиона, С. А. Головина — «бурбонистого» офицера Сумакова, С. В. Айдарова — «старца». Все это были эпизодические роли. Крупные исполнительские силы не могли спасти рваный иллюстративный спектакль, мрачные тона которого будили в зале холодное недоумение. Показанный к концу сезона, он не дожил до начала следующего.
Только очень субъективный ценитель, каким выступил часто писавший о театре актер-трагик Н. П. Россов164*, мог усмотреть в «Декабристе» Гнедича — Платона современный интерес. Спектакль был симптоматичен именно своей далекостью и от историзма, и от современности. Симптоматична была инертность режиссерского подхода, трактовки, художественной формы.
Но оттого встреча с «Декабристом» и поставила Малый театр перед лицом неотложных творческих проблем: их предстояло решать теперь же.
Проблемы историзма и современности, а в связи с ними — то «всестороннее выявление и развитие» сил режиссуры, о чем так основательно говорилось во «Временном положении», стали ближайшими целями Малого театра. На пути к целям театр достиг важных для него высот уже в пределах рассматриваемого отрезка времени. Свою роль тут прежде всего сыграла новая для Малого театра режиссура.
«ПОСАДНИК»
Годы 1918 – 1921 в жизни этого театра можно определить как период режиссуры А. А. Санина. Поворотной и центральной для всего периода явилась постановка народной трагедии А. К. Толстого «Посадник» — первая работа сезона 1918/19 года, показанная 22 октября. Затем были даны в один вечер 22 марта 75 1919 года «Собака садовника» Лопе де Веги и «Электра» Гофмансталя. Трагедию Шекспира «Ричард III» Санин ставил совместно с Н. О. Волконским, другим новым для Малого театра режиссером-экспериментатором; премьера шла 19 января 1920 года. Работал Санин и над отечественной классикой: он показал 5 и 19 апреля 1921 года «Горе от ума» и «Лес».
Свой путь Санин начинал вместе с Московским Художественным театром, как сотрудник и ученик Станиславского, специалист по массовым сценам, а сезоны 1902 – 1906 годов служил в Александринском. Последней работой Санина на александринской сцене была трагедия А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного»; конфликт с театральным начальством заставил Санина уйти накануне премьеры. Это был тот самый спектакль, который александринцы в спорах и муках возобновили в октябре 1917 года и который снова оказался для них злополучным. Впрочем, Санин тут уже был ни при чем.
Когда он пришел в Малый театр, ему было под пятьдесят. «Толстяк, в какой-то оригинальной курточке, с лицом, на котором прыгают, сдвигаются, живут необыкновенно густые и непохожие одна на другую брови — одна нормальная, другая остроугольная. Они то и дело перемещаются — и сразу меняется все бритое лицо… Ходит этот человек грузно и косолапо, но глаза его бегают, впиваются в каждого» — таким запомнил первое появление Санина перед труппой Ф. Н. Каверин165*, тогдашний ученик школы Малого театра и будущий режиссер. Воссоздавая в живых подробностях репетиции Санина, проникая в его творческую лабораторию, Каверин-мемуарист отдал должное художнику, умевшему зажечь исполнителей, от учеников до опытнейших актеров, его редкой трудоспособности и его лукавым уловкам, подстрекавшим любого участника спектакля к творчеству. В таком именно режиссере нуждался Малый театр на переломном этапе своего пути.
Первый спектакль Санина был знаменателен для этого театра сразу в нескольких отношениях. На старейшую русскую сцену проникла практика мхатовской режиссуры, дав непривычные здесь связи между героями и массой, между самовластием крупного актера и цельностью постановочного замысла. Народная стихия, умело регламентированная, то и дело теснила героев, посягая на права главенства. Трагическое, личное отступало перед эпическим, всеобщим. Своей эстетической новизной спектакль всколыхнул общественный интерес к Малому театру и его судьбам, потряс изнутри и театр с его навыками. Вдобавок «Посадник» не исполнялся с 1870-х годов, когда главную роль в нем играл И. В. Самарин, а теперь забытая пьеса открылась в неожиданных возможностях. Историческое перекликалось 76 с современным. Защита Новгорода, вольной республики XIII века, от суздальской осады сближалась с переживаемыми событиями. Осажденный город раздирали внутренние распри, и это сообщало спектаклю добавочный, если не главный интерес.
«Постановка “Посадника” в Малом театре имеет большой символический для “дома Щепкина” смысл», — отмечала рецензия «Известий». Речь шла о том, что «долго крепились руководители театра, отстаивая традицию актерской индивидуальности против натиска новатора-режиссера», а тут пришел «художественник Санин», прорвал фронт обороны, применил «на подмостках Малого театра все приемы Художественного», например «влил в пьесу Толстого массы, которыми владеть Малый театр никогда не умел». В итоге «минутами зритель забывал о главных персонажах и жадно следил за безымянными героями толпы, развернувшими ряд драматических положений, соперничавших и порой в зрительном отношении более ярких, чем основная драма». Критик писал об этом, как ни странно, не без досады, сожалел о том, что крупные актеры «были задавлены, потеряли в выразительности, казались оглушенными буйной, живой толпой». По его словам, «два непримиримых начала, отличавших работу Малого и Художественного театров, боролись и на спектакле “Посадника”»166*. В этом усматривались черты «кризиса», хотя на самом деле противоречия, действительно имевшие место, были обещающе плодотворными для Малого театра, а перечень актерских достижений в «Посаднике» на редкость велик.
В тонах величаво эпических играл Южин посадника Глеба Мироныча, вожака новгородской вольницы. «Он благороден, степенен, как и следует быть “степенному посаднику Новгородскому”, — писал Н. Н. Вильде. — Я бы назвал его игру прекрасной академической игрой»167*. Самоотверженность борьбы и благородство характера раскрывались полнее всего в финальной сцене — на новгородском вече. Могучий старик со шрамом на лбу, с окладистой бородой и мученическими глазами, с серебряной цепью на груди и с посохом в крепкой руке, низко кланяясь миру, брал на себя трагическую вину, и добровольно подвергался изгнанию, лишь бы спасти от навета молодого воеводу Чермного, единственного, кто был способен возглавить народ и отстоять вольность.
Садовский в роли Андрея Чермного передавал романтический порыв бойца, подчиненный большой общей цели. «Русский витязь, полный смелости и красоты… — писал о нем рецензент. — Как прекрасен П. М. Садовский в первой сцене, какою 77 силою звучит его первый воеводский приказ! Й как искренен артист в страшной сцене вечевого суда! Но главным достоинством исполнения является, конечно, подлинно русский говор, образцовая речь, которою владеет П. М. Садовский и которая так неизменно ценна именно в “Посаднике”»168*. Романтику оттеняла и дополняла лирическая тема любви Чермного к Наталье (игру Е. И. Найденовой в роли Натальи та же рецензия расценила как «сценический шедевр»). Любовь к Наталье — любовь к родному городу — любовь к свободе — эти ступени чувства, подымаясь, несли с собой героику духа.
Влюбленного в свободу лихого ушкуйника Василька играл Остужев. «Молодой Василько, улыбчивый и буйный, радовал зрителя в исполнении Остужева», — свидетельствовал Ашмарин.
Богатство крупных характеров народно-героического плана было важной особенностью спектакля. Крупно давались и противники. Среди них выделялась боярыня Мамелфа Дмитревна, вдова прежнего посадника. Эту сторонницу патриархальной косности играла Ермолова, снимая черты бытовой характерности, рисуя натуру зловеще фанатичную. «Властность М. Н. Ермолова передает прекрасно, — писал Волин, — но вздорность, сварливость недостаточно выделены. Великолепно звучат слова горделивого прощания с посадником, но тускнеют комичные фразы о безбожии Чермного». Роль, переинтонированная актрисой, обрела шекспировский размах.
Таким образом, далеко не исчерпанный здесь ряд крупных актерских удач вряд ли подтверждал сожаления о том, будто исполнители «были задавлены» в спектакле Санина.
Стиль и масштабы зрелища, напротив, были тем еще дороги Малому театру, что по-новому возрождали «романтику быта» добрых старых времен его собственной истории. В пьесе Толстого центральные роли написаны белым стихом, сменяющим прозаический диалог толпы и второстепенных лиц. Колорит народной речи оттенял раскатистые тирады героев, сильные страсти сильных характеров. Это было близко и Ермоловой, и Южину, и Садовскому, и Остужеву.
Пьеса, не законченная у автора, на сцене «кончалась по-санински: осужденный вечем, Посадник уходил в изгнание, а воевода Чермный готовил войска к бою. Знаменитая финальная пауза. Молча, с трудом сдерживая обиду и гнев, провожает Посадника вече. Злые, ненавидящие взгляды бросают ему вслед новгородцы. Гордо идет Посадник в ссылку. Он оставляет площадь, но знает, что самое главное им сделано — Господин Великий Новгород будет спасен»169*.
78 Главным открытием спектакля была живая, мыслящая, бурлящая новгородская толпа. Шекспировский масштаб целого выразился в ней особенно сильно и зримо. Это было равнозначно эстетической революции в «театре актера». Масса жила на сцене содержательной и динамичной жизнью, как многоликое единство, как собирательный образ народа, как важнейший герой действия. Санин обогащал здесь свой опыт специалиста по массовым сценам, накопленный от ранних постановок МХТ до «Сорочинской ярмарки» в московском Свободном театре. Народ в «Посаднике» был нов не только для Малого театра, но и для русской сцены вообще, ибо выступал героем и судил героев. Современная суть такого обновления сценического метода достаточно очевидна.
Постановщик, как писал М. Б. Загорский, «совершенно правильно понял, что “народ” на сцене должен быть чем-то существенно иным, чем он до сих пор трактовался театром: не разрозненным множеством, а целостным, органическим и самодовлеющим единством, не только “массой”, но и своеобразнейшим индивидуумом, во многих обличиях явящим единый лик нации». Критик признавал: «То, что я увидел в “Посаднике”, было органически ново по самому замыслу и выполнению, по самой идее сценической трактовки толпы: здесь впервые эта “толпа” преобразилась в “народ” и здесь впервые я ощутил стихию множества, явленную как некое сценическое единство»170*.
В финале, когда народ, созванный гудящим вечевым колоколом, творил суд над Посадником Чермным, искусство режиссера достигало особого размаха. «Смелым и дерзким жестом, — писал Загорский, — А. Санин отбрасывает героев пьесы — посадника и воеводу — в глубь сцены, прижимает их почти к самому колоколу, их почти не видно, и они окружены плотным кольцом новгородцев… Все возвышенности сцены заполнены, все пространство ее использовано с одной лишь целью: наиболее зрелищно и сценично выявить динамичность народной массы и ее нарастающий гнев на изменника. Ее отлив и прилив умело и удачно прикреплены к трем точкам сцены: справа — к обличителю воеводы Чермного, в центре — к нему самому и посаднику и слева — к бывшему воеводе Фоме. Все эти точки находятся немного выше толпы, и море народное как бы вспененными валами разбивается около них, как о свой скалистый предел».
В самом деле, редко кто мог тогда состязаться с Саниным в искусстве одухотворенной разработки массовых сцен. Для спектакля такого масштаба, как «Посадник», это определяло все. Сложная ритмическая инструментовка действия, выверенные группировки и переходы, индивидуализация персонажей толпы в первой вечевой сцене и монументализация народной 79 стихии в финале — все это решительно обновляло практику Малого театра. «До репетиций А. А. Санина мы ничего подобного не видели, не знали, не испытывали», — вспоминал Ф. Н. Каверин171*.
Народные сцены «Посадника» открывали новую перспективу перед советским театром тех лет в его напряженных поисках массового действа. «Здесь все в высшей степени поучительно, и именно сюда должны быть направлены студийцы из пролетарских студий и школ для наглядного обучения», — утверждал Загорский. «Те, кто ставит теперь “Зори” Верхарна, должен чутко и внимательно учесть этот опыт и расширить его ценные достижения».
Опыт «Посадника» заинтересовал и оперную сцену. Через две недели после премьеры Малого театра Большой театр показал в своем праздничном спектакле 7 ноября 1918 года сходную работу Санина — картину веча из оперы Римского-Корсакова о вольном Пскове. И снова «в поставленной Саниным сцене веча из “Псковитянки” жила толпа»172*, снова дала себя знать музыкальная организация народного действа.
С «Посадником» враз кончились разговоры о «распаде» Малого театра. Старейший русский театр одержал неоспоримую победу.
Постановку «Посадника» принято рассматривать как первый сознательно революционный шаг Малого театра. Разумеется, есть доля истины в таком взгляде. Все же это слишком решительная оценка. Она упрощает сложную позицию театра.
Идеалы народоправства, выборного веча, провозглашенные театром, не совпадали в его глазах с девизами диктатуры пролетариата времен «военного коммунизма». Идеалы эти могли бы найти более близкие соответствия в буржуазно-демократических лозунгах Февральской революции. Советская власть далеко не так легко и быстро, как это иногда представляют, утверждалась в сознании подавляющего большинства интеллигенции как власть прочная, наставшая надолго. Не когда-нибудь, а в самый год постановки «Посадника» Южин заявлял на встрече московских мастеров искусства с Луначарским: «Будет ли настоящая власть, другая, третья или пятая — перед государственными театрами должна стоять одна задача: хранить созданные ценности и творить и совершенствовать новые»173*. Это сильно отличалось от бойкота александринской «фронды». Малый театр хотел быть и был со своим народом, но к революционной власти, победившей в вооруженной борьбе, он относился на первых порах не более чем лояльно.
80 Оттого имелся у спектакля и некий автобиографический для Малого театра план. Почти символичный смысл для его судьбы имело то обстоятельство, что в центральной роли «Посадника» выступил «староста Малого театра». Театр тоже отстаивал творческую независимость, собственное право на гражданственность.
Луначарский тогда же приветствовал «Посадника». Он признавался, что почерпнул в спектакле «лишнее доказательство правильности той линии, в которую вступил Комиссариат народного просвещения. Мы ни на одну минуту не должны из-за каких-нибудь крутых эмоциональных соображений и чувствований, присущих нам, революционерам-интеллигентам, посягать на старые культурные ценности под предлогом их буржуазности»174*. Культурную ценность спектакля он ставил тем выше, что объективно «Посадник» звучал действительно революционно и заражал революционными чувствами пролетарского зрителя. За это нарком благодарно вспоминал о «Посаднике» и в 1922 году:
«Я никогда не забуду тот спектакль, на котором вся зала была наполнена проходившим через Москву на Запад полком из красногвардейцев-крестьян, набранных в захолустных уездах Заволжья. С огромным, каким-то подавленным вниманием, а в решительном моменте даже со слезами, смотрели красные солдаты на внезапно раскрывшееся перед ними зрелище. И оно было им, вероятно, совершенно доступно по всем четким приемам искусства, родного им по обычной для них действительности и вместе с тем уносившего их на крыльях понятного языка и понятных образов высоко над обычным уровнем их переживаний»175*.
Народность искусства была почвой, на которой объединялись интересы сцены и зала. Народность, проникнутая тревогами времени и рождающая новые качества историзма.
В народности искусства не отказать было и мастерам б. Александринского театра, показавшим «Посадника» осенью 1922 года. Глеба Мироныча играл Р. Б. Аполлонский, воеводу Чермного — Ю. М. Юрьев, Мамелфу Дмитревну — В. А. Мичурина, Наталью — Е. И. Тиме. Но, «несмотря на все усилия режиссера Смолича создать постановкою исторический колорит, воспроизвести подлинный дух далекого русского прошлого, — писал Э. А. Старк, — спектакль до души зрителя все-таки не доходит»176*. Историческое в нем не прониклось ощущением изменившейся уже современности. В творческом решении не обнаружилось новизны. Не было и той глубины гражданского самораскрытия, какой обладал спектакль Малого театра.
81 ВРЕМЕНА РЕЖИССУРЫ
Те же, в общем, принципы народности, что и в санинском «Посаднике», то есть народности, чуткой к голосам времени и в этом качестве эстетически осознанной, по-своему заявили о себе и в спектакле «Собака садовника» («Собака на сене»). Санин ставил старую комедию Лопе де Веги, давно знакомую Малому театру, с щедрой театральной выдумкой, сливая веселое и лиричное, выделяя демократические мотивы действия, утверждая радость жизни — наперекор всем трудностям повседневного быта, развороченного революцией. Неприглядно житейскому с вызовом противопоставлялась праздничная условность сценической среды. Спектакль, оформленный при участии К. Ф. Юона, сверкал дразнящими красками юга, сцена была залита солнцем и светом.
«Забыть голод, забыть, что кишки трещат, что не во что одеться!» — требовал Санин от актеров на каждой репетиции177*. И в самом деле, «смотря спектакль, отлично передававший атмосферу знойной, красочной, буйной Испании, — вспоминала Н. А. Смирнова, — нельзя было представить себе, что играют недоедающие, мерзнущие актеры», — настолько режиссер своей увлеченностью «и нас всех увлекал и заставлял забывать невзгоды тогдашнего быта»178*.
Прихотливая лирика Дианы — Шухминой то и дело окрашивалась улыбкой, наперебой буффонили Костромской, Лебедев и другие исполнители собственно комедийных ролей, а главным носителем жизнеутверждающей народной темы стал Тристан: игравший его Яковлев сочетал «почвенную» характерность изворотливого слуги с откровенно площадным комизмом, например в сцене превращения Тристана в восточного грека. И зал отвечал актерам веселой благодарностью. «Хорошо, когда в угрюмые дни, так запечатленные печалями, тревогами, заботами, гремит в театральной зале дружный, веселый смех, достигаемый художественными средствами», — писал после премьеры Н. Е. Эфрос179*.
Постановка Санина была горячее и устремленнее, чем мольеровский спектакль того же сезона, ничуть не менее красочно оформленный Н. П. Ульяновым, но по старинке срежиссированный актером труппы С. В. Айдаровым. В спектакль вошли «Скупой» и «Проделки Скапена». Премьера состоялась 19 декабря 1918 года.
Весь интерес «Скупого» сосредоточился на игре О. А. Правдина. Старейший комик труппы исполнил роль Гарпагона, по словам В. К. Эрманса, «с большим мастерством истинно “мольеровского” 82 актера»180*. Событие действительно было заметным. «Правдин имеет право считать себя мольеровским актером, ибо он владеет формой и стилем Мольера», — соглашался Ю. В. Соболев181*, сетуя, однако, на то, что комедийное теснило у Правдина мотивы драматического безумия Гарпагона. Акценты в развитии действия и развертывании образа были расставлены неточно. К тому же прочие исполнители составляли неровный антураж вокруг одного мастера. В этом повинна была прежде всего бесцветная режиссура.
«Проделки Скапена» больше удались актерам, особенно тем, что играли центральные роли слуг: Н. К. Яковлеву — Скапену и В. Ф. Лебедеву — Сильвестру. «Огромным достоинством исполнителя такой технически трудной роли, как роль Скапена, является легкость, четкость и верность рисунка, которым вполне овладел г. Яковлев, — писал Соболев. — Превосходно играет и г. Лебедев — сочно и заразительно смешно». Эрманс, хваля Яковлева, находил все же, что и эта пьеса «несколько холодно» поставлена режиссером. Мольеровский спектакль не обнаружил оригинального режиссерского замысла и не внес нового качества в искусство актеров Малого театра. «Собака садовника», поставленная вслед за ним, была своего рода реваншем Санина за полуудачу Айдарова. Недаром Н. Е. Эфрос заключал после санинской премьеры: «Лучший в этом спектакле — режиссер. Опять — победа А. А. Санина. Она сопутствует каждому его шагу на новой для него сцене Малого театра… В “Собаке садовника” режиссер верно и увлекательно передал самую душу этой испанской комедии, ее краски, закружил в вихре потешного действия с вплетающимися в него лирическими, нежно поэтическими струями. В постановке — громадное богатство театральной выдумки»182*. Так до прихода Санина о Малом театре еще не писали.
Должно быть, слова Эфроса запали в память Каверину, повторявшему в своих воспоминаниях, что Санин «был очень счастливым режиссером; поставленные им спектакли имели громадный успех, пользовались любовью зрителя»183*. Но здесь уже допускалось преувеличение. То, что было оправданно для критика, который наблюдал текущий процесс и мысленно строил перспективу, недостаточно объективно звучало в устах мемуариста, оглядывающегося назад. Не все постановки Санина в Малом театре были одинаково творческими, одинаково новыми. 83 В русской классической комедии режиссер отступал перед традициями мастерства выдающихся исполнителей.
В комедии «Горе от ума», которой Малый театр открылся 5 апреля 1921 года после капитального ремонта, главными истолкователями выступили актеры, прежде всего Южин, далекий от сатирического подхода к Фамусову. Через год после премьеры Луначарский писал, что Фамусов у Южина был «грандиозен в эпически-спокойной, почти величавой смехотворности»184*. Южин остался верен себе и играл по-своему. С ним рядом играли Остужев — Чацкий, Климов — Репетилов, Яковлев — Загорецкий, Яблочкина — Хлестова, Рыжова — Хрюмина, Лешковская и Айдаров — чета Тугоуховских и т. д., и т. д., чуть ли не вся «стая славных» Малого театра. За ними стояла вековая традиция, и Санину хватило осмотрительности склониться перед нею. Поэтому трудно не согласиться с оценкой В. А. Филиппова, считавшего, что постановка Санина «была в основном завершением дореволюционной сценической истории великой комедии»185*. Та же оценка может быть отнесена и к санинскому «Лесу», где Гурмыжскую играла Лешковская, Аксюшу — Гоголева, Несчастливцева — Головин и Нароков, Счастливцева — Правдин и Яковлев, Улиту — Рыжова и Турчанинова, Милонова — Климов, Восмибратова — Костромской.
Постановка трагедии Шекспира «Ричард III», хотя хронологически и предшествовала упомянутым спектаклям «Горе от ума» и «Лес», по существу была последней из крупных работ Санина в Малом театре и самой из них противоречивой. С одной стороны, уже здесь достаточно явно обозначились уступки режиссера традиции театра, которая была все-таки сильнее его. Даже композиция текста сохранялась прежняя, та же, что и в давнем спектакле, поставленном для бенефиса Южина 13 февраля 1897 года: трагедии предшествовал пролог, смонтированный из исторических хроник Шекспира и вводящий в перипетии войны Алой и Белой розы. Южин, снова взяв на себя роль Ричарда, заботился о сохранности некогда найденных контуров роли и пьесы. После этого компромисса традиционный для Малого театра облик «Горя от ума» и «Леса» стал как бы следующим логическим шагом для режиссера. С другой стороны, компромисс не оказался сверх меры тягостным: установленные пределы не слишком стеснили режиссера. Отчасти они и содействовали его задаче, которая определялась как перевод трагедии в исторический эпос, как поворот ключа от смятений личности к катаклизмам всеобщего, а от этого всеобщего — к междоусобицам суровой современности. Так понимался историзм и в «Посаднике».
84 Некогда Южин играл Ричарда в романтическом ореоле: сильная личность, страдалец, отмеченный роком. Патетические проклятия жертв обрушивались на голову Ричарда, объясняя мучительную раздвоенность натуры суеверного, на свой лад мечтательного изверга. Теперь тема рока тушевалась, проклятия теряли смысл действенных предначертаний и оправдательных мотивировок. Актер и режиссер сошлись в переосмыслении: вперед выступила тема жестокого самовластия, не подлежащего внутреннему оправданию. Историзм стал прямее и жестче, а попутно и более чутким к характеру нынешних битв.
Поворот ключа, продиктованный новым пониманием истории, не всеми был понят и оценен. После премьеры М. Д. Эйхенгольц укорял Южина за то, что актер скорее эпически осуждал своего героя, чем сострадал его трагедии. Но и он не мог отрицать силы, с какой раскрывался Ричард в его жестокости и коварстве: «Трудно забыть его глаза, то с металлическим блеском холодного бесстрастия, то полные ненависти, загадочно заволакивающиеся, ехидно усмехающиеся: глаза — на бледной маске урода, искривляемой гримасой тонких, почти неприметных губ огромного рта»186*. Сцена с леди Анной сразу определяла сверхчеловеческий масштаб образа и беспощадный тон трактовки. Дуэт Южина и Пашенной обладал исключительной силой воздействия. «Эта сцена стала мне очень дорога, — признавалась актриса, — и я долгие годы с увлечением играла ее с А. И. Южиным и в самом Малом театре, и во многих концертах и сборных спектаклях»187*.
Вероломство Ричарда проходило лейтмотивом через сложную партитуру образа. Вероломство гипнотическое и артистичное. Отталкивающее уродство, внутреннее и внешнее, Южин передавал поэтическими средствами, прекрасно сознавая губительность натуралистических приемов, но романтизации образа не было и в помине.
Не столько муки преступного героя, сколько кровавые итоги его преступлений должны были, по замыслу спектакля, потрясти зрителей в сцене ночного кошмара Ричарда перед решающей битвой с войсками Ричмонда. Для того чтобы перенести центр тяжести со страдающего, молящегося героя на зрелище содеянного им, Санин и художник С. И. Петров воздвигли на сцене колоссальную икону-складень, словно выросшую в безумных глазах Ричарда и готовую раздавить его; по вертикалям и горизонталям этого многоярусного станка, то там, то тут, в нарастающем ритме, высвечивались отсек за отсеком с проклинающей, предрекающей гибель жертвой его козней. Живописно-конструктивное решение сценического пространства, непривычное 85 для Малого театра, пришло с новой содержательной концепцией спектакля — суда над порочным и преступным самовластием. Нравственные, религиозные и всякие другие оценки Ричарда становились мотивами общественно-исторического приговора.
Батальные сцены были не так многолюдны, как вечевые картины «Посадника», зато блистали экономной режиссерской выдумкой. Каверин, их участник, описал несколько быстро сменявшихся эпизодов последнего акта188*.
Подлинным героем спектакля становился гуманистический протест против междоусобных кровопролитий, а с ним тоска по человечности, вера в неизбежность исторической справедливости.
Новый, сегодняшний взгляд на логику истории, на расстановку ее движущих сил, разумеется, не мог бы выразиться в «Ричарде III» так отчетливо, если бы принадлежал одному, пусть самому крупному режиссеру, а не отвечал также чувствованиям исполнителей. Режиссура Санина, активная и целенаправленная, была все-таки лишь катализатором процесса, ускоряла его ход и помогала выявиться тому, что зрело подспудно в творческом мировоззрении труппы. Закономерности процесса подтверждала эволюция Южина, который еще в «Посаднике» совершил трудный, но органичный поворот к новому качеству своего искусства, а в «Ричарде III» его закрепил. Не менее наглядно выразила новое в искусстве Малого театра и М. Н. Ермолова, сыгравшая на первых представлениях «Ричарда» старую королеву Маргариту. И здесь трагедия судьбы не закрывала объективной исторической сущности, страдающую мать как бы теснила кровавая властительница, чья власть похищена другим, еще более кровожадным деспотом. На этот счет оставил авторитетнейшее свидетельство Южин. «Я не могу, играя с нею Ричарда, бог знает которой раз, не испытывать во втором акте чувства жути», — писал он в 1921 году. Ибо Ермолова, отбрасывая «шелуху» житейских примет, давала «потрясающую трагедию падшей власти, полной неудержимого и неутомимого стремления к ее возврату, несокрушимого величия в своем падении. Вся она невольно напоминает мне коршуна, которого я как-то подстрелил на охоте: то же обессиленное, но полное хищного величия стремление взлететь на пробитых крыльях, те же глаза, горящие непримиримой ненавистью»189*.
Новое, пока еще только как тенденция, вторгалось в творчество Малого театра, и лучшие постановки Санина позволяли этим тенденциям проявиться. Кроме того, локальное значение для биографии театра имело и то обстоятельство, что Санин 86 ставил «Ричарда III», как гласила афиша, «в сотрудничестве с Н. О. Волконским». Этому молодому режиссеру, ученику Ф. Ф. Комиссаржевского, еще предстояло осуществить на сцене Малого театра несколько дерзких спектаклей («Недоросль», «Доходное место», «Горе от ума»), где продолжился санинский заинтересованный спор с традициями «дома Щепкина» на кровной почве самих традиций. Но если Санин успешно прививал к могучему стволу Малого театра свежие побеги мхатовской режиссуры, то Волконский работал в 1920-х годах с оглядкой на мейерхольдовские эксперименты над классикой, заведомо далекие Малому театру, и куда меньше преуспел в своих попытках.
Для санинских же проб была характерна еще одна, проведенная вне стен Малого театра, вне театра вообще, но тем нагляднее выразившаяся суть его поисков. В 1919 году Санин экранизировал рассказ Толстого «Поликушка». Главного героя фильма играл мхатовец И. М. Москвин. В роли Акулины снялась актриса Малого театра В. Н. Пашенная. На почве режиссуры две актерские школы сблизились воочию, обнаружив черты единства. Через три года Пашенная стала участницей длительного зарубежного турне Художественного театра.
«СТАРИК» ГОРЬКОГО И МОЛОДОСТЬ ТЕАТРА
Обновляющая роль режиссуры А. А. Санина выступала очевиднее рядом с тем, что представляли собой одновременно появлявшиеся спектакли И. С. Платона. Открывая простор актерскому почину, они были инертны по режиссерскому замыслу, анемичны по форме. И лишь иногда коренные сдвиги в действительности, запросы нового зрителя отзывались в практике Платона, затрагивая не столько форму, сколько содержание некоторых работ режиссера-исполнителя.
Ничего нового не открылось в «Ревизоре», возобновленном Платоном в сентябре 1919 года. О. А. Правдин — городничий, А. А. Яблочкина — Анна Андреевна, А. А. Остужев — Хлестаков, М. М. Климов — Земляника, О. О. Садовская — Пошлепкина с блеском повторили давно найденное ими или их предтечами, не выдавая присутствия режиссерской руки. Спектаклем правила традиция, не одухотворенная сегодняшним взглядом и оттого казавшаяся обветшалой. «Старушка»-традиция, — соболезновал рецензент. «Старушка улыбается вам со стен павильона А. Веснина, приветливо кивает головкой в старых-престарых — “классических” mise en scene, таких привычных, таких удобных, таких казенных. Добрая душа — она будет стонать и похрипывать, будет всплескивать руками с маститым артистом Правдиным, станет заботливо хлопотать, чтобы вы не пропустили, чего доброго, ни одною самонаистарейшего “кренделя” 87 или “трюка”, которые она любовно копила десятилетиями и теперь щедро сыплет из своего запыленного ридикюля»190*. Рецензент усмехался как умел добродушно. Все же в сказанном была изрядная доля истины.
18 апреля 1920 года Малый театр показал «Женитьбу Фигаро». Снова спектакль был «срепетован» по старым образцам, шел в привычных павильонах, на постройку которых был опять приглашен крупный художник-архитектор А. А. Веснин. И снова главный интерес зала сосредоточился на актерах. Фигаро у Н. К. Яковлева, легкий, простоватый, то и знай попадал впросак, но ловко выпутывался из передряг и запутывал в них противников. Актер играл не плебейскую гордость, а плебейскую оборотистость и в этом качестве не слишком походил на француза, даже давал поводы сравнивать Фигаро с веселым охотнорядцем. Такая русификация делала более близким и понятным залу демократизм героя, направленность его обличительных тирад. Демократическая тема, окрашенная лирикой и капризным озорством, проходила у В. А. Шухминой — Сюзанны. Альмавиву играл В. И. Освецимский, Марселину — Е. К. Лешковская. Характерные актеры и комики Малого театра — В. Ф. Лебедев (Антонио), Н. Ф. Костромской (Бартоло), С. А. Головин (Базилио), М. М. Климов (Бридуазон) — поддерживали ансамбль.
Исполнители и обеспечили спектаклю зрительский успех. «Публика ломится на пьесу, — озадаченно писал В. И. Блюм. — Но вместе с тем эта публика во власти какого-то недоразумения». Критик, далекий в то время от симпатий к академическим театрам, недоумевал искренно и излагал веские причины недоумения: «Так показал бы нам комедию Бомарше Малый театр 20 и 30 лет назад. Тогда эти исторически добросовестные, свежей краской пахнущие карточные домики считались декорациями; сейчас — воля ваша — это не более как учебное пособие»191*. Режиссерская проработка спектакля ограничилась пределами хрестоматии. Массовыми сценами Платон не мог похвалиться и прежде. Теперь, после «Посадника», после «Ричарда III», они выглядели и вовсе рутинными. Оценок другого рода спектакль не вызвал. Не нашли повода помянуть его в мемуарах и актеры Малого театра, справедливые к успехам товарищей по сцене.
Среди работ И. С. Платона этой поры след в истории оставила одна — премьера пьесы Горького «Старик», прошедшая 1 января 1919 года. К ней театр отнесся с повышенной творческой ответственностью. Пьеса, написанная в 1915 году, нигде 88 еще не была опубликована и впервые появлялась на сцене. Кроме того, Малый театр первый раз встречался с Горьким. Задолго до революции Южин сожалел о том, что горьковский репертуар заказан для императорской сцены192*. В 1917 году ограничения отпали. Рад был предстоящей встрече и Горький. В октябре 1918 года он писал Садовскому о согласии наведаться в Москву, поговорить о пьесе: «Поговорить о ней с Вами я весьма желал бы, надеясь и даже будучи уверен, что добрая беседа помогла бы мне исправить некоторые неясности пьесы и тем облегчить Ваш и Ваших товарищей труд»193*. 24 октября автор читал «Старика» совету Малого театра, и назавтра Южин благодарил его специальным письмом: «Пьеса сделала исключительное впечатление при чтении ее в совете, принята им, конечно, единогласно»194*. Нет данных о том, какие авторские пояснения сопровождали читку. Сущность же спектакля показала, что там вовсе не разоблачался Старик, а с ним — проповедь покорности, поэтизация страдания. Этот взгляд на пьесу установился гораздо позже. Малому театру той поры подобные идеи были попросту непонятны и чужды.
Проникнуть к горьковскому замыслу вряд ли способен был любой тогдашний театр. От пьесы перед тем отступились и Александринский театр, и театр Московского военного округа, и Первая студия МХТ (где Горький читал «Старика» 23 октября, накануне читки в Малом театре). А тут ее взяли не для того, чтобы опровергнуть подвиг смирения, — напротив, Малый театр сам намеревался с помощью пьесы передать свое покорное приятие перемен в жизни.
Пьесу, еще ждавшую окончательной авторской обработки, он воспринял в контексте дискуссий 1918 года о мелодраме. Со статьями в защиту мелодрамы выступали тогда и Горький, и Луначарский, а в феврале 1919 года оба вошли в жюри специального конкурса на мелодраму. Соответствующий подход к пьесе мог подсказать театру и сам Горький. Недаром попутными набросками к «Старику» были заготовки романа о российском Жане Вальжане, праведном каторжнике195*. Трактовка «Старика» как мелодрамы в те дни могла показаться единственно современной. Первые критики, пьесы подчеркивали: «В руках менее тонкого автора сюжет “Старика” дал бы канву лишь для примитивной уголовной драмы»196*. Первый же театральный отклик улавливал в спектакле черты «уголовной 89 мелодрамы»197*. Мелодрама и явилась преобладающей жанровой характеристикой постановки.
Через много лет П. А. Марков, перебирая в памяти театральные впечатления юности, так вспоминал о «Старике»: «Мне кажется, что появление “Старика” в Малом театре еще в недостаточной степени оценено в нашем театроведении. Мои юношеские впечатления сохраняют о нем память как о спектакле необычном для Малого театра. Дело было не только в том, что драматургия Горького впервые пришла в Малый театр. Сам спектакль был ярким и сильным. Может быть, режиссерски он был сделан в обычных для театра тонах, но общее приподнятое решение, декорации Юона, передававшие атмосферу спектакля в свойственных этому художнику ярких и чистых красках, и, наконец, крупный масштаб и слаженность актерского исполнения показали, что Малый театр если и не вскрыл всей философии пьесы, то нашел в Горьком драматурга, необыкновенно себе близкого. Особенно запомнились О. О. Садовская — такая мудрая, зоркая в роли няни, и В. Н. Пашенная — Девица, затаенная и скрытная, вспыхивавшая в конце сильнейшим внутренним бунтом»198*.
Ценитель канонических концепций, сняв условно-сослагательные моменты, все эти «мне кажется», «может быть», «если и не…», получит устраивающую его формулу спектакля: Горький минус рутинная режиссура, не проникшая в философию пьесы, плюс отдельные удачи хороших актеров. Но из формулы уйдет продиктованное временем: яркость, сила, приподнятость, чистота тонов, крупный масштаб характеров — то, что шло от близкой театру романтики быта, взятой теперь в повороте мелодрамы.
Ключ для такого понимания пьесы дал театру последний диалог Старика и Мастакова:
Старик. Ты — года гнездо каменное строил себе, а я — в один день все твое строение нарушил!.. Кто сильнее — ты, богач, аль я — бездомный бродяга, кто?..
Мастаков. Подумай — около меня до трех тысяч человек кормится…
Старик. И тебя не будет — прокормятся! Народ хозяина найдет!
Именно на этот диалог ссылался рецензент из пролеткультовского еженедельника «Гудки», провозглашая Старика истинным героем спектакля Малого театра: «В Старике символизирован дух протеста против мещанского благополучия». Центральный конфликт раскрывался с намеренной прямолинейностью мелодрамы: «С одной стороны — мещанский, обывательский 90 мир мастаковского дома, с другой — бурно протестующий мир Старика. И жалкой попыткой примирить непримиримое является вся якобы плодотворная деятельность Мастакова — Гусева»199*. Упрощенная логика пролеткультовца доводила линии противостояний до самоочевидной, так сказать, точки. Но в этой точке отражалась реальность спектакля.
Бродяга-каторжник с хищным профилем и всклокоченной цыганской бородой, в мятой шляпе, с холщовой сумой и заплечным мешком появлялся на сцене, как наваждение. Театру привиделся в нем давний горьковский романтический герой, Челкаш, отбывший срок, постаревший, но не укрощенный. Он разбивал благополучную неправду сытых, вроде Мастакова, бывшего дружка по каторге, сводил счеты с ним, со всякой сытостью вообще, — ну чем, в самом деле, не новейший Жан Вальжан? Так играл его С. А. Головин, во вкусе мелодрамы, с той «упрощенностью чувств», какой требовал от мелодрамы Горький.
О том, что актер «несколько однотонно, упрощенно играет старца», с долей сомнения писал после премьеры В. К. Эрманс: «Нельзя же в Питириме видеть только каторжанина. Он и старец набожный, и эротоман, и страдалец, и мститель. Эту благодарную для актерского творчества амальгаму г. Головин использовал далеко не в полной мере». По прошествии лет Головин сам удивлялся собственной трактовке и отрекался от нее под перекрестным опросом знатоков-театроведов из ВТО200*. Отрекался напрасно. В мечте о силе, в прямоте характеристик и состояла исторически обусловленная черта тогдашней трактовки. Другие критики приветствовали Головина. «Твердо и хорошо играл “Старика” Головин», — находил работник Наркомпроса П. А. Кузько201*. Журнал «Гудки» также относил эту работу актера к главным удачам спектакля.
Пашенная впоследствии писала о своей Девице: «Под внешней забитостью в Марине живет затаенная сила»202*. Сила угадывалась не сразу в настороженно замкнутом лице с поджатыми губами, в стиснутых руках. Диковатые, «каторжные» глаза пугливо смотрели из-под ситцевого платка в горошек, туго стянутого на шее, глаза «воровки детей», задумавшейся о жизни. «С большим мастерством сделала г-жа Пашенная “сестру” Марину — хитрую, завистливую, познавшую жизнь, жадно тянущуюся к женским тряпкам и заученно, механически уверяющую всех — “девица я”», — свидетельствовал Эрманс.
91 В том же ключе, круто мешая романтику с бытом, играли оба исполнителя роли Мастакова. Как рассказывал потом П. М. Садовский на беседе в ВТО, он особенно заботился о «бытовом плане». И. А. Рыжов больше склонялся к мелодраме. «Мастаков — Рыжов, кажется, местами был “трагичнее”, чем это надо», — замечал рецензент «Вечерних известий».
Отзвуки «уголовной мелодрамы» проникали и в сочную бытовую игру О. О. Садовской — Захаровны, согласной ради барина взять грех на душу, отравить Старика «своим средством», и в игру другой выдающейся исполнительницы этой роли — В. Н. Рыжовой, и в комедийный рисунок Н. К. Яковлева — Харитонова, любителя сильных ощущений.
Но жанр мелодрамы для «Старика», естественно, не мог оказаться универсальным, и мотивы, ей неподвластные, звучали в спектакле вяло. Ломала тон героической мелодрамы сцена поспешного бегства Старика. Такие персонажи, как Татьяна и Павел, вообще выпадали из мелодраматической схемы, и критика обошла молчанием их исполнителей — Е. П. Гоголеву и В. И. Освецимского. Встречались и прямые курьезы, опять-таки показательные для времени. Е. И. Найденова, игравшая Софью Марковну, выразительницу горьковского активного отношения к жизни, усмотрела в своей роли памфлет на кадетку и отнеслась к героине с сугубой подозрительностью.
Актеры вновь выступили истолкователями пьесы. Они взяли на себя ответственность за все относительные неудачи и находки. Постановщик остался в тени. «Режиссер И. С. Платон не углубил авторской партитуры и не дал общности передач, — отмечал Эрманс. — Часть исполнителей играла в стиле уголовной мелодрамы, часть — в духе интимной, полутонной пьесы». Общая концепция шаталась.
Постановка «Старика» не оказалась особой удачей Малого театра. Зрительный зал не был захвачен спектаклем. «После первого акта занавес опустился при молчании публики, после второго и последующих — жидкие аплодисменты», — констатировал Эрманс.
Во всех своих противоречиях спектакль занял закономерное место у истоков советской сценической классики, ибо отразил характерные эстетические поиски дня.
Для Малого театра он обозначил подступ к социальным мелодрамам начала 1920-х годов. Первой из них была пьеса Луначарского «Оливер Кромвель», показанная в постановке Платона 7 октября 1921 года, в день четвертой Октябрьской годовщины.
Луначарский передал пьесу Малому театру еще весной 1920 года203*. Включая ее в репертуар, театр делал серьезный шаг 92 на пути идейного саморазвития и в то же время, как писал после премьеры Н. Д. Волков, не отступал «от своих обычных вкусов. К исторической мелодраме у Малого театра было всегдашнее тяготение»204*. А здесь острый конфликт истории дал театру возможность открыто восславить дух революционности, показать в конкретных условиях эпохи неизбежную победу исторически прогрессивного дела Кромвеля над выдыхающимся королевским абсолютизмом.
В спектакле была схвачена романтическая поэтика контрастов. Незащищенность обаятельно мягкого, но слабого духом короля Карла I, которого играл Садовский, — и солдатская собранность его врага, протектора Кромвеля, человека монументальной силы, воли, ума, каким его изображал Южин. Праздная роскошь дворцовых покоев — и пуритански суровый колорит сцен в лагере Кромвеля. В передаче этих контрастов существенно помогла постановщику и актерам сценическая живопись М. В. Добужинского.
Спектакль имел успех у зрителей и привлек внимание критики. Он явился заметным событием в жизни Малого театра. И все-таки по-прежнему главными виновниками события были не режиссер и не художник, а ведущие исполнители, прежде всего Южин.
Так считал и Луначарский. В 1922 году он писал: «Я не могу не указать на то, что Александр Иванович Южин и труппа относились с необыкновенной тщательностью и бережностью к пьесе, что они продумали в ней все детали и дали картины, которые меня как автора в полной мере удовлетворяли, которые, по-видимому, удовлетворяли и публику, судя по многочисленным и неизменно полным спектаклям прошлого года. Над исполнением доминировала, конечно, фигура Южина. Он дал Кромвеля монументальной фигурой, и на этом фоне ярко вырисовывались и взрывы тривиального юмора, и жовиальность, и моменты глубочайшего душевного волнения в груди железного человека»205*. Южин, за ним труппа — вот главные организаторы спектакля в глазах автора пьесы. Режиссер попросту не упоминался.
Проблема режиссуры решалась и в этом спектакле привычным образом. То, что она была все-таки проблемой для нынешнего Малого театра, подтверждали разногласия внутри труппы. Актеров, выросших на старом опыте, «исполнительская» практика Платона вполне устраивала и теперь; больше того, они даже склонны были видеть в ней некий подъем. Как раз по поводу постановки «Кромвеля» Н. А. Смирнова писала в своей книге: «Неинтересный режиссер, ставивший все по старинке, 93 придерживаясь пресловутых, односторонне понимаемых “традиций”, вырос за годы моего пребывания в театре… Революция пришла ему на помощь, и его режиссерская фантазия развернулась. С большим интересом мы работали с ним при постановке пьесы Луначарского “Кромвель”. В сотрудничестве с прекрасным художником Добужинским он создал стильную, проникнутую мрачным строгим настроением картину жизни пуританской семьи железного человека Кромвеля, которого сильно, убедительно, красочно сыграл Южин. Выразительна была картина, рисующая двор короля Карла I, которого играл П. М. Садовский, с большим мастерством обрисовавший тонкий психологический контур роли. Платон передал и настроение пьесы в целом, и сложный переплет отношений действующих лиц и выдвинул на первый план главные события, затенив второстепенные, и выявил смысл политической борьбы. А раньше, помню, он мало заботился о такой цельности спектакля и о координации его частей. Каждый играл сам по себе, интересовался главным образом своей ролью»206*. Похвалы участницы спектакля горше всякой брани оборачиваются против Платона. Ничто из поставленного в заслугу не подымается над элементарными требованиями. Самостоятельное содержание в работе режиссера «Кромвеля» отсутствовало. Такое содержание вносили в спектакль главным образом актеры.
Совсем иначе выглядели режиссерские действия Платона в глазах молодых исполнителей. Ф. Н. Каверин и другие ученики школы Малого театра играли воинов Кромвеля, «святых солдат», фанатиков-пуритан. «Нам не рассказали ни об интересном революционном времени, ни о характерах тех людей, которых мы должны были изображать… Замечания режиссуры сводились к тому, что на репетициях мы слышали: “Перейдите поправее”, “Станьте реже”, “Больше гнева” и т. п.» Все это разительно отличалось от репетиций Санина, которому «первоначально Южин поручил постановку»207*.
Молодежь Малого театра, горячо проникшись предметными уроками Санина, скептически относилась к пассивной режиссуре Платона. Спор между «санинским» и «платоновским» не утихал в труппе и с уходом Санина. Своей последней постановки в Малом театре, трагедии Шиллера «Мария Стюарт», Санин не завершил. Ее закончил, сведя на нет первоначальный план, Платон, и афиша премьеры 4 марта 1922 года была подписана его именем. Смирнова, игравшая в очередь с Яблочкиной роль королевы Елизаветы, приводила работу Санина над этим спектаклем как пример порабощения актера. Постановщик «с ярко выраженной тенденцией самоутверждения, с яркой фантазией, — писала она, — актеру враждебен. Так было, когда 94 режиссер Санин во имя единства собственного режиссерского замысла разрушил мои личные актерские замыслы ролей Елизаветы в “Марии Стюарт” и Маргариты в “Ричарде III”»208*. Здесь выразились искренние убеждения не одной лишь Смирновой.
Парадокс состоял в том, что примером самой скучной из сыгранных ролей актриса называла все-таки роль не в спектакле Санина, а в спектакле Платона, и именно в «Кромвеле»: «Очень скучные роли (роль в “Кромвеле”) уже ко второму спектаклю утрачивают свежесть, начинаешь механически повторять форму переживаний. Исчезает желание играть»209*. Живая конкретная практика не всегда подкрепляла, а порой делала зыбкой общую позицию. Это было видно еще и из того, что Смирнова, преподавательница школы Малого театра, считала своим любимым учеником Каверина, а потом увлеченно работала в Студии Малого театра, созданной в 1922 году, где ставил спектакли молодой режиссер Каверин, вскоре возглавивший коллектив. Разница актерских верований, таким образом, не имела пристрастной подоплеки, испытанный старый опыт охотно шел на помощь новым поискам в искусстве.
В стенах Малого театра победа как будто оставалась за сторонниками режиссуры, «обслуживающей» актера. Но это была уже только видимость победы. В общей перспективе советского театрального процесса дело выглядело иначе. Премьера «Кромвеля» позволила критике прямо поставить вопрос об упадке режиссерской культуры Малого театра. Об этом достаточно остро писали В. И. Блюм, М. Б. Загорский и другие видные критики тех лет. Н. Д. Волков заявлял, что работа Платона в «Кромвеле» — «пример добросовестного и кропотливого усердия. Но, к сожалению, это и пример не мастерства, а ремесла, того ремесла, что служит подножием искусству, не более. Смотря “Кромвеля” в трактовке Платона, чувствуешь себя в атмосфере девяностых годов»210*.
Режиссура, подчиненная актеру, поневоле делала несложной диалектику взаимоотношений между ними. При всей значительности актерских удач, неравноправие обедняло потенции художественного результата — спектакля.
Малый театр шел извилистой дорогой, его мировоззрение и метод обновлялись в непрямых, несинхронных соответствиях. Постановки Санина открыли перед ним новые возможности прежде всего в сфере метода. Отдельные постановки Платона, особенно «Оливер Кромвель», обозначили сдвиг в общественных позициях театра. Встреча с драматургией Луначарского, выступление «старосты Малого театра» в роли железного вождя левеллеров, обезглавливающих короля, — все это были ступени 95 подъема к новому, революционному содержанию творчества. Однако творческий метод театра в «Кромвеле» не охватил многосложности содержания и обусловленных им современных творческих проблем.
Таков был итог. Малый театр вступал в 1920-е годы, напряженно вырабатывая новые качества своего искусства на первых подступах к завтрашним высотам.
Глава четвертая
ПЕРЕПУТЬЯ МХАТ
КОНЦЫ И НАЧАЛА
Если Малый театр выказал в революции прочность творческих основ, если Александринский обновлялся во внутренних схватках, то Художественный театр испытывал тогда состояние, близкое к усталости.
В первые Октябрьские годы внимательно отнеслись к Художественному театру В. И. Ленин, А. В. Луначарский, ограждали его от иных непереносимых тягот бурного времени, заботились о нуждах его и его мастеров. Много позже, в речи на торжественном заседании 27 октября 1928 года, посвященном тридцатилетию МХАТ, Луначарский привел слова Ленина, сказанные ему в начальную пору революции: «Если есть театр, который мы должны из прошлого во что бы то ни стало спасти и сохранить, — это, конечно, МХАТ»211*.
Одной из форм защиты была ассоциация государственных академических театров: МХАТ стал одним из главных и почитаемых ее членов. В необходимых случаях за МХАТ и мхатовцев заступалась советская печать212*.
Трудности быта лишь косвенно влияли на творческую жизнь. С виду все обстояло вполне благополучно. «Блестящи дела в Художественном театре, — сообщал газетный хроникер. — С касс не снимается аншлаг»213*.
Отвечая на анкету одной из московских газет о Художественном театре, И. А. Бунин сказал: «Распространяться о заслугах Художественного театра излишне, так как он давно доказал свое совершенство в области театрального искусства. Что же касается толков о некотором уклонении этого театра от 96 своего первоначального пути, то я не только не разделяю такого взгляда, но нахожу, что такое заявление слишком смело. Художественный театр никогда не останавливался в своем развитии и все время гигантскими шагами шел вперед, завоевывая все более и более неприступные твердыни, стоявшие на его пути, чего до него никто не делал. Художественники все время находятся в постоянных исканиях, стремясь воплотить задуманное. Большею частью им это удается, и они достигают порой того, что кажется на первый взгляд совершенно недостижимым.
Говорят также о том, что Художественный театр не ищет новых пьес, как будто новые пьесы, талантливые или хотя бы стоящие воплощения на сцене, рождаются, как блины. На самом деле мы знаем, что хороших пьес в последнее время было очень мало или совсем не было. Но, помимо всего, забывают, что Художественный театр не может каждый раз давать новую пьесу, ибо тогда он перестал бы быть “художественным”. Напомню еще, что много талантливых пьес, которые вначале не могли добиться признания публики, все же ставились Художественным театром, и всегда с блестящим успехом»214*.
Защита велась безоговорочная. Но что-то натянутое слышалось в этой защите, призванной оправдать не внешние, а внутренние, творческие трудности в тогдашней жизни театра, вплоть до длительной репертуарной заминки.
Да, как прежде, Художественный театр пользовался любовью публики. Билеты на его спектакли раздобыть было сложно. Все так же блестело на афише неувядаемое мхатовское: драмы Чехова, Толстого, инсценировки Достоевского, горьковское «На дне».
Впрочем, и наличный репертуар сохранялся с большим трудом. Особенно неблагополучно обстояло дело с массовыми сценами: они буквально разваливались из-за текучих замен и равнодушия участников.
25 декабря 1919 года представление пьесы «На дне» посетил В. И. Ленин и остался им недоволен. Причиной тому была трудная тогдашняя жизнь театра. Изучив многочисленные, часто резкие подневные отзывы В. В. Лужского, К. С. Станиславского и других ответственных работников театра о прошедших представлениях, С. Д. Дрейден суммировал «то, о чем кричали записи в Дневниках спектаклей: в ряде случаев — разболтанность, несобранность, равнодушное отношение к своим обязанностям отдельных исполнителей так называемых народных сцен. Мизансцены в основном остались теми же, но далеко не всегда они насыщались “жизнью человеческого духа”. Не всегда одушевляли их самоотдача и органичность игры новых сотрудников театра. А когда утрачивалось то, что всегда составляло 97 движущую силу искусства МХТ, сцены жизни начинали превращаться в театр с маленькой буквы, дул холодный ветер театральщины»215*. Здесь нет необходимости повторять те слова возмущения и отчаяния, какие в сердцах позволяли себе тогда отцы Художественного театра. Достаточно сказать, что для всего дела это было серьезнейшим испытанием его основ на прочность, стойкость, жизнеспособность.
Сказывались последствия затяжного кризиса, который надвинулся на Художественный театр в преддверии Октября. Уже в 1910-х годах новые постановки театр выпускал редко, среди них случались мелкие, проходные, например «Осенние скрипки» И. Д. Сургучева. Не всегда давали полное удовлетворение театру и работы большого плана: «Гамлет», пушкинский спектакль 1915 года.
Как раз после пушкинского спектакля Немирович-Данченко писал Александру Бенуа, тогдашнему третьему директору МХТ: «Что Художественный театр болен, и очень сильно, в этом нет ни малейшего сомнения»216*. Смутная тревога понемногу охватывала наиболее чутких «художественников». 12 января 1917 года Немирович-Данченко говорил пайщикам театра: «Художественный театр давно находится в репертуарном тупике»217*. Таким образом, позднейшие слова Немировича-Данченко о том, что МХТ перед Октябрем пребывал в сильнейшей растерянности и утратил творческую смелость218*, опирались на ряд очевидных обстоятельств.
13 сентября 1917 года Художественный театр открыл свой двадцатый сезон премьерой «Села Степанчикова»: инсценировка В. М. Волькенштейна и В. И. Немировича-Данченко, постановка В. И. Немировича-Данченко и К. С. Станиславского, декорации М. В. Добужинского. Тем завершался предреволюционный цикл инсценировок Достоевского, весь вообще дооктябрьский путь МХТ.
Спектакль «Село Степанчиково» был реалистически зрел, творчески весом. Театр, обогащенный опытом работы над «Смертью Пазухина» Салтыкова-Щедрина (1914), наметил новые для себя возможности трактовки Достоевского — как сатирика и обличителя. Зрители ловили в нем аналогии с современными ситуациями «распутинщины», хотя многозначный образ Фомы Опискина у И. М. Москвина этим не исчерпывался; актер одержал одну из капитальных своих побед. В. Г. Гайдаров, 98 игравший студента Сергея, племянника Ростанева, мог по праву заметить впоследствии: «Определенная направленность спектакля против режима Николая II была ясна»219*.
Главная сила спектакля была в том, что он отразил коренные, национальные ситуации и характеры в их причудливых изломах и сдвигах, не расходясь с правдой Достоевского. Но по условиям времени глубина спектакля не была достаточно оценена. Премьера не прозвучала как новое крупное слово в искусстве Художественного театра, показалась фактом повторным, продолжавшим уже найденное.
С «Селом Степанчиковым», как известно, связан грустный момент актерской биографии Станиславского. Роль полковника Ростанева, которую молодой Станиславский с блеском играл в Обществе искусства и литературы, теперь не давалась исполнителю, и он, по настоянию Немировича-Данченко, отказался от нее перед премьерой. Неудача оставила кровоточащий след220*. С тех пор он не исполнил ни одной новой роли на сцене МХАТ (если не считать Ивана Шуйского в «Царе Федоре Иоанновиче», сыгранного на зарубежных гастролях труппы).
Еще раньше начал остывать интерес Станиславского к административным делам. Пребывание в должности одного из директоров МХТ становилось номинальным. Станиславского уже давно поглощали даже не обязанности актера и режиссера (спектакли и репетиции шли своим чередом), а теоретические раздумья над природой актерского искусства и связанные с этим студийные эксперименты. Опираясь на выработанные им принципы актерского стиля МХТ, отталкиваясь от них и подчас их преодолевая, Станиславский выверял звенья своей «системы». То была система воспитания актера и его работы над ролью.
Студия на Поварской, устроенная в 1905 году, не оправдала себя: Мейерхольд превратил ее прежде всего в студию режиссерских исканий. Накопления «системы» позволили организовать в 1912 году другую студию, которой Станиславский руководил вместе со своим последователем Л. А. Сулержицким. Она была для Станиславского прибежищем и надеждой, увлекала его больше, чем театр. Вокруг студии создавалась творческая среда. Горький, посетив одно из занятий, так им заинтересовался, что даже набросал несколько коротких сценарных эскизов для актерских импровизаций по «системе». Свои наброски прислал и А. Н. Толстой. Студийная система Художественного театра разветвлялась. Незадолго до революции встала на ноги Вторая студия, сыгравшая особенно важную роль в судьбе метрополии. К марту 1917 года образовалась студия 99 под руководством Вахтангова, вошедшая осенью 1920 года в общую сеть как Третья студия МХАТ.
Тем временем сам «старый» Художественный театр испытывал затруднения. Задуманное в предреволюционные годы почти автоматически передумывалось после Октября. Заявки, непогашенные, отпадали одна за другой. Несколько лет кряду Художественный театр обещал сыграть драму Александра Блока «Роза и крест» и драматическую поэму Рабиндраната Тагора «Король темного чертога», бросал работу и возвращался к ней снова, да так обещанного и не сделал. Поиски философско-поэтического театра теперь как-то не давались. Впрочем, они затрудненно протекали и раньше: в «Гамлете», в пушкинском спектакле.
31 декабря 1917 года Немирович-Данченко возобновил две удавшиеся пьесы пушкинского спектакля с заменой некоторых исполнителей. Лауру в «Каменном госте» теперь играла О. В. Бакланова, к «Пиру во время чумы» подключались молодые силы Первой студии: Г. М. Хмара, В. А. Попов, позже М. А. Чехов и т. д. Дело было не в смене актеров: революция меняла смысл, открывала новые оттенки и знаки в многозначной образности спектакля, и не его одного.
В таком виде спектакль прожил еще два сезона, радуя зрителей, по словам Ю. В. Соболева, «решительным утверждением неиссякнувших творческих возможностей театра». Попутно критик делал несколько упреков. «Пиру во время чумы» вредил «замедленный темп, не дающий представления о буйном пиршестве, овеянном дыханием смерти», а Хмара в роли Председателя играл «трагическое отчаяние», но не «трагическое величие в этом утверждении радости от упоения в бою и в “аравийском урагане”, — и зритель не содрогается от величия той мысли, мысли, насыщенной глубочайшим пафосом, которая видит залог бессмертия в том, что “гибелью грозит”»221*. На языке пушкинских образов выяснялась позиция театра в революции.
Уже было ясно, что революция заставила Художественный театр иначе взглянуть на вопросы жизни и смерти. Однако требовалось еще время для того, чтобы театр затосковал о жизнелюбии истинно пушкинском.
На первых порах самым «решительным» (берем в кавычки эпитет Соболева) из новых оттенков становилась нерешительность. Театр избегал зрелища битв на собственной сцене — битв и в фигуральном, и в прямом смысле этого слова. Сцена смерти верного Бертрана, возглас «Сколько крови! Сколько крови!» в финале драмы-поэмы Блока начинали смущать.
В день возобновления пушкинского спектакля и в канун нового, 1918 года Немирович-Данченко на собрании труппы поминал 100 «неудачу Пушкина» — в прошедшем времени, а в настоящем и будущем — намеченные пьесы Тагора и Блока222*. Но уже тогда обе задуманные новинки не могли не показаться далекими от бурь современности. Едва ли ими намеревались укрепить изрядно запоздалые связи Художественного театра с искусством русского символизма, с символистским «театром неподвижного действия», уже отжившим свой срок. Скорее, их целью было вообще продолжить опыты философско-поэтической трагедии.
В свое время близкой духовным исканиям предреволюционной поры показалась театру философско-драматическая поэма Рабиндраната Тагора «Раджа» (1910), точнее — ее авторская переделка на английском языке «Король темного чертога» (1914). В августе 1916 года пьесу Тагора в переводе поэта-символиста Юргиса Балтрушайтиса начал репетировать Немирович-Данченко. Герой, безобразный раджа, скрывался в темной пещере, оставаясь незримым для своей жены. Легенда привлекла театр поэтикой контрастов, наглядностью символических сопоставлений: тьма и свет; наружное безобразие и внутренняя красота; истинные, прочные богатства души и преходящие, мнимые соблазны… Цепочкой философских метафор намечалась судьба героини. Шудоршона (или Сударшона), жена уродливого раджи, приходила к мысли о главенстве духовной красоты над обманной оболочкой плоти, все равно, уродлива та или прекрасна. Пьеса, при минимуме какого бы то ни было движения, представляла собой на три четверти монолог героини — роль готовила М. Н. Германова. Обстоятельства внешнего порядка приостановили ход работы. Пьеса так и не вышла на сцену Художественного театра.
Все же она была сыграна 25 декабря 1918 года и еще несколько раз в подвале театра «Летучая мышь». Немировича-Данченко, отошедшего от работы над ней, сменила в качестве режиссера актриса труппы Н. С. Бутова. Актеры играли по собственному почину и по внутренней потребности, не посягая на успех. Бутова воспринимала пьесу не без мистической экзальтации. Вскоре актриса скончалась, и в некрологе Немирович-Данченко должен был отметить, что «в самое последнее время Бутова стала глубоко религиозной»223*. К самому последнему времени и относился выпуск пьесы Тагора.
Сценический результат был минимален. «Совершенно невыполнимая и неблагодарная задача — сценическое воспроизведение этой поэмы, — находил рецензент. — Получается один бесконечный 101 монолог (ибо говорит почти одна королева), чрезвычайно утомительный»224*.
Хотя Немирович-Данченко не отвечал за это зрелище как режиссер, он все же не был совсем к нему непричастен. Подвал театра «Летучая мышь», уехавшего на гастроли, находился под его опекой. Печать сообщала: «Опустевший подвал “Летучей мыши” взял на себя Вл. Ив. Немирович-Данченко, который организует в нем параллельные спектакли студий Художественного театра»225*. Должно быть, Немирович-Данченко раньше многих в театре увидел несвоевременность постановки. Позже он объяснял свой отказ от пьесы отъездом М. Н. Германовой226*. Однако «качаловская группа», куда входила Германова, отправилась гастролировать на юг России только летом 1919 года. Осенью печать в самом деле оповещала: «Постановка “Короля темного царства” Рабиндраната Тагора откладывается на неопределенное время ввиду отсутствия одной из главных исполнительниц — Германовой, отрезанной на Украине во время продвижения “белых”»227*.
В любом случае самочинное исполнение пьесы Тагора было не в счет. Совсем не увидела публика лирической драмы Блока «Роза и крест», хотя Станиславский, увлеченный условно-символическим строем этой драмы, лежащей в ее этической основе проблемой культуры и стихии, провел в общей сложности до двухсот репетиций.
Можно согласиться с Т. М. Родиной, которая пишет: «В 1916 году, когда Московский Художественный театр, приняв пьесу к постановке, ведет репетиции, когда Блок, встречаясь с коллективом исполнителей, стремится возможно глубже ввести их в свой замысел, — сам этот замысел как бы проходит в сознании Блока новую фазу своего развития»228*. Работа театра над драмой дала поэту больше, чем театр сумел почерпнуть из нее для себя.
По мере того как Станиславский искал подступы к постановке, Блок ближе узнавал Художественный театр и его мастеров. Впечатления складывались противоречивые. 17 апреля 1917 года Блок писал матери: «В сущности, действительно очень большой художник — только Станиславский, который говорит много глупостей; но он действительно любит искусство, потому что сам — искусство. Между прочим, ему “Роза и крест” совершенно непонятна и ненужна; по-моему, он притворяется 102 (хитрит с самим собой), хваля пьесу. Он бы на ней только измучил себя»229*. В самом деле, репетиции вскоре прервались.
Когда в 1918 году они возобновились, Станиславский в поисках поэтичной прозрачности действия отказался от уже готовых эскизов Добужинского как чересчур безусловных и реальных. Он задумал переоформить спектакль. Одной из промежуточных кандидатур мелькнуло имя художника А. А. Арапова. Потом И. Я. Гремиславский попробовал дать пьесу в подвижных сукнах и силуэтной резьбе: на смену изобразительности шла выразительная игра светотени и скупые намеки аппликаций.
Опять повлияли внешние причины. Декорации Добужинского отпали еще и оттого, что были по тем временам непозволительной роскошью. Но и на скромные контурные наброски Гремиславского средств не хватало. Осенью кто-то из деятелей театра сообщал репортеру: «Закончены почти все работы для постановки [драмы] А. Блока “Роза и крест”, но нет материала для декораций и костюмов»230*. Все же главная причина заключалась в другом.
Двести репетиций не приблизили к цели. Поэтику Блока режиссуре было не ухватить. Блоковская тема слитности счастья и страдания оказывалась сценически недостижимой. М. Н. Строева пишет в монографии о Станиславском: «Чем дальше шли репетиции, тем отчетливее проступала какая-то хрупкость и надмирность прекрасной трагедийной легенды Блока… Очевидно, режиссерская мысль все-таки склонялась к условному образу спектакля, но совсем оторваться от земных реалий не решалась. Окончательный замысел оставался неясным, неопределенным: как передать на сцене грубыми материальными средствами воздушную отрешенность поэзии Блока?»231*
Последний раз Станиславский репетировал 13 декабря 1918 года. Весной предполагалось работу завершить. «Теперь театр решил непременно показать ее в ближайшем театральном году», — извещала печать232*. Мысль о постановке окончательно отпала с отъездом Качалова и его группы.
В пьесе Блока театр не нашел равнодействующей между образностью средневекового рыцарское романтизма, символистской поэтикой, скифской проблематикой Блока и подробным психологизмом. Совсем как в возобновленном пушкинском спектакле, трагическое отчаяние наступало на трагическое величие 103 и теснило, заслоняло его. Вопреки намерениям Станиславского трагедийное блоковское отзывалось на сцене обреченностью и увяданием.
Весной 1921 года Блок передал — продал, по его слову, — пьесу «Роза и крест» театру К. Н. Незлобина. «В этой продаже помогали Коганы и Станиславский», — писал он матери 12 мая233*. Но театр Незлобина доживал в Москве последние дни. Следующей весной, когда он распался окончательно, Незлобин уехал в Ригу. Блока к тому времени уже не было в живых…
Последней попыткой мхатовцев разгадать «Розу и крест» были репетиции 1924 года во Второй студии. Их участник Н. П. Баталов писал тогда В. И. Немировичу-Данченко: «… работаю Бертрана, работаем “Розу и крест”, хотим большого спектакля!»234* Не вышло большого, не вышло никакого спектакля. Замысел снова не был завершен.
Факт оставался фактом. С сентября 1917 года до апреля 1920 года Художественный театр не выпустил ни одной премьеры. В печать просачивались то меланхоличные, то недружелюбные медитации о тягостном молчании МХАТ.
Но, как позже сказал поэт:
Чем продолжительней молчанье,
Тем удивительнее речь…
ОПЫТ В МИСТЕРИАЛЬНОМ РОДЕ
Осенью 1919 года «Правда» сообщала: «Художественный театр, три сезона не дававший ни одной новой постановки, в этом сезоне собирается показать байроновского “Каина” с Л. М. Леонидовым в заглавной роли»235*. Театр избрал эту трагедию (в переводе И. А. Бунина), чтобы прервать без меры затянувшуюся паузу и осторожно высказаться о современном. Ставил спектакль Станиславский.
Разные театральные течения тех лет тяготели к монументальности образов. Тернистый путь народа к обетованной земле, мистериальная схема хождения по мукам налагались на действительность революции, гражданской войны, «военного коммунизма». Отражая жизнь столь условно, «театры исканий» после первых, иногда непроизвольных находок уже намеренно стремились слить сцену и зал в едином духовном порыве. Сходные заявки наполнялись различным конкретным содержанием и по-разному осуществлялись.
104 «Мистерия-буфф» Маяковского — Мейерхольда, показанная к первой Октябрьской годовщине, агитационно преобразовала жанр мистерии еще до того, как тот пробовал заявить о себе всерьез на молодой советской сцене, в том числе на площадках пролеткультовских студий. Прямой опыт мистерии дал Художественный театр. Спектакль Станиславского стал философской романтической мистерией, повернутой вполоборота к противоречиям современности. Распря Каина и Авеля, смутьянство Люцифера, мятеж разума против веры, вся иерархия романтических бунтарств несла отзвуки битв гражданской войны в России, битв — на взгляд режиссуры — братоубийственных, до конца неясных в их причинно-следственной связи.
Идеей поставить «Каина», сыграть роль Каина зажегся Л. М. Леонидов и поделился ею сначала с Первой студией. Заслуживает внимания то обстоятельство, что этот замысел возник одновременно с замыслом «Мистерии-буфф». Осенью 1918 года печать сообщала о том, как Леонидов читал «Каина» на совете Первой студии, какой сильный отклик получила читка. За постановку взялся Вахтангов. «И он теперь все досуги проводит за “Каином”: намечает исполнителей, ищет формы, в какие могла бы вылиться эта постановка, соответствующих настроений в себе как в режиссере и тех путей, по каким надо будет повести исполнителей, чтобы “Каин” “дошел” до публики»236*. Дальше в тоне гадательных предположений пересказывались мысли Вахтангова о будущей трудной постановке.
Вахтангов к ней так и не приступил. Тогда Леонидов увлек пьесой Станиславского. Тут следует заметить, что и для Художественного театра знакомство с «Каином» не было внове. Об этой пьесе театр подумывал еще в 1907 году, но работа не началась по причинам, от театра не зависевшим. Печать прямо уведомляла, что «в Художественном театре… постановка байроновского Каина не разрешена цензурой»237*. Тем более революционной виделась пьеса после Октября.
Теперь МХАТ читал «Каина» как современник «мистериальной» эпохи, как испытующий наблюдатель ее, но позиция толкователя и судьи не оказалась достаточно прочной. Е. И. Полякова пишет в новейшей книге о Станиславском, что режиссер «видит Люцифера “страшным анархистом”, а Бога — “ужасным консерватором”, Каина — большевиком, стремящимся к “оголенной правде”, из которой когда-нибудь “будет добро”. И актеры, и прежде всего сам режиссер путаются в этих аллюзиях, в проблематике классовой борьбы, определяющей сегодня жизнь России. Станиславский в своих заметках, в своей работе над 105 спектаклем — вопрошающий, сомневающийся, а не отвечающий на вопросы, не разрешающий сомнения»238*.
Тут же отзывались битвы эстетического ряда: театр литургических слияний сцены и зала противостоял театру рационального анализа, митингового единства действующих и смотрящих. После открытой генеральной репетиции 2 апреля 1920 года один из зрителей писал Леонидову, что вначале, перед закрытым еще занавесом, появился Станиславский и, разъясняя постановочный замысел, говорил публике «о желательности слияния сцены с зрительной залой, души артистов с душой зрителей»239*.
Впоследствии такого рода проблемы, хотя и не отпали совсем, конкретно углубились в опыте театра; сначала в подходе к истории народно-освободительной борьбы («Пугачевщина» Тренева), потом во все более бесстрашном анализе гражданской войны как таковой («Дни Турбиных» Булгакова, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова). Стремясь выразить идею всенародного театра, школа Станиславского впредь не подымала себя «над схваткой». Что же касается дней премьеры «Каина», тогда расплывчатый замысел постановки волей-неволей мешал сблизить сцену и зал. В. Г. Гайдаров, игравший роль Авеля, отметил в мемуарах: «Разрыв во взглядах зрителя и Станиславского произошел вследствие недооценки последних событий Октября»240*. Ожидаемого литургического слияния не получилось, зритель ничего не мог переинтонировать в спектакле, и «Каин» быстро сошел с афиши, провожаемый притворно сочувственными вздохами и плохо скрываемыми насмешками.
Пожалуй, одна только указанная анонимная заметка «Вестника театра» рекомендовала премьеру в бесстрастных описательных тонах: «Вся постановка выполнена в величественных движениях, в замедленном темпе, соответствующем важности мировой мистерии, разыгрывающейся пред глазами зрителя. Многие места идут на музыкальном фоне оркестра, органа и хора». Тут же воссоздавался облик зрелища: «Первое и третье действия разыгрываются “близ Эдема” и представлены в виде вневременного и внепространственного храма, с простыми геометрическими линиями, с величественными колоннами и ступенями. Все это выполнено из серого неокрашенного холста, меняющего окраску только в зависимости от освещения. Первая картина второго действия, где Люцифер показывает Каину все мироздание, — полное торжество машины, невольно напоминающее о чудесах “Синей птицы”. Перед зрителем проходит весь звездный мир и хаос мироздания. Вторая картина того же действия — в стране мертвых с величественными неподвижными фигурами ранее живших душ».
106 Но в том же «Вестнике театра» М. Б. Загорский вносил резкие поправки: «Нас не должны вводить в искушение все эти опыты с монументальными архитектурными формами, с музыкальными и световыми эффектами и приглашением к “соборному творчеству”. О каком сотворчестве зрителей может идти речь там, где “бездну пространства” стремятся непременно изобразить миганием бесчисленных лампочек, а царство смерти с его с ничем не похожими и не сравнимыми тенями и образами отобразить кладбищенскими памятниками Андреева? Бессилие театра дать почувствовать космическую фантастику Байрона и ложь устремления дать все это увидеть и ощупать глазами — вот основной грех всего спектакля. На этом пути нет места сотворчеству зрителей, и даже больше: именно на этом пути убивается возможность его, потому что внимание зрителя уводится от внутреннего к внешнему, от диалога к фокусам техники, от эмоции к бутафории…» Критик констатировал очевидную неудачу Леонидова в центральной роли и заключал: «Только тяжкий долг летописца заставляет не замолчать этот печальный спектакль. Лучше, если бы его не было вовсе»241*.
Остальные органы печати, в сущности, так и поступили — сделали вид, что спектакля не было. Премьера почти не имела прессы. Все же рецензия Загорского оказалась не единственной. Ее даже опередил отклик Садко — В. И. Блюма, по тону чуть более снисходительный: «В этих поисках кое-что и достигнуто. Полновесный тон выдержан в характере живописных тяжелых складок, выразительность групп, нередко сильный жест, порой даже таировский кунсштюк (декламация Люцифера) — все это определенно указывает на некоторый сдвиг»242*. Здесь он мало расходился с Загорским. Тот упоминал о «путях Художественного театра, пройденных до конца», считал, что неудача с «Каином» «окончательна для судеб целого театрального направления, как бы мы ни называли его — натурализмом или художественным реализмом».
Блюм и Загорский не разминулись в оценках мхатовского спектакля о гражданской войне. Через каких-нибудь полгода оба они сами объявят «гражданскую войну» этому и другим театрам академической ассоциации. Застрельщики и трубадуры близящегося «театрального Октября», соратники Мейерхольда, они согласно поведут штурм академических твердынь. Блюм — как редактор «Вестника театра», ставшего с его приходом центральным органом «театрального Октября». Загорский — как активный автор этого органа и заведующий литературно-агитационной частью Театра РСФСР-1.
107 Скептически оценил спектакль Таиров, даром что Блюм хвалил «таировский кунсштюк» Люцифера — В. Л. Ершова. Словно спеша отмежеваться, Таиров заявлял на лекции перед труппой 31 мая 1920 года: «Я не хочу говорить об этом спектакле, во многом очень интересном, но во всем своем целом глубоко трагическом и трагичном. Трагичном потому, что он вскрывает все банкротство всей системы Художественного театра… Но я тем не менее считаю возможным сослаться на ту картину, где Люцифер вместе с Каином летит в надзвездное пространство. Вы помните, как в это время мелькают электрические лампочки на заднике, и они изображают собою звезды. Вы помните, как опускается какой-то бесформенный кусок из тюля, долженствующий изображать из себя землю, как появляется электрическая луна на горизонте и как все это вместе взятое оставляет нас все-таки не только глубоко равнодушными, но очень раздосадованными, очень глубоко огорченными, пожалуй…»243*
Среди черновых набросков Таирова сохранился и недоуменный пассаж о чертах бытовизма в игре Леонидова, переводившего спектакль «из плана трагедии в план жанровой пьесы»244*. Предвзятости тут не было. В откликах Таирова звучал тот самый протест, о котором писал Блюм, протест художника против уступок сценическому иллюзиону.
В книге «Записки режиссера», находившейся тогда еще на письменном столе ее автора, Таиров критиковал «Каина» сдержанней — за то, что не совпали расчеты театра и отзвук зала: о том «Пушкинский спектакль в Художественном театре и особенно трагически доказательное в этом отношении представление “Каина” говорят лучше и ярче всяких слов»245*.
Взгляды критиков «Каина» с разной мерой субъективности отражали, увы, объективную реальность.
Журнальный отчет об одном из докладов Немировича-Данченко сообщал: «Отвечая на записки из публики, В. И. Немирович-Данченко назвал Художественный театр в настоящее время израненным театром, лишившимся из-за отъезда качаловской группы почти 3/4 своих театральных возможностей. Отсутствием подлинных и опытных актеров, сжившихся с театром, Докладчик объясняет и провал “Каина”, в котором выпала центральная роль Люцифера»246*. Слова о провале прозвучали открыто и во всеуслышание.
«Сырой, незаконченный спектакль не имел успеха», — признал и Станиславский247*. Сразу за этим грустным признанием 108 следовало и другое: «Тем не менее польза от него была». Станиславскому показалось полезным в «Каине» решение вопросов режиссерской технологии, таких, как ритмические связи слова и движения на сцене, замена живописи скульптурой и архитектурой: условными полыми колоннами, огромными статуями на фоне холста. Некоторые оформительские новшества Станиславского и Н. А. Андреева были вынужденными из-за нехватки черного бархата и других дефицитных тогда материалов. А отдельные находки ритмодинамики обогатили разработку «системы».
СТУДИЙНЫЙ АРХИПЕЛАГ
Тем временем своим чередом продолжались раздумья над теоретическими основами «системы». Черновые записи Станиславского отразили поиски общей цели и главного смысла творчества в театре. «Система моя должна служить как бы дверью для творчества. Но надо суметь не загородить, а отворить эту дверь для себя», — помечал Станиславский, добавляя: «Не от системы, а через систему»248*. Репетиция «Каина» и размышления над «системой» соприкасались непосредственно. Одно подстрекало другое.
Станиславский не спешил обнародовать в печати свои находки, а делился ими только с учениками и сотрудниками в ходе постановочной и студийно-педагогической практики. Мало сказать: не спешил. Он строго отчитывал тех, кто, не спросясь, в меру собственного разумения торопился распространить принципы «системы» с помощью статей и брошюр. Неофиты своевольничали.
За поверхностные заимствования Станиславский сильно рассердился на В. С. Смышляева, актера Первой студии и режиссера пролеткультовских студий, выпустившего в Пролеткульте книгу о режиссуре249*. По словам раздосадованного учителя, Смышляев оказался «плохим и отсталым учеником»: он путано изложил преподанные ему мысли, попадаясь на «неудачной терминологии, которую я, — писал Станиславский, — стараюсь постепенно исправить»250*. Без чувства неловкости Смышляев преподносил читателям находки, еще не обнародованные их открывателем. Притом книга, особенно во втором издании, содержала и дельные рекомендации молодым режиссерам-практикам. В этом втором, развернутом издании гриф Пролеткульта парадоксально соседствовал с авторским посвящением: «Дорогому 109 Константину Сергеевичу Станиславскому от благодарного ученика». Идеи учителей, подхваченные учениками, часто пускаются бродить по свету независимо от авторской воли, преображаясь в пути разнолико и многократно.
Но даже Вахтангов, никогда не бывший слепым адептом творческих вероучений, порицал в печати и пионера подобных разработок Ф. Ф. Комиссаржевского, и Смышляева, и своего друга по Первой студии М. А. Чехова за произвольный пересказ «системы» для расхожих потребительских нужд. Популярная статья Чехова в альманахе Пролеткульта251* вызвала твердую отповедь Вахтангова, который советовал «терпеливо ждать момента, когда труды К. С. будут напечатаны»252*. Вторая статья Чехова появилась в этом альманахе уже без подписи253*. При очевидной преданности задаче такая популяризация была субъективна и отчасти бестактна: разбирались мысли, еще не высказанные их автором в исчерпывающей полноте; не то что формулировки — сами идеи Станиславский пересматривал и отменял.
Вахтангова за это помянул добром после его смерти критик Ю. В. Соболев. Как бы продолжая мысль Мейерхольда об одиночестве Станиславского в кругу сподвижников и учеников, Соболев писал: «Вахтангов — единственный продолжатель подлинных заветов Станиславского, ученик, воспитанный в его традиции, — имел право заявить, что передача теории в том виде, в каком она излагается и Комиссаржевским, и в особенности Смышляевым, способствует не ее уяснению, а затемнению, не популяризации, а вульгаризации»254*.
«Система» вызывала борьбу центробежных и центростремительных сил на разных уровнях «большого МХАТ», то есть в структуре театра-метрополии, окруженного архипелагом студий.
Коллектив Первой студии, выросший в атмосфере замкнутых лабораторных занятий, со смертью Л. А. Сулержицкого быстро самоопределялся и все больше обосабливался. Возник собственный, притом долговечный, репертуар. Элегический «Сверчок на печи», показанный в преддверии мировой войны, всей своей сутью осуждал грядущие события. Наперекор войне рождалась гомерическая буффонада «Двенадцатой ночи», выпущенной уже в декабре 1917 года. «Комедия Шекспира вьется, кружится, танцует, скачет, поет, смеется, — писал рецензент, — и великая 110 сила жизни, здоровья, простая, от народа идущая веселость и простота, и великая мудрость и острота сверкают в беззаботной как бы песне шута»255*. Б. М. Сушкевич и сам рассматривал свою постановку как отклик на новую, советскую современность. «Буйная жизнь нашего “сегодня” врывается невольно и в мирную студию и заражает своим трепетом душу, ищущую художественной правды», — замечал он256*.
Выходило так, что испытательная площадка, созданная Станиславским для экспериментальных проб по «системе», явочным порядком заявила себя театром собственной творческой программы, тяготевшим к независимости. Ученики все больше своевольничали, и в трактовке «системы», и в непосредственной практике. Огорченный учитель не мог этого не ощутить. «Факт охлаждения К. С. Станиславского к студии стал очевидным. Он все реже и реже приходил сюда. Последней работой студии, к которой прикоснулась его рука, была как раз “Двенадцатая ночь”», — свидетельствовал А. Д. Попов257*.
С «Двенадцатой ночью» дело обстояло даже еще сложнее. Можно было спорить, кто больше отступал от «системы» в этом спектакле: студия или же сам творец «системы». Свой взгляд на этот счет имел Вахтангов. Как раз в те дни он репетировал в Первой студии «Росмерсхольм» Ибсена; премьера состоялась 23 апреля 1918 года. Так вот, Вахтангов упрекал в «отступничестве» именно Станиславского. 3 августа 1917 года он писал А. И. Чебану, участнику «Росмерсхольма», что не понимает, зачем в «Двенадцатой ночи» Станиславский «накрутил такого, что страшно… Это с принципами простоты!..» «Странный человек К. С. Кому нужна эта внешность — я никак понять не могу. Играть в этой обстановке будет трудно. Я верю, что спектакль будет внешне очень интересным, успех будет, но шага во внутреннем смысле эта постановка не сделает. И система не выиграет. И лицо Студии затемнится. Не изменится, а затемнится. Вся надежда моя на вас, братцы росмерсхольмцы!»258* Недоумевал Вахтангов. Недоумевал много лет спустя верный вахтанговец Б. Е. Захава, оценивая ситуацию в целом: «В этом споре Вахтангов на стороне стопроцентной психологической правды, Станиславский на стороне театральности. Парадоксально, но факт»259*. Успех «Двенадцатой ночи» и неудача «Росмерсхольма» решили спор в пользу Станиславского. Значило ли это, что Вахтангову в ту пору еще недоставало широты взглядов? Очень может быть. И все-таки искатели однозначных определении 111 для классиков советской режиссуры частенько попадали впросак. Даже если это были сами классики, искавшие единственной метки друг для друга. Нет ничего переменчивей, чем жанрово-стилевая репутация в театре. Своеобразие не однообразно.
Можно признать, что Вахтангов времен «Росмерсхольма» больше поклонялся «системе», чем сам Станиславский, — тот в «Двенадцатой ночи» допускал шалости игровой импровизации, вообще шел на уступки студийцам, прежде чем уйти совсем.
Вахтангов требовал предельной психологической объективности и от собственных стуцийцев-мансуровцев, ставя с ними «Чудо святого Антония» Метерлинка, — спектакль был выпущен 15 сентября того же 1918 года. Не допускалось ни иронии, ни сарказма, разве что изредка — расположенная к людям улыбка, доброжелательный юмор. Захава, игравший доктора, вспоминал, что «Вахтангову в то время был абсолютно чужд тот сатирический подход, на основе которого он впоследствии, переработав спектакль, создаст его знаменитый второй вариант. “Можно сыграть эту пьесу как сатиру на человеческие отношения, — говорил он тогда, — но это было бы ужасно!”»260* То, что потом развернулось как вечно вахтанговское в театре, еще не пробилось наружу из-под службы «системе». В этом смысле режиссер был аскетичен, как герой его спектакля.
Понадобились дни раздумий о резко переменившейся жизни, о том, что современно в искусстве и нужно народу, чтобы к Вахтангову пришла свобода художника, которой он велик в истории революционного театра.
Немало значило здесь то обстоятельство, что в сезоне 1918/19 года студия Вахтангова получила для своих спектаклей Народный театр, открытый театрально-музыкальной секцией просветительного отдела Моссовета на Кремлевской набережной, у Каменного моста261*. К начальной поре этой работы относилась запись в дневнике Вахтангова от 24 ноября 1918 года: «Надо взметнуть, а нечем. Надо ставить “Каина” (у меня есть смелый план, пусть он нелепый). Надо ставить “Зори”, надо инсценировать Библию. Надо сыграть мятежный дух народа». Считая, что «взметнуть» нечем, Вахтангов подразумевал нехватку подходящего современного репертуара — его действительно только еще начинала создавать нарождавшаяся советская драматургия. О нужной новой пьесе оставалось пока что мечтать. И он мечтал: «Хорошо, если бы кто-нибудь написал пьесу, где нет ни одной отдельной роли. Во всех актах играет 112 только толпа. Мятеж. Идут на преграду. Овладевают. Ликуют. Хоронят павших. Поют мировую песнь свободы. Какое проклятие, что сам ничего не можешь…»262*
Но ничего похожего показать в Народном театре не привелось. Шла первая редакция «Чуда святого Антония». Исполнялась одноактная инсценировка «В гавани» по рассказу Мопассана, — Вахтангов поставил ее еще перед революцией в Мансуровской студии, и мансуровец Л. А. Волков потом вспоминал, как Вахтангов «плакал настоящими слезами, когда показывал “Гавань”, а мы сидели зачарованные, с блестящими глазами»263*. Социальные и нравственные мотивы этой вещи сильно отдавались в зрительном зале Народного театра. Вахтангов собирался поставить там еще две небольшие пьесы близкого характера — о прекрасной способности человека понять и простить другого: «Вор» Октава Мирбо и комедию ирландки Изабеллы Грегори «Когда взойдет месяц». Из-за болезни пришлось отдать постановку Р. В. Болеславскому и Б. М. Сушкевичу, друзьям по Первой студии.
В Народном театре вахтанговцы соприкоснулись с массовым зрителем. Репертуар, прикрепленный к стационарной площадке, впервые стал у них регулярным. Позже один из студийцев, известный в будущем поэт П. Г. Антокольский, рассказывал: «Мы играем спектакли для красногвардейцев, они жадны, восприимчивы, требовательны, чутко прислушиваются к социальной правде. Они приходят в театр не зря, а “образовываться”, учиться. И с красногвардейцами наш театр оправдывает свое громовое название, он действительно становится театром молодого свободного народа»264*.
Главное же, новое дело дальше подвинуло напряженные раздумья Вахтангова о задачах народного театра в эпоху революции. Он писал в марте 1919 года: «Постановки Народного театра должны быть непременно грандиозны, непременно с массовыми сценами, непременно героического репертуара». Этого не было пока что в театре у Каменного моста, где один короткий сезон стажировалась студия. Но после сделанной проверки Вахтангов ясней увидел впереди «настоящий и истинно народный театр, отражающий и растящий революционный дух народа»265*. Речь шла об активном просветительстве. Дневниковые записи выплеснулись в статье «С художника спросится…», где Вахтангов определил свое приятие революции: «Если художник хочет творить “новое”, творить после того как пришла она, Революция, то он должен творить “вместе” с народом. Ни для него, ни ради него, ни вне его, а вместе с ним»266*. Вахтангов был тут 113 заодно с Блоком, с призывом поэта: «Слушайте революцию», с его мыслями о новом искусстве, развернутыми в программе петроградского Большого драматического театра.
Происходили реальные сдвиги. Руководя своей студией, Вахтангов в равной мере принадлежал всей студийной системе МХАТ. Естественно, эта система разделяла многие его мысли. Летом 1919 года завязались тесные связи Вахтангова со Второй студией: с ней и несколькими своими студийцами он начал репетировать «Сказку об Иване-дураке и его братьях» Л. Н. Толстого, инсценированную М. А. Чеховым. Работу, прерванную болезнью Вахтангова, заканчивали Станиславский и Б. И. Вершилов. Даже критики из стана «театрального Октября» поддержали, в целом, это детище «академистов». Э. М. Бескин писал: «Вторая студия Художественного театра, поставив толстовскую сказку об Иванушке-дурачке, почти вплотную подошла к тому, чего мы ищем, — к спектаклю, пронизанному током современности, да еще в форме народно-сказочной. Чуть-чуть не крепкий агитационно-художественный спектакль»267*. В. И. Блюм давал такую характеристику: «Социологическая сказка — в манере крепкого и сочного примитива. “Классовое строение общества” — и стиль лубка… Сказка, в конце концов, неплохо инсценирована»268*.
Правда, такой критик вне группировок, как П. А. Марков, отнесся к спектаклю куда строже: ему претил тот «лубок в противоречивом соединении с психологизмом, который был показан в день премьеры»269*.
Но афиша премьеры не назвала имени Вахтангова, его работа осталась у истоков замысла. Премьеру эту показали только 22 марта 1922 года, когда Вахтангов уже не в силах был ее посмотреть. Все же, как бы ни расходились авторы спектакля и критики в вопросах «социологии», важна оценка актуальности, признание того, что идеи зрелища отзывались в жизни, и наоборот.
Влияние Вахтангова на Вторую студию продолжало ощущаться и после его смерти — поскольку он «органически соединял в своем творчестве основные положения системы с внутренней потребностью в современных формах»270*.
Не ослабевали и связи с Первой студией. Пока позволяло здоровье — и даже когда не позволяло — Вахтангов по-прежнему 114 там играл и режиссировал. Тяга первостудийцев к игровой буффонаде, заявленная «Двенадцатой ночью», вскоре поникла и сменилась поворотом к народному мистериальному действу. Именно в Первой студии, как упоминалось, забрезжила сначала мысль о «Каине» Байрона, которого собирался ставить Вахтангов, о «Гадибуке» С. А. Ан—ского, потом поставленном Вахтанговым в студии «Габима», — там мистериальное духоборство вырастало из суровой фольклорной обрядности и подымалось над бытом, отточенным до символа, до ритмизованного гротеска в манере Калло. Посетив «Гадибук», Горький писал о «почти гениальном режиссере» Вахтангове271*, должно быть допуская, что время снимет ненавязчивую оговорку почти. Рядом с такими спектаклями и проходила мечта Вахтангова об инсценировке Библии, вообще вершин всечеловеческой мифологии, духовной трагедийности, мятежной веры.
О ВАХТАНГОВСКОМ ГРОТЕСКЕ
В поисках народного зрелища революционной эпохи Вахтангов не сторонился «вечных» тем. На одной из прощальных бесед с учениками он сказал: «Не все, что современно, — вечно. Но то, что вечно, — всегда современно»272*. Он постигал современное в вечном. На путях подобных поисков ему открывались, впрочем, не одни лишь мистериальные формы.
Вахтангов уже не считал, что сатирически изобразить буржуазно-мещанскую среду в «Чуде святого Антония» было бы ужасно. Похоже, что как раз прокат первой редакции «Чуда» в Народном театре у Каменного моста навел режиссера на мысль о второй версии спектакля. Там правда психологической жизни сохранялась у святого Антония, у простодушной служанки Виржини, чье имя говорило о девственности, нетронутости. Алчная же среда гротескно двоилась — сначала тупоумно скептичная, а потом пришибленная страхом, когда незабвенная мадемуазель Ортанс деревянно приподымалась на одре смерти. Святой Антоний Падуанский, прожив миг духовного экстаза, вновь становился спокоен и самоуглублен — один из немногих живых на фоне машинальных, сочлененных теней человеческих, всех этих разноликих, плотоядных, но одинаково силуэтных, траурных тварей. Про таких говорят: богом убитые… Житейская метафора развертывалась в сценической реализации. Критикам приходили на память свирепые образы Гойи, уроды Леонардо да Винчи.
Премьеру второй, окончательной редакции «Чуда святого Антония» показала 29 января 1921 года Третья студия МХАТ. 115 Так стала называться студия вахтанговцев после того, как 13 сентября 1920 года был подписан приказ о ее включении в систему Художественного театра. Она и была одной из цветущих ветвей могучего мхатовского древа. Это признавали и раньше. Еще осенью 1918 года так именовал ее, пока что в кавычках, близкий мхатовским студиям литератор О. Л. Леонидов273*. А теперь, после новой редакции «Чуда», это казалось тем более естественным. Анонимный критик писал: «Не порывая решительно с историческими традициями Художественного театра, Вахтангов умело использовал все ценное, здоровое и сильное, что оставил нам в наследство театр, из недр которого вышел и он сам и его актеры. Премьера метерлинковской пьесы составила целое событие для театральной Москвы»274*. Можно было даже подосадовать, до чего однообразно склоняли тогда рецензенты слово чудо в связи с успехом второй редакции спектакля.
А 13 ноября 1921 года представлением «Чуда» открылся постоянно действующий театр Третьей студии на Арбате — ныне Академический театр имени Евг. Вахтангова. В концерте после спектакля выступили Е. Б. Вахтангов, К. С. Станиславский, М. А. Чехов…
Творческий взлет Вахтангова в последние два года его жизни был беспримерен. Вторая редакция «Чуда святого Антония» и «Гадибук», показанный 31 января 1922 года, стали крупнейшими образцами вахтанговского трагического гротеска. В годичный промежуток между ними вместились другие значительные работы все в том же гротескно-трагическом плане: «Эрик XIV» Стриндберга, поставленный в Первой студии совместно с Б. М. Сушкевичем, вторая версия чеховской «Свадьбы».
В «Эрике XIV» психологизм Стриндберга был экспрессионистски обострен. Изломы сценической площадки, неровные срезы плоскостей и условных колонн, появлявшийся в последнем акте куб, резкие графические гримы — все это, по мысли режиссуры и художника И. И. Нивинского, было знаками распада изображаемой среды, говорило о призрачности, преходящести властителей и самой их власти. Такая степень условности была для Первой студии внове. Критики переводили оценивающие взоры со студии МХАТ на Камерный театр, на Таирова и его художников, — не для того, чтобы свести Вахтангова с Таировым, а скорей для того, чтобы развести его со Станиславским. Подчеркнутый облик спектакля заставил Н. Н. Евреинова удовлетворенно изречь: «На фоне футуристически условных декораций актеры с кубически расчерченными лицами просто 116 топтали ненавистными Станиславскому “котурнами” его заветы»275*. Это было далеко от истины. Как будто МХТ не ставил спектаклей, ничуть не менее условных по понятиям 1900 – 1910-х годов, добиваясь органического существования актера в заданных обстоятельствах. Того же теперь ждал от актеров Вахтангов, помещая их в атмосферу исторического краха, гибельных предчувствий, в некую «страну обломков», с крошевом устоев, заставляя придворных сновать по лестницам и переходам, как крыс тонущего корабля. Показывая уже неживое в еще живых, казалось бы, людях, Вахтангов не отрекался от Станиславского, а уважительно оглядывался на него, чтобы по-новому выразить революционную оценку прошлого. 5 апреля 1921 года, через неделю после премьеры «Эрика XIV», в журнале академической ассоциации «Культура театра» (№ 4) Вахтангов настаивал: «Верная учению К. С. Станиславского, ищущему выразительных форм и указавшему средства… теперь Студия вступает в период искания театральных форм. Это первый опыт. Опыт, к которому направили наши дни, — дни Революции»276*.
И если можно было все-таки спорить о мере верности Станиславскому, бесспорным оставалось то, что спектакль дышал революцией — и в своей структуре, и в своей фактуре. Как писал П. А. Марков, «противоречивую постановку Стриндберговой трагедии нельзя отделить от Москвы тех лет, от разрушенных домов, красных знамен, уличных плакатов, марширующих отрядов Красной Армии, резких прожекторов, освещающих ночное небо над Кремлем, одиноких автомобилей, прорезающих улицы, слухов, бегущих из квартиры в квартиру»277*. А это значило, что спектакль своей сутью, своей образностью и интонациями был адресован современности, ее безбытному быту, разрухе, контрастам уходящего и идущего взамен.
На сцене экспрессионистски сгущались тени ужаса и сострадания. Ужаса одинокого, обреченного, безумного, опрометчивого короля, короля вообще, не обязательно шведского, не важно какой страны и эпохи… И сострадания к нему, совсем еще юноше, раздавленному непомерным игом власти, собственным произволом, безотчетностью расправ и благодеяний невпопад.
Дважды в спектакле Эрик — Чехов сталкивался с народной толпой. Каменные лица, вывернутые позы. Прочно сбитые, грубо одетые тела поворачивались к нему с затаенной угрозой. А у него из-под серебристых одежд выдавались тонкие, слабые руки и ноги.
Не склонный упрощать духовную драму выкладками социологии, Вахтангов ставил спектакль все-таки о самопожирающем 117 безрассудстве всевластия, где слишком многое смахивает на бред, где отменить или поправить нельзя ничего. Эрик Несчастный погибал, никем не оплаканный. Сцена погружалась во мрак, а когда освещалась опять, виделся опустевший трон и брошенные около него погремушки королевской власти. Вахтангов описал финал: «Придворные трубы играют траурный марш, церемониймейстер относит оставленные Эриком регалии — корону, мантию, державу и скипетр — Следующему, и этот Следующий в ритм похоронной музыки идет на трон. Но за троном стоит уже палач. Королевская власть, в существе своем несущая противоречие себе, рано или поздно погибнет. Обречена и она. Стрелы в короне, стрелы на мече, стрелы на одеждах, на лицах, на стенах…»278*
Призывы к добру, обостренные странностью лиц и душевной надсадой проповедника-режиссера, звучали в спектакле библейски сурово. Социальное и нравственное, исповедь и проповедь были тут неразлучны.
Проницательно заметил Ю. П. Анненков: «Сумасшедшим является, пожалуй, трон, а не занявший его молодой король»279*. И добавлял в другом месте: «Чехов, конечно, играл не шведского короля Эрика XIV, сына Густава I Вазы, — Чехов играл любого безумного короля»280*.
В вахтанговской трактовке Стриндберга проглядывал еще один план инсценированной Библии. Снова шла речь о добре и зле, жестокости и жалости, о Каине и Авеле, схватившихся внутри одной бедной души, о еще живом в человеке — главе и жертве бесчеловечного устройства жизни. Собственно, теперь, после всего созданного Вахтанговым, Библию можно было и не инсценировать.
Но сходная тема явочным порядком прорвалась тогда же и в чеховской «Свадьбе». Первоначально Вахтангов поставил шутку Чехова в сентябре 1920 года именно как шутку. Б. Е. Захава вспоминал, что та постановка блистала «непринужденностью, легкостью, простотой и юмором»281*. А затем как бы повторился путь преображения «Чуда святого Антония». Веселое и смешное уплотнилось в трагический гротеск. 26 марта 1921 года Вахтангов записал для памяти: «Бытовой театр должен умереть. “Характерные” актеры больше не нужны. Все имеющие способность к характерности должны почувствовать трагизм (даже комики) любой характерной роли и должны научиться выявлять себя гротескно. Гротеск — трагический, комический». Другими словами, гротеск — по-разному сопрягающий крайности: почти 118 только трагический, почти чисто комический, но еще и трагический и комический вместе, с преобладанием то этого, то того. От преобладающе комического гротеска первой версии «Свадьбы» режиссер во второй постановочной версии подымался к гротеску преимущественно трагическому. В другой, смежной записи он размышлял: «Я хочу поставить “Пир во время чумы” и “Свадьбу” Чехова в один спектакль. В “Свадьбе” есть “Пир во время чумы”. Эти, зачумленные уже, не знают, что чума прошла, что человечество раскрепощается, что не нужно генералов на свадьбу»282*. В том трагедия, но с нею сарказм. Выпаливал еще один залп по неистребимой обывательской пошлости. Людям напоминали, что они люди. Живые с виду, но бездуховные персонажи походили на деревянные игрушки судьбы. В фантасмагории финала безответно звучал вопль потерянного, несуразного капитана Ревунова-Караулова:
— Человек!.. Человек!..
Возглас тонул в среде людей, убивших в себе людское. «Безнадежный вопль обиженного старика приобретал неожиданно символический смысл и тоскливым эхом отдавался в сердцах зрителей», — вспоминал Б. Е. Захава и тонко определял этот смысл: «Если в живом человеке зритель ощутит заводной механизм вместо сердца, ему станет жутко. Не живое в мертвом, а мертвое в живом — таков мир, показанный Вахтанговым в чеховской “Свадьбе”».
Когда закрывался занавес, потрясенный зал надолго немел, прежде чем разразиться аплодисментами. Одно из представлений посетил М. А. Чехов. По рассказу Б. Е. Захавы, он «безудержно хохотал, смотря шедший перед “Свадьбой” “Юбилей”, но когда закрылся занавес после “Свадьбы” и студийцы, находившиеся в зрительном зале, подошли к Чехову, чтобы спросить о впечатлении, они увидели, что лицо выдающегося артиста залито слезами. И он тихо при этом шептал: “Какой ужас! Какой ужас!”»283*.
А вместе с тем современности посвящалась не одна лишь гротескная расправа над обывательщиной. Обидно было бы не уловить зрелую мысль Вахтангова: человечество раскрепощается. Новое в жизни грядет…
«Эрик XIV» в Первой студии, «Чудо святого Антония» и «Свадьба» в Третьей студии несли на себе, как писал Н. Г. Зограф, «печать изменившихся взглядов Вахтангова и, несмотря на некоторое различие, связанное с индивидуальными отличиями коллективов и авторов, объединены единством темы, общностью трактовки, сатирическим изображением мира буржуазии и режиссерскими приемами, раскрывающими нежизненность и бездуховность разлагающегося общества»284*. Вывод исследователя, 119 пусть с характерным для времени социологическим словарем, вобрал в себя один из итогов эволюции Вахтангова.
Все эти спектакли представили разносторонние грани вахтанговского трагического гротеска. Гротеск не был сферой проб одного Вахтангова — о том же размышлял Станиславский. Во многом они сходились, кое о чем спорили. У Станиславского предостаточно было послушных учеников-единоверцев и не так уж много вдумчивых единомышленников, понимавших его до конца, способных рассуждать с ним о символе веры. Ю. В. Соболев, браня книгу В. С. Смышляева в цитированной уже статье 1922 года «Трагедия одиночества», должно быть, не зря возобновлял разговор, начатый годом раньше запальчивой статьей В. М. Бебутова и В. Э. Мейерхольда285*. Там гениального мастера напрямик противопоставляли растерянной и равнодушной мхатовской среде трудных лет. Одиночество Станиславского можно было почувствовать еще сильней, когда писалась статья Соболева. Вахтангова уже не было в живых.
А Станиславский, с его душевным магнитом на таланты и потребностью передавать в надежные руки свои находки, дорожил тем, что дар Вахтангова пружинисто развертывался в студийной структуре МХАТ, помогая оживиться этой структуре. Когда Станиславский, заметно охладев к «старому» МХАТ, помышлял о театре — Пантеоне, где чередовались бы лучшие спектакли разных мхатовских когорт и легионов, он возлагал на Вахтангова главные надежды и был рад, что тот разделял с ним идею Пантеона, вообще двигал дальше живые начала театра.
Еще в 1915 году Станиславский написал на портрете, подаренном Вахтангову: «Вы первый плод нашего обновленного искусства. Я люблю Вас за таланты преподавателя, режиссера и артиста; за стремление к настоящему в искусстве, за умение дисциплинировать себя и других, бороться и побеждать недостатки. Я благодарен Вам за большой и терпеливый труд, за убежденность, скромность, настойчивость и чистоту в проведении наших общих принципов в искусстве»286*. Станиславский с годами ценил его все больше. Когда Первая студия праздновала десятилетие работы Вахтангова в Художественном театре, Станиславский снял с пиджака свой золотой значок основателя МХАТ — эмблему-чайку — и прикрепил к отвороту пиджака Вахтангова287*. Это было в апреле 1921 года. Спустя год Станиславский преподнес ему еще один свой портрет с надписью: «Милому, дорогому другу, любимому ученику, талантливому сотруднику, единственному преемнику; первому, откликнувшемуся на зов, поверившему новым путям в искусстве, много 120 работавшему над проведением в жизнь наших принципов; мудрому педагогу — создавшему школу и воспитавшему много учеников, вдохновителю многих коллективов, талантливому режиссеру и артисту, создателю новых принципов революционного искусства, надежде русского искусства, будущему руководителю русского театра»288*. Станиславский писал эти строки, когда дни Вахтангова были сочтены. Но он не утешал и не притворялся: за ним подобного не водилось. Так Станиславский думал, да так оно и было.
Доверие Станиславского к Вахтангову как единомышленнику в искусстве измерялось, конечно, не словами, а поступками. В сезоне 1921/22 года учитель захотел под контролем ученика заново пройти роль Сальери в пушкинской маленькой трагедии: надо было доискаться, наконец, до причин неудачи 1915 года, от которой остался саднящий след в душе. Таких встреч вышло меньше, чем рассчитывали оба, хотя можно понять Вахтангова, очутившегося в роли наставника-режиссера перед собственным великим учителем. Мешала болезнь. «Дорогой Константин Сергеевич, я совсем расхворался, так что последние дни даже лежу. Вот почему не ищу Вас для “Моцарта”…» — писал Вахтангов 21 января 1922 года289*. Скоро Вахтангов умер. Станиславский принял эту потерю как личную и между прочим сожалел: он «для меня во всю свою жизнь нашел только 2 вечера, чтобы вместе поработать над Сальери»290*. Бесед было в обрез, но заодно, как видно, пришлось добираться и до корней других тревожных вопросов.
Например, к тем дням современники-мемуаристы отнесли спор между учителем и учеником о гротеске, отраженный в позднейшей заметке Станиславского «Из последнего разговора с Е. Б. Вахтанговым»291*. То была несколько односторонняя заметка, «записанная, к сожалению, в виде монолога, так что мыслей Вахтангова мы в этой записи не находим», — как справедливо посетовал Р. Н. Симонов292*. Во многом основательно предположил К. Л. Рудницкий293*, что такой спор вообще вряд ли мог иметь место и Станиславский продиктовал свою заметку лишь после того, как ему попались на глаза публикации некоторых дневниковых размышлений Вахтангова. Из них выяснялось, в частности, что верность «системе» не мешала Вахтангову высоко ценить режиссерские искания Мейерхольда и видеть недостатки в режиссуре Станиславского. Набросок «последней беседы» скорее походил на очередной монолог учителя 121 Торцова из «Работы актера над собой», чем на фрагмент воспоминаний. Кроме того, известны ведь и другие наброски Станиславского о гротеске — в них, по существу, он сходился с Вахтанговым.
В цепи рассуждений К. Л. Рудницкого одно звено уязвимо: ссылка на успех гротескных спектаклей Вахтангова у Станиславского. «Гадибук» не в счет, его Станиславский не видел. Когда в сентябре 1920 года Станиславский и Немирович-Данченко смотрели «Чудо святого Антония» и «Свадьбу», действительно был успех и студия Вахтангова стала Третьей студией МХАТ. Деликатность ситуации лишь в том, что игрались не окончательные, а первые версии постановок, где Вахтангов считал присутствие сатиры «ужасным». Так что в споре о гротеске этот просмотр и этот успех не довод, а препона. Впрочем, не высказался на сей счет и оппонент К. Л. Рудницкого, Б. И. Ростоцкий294*. С другой стороны, нет данных о том, чтобы Станиславскому претили окончательные, гротескные версии названного спектакля: обе пьесы часто шли в один вечер…
«ТУРАНДОТ», СВОБОДА И ОПТИМИЗМ
«Эрик XIV», «Чудо святого Антония», «Свадьба» — вершины вахтанговского гротеска, вершины направленных исканий в той же мере, что и вершина комедийности той театральной эпохи — светящаяся радостью жизни «Принцесса Турандот» по сценарию Гоцци.
Ученики Вахтангова потом справедливо писали о современной, революционной, оптимистической природе спектакля. Она рождалась благодаря соединенным усилиям всех участников. Уже в том была новизна творчества. Такого открытия не могло быть вне обстановки раскованности, какую дала искусству революция.
У вахтанговской «Турандот» имелись, разумеется, предшественники. Вахтангов слышал про опыты Мейерхольда в студии на Бородинской, связанные с народной итальянской комедией масок, изучал журнал доктора Дапертутто «Любовь к трем апельсинам». Он не мог не знать и сравнительно новую тогда книгу К. М. Миклашевского о комедии дель арте. Вероятно, он внимательно читал корреспонденции о нашумевшей постановке «Принцессы Турандот» Шиллера в берлинском театре Рейнгардта, нарядной и изысканной стилизации на манер французской фарфоровой chinoiserie. Он мог видеть «Принцессу Турандот» Гоцци на московской сцене: в 1912 году ее поставили Ф. Ф. Комиссаржевский и художник Н. Н. Сапунов в театре К. Н. Незлобина. То был праздник пышной стилизации и игры ex improviso.
122 В мейерхольдовском журнале Вахтангов мог прочитать о том, что осенью 1913 года Незлобин перенес московскую постановку в свой петербургский театр и объявил себя ее автором. И хотя на афише по-прежнему значился Гоцци, Петербургская версия «носила на себе заметный отпечаток шиллеровской трактовки», как писал В. Н. Соловьев. «Исчезла ироническая улыбка Гоцци, и ее заменила психологическая мотивация». Критик сердился: «Режиссер предложил вниманию зрителей этнографический, почти современный Китай, забыв, что действие пьесы происходит на сказочном итальянском Востоке XVIII в., где неподалеку друг от друга и Пекин, и Астрахань, и Тифлис. Но этого мало. Этнографически-реалистический Восток был преподнесен режиссером в условно-театральной рамке декоративно-архитектурных форм большого парадного спектакля». Из этого вытекало то, что Соловьев счел «самым великим грехом» содеянного: «… зрительный зал не был связан со сценой продуманным построением просцениума», а потому «появление масок в публике и заключительный уход актеров через зрительный зал казались жалкими, так не скоординировано было это шествие с масштабами большого зрительного зала. В тесной связи с шиллеровский взглядом на пьесу Гоцци находилась и вся игра актеров. Плохие стихи перевода читались со сцены с тем романтическим пафосом, который считается безвкусными актерами единственно законным, когда играется Ростан или Д’Аннунцио…»295* Перевод был еще одной примечательной чертой постановки: он делался не с итальянского оригинала, а с немецкого перевода.
Вахтангов не предполагал ставить «Принцессу Турандот». Постановку, что называется, навязали ему студийцы. И суть результата определялась попыткой оттолкнуться от знаемого и пройденного, от литературщины и театральщины, чтобы выразить неповторимое сегодня, живое нынешнее я студии — каждого ее студийца и всех играющих вместе, передать зрителям свою молодую искреннюю бодрость, сделать сцену и зал единым пространством общения. На каком-то начальном этапе работы Вахтангов наверняка перечитал дельную статью Соловьева.
А началось все с того, что одна из учениц студии показала на текущем зачете отрывок из «Принцессы Турандот» Шиллера. Студийцы тут же захотели заняться всей пьесой. Не сочувствуя затее, Вахтангов разрешил самостоятельно подготовить несколько сцен под руководством студийцев Ю. А. Завадского и К. И. Котлубай. Еще в октябре 1918 года он записал важную для него мысль: «Главная ошибка школ та, что они берутся обучать, между тем как надо воспитывать»296*. Тяга студийцев 123 к «Турандот» была для Вахтангова примером негативной инициативы, далекой от спроса времени и истин искусства, примером, как раз подходящим к тому, чтобы не обучать, а воспитывать.
Увлеченные студийцы испытали удар, когда Вахтангов просмотрел их работу, спокойно оценил и безоговорочно отклонил все в целом. И декларативный пафос Шиллера, переданный всерьез, и стилизованная «китайщина» пластики — все это шло вразрез с той жизнью, какой жила голодная и холодная, но бодрая, дерзновенная Москва за стенами студийного зала. Да и от действительных интересов самих студийцев показанное ими отстояло далеко, а потому выглядело натянутым, в чем-то пародийным.
Но именно жизнь, революционно преобразившаяся, прежде всего и навела Вахтангова на замысел спектакля, в котором студийцы, импровизируя, шаля, выразили бы свое нынешнее мироощущение, свое радостное приятие современности, повели за собой зал, приглашенный в партнеры. Жизнь — куда в большей степени, чем отборные приемы игры и подсказки критиков-знатоков. Отклоняя пьесу, Вахтангов, по рассказу А. А. Орочко, «говорил, что после революции никого не может интересовать, как какая-то дура не хочет выходить замуж. Затем он прочел книгу об итальянских актерах и после этого пришел к нам и говорит: давайте попробуем…»297* Имелась в виду упомянутая книга К. М. Миклашевского.
Как выразить себя сегодняшних, как передать шумное сегодня, как сделать зал поверенным намеков и шуток, напарником веселой игры? Об этом думал Вахтангов, предлагая студийцам, уже примирившимся с утратой «Турандот», вместе пофантазировать о приемлемых контурах спектакля. Шиллер тут не подходил. Зато сценарий Гоцци позволял набросать на его канве легкие штрихи бегущего дня, отблески лиц и происшествий, а с сюжетом обходиться по совести: разыгрывая его по всей правде, вдруг иронически сбить иллюзию, скомпрометировать вычурное переживание и позу, понимающе переглянуться актерам между собой и с залом.
Те, что играли роли сюжета, выходили на сцену сначала во фраках и вечерних платьях, обменивались вольными шутками, на глазах у зрителей надевали условные костюмы персонажей — «китайские» или «татарские», легко подбрасывали в такт вальсу Н. И. Сизова подвернувшиеся под руку аксессуары, прежде чем нацепить на себя. Б. Е. Захава, игравший Тимура, отца принца Калафа, подвязывал вафельное полотенце вместо окладистой бороды восточного старца; О. Н. Басов, преображаясь в китайского царя Альтоума, воздевал вместо скипетра теннисную ракетку; кто-то напяливал на голову абажур… Актеры 124 вступали на изогнутую, круто наклоненную к залу игровую площадку, с аркой и сменными пристройками, сооруженную художником «Эрика XIV» И. И. Нивинским, и сами подвешивали к блокам, тянули кверху красочные ткани — «тряпки Нивинского», обозначая убранство дворца Альтоума. Все напоказ заявляло об условной игре. Играли актеров итальянской комедии, игравших образы пьесы. Вахтангов предложил Орочко в роли рабыни Адельмы такие задачи: «Адельму играет жена директора. Ходит огромными шагами, навязывает трагические банты на себя и на кинжалы. Комедийная женщина. Она странствующая актриса, у нее грязные туфли, подвязанные веревками. Так как она играет только трагические роли, то говорит низким голосом, вынимает кинжал когда надо и не надо. А потом он сказал: “Теперь эта смешная актриса ваш монолог говорит… Начинайте”»298*.
Сходные условия игры предлагались Ц. Л. Мансуровой в роли бессердечной принцессы Турандот. Играя актеров, играющих роли, исполнители-вахтанговцы поминутно высовывали нос из образа, напоминая о себе настоящих, не скрывая своего насмешливого или высокомерного отношения к образу.
Не менялись только четыре маски комедии дель арте. Они сразу, без переодеваний, входили на сцену и первыми начинали игру. Смешливый толстячок Тарталья здесь был великим канцлером царя, почтенный, седовласый Панталоне — министром, проворный, оборотистый Труффальдино — начальником евнухов в гареме царской дочери Турандот, а трусоватый грубиян Бригелла — начальником дворцовой стражи. И если те, остальные, больше играли сюжет, общаясь с публикой чаще через партнера, то эти четверо несли на себе главную нагрузку общения с залом, оттеняли главное содержание вахтанговского спектакля, олицетворяли природу его условности, смешно мешая традиционное с текущим в злободневных импровизациях.
Летучие интермедии на просцениуме заменялись другими: «Тут были отклики на злободневные театральные новости, на новые постановки московских театров, были остроты, направленные в адрес критиков и отдельных деятелей театра. Были сатирические характеристики политических деятелей зарубежных буржуазных стран. Так, например, одновременно с международной конференцией в Генуе на сцене Малого театра состоялась премьера пьесы Шиллера “Заговор Фиеско в Генуе”. На эту тему исполнителем роли Труффальдино (то есть самим Симоновым. — Д. З.) была пущена крылатая острота, что в Москве, мол, идет пьеса “Фиаско заговора в Генуе”»299*. Вахтанговцы, не сговариваясь, конечно, с Маяковским, произносили, так сказать, и свою речь на Генуэзской конференции. 125 Приметы спектакля-обозрения, надежного и неотъемлемого сценического жанра 1920-х годов, легко вплетались в сквозную ткань импровизационных междудействий, тем более делая главным не сюжет сказки, а содержание игры.
В прологе традиционно заикавшийся Тарталья — Б. В. Щукин представлял публике участников. О В. К. Львовой, игравшей одну из рабынь Турандот, он сообщал: «Очень хорошо знает китайскую жизнь, потому что три года жила в Китае…» — и после долгой борьбы с заиканием завершал начатую фразу: «… в Китай-городе… в Москве».
Панталоне — И. М. Кудрявцев был наделен повадками и интонациями рязанского жителя, прятавшегося под итальянской маской. «Какой вам дать совет? Я приехал к вам на днях из Италии», — объявлял Панталоне царю Альтоуму. Великий канцлер Тарталья уличал самозванца во лжи. «Ничаво подобного», — степенно ответствовал Панталоне. «Я думал, ты рязанский…» — доверчиво говорил Тарталья, когда оба оставались наедине с залом. «А я и есть рязанский», — соглашался тот.
Филигранно отделанные импровизации безотказно воздействовали на зал и отзывались за его стенами. Когда Н. Ф. Монахов играл Труффальдино в комедии Гольдони «Слуга двух господ» на сцене Ленинградского Большого драматического театра, его чисто Гоцциева реприза в любовной сцене со Смеральдиной: «Так я же стыдливенький!..», — произнесенная на тот же распевный рязанский манер под оглушительный хохот зала, выдавала зависимость от импровизаций вахтанговских актеров.
Был постоянный и переменный состав интермедий, некоторые возникали к случаю, как непредвиденный экспромт. Когда только что вернувшиеся из-за рубежа актеры «качаловской группы» посетили «Турандот», шедшую в тот вечер на основной сцене МХАТ, Тарталья — Щукин по ходу действия вдруг разыграл своеобразное приветствие В. И. Качалову, Н. Г. Александрову и их спутникам. В одной из интермедий, как вспоминал В. В. Шверубович, «он протрещал языком телефонный звонок, поднял воображаемую трубку и, разглядывая сидящих в восьмом ряду Василия Ивановича, Николая Григорьевича и других, рассказал “собеседнику” про них, что они хорошо выглядят, что у них добрые лица, что им, наверно, нравится спектакль… Весь зал захлопал, — продолжал Шверубович, — наши встали и кланялись во все стороны. Это была их первая встреча с московской публикой, встреча теплая и сердечная»300*.
Как правило, шутки тщательно готовились заранее, чтобы тем сильнее блеснуть непринужденностью. Важна была злободневность острот, еще важней — стилистика находчивой импровизационной игры. Эта стилистика распространялась, естественно, и на персонажей сюжета с их намеренно несуразной 126 одеждой и заведомо утрированным гримом, а главное — с откровенно саморазоблачительной игрой. «Я не могу в покое быть!» — мрачно восклицал наставник Калафа Барах — И. М. Толчанов и резко сдвигал усы под подбородок. В минуту трагического выбора, решая, бежать ли или пасть от жестокой руки Турандот, Калаф — Ю. А. Завадский размахивал снятой с ноги туфлей и отчаянно бил ею себя в грудь. Романтические вспышки всюду сопровождала ирония актерского отношения к образу. Особенно в общении с масками просцениума обнажалась невзаправдашность романтической игры.
Притом в представлявших актерах, беззлобно и счастливо потешавшихся над переживаниями, жила совершенно искренняя, до наивности, до детскости вера в правду предлагаемых обстоятельств, в логику невероятностей. Чем больше смешила зал несуразность, тем светлее и чище была вера актеров. «Поистине можно было подумать, что его Тарталье лет десять-двенадцать от силы», — писал П. Г. Антокольский о Б. В. Щукине301*. Вахтанговская актриса М. Д. Синельникова поясняла: «Помню, как, работая над этой ролью, Щукин много наблюдал за детьми. Он подсмотрел, как ребенок, в чем-то убеждая товарища, помогает себе всем телом. Так было и у Тартальи, когда он стремился что-то доказать своему другу Панталоне. И заикался Тарталья не потому, что он заика, а потому, что он ребенок, который не может высказать связно мысли, захлебывается словами»302*. С видом государственной озабоченности прижимая папку «Musik» к своему зеленому камзольчику, щукинский Тарталья пускался в убежденные диспуты-перебранки и глубокомысленно наставлял встречавшихся ему на сцене. А сварливый, трусливый и не менее ребячливый Бригелла — О. Ф. Глазунов, в белом костюме с зелеными полосами и красным пятном на груди, — тот и на публику напускался, особенно когда капельдинеры к заранее условленной интермедии впускали в зал опоздавших. Тарталье приходилось его укрощать: «Бригелла, не пугай публику!» Оба изображали тут билетеров и помогали рассадить зрителей по местам.
В этих шутках, свойственных театру, в полете актерской фантазии, в веселом режиссерском безумстве имелся свой смысл, говоря словами шекспировского героя. В стихии импровизации, организованной актерской верой и правдой, побеждал вахтанговский фантастический реализм, который рождался не из фантастики, конечно, а из творческой фантазии художника. Условные отношения и маски спектакля чудесным образом помогали актерам не отгородиться от зала, а дружелюбно сблизиться с ним и высказаться о себе. Прав был Б. Е. Захава, когда утверждал, 127 что вахтанговская «Турандот» являла собой, «по сути дела, произведение лирическое. Сказка — только предлог. Не о принцессе Турандот, а о самих себе рассказывали в этом спектакле Вахтангов и вахтанговцы. И рассказывали они правдиво, искренне, заразительно. Они рассказывали о своей юности, о своем счастье учиться и овладевать актерским мастерством, о радости творчества, о своей любви к жизни, к искусству, к театру, о своей вере в будущее…»303*
Прав был и Ю. А. Завадский, взглянувший на событие еще шире. По его словам, Вахтангов «точно ощутил созвучие предложенного им решения пусть неимоверно трудной, но ярко героической эпохе гражданской войны, соответствие будущего спектакля настроениям зрителя, рожденного Октябрем, его демократизму… В огромной идейной ясности и эмоциональной щедрости спектакля, которые чувствовались в каждом его мгновении, ощущались в каждой его детали, — непроходящий смысл последнего творения Вахтангова»304*. И десять лет спустя после премьеры «Турандот» живой студийной верой отзывались слова Завадского, давно ушедшего от вахтанговцев, но преданного памяти учителя: «Именем его (пусть бесчисленны были ошибки и срывы мои) строился и строится во мне мой сегодняшний день. Конечно, Вахтангов в театре был бы нашим вождем сейчас»305*.
Сколько ни прожили на свете «турандотовцы» первого призыва, каждому навсегда запомнился ошеломительный успех генеральной репетиции 27 февраля 1922 года, когда актеры и студийцы мхатовского содружества во главе со Станиславским, стоя, нескончаемо рукоплескали участникам спектакля и его отсутствовавшему творцу. В первом же антракте Станиславский позвонил Вахтангову домой, а так как тот не в силах был говорить, передал «телефонограмму» его жене: «Около телефона стоят старики Художественного театра и просят передать, что все восхищены, восторжены. Этот спектакль — праздник для всего коллектива Художественного театра… В жизни МХТ таких побед наперечет. Я горжусь таким учеником, если он мой ученик. Скажите ему, чтобы он завернулся в одеяло, как в тогу, и заснул сном победителя»306*. Но заснуть Вахтангову не дал сам Станиславский. Не удовлетворившись телефонным звонком, он в следующем антракте отправился на извозчике к Вахтангову домой, чтобы поделиться радостью и подбодрить, — содержание беседы рассказал потом Н. М. Горчаков307*, сопровождавший Станиславского. 128 Начало следующего акта пришлось задержать. Ночью, после спектакля, Станиславский сделал горячую запись в книге почетных гостей Третьей студии308*. 7 апреля 1922 года Немирович-Данченко послал Вахтангову свой портрет с надписью: «Евгению Богратионовичу Вахтангову. В ночь после “Принцессы Турандот”. Благодарный за высокую художественную радость, за чудесные достижения, за благородную смелость при разрешении новейших театральных проблем, за украшение имени Художественного театра»309*. Он оставил и запись в книге гостей, где остро звучали слова: «Да, создатель этого спектакля знает, что в старом надо смести, а что незыблемо. И знает, как! Да, тут благородная и смелая рука действует по воле интуиции, великолепно нащупывающей пути завтрашнего театра»310*. Так раскрывалась суть эмоциональных впечатлений, так определялся исторический смысл сделанного Вахтанговым.
Когда Вахтангов умер, Немирович-Данченко развернул свою мысль в интервью журналу «Театральная Москва». Он утверждал, что «корнями всего своего театрального мировоззрения Е. Б. Вахтангов до последних дней своей жизни, несомненно, оставался в Художественном театре». Притом он выдавался вперед, потому что «был необычайно, исключительно чуток к звучанию современности в театре вообще». Оттого так горька утрата: «Тот Художественный театр, каким он должен стать, понес незаменимую потерю»311*. Вахтангов представал тут человеком из будущего, который вел за собой в будущее подразделения МХАТ, а с ними и весь вообще советский театр. С полной категоричностью говорил Немирович-Данченко 29 ноября 1922 года на вечере в Художественном театре, посвященном памяти Вахтангова: «Он создавал новый театр. С удивительной чуткостью он ловил черты нового театра и умел их синтезировать, сочетать с тем лучшим, что было в Художественном театре. Новый театр предугадывался им настолько ярко, что Художественный театр явственно ощущает, что именно Вахтангов оказал сдвиг в его искусстве»312*.
Как ни покажется это невероятным, спектакль не был понят зрителями официальной премьеры, состоявшейся назавтра после генеральной репетиции, и встретил весьма прохладный прием у первых критиков. Например, небезызвестный до революции беллетрист Марк Криницкий, писавший после Октября агитпьесы для Пролеткульта, оценивал теперь спектакль с позиций истинно пролеткультовских — как признак гибели, «самозаклания» буржуазного театра — и противопоставлял романтической 129 иронии Вахтангова сознание собственного пролеткультовского превосходства313*.
Но спектакль говорил сам за себя: его успех у широкого зрителя все возрастал. К ноябрю 1922 года он выдержал 100 представлений, 18 марта 1924 года шел в 300-й раз, 30 ноября 1926-го — в 500-й, 12 февраля 1940-го — в 1000-й раз, а всего прошло 1038 представлений. В 1963 году Р. Н. Симонов создал новую редакцию спектакля, и 13 ноября 1981 года, в день шестидесятилетия вахтанговского театра, «Принцесса Турандот» шла уже в 2000-й раз.
Менялись и интонации критических отзывов. Разумеется, театральный старообрядец А. Р. Кугель не мог принять вахтанговский спектакль, когда его привезли весной 1923 года в Петроград: «Если цель этого очаровательного дурачества, — ибо местами оно, точно, очаровательно, — показать, как, в сущности, далека эта сказка Гоцци от форм современного искусства и нашего взыскующего духа, — то эта цель достигнута блистательно»314*.
Но еще в Москве спектакль получал и справедливые, порой восторженные отзывы печати, где разъяснялась его новаторская ценность для современного искусства. Имея в виду текучую импровизационность действия в «Турандот», С. А. Марголин писал после сотого представления, что ни одно из ста не походило вполне на другое. «Вахтангов заразил театр неповторимым спектаклем. Вахтангов убил возможность повторять…»315* Именно эта особенность спектакля озадачивала многих своей непривычностью. Петроградский режиссер Н. В. Петров, говоря об увиденном, употреблял такие эпитеты, как гениальный и трагичный, и все же не мог подавить сомнений. «Несмотря на всю исключительную талантливость выдумки и добросовестность», это зрелище как раз из-за импровизационных вкраплений, казалось ему, «все же не может быть названо спектаклем и остается лишь любопытным представлением»316*. Отзыв сам давал любопытнейший пример того, как талантливое событие в искусстве может натолкнуться на инерцию привычных вкусов. Среди откликов петроградцев имелась и рецензия К. М. Миклашевского, автора той самой книги о комедии дель арте, которая заставила Вахтангова вернуться к «Принцессе Турандот». Миклашевскому «Гадибук» понравился больше317*…
130 На разных стадиях театрального процесса выдающуюся роль «Турандот» пытались принизить по-разному, что вызывало порой попытки некоторых вахтанговцев обелить и «разъяснить» Вахтангова почти по-булгаковски. Но важно другое. Классики советской режиссуры Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд понимали и ценили классические творения Вахтангова, прежде всего «Принцессу Турандот». Не случайно П. А. Марков, рецензируя весной 1925 года «Мандат» Н. Р. Эрдмана в ГосТИМе, заметил, что находки постановщика в гротескной фантасмагории третьего акта достигали «сгущенности, смелости и наполненной вахтанговской остроты»318*. Речь шла об отзвуках фантастического реализма Вахтангова. А Станиславский, по позднейшему свидетельству того же Маркова, сказал о третьем акте «Мандата»: «Мейерхольд добился в этом акте того, о чем я мечтаю»319*. На вахтанговской линии поисков Станиславский и Мейерхольд снова сходились. Эта линия оставила глубокий след в реализме советской сцены и там продолжилась.
Нельзя не согласиться с Т. И. Бачелис, которая оправданно пишет: «Вахтангов, Мейерхольд, позднее Брехт — если брать крупнейшие, поворотные фигуры революционного театра — каждый по-своему преодолел, реформировал реализм прежней сценической “картины жизни”»320*.
Мастером революционного искусства сделал Вахтангова Октябрь. Эстетические поиски и находки художника советский театр взял на вооружение. Когда умер Вахтангов, в литературе уже родился Булгаков, скоро пришедший в театр. Веселые и печальные фантасмагории современных неустройств обернулись московской разновидностью сценического гротеска 1920-х годов — московской модификацией петербургской гофманианы Гоголя и Достоевского. Образовался промежуточный подступ к тому, чтобы вахтанговское было, наконец, осознано эстетически и освоено практически. Москва, 1920-е годы, окрестности МХАТ — вот координаты отсчета, вот топография стиля, который продолжился во времени, всюду узнаваемый как вахтанговский.
Перечень редких ценностей, созданных гением Вахтангова, подтверждал всеобщую истину: революционная современность повернула актера и режиссера открытым лицом к зрителю всенародного театра…
Студии шли своими путями, отдаляясь от отчего дома организационно. Одна лишь Вторая студия осталась верна и во 131 всех смыслах слова сохранила привязанность к Художественному театру, а со временем в нем без остатка растворилась.
Станиславский болезненно пережил кризис студийной структуры МХАТ. На отдалении лет, 28 декабря 1926 года, когда МХАТ праздновал десятилетие Второй студии, фактически уже не существовавшей, он начал речь словами: «Я себя чувствую сегодня королем Лиром, который растерял всех своих дочерей и, наконец, под старость обрел свою любимую Корделию»321*. Трагедию действительно шекспировской силы должен был испытать великий реформатор сцены, видя, как центробежные силы отдаляют от него созданные им талантливейшие студии.
Но пока связи со студиями еще держались. И радостным успехом, мажорно завершившим трудный начальный этап послеоктябрьского пути, стал для Станиславского-постановщика и для руководимой им труппы «Ревизор» Гоголя с участием М. А. Чехова в роли Хлестакова и И. М. Москвина в роли городничего. Премьера 8 октября 1921 года принесла театру закономерную победу, одержанную на кровно близкой ему почве реалистической классики. Смелые находки в сфере психологического гротеска содержала игра Чехова. А городничий — Москвин читал монолог «Чему смеетесь?», поставив ногу на будку суфлера и обращаясь к залу, а в зале тем временем медленно зажигался свет. Смело режиссировал Станиславский, налаживая прямоту контактов сцены и публики за полгода до «Турандот». И весьма возможно, что кто-нибудь в зале, а то и на сцене в такую минуту вспоминал опыт литургического слияния в «Каине», здесь мужественно перечеркнутый открыто условным приемом из арсенала чуть ли не агиттеатра. Недаром даже Мейерхольд, отрицавший искусство Художественного театра того времени, должен был признать «оригинальность, эксцентричность и виртуозность» игры Чехова и отметить «ряд превосходнейших mise en scène, введенных вечно юным мастером Станиславским»322*.
Объективный и тонкий анализ замечательного спектакля читатель найдет в названной выше монографии М. Н. Строевой о Станиславском.
21 мая 1922 года в Москву, как уже было сказано, возвратилась группа актеров Художественного театра во главе с В. И. Качаловым и О. Л. Книппер. А 10 октября МХАТ почти в полном составе тронулся в дальнюю дорогу. Впереди лежали города Западной Европы и Соединенных Штатов.
132 В ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ
Глава пятая
МАЛЫЙ ТЕАТР
ПУТЬ ТРАДИЦИИ
В 1923 году, когда страна праздновала столетие со дня рождения Островского, прозвучал призыв Луначарского: «Назад к Островскому!» Малый театр нашел в нем поддержку. Разумеется, призыв имел отнюдь не буквальный смысл. В специфических условиях этого театра он предполагал стремление вперед, к новой, советской классике. Первые рубежи были взяты очень скоро — после того, как театр справил и собственное столетие.
О поддержке можно было говорить лишь в духовно-нравственном отношении. «Дом Островского» в год своего юбилея материально процветал. Печать свидетельствовала: «Малый театр один из немногих с успехом выдержал в этом сезоне экзамен на самоокупаемость. Его сборы оказались значительно выше других театров»323*.
Столетие праздновалось в конце октября 1924 года. Луначарский и Южин заложили памятник писателю перед фасадом театра. Это был не показной обряд. «Дом Островского», «дом Щепкина» хранил верность заветам. В программу юбилейного спектакля вошли два отрывка из шекспировского «Отелло» — в честь Мочалова — и водевиль Соважа и де Лурье «Матрос», в котором трогал сердца Щепкин. Затем исполнялся апофеоз «Сто лет Малого театра», сочиненный и поставленный И. С. Платоном. В отрывках из «Отелло» выступил А. И. Южин. Матроса Мартина Симона играл В. Н. Давыдов, надев уцелевшие в костюмерной театра синюю матросскую куртку, красный жилет с блестящими пуговицами, белые брюки-клеш и мятую бескозырку, в которых играл Щепкин. Пощипывая вьющуюся бородку, он исполнял нехитрые вокальные номера по нотам, сохранившимся от щепкинской роли. «Давыдов свой комедийно-романтический 133 образ строил на резких сменах душевного состояния так же, как Щепкин исполнял “Матроса” когда-то», — вспоминал А. Н. Глумов и добавлял: «В умопомрачительной по мастерству, по силе эмоции “двойной игре” Давыдов был незабываемо правдив»324*.
С 1925 года Южин по болезни отошел от руководства, получив титул «почетного директора Малого театра». Директором стал выдвиженец-коммунист В. К. Владимиров. Но традиции не обрывались, разве что режиссура почувствовала себя немного вольнее. На афише преобладала классика: «Горе от ума», «Ревизор», «Свадьба Кречинского», пьесы Островского, «Ричард III» и «Юлий Цезарь» Шекспира, «Мария Стюарт» Шиллера… К прежним постановкам прибавлялись новые. Их новизну определяло воздействие времени. Находки сплошь и рядом были почином актера. Ведь играли на сцене Е. К. Лешковская, В. О. Массалитинова, В. Н. Пашенная, В. Н. Рыжова, Е. Д. Турчанинова, А. А. Яблочкина, М. М. Климов, М. Ф. Ленин, А. А. Остужев, П. М. Садовский, Н. К. Яковлев и те, что приходили на смену. Актерское искусство Малого театра всегда было высокой художественной ценностью. Оно вобрало в себя национальный сценический опыт, несло глубокое содержание жизни. Оно властно утверждало себя и ревниво охраняло свои права. «В традиции ли это Малого театра?» — такова была мера приятия нового и формула самозащиты, причем имелась в виду традиция прежде всего актерская. Малый театр оставался театром актера, театром драматурга.
Актер нередко выступал автором спектакля. «Снегурочка» (1922) была режиссерским дебютом Садовского, пригласившего в помощь молодого Ф. Н. Каверина. Народно-поэтические черты «весенней сказки» Островского выразились в светлом колорите славянских культовых действ, в поэтизации природы, в прозрачной и хрупкой чистоте Снегурочки — Н. А. Белевцевой, для которой роль была актерским дебютом в Малом театре. Много лет спустя Белевцева вспоминала, что Садовский «понимал пьесу не бытово, не жанрово, он чувствовал ее романтический строй», а потому особенно тщательно выверял звуковой порядок спектакля325*. Садовский передавал и мотивы социального неравенства. Красавец Мизгирь — постановщик играл его сам — был антиподом народной стихии спектакля в романтической сфере чувств: своекорыстный «торговый гость» посягал на недоступную ему красоту, истаивающую при грубом материальном прикосновении.
Таким же актерским спектаклем была комедия «Сердце не камень», поставленная И. С. Платоном в декорациях К. Ф. Юона (1923). Нравственный поединок и здесь оттеняли социальные 134 мотивы. В. Н. Давыдов, работавший под конец жизни в Малом театре, играл поражение самодура Каркунова в схватке с прямой и скромной женщиной. Пашенная открывала в Вере Филипповне силу духа, достоинство личности. Актеры блестяще играли Островского, режиссура же была, в сущности, ни при чем. С укором приговаривал критик премьеры, что зрелище, «поставленное вчера на сцене Малого театра, снова возвращает зрителей в атмосферу дома Щепкина и Островского»326*. Исполнители же видели в том похвалу.
Платон, опытный режиссер при актерах, сам, случалось, писал для них пьесы. Посовещавшись со «стариками» труппы, он разводил акт: не посягая на текст и ремарки, намечал мизансцены. Так он ставил комедию Островского «На всякого мудреца довольно простоты» (1923). В его спектакле не было ничего похожего на вольности Эйзенштейна, одновременно показавшего «Мудреца» в московском Пролеткульте с переписанным текстом, гротескными масками зарубежных политиканов, цирковой акробатикой и клоунадой. Там, в Пролеткульте, давали зрелище агиттеатра. Здесь, на академической сцене, жили в согласии с автором. Сатира не теряла качеств юмора, была тонка и рождалась изнутри. Постепенно обнаруживали себя ханжеское суесловие Турусиной — Лешковской, глупость Мамаевой — Яблочкиной, лицемерие проницательного угодника Глумова — Садовского. И все же недалек от истины был Ромашов, заметивший: «Как ни прекрасен сам по себе концерт В. Н. Давыдова и Е. К. Лешковской в “Бедности не порок” или в “Мудреце”, должно сознаться, что большое мастерство становится увядающим на сцене Малого театра и обновление его властно необходимо»327*. Это был дружеский совет расположенного к театру литератора — не то что обычные тогда посвисты слева, скажем, в адрес упомянутого концертного спектакля «Бедность не порок» (1924)328*.
Впрочем, не следует забывать, что именно Платону принадлежала первая горьковская постановка Малого театра — «Старик». Платон ставил и одну из первых пьес новейшего репертуара — «Железную стену» Б. К. Рынды-Алексеева (1923), романтизированную притчу о короле-революционере. Ее разыгрывали Белевцева и Гоголева, Южин, Садовский, Остужев, Ленин, Нароков, что обеспечило зрительский успех. Но справедливо предостерегал рабочего зрителя И. И. Анисимов насчет революционности и художественности «Железной стены»: «Спектакль имеет только относительную ценность. Он доказывает, 135 что сдвиг захватил даже столетнюю твердыню Малого театра. Но по существу “Железная стена” только поверхностная, слащавая история в революционном духе»329*. Каждому было ясно притом, что выбирать новые пьесы пока что особенно не приходилось.
Однако и в пределах классики стали пробиваться активные режиссерские поиски. В 1919 – 1931 годах здесь работал режиссер Н. О. Волконский. Он оживил академическую традицию с оглядкой на опыты левого фронта.
В фонвизинском «Недоросле» (1923) Волконский иронизировал над бытом, подавая его в приемах пышно стилизованного лубка. В 1926 году режиссер поставил «Доходное место» Островского. Чтобы укрупнить социально-обличительную тему комедии, раздвинуть хронологические рамки действия, Волконский и с ним художник Нивинский перенесли чиновных персонажей на несколько ступеней вверх по иерархической лестнице — чуть не до самого трона. Вышневский преобразился в блестящего военного генерала с орденом Андрея Первозванного в бриллиантах, каким награждали великих князей, и обитал в дворцовых покоях, его гостиная преобразилась в малахитовый зал с колоннами и статуями. Бриллиантовая диадема на голове его жены и вовсе напоминала корону. Соответственно возвысились Юсов и другие чиновники. Но, как писал после премьеры П. А. Марков, «текст пьесы этого не выдерживал. Отрываясь от быта, Волконский неизбежно придал условный характер пьесе и из действующих лиц сделал условные маски театрального порядка»330*. Гиперболизация распространялась на все стороны постановки и находила недостаточно поддержки в материале прежде всего бытовом.
Преобразилась и вдова Кукушкина, пристраивающая замуж своих Полиньку и Юлиньку. Она выглядела сводней, а ее жилище — розово-голубым приютом Амура, с укромными уголками и фривольными картинами на стенах. Впрочем, одна из немногих в спектакле, Массалитинова отвечала постановочному замыслу и гротескно заостряла образ пробивной Фелицаты Герасимовны, как перед тем средствами резкой буффонады изображала мужеподобную Простакову. В согласии с режиссурой сгущал комедийные краски в роли Юсова и новый для Малого театра — но не для театральной Москвы — актер С. Л. Кузнецов, с успехом игравший уже эту роль в Театре МГСПС. На сцене возникали персонажи, пьесой не предусмотренные.
Многое тут было в диковину для «дома Островского», но и симптоматично для своего времени. Театр тянулся к социальным обобщениям, искал новые возможности творчества, активизируя 136 режиссерскую мысль. Все же определяющими для Малого театра подобные эксперименты не стали. Они были явлениями вторичными, в них отзывалась добыча соседей, которых такие заимствования тоже не радовали. Актер, союзник драматурга, и дальше оставался владыкой на сцене Малого театра, углубляя творческое мировоззрение на прочной основе предшествовавшего опыта труппы.
Волконский пытался обновить этот опыт, сочетая социологию и ироническую эстетизацию быта в сфере классики. Недаром он одновременно ставил спектакли и в Московском драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской, которым руководил другой ученик Ф. Ф. Комиссаржевского, В. Г. Сахновский. В тех же приемах гротеска и стилизации Волконский показал там «Отжитое время», спектакль, смонтированный из двух пьес Сухово-Кобылина («Свадьба Кречинского» и «Дело»), а «Комедию ошибок» Шекспира ставил с оглядкой на раннюю постановку «Принцессы Турандот», осуществленную Комиссаржевским в 1912 году. Эти контакты Волконского отчасти объясняют враждебность к нему Мейерхольда. Весьма несправедливо Мейерхольд заявлял в 1936 году, обороняясь от упреков в формализме, будто Волконский — «типичный представитель псевдоноваторства» и «в Малом театре натворил очень много бед»331*. Но и внутри Малого театра существовала сильная оппозиция Волконскому.
Заостряя, порой меняя форму пьесы о прошлом, Волконский проецировал ее содержание в современность. Поставленная им трагедия А. Г. Глебова «Загмук» (1925), с виду изображая восстание рабов в Древнем Вавилоне, открыто рядила в стилизованные речи и обличья текущие политические лозунги. «По фактуре своей типичная мелодрама», — расценил зрелище Ю. В. Соболев332*. Режиссер проявил бездну выдумки, но труппа Малого театра всегда относилась с неприязнью к подобным стилизаторским задачам.
Ближе ей показался шиллеровский спектакль Волконского — «Заговор Фиеско в Генуе» (1925), трактованный в плане республиканской трагедии и поставленный с ощущением романтического стиля. «Многие сцены положительно превосходно удались тов. Волконскому и исполнителям», — писал Луначарский и ставил в особую заслугу режиссеру «приближение к современности в смысле стиля»333*. Поэтику романтических контрастов выразили два монументальных полюса борьбы: достойный республиканец Веррина — М. Ф. Ленин и ненавистник свободы Джанеттино Дорна — Садовский. «Традиция игры 137 Малого театра выступила у них в своем очищенном и крепком зерне», — отозвался об этих двух актерах Марков334*. Остужев же, как утверждали очевидцы, напрасно поэтизировал образ Фиеско. «Остужев не умел играть отрицательные образы… — писал Глумов, — его обаяние нивелировало, сводило на нет отрицательные свойства этого противоречивого персонажа»335*. Оттого театр поспешно снял актера с роли и заменил Лениным — прежним Верриной336*. Притом шиллеровский спектакль Волконского оказался значительней, чем шекспировский спектакль Платона и Прозоровского — «Юлий Цезарь» (1924). Там статичны были массовые сцены, Ленин обытовлял образ Цезаря, а Остужев патетически декламировал роль Антония; в центр выдвинулся Брут — Садовский.
Попытку прямо отразить современность Волконский предпринял, ставя комедию «Нечаянная доблесть» (1923). Написавший ее драматург Ю. Н. Юрьин отправлялся от некоторых сюжетных ситуаций «Героя» Дж. Синга и достаточно откровенно переносил их на почву российской деревни нэповской поры. Попытка дала противоречивые результаты. «Это действительно веселая комедия, — находил Луначарский. — Сомнения артистов Малого театра не помешали им превосходно сыграть ее, и я редко присутствовал при таком легком, живом, вызывающем хороший смех спектакле, как этот»337*. Сомнения у труппы, стало быть, имелись. Имелись они и у критиков, меньше, чем Луначарский, веривших тогда в возможности Малого театра. Пьесу Юрьина и спектакль Волконского резко критиковал скорый на руку Блюм338*. Луначарский пробовал заступиться. Настаивая на том, что комедия Юрьина «разыграна виртуозно», он писал, что «в Малом театре мы имеем образчик хорошего комедийного искусства, настоящего здорового смеха, ясного и четкого фарса. Дело, пожалуй, только за тем, чтобы вложить в подобную же форму более серьезный сатирический смысл»339*. И слова Луначарского о сомнениях труппы, и его пожелание большей сатирической серьезности невольно выдавали, что упреки Садко все же не лишены были известных оснований.
Может быть, как раз потому, что прямо отразить современность ремесленная пьеса Юрьина не позволяла, что трансплантация парадоксов ирландской комедии на почву российской нэповской деревни вышла слишком уж простодушной, Волконский 138 и пробовал дальше — начиная с «Доходного места» — проводить подобную трансплантацию (то есть переосмыслять крепкую пьесу на сегодняшний лад) больше режиссерскими, чем драматургическими средствами, а где удавалось — так и исключительно режиссерскими.
ПРОБЫ РОМАНТИКИ
Наиболее долговечным романтическим спектаклем той поры была инсценировка романа Гюго «Собор Парижской богоматери» (1926). Как обычно, тон задавали актеры. В главной роли чередовались две исполнительницы. Белевцева выделяла лирические моменты образа, Гоголева — драматизм судьбы. Остужев — Квазимодо дал истинно романтический контраст внешнего безобразия и духовной чистоты. Главным событием было выступление Степана Кузнецова в роли Людовика XI. Он появлялся только в финальной картине, но образ обладал шекспировской силой, соединяя в себе и угрюмое злодейство, и лицемерную набожность, и дальновидность деспота. П. А. Марков свидетельствовал, что «С. Кузнецов, в небольшой роли Людовика XI поднявшийся над всем спектаклем, дал острый и запоминающийся образ одинокого и коварного короля»340*. Ставил спектакль Л. М. Прозоровский, пришедший в Малый театр из Театра МГСПС в 1923 году, после отъезда А. А. Санина.
Романтические навыки мастеров Малого театра Прозоровский переносил и на советский революционный репертуар, тоже не избежав поначалу социологических упрощений. Впрочем, к тому толкали внешние условия. Осенью 1925 года с афиши Малого театра были сняты трагедия Шиллера «Мария Стюарт» — «как произведение религиозное и монархическое», комедия Островского и Соловьева «Женитьба Белугина» — «как пьеса устаревшая и мещанская» и даже драма Южина-Сумбатова «Ночной туман» — «как отражение настроений дореволюционной “ноющей” интеллигенции». Так сообщала печать. Мотивировки сами по себе были прямолинейно социологичны. Но в той же информации говорилось: «Театр ожидает новую пьесу К. Тренева»341*. Это была первая весть о «Любови Яровой».
Накануне «Яровой» Прозоровский обновлял искусство Малого театра скорее в плане тематики, чем эстетики. С его именем связаны первые постановки пьес о современности на московской академической сцене. Самая ранняя оказалась и самой наивной. Но подобные случаи имеют исторический интерес.
Пьеса Д. П. Смолина «Иван Козырь и Татьяна Русских» 139 (1925) сочетала черты новейшей агитки и мелодрамы экрана. Действие происходило на океанском пароходе с многозначительным названием «Старый свет». Поставщик девиц для публичных домов обманом завлекал в свои сети простодушную крестьянскую девушку Татьяну Русских, бывшую горничную белоэмигрантского семейства. Ее выручал русоволосый солдат Иван Козырь, пробиравшийся на родину. Герои влюблялись с первого взгляда. Иван убивал одного из гонителей, а Татьяна принимала сонный порошок и попадала в морг. Туда же бежал от погони Иван. Ситуация Ромео и Джульетты, мелодраматически сниженная, разрешалась благополучно. Татьяна просыпалась. Враги осаждали трюм. Иван, приоткрыв люк, обличал бесчестных гонителей и звал моряков к восстанию, после чего вместе с Татьяной бросался в океанские волны. Но его речь делала свое дело. Восставшие матросы спасали героев. «Старый свет» поднимал красный флаг.
Как ни упрощенно трактовал Смолин проблемы героики, патриотизма, международной солидарности трудящихся, его пьеса позволяла театру впервые сыграть образы современников. Прозоровский и Платон, опираясь на романтические традиции Малого театра, оттеняли контрастные характеры. От мелодрамы к романтике подымалась Пашенная в роли Татьяны. Ее постоянный партнер Ольховский играл Ивана Козыря. С сатирическим ядом и сатирическим блеском изображал Климов торговца «живым товаром»342*. Пьеса насчитывала 22 эпизода, и действие шло в стремительном темпе. События свободно перебрасывались из кают на палубу, из салона в отсек трюма.
Все же и насчет «Ивана Козыря» у театра имелись сомнения — наподобие тех, какие подразумевал Луначарский в рецензии на «Нечаянную доблесть». Сомнения достаточно резонные к тому же. За месяц до премьеры управляющий таганским филиалом Малого театра З. Г. Дальцев в официальной бумаге скептически отозвался о пьесе: «От мелодрамы Смолина попахивает бульваром»343*. Все же пьесу включили в репертуар основной сцены. Зрелище привлекало публику и делало сборы. С конца 1927 года театр доигрывал его на филиальной площадке — отныне она помещалась в Замоскворечье. По дороге пьеса потеряла прежний финал: автор согласился снять его по просьбе театра, «заменив неожиданное восстание на пароходе, что отзывалось агиткой дурного тона, простым бегством Ивана и Татьяны на встречный советский пароход»344*. Переделка понадобилась 140 недаром: у театра накапливался изрядный, пусть пестрый опыт.
Правда, тот факт, что несколько сезонов здесь мирились с примитивными эффектами этой пьесы, и не ее одной только, свидетельствовал о неполной вере в текущую драматургию, о готовности делать для репертуарных новинок скидки по части искусства. Пьеса Смолина и переделанная осталась уязвима для критики, как и упоминавшаяся «Нечаянная доблесть» Юрьина, как агиткомедия Д. Ф. Чижевского о кулацко-нэповском разложении на селе «Его величество Трифон» (1923) или пьеса Н. Н. Лернера «Брат наркома» (1926) — инсценировка фельетона Г. Е. Рыклина из газеты «Известия» о современной хлестаковщине. На сходном уровне сценической завлекательности пребывал исторический репертуар современных авторов, главным образом пьесы про умирающих царей и опальных царедворцев: «Аракчеевщина» Платона и «Семь жен Иоанна Грозного» Смолина (1925), «Смерть Петра I» Н. Н. Шаповаленко (1926). Последнюю из этих пьес, как и «Брата наркома», ставил Прозоровский.
Друзья театра доброжелательно наблюдали за попытками «осуществить пьесу с революционно-романтической фабулой (“Железная стена”), облегчить громоздкость своих комедийных постановок (“Нечаянная доблесть”) и даже увлечься новыми социальными темами (“Его величество Трифон” в филиале). Робкие, но знаменательные шаги, которым, может быть, удастся кое-что всколыхнуть в будущем. С интересом ожидается здесь постановка “Медвежьей свадьбы”»345*. Увы, пьеса Луначарского по мотивам «Локиса» Мериме, поставленная в мелодраматических тонах специально приглашенным К. В. Эггертом (1924), была одной из наименее оправдавшихся попыток в этом ряду. Как вспоминал М. С. Нароков, «гирлянда из нелепых харь, подвешенная в виде падуги к верхним софитам, должна была символизировать кровавый финал спектакля»346*. Критика находила пьесу и ее постановку «антихудожественной» и указывала на «пошлости в точном смысле слова»: например, «совершенно в стиле Вербицкой героиня пьесы, невеста графа, дважды ни к селу ни к городу принимается плясать, и притом один раз босоножкой»347*. Роль исполняла Н. А. Розенель.
Репертуарные уступки театра позволяли охотникам хорошо пристреляться к мишени, какой бывала тогдашняя афиша «дома Щепкина». Стрелы летели даже из академического стана. Несколько лет спустя, отвечая на анкету рапповского журнала, 141 режиссер МХАТ И. Я. Судаков констатировал «резкое падение репертуарной линии Малого театра, которое проходило под давлением и при одобрении большинства критики (в частности, явно нехудожественное произведение, без единой живой человеческой фигуры — “Загмук” — вызвало общее одобрение критики). А “Иван Козырь” и прочие революционные перлы!»348* Упреки были небезосновательны, только порядком запоздали. К 1928 году ни одна из упомянутых пьес в Малом театре уже не шла — что было о них вспоминать… Их вытеснили такие спектакли, как «Луна слева», как «Любовь Яровая». И это была верная защита от всяких нападок.
Идя к современным темам, Малый театр опустился для начала до наивной драматургии, чтобы подняться на высоту настоящих задач. Исподволь он приближался к цели. Весной 1926 года, вскоре после нашумевшей премьеры «Шторма» в Театре имени МГСПС, Прозоровский поставил в филиале пьесу Билль-Белоцерковского «Лево руля!», из времен гражданской войны. Тоже агитационная, тоже избравшая местом действия иностранный корабль, она проводила тему пролетарского интернационализма серьезнее, чем это было в «Иване Козыре», хотя некоторые сюжетные ситуации почти совпадали. Груз оружия, направленный белогвардейцам, не достигал порта назначения: разноплеменные матросы восставали в результате агитации русского большевика. Корабль менял курс. Команда «Лево руля!» звучала символически и для самого Малого театра. Образы современности вторгались в его искусство. Преображался облик сценического пространства: многочисленные массовые эпизоды с широким размахом сменялись внутри конструктивной установки. Среди исполнителей преобладала молодежь: Н. А. Анненков, А. П. Грузинский, А. И. Сашин-Никольский и другие. Успех у зрителя заставил перенести спектакль в ноябре того же 1926 года на основную сцену Малого театра, где его жизнь продолжилась.
А 22 декабря 1926 года Малый театр показал «Любовь Яровую» К. А. Тренева.
КУМАЧОВЫЙ СТЯГ СОВЕТСКОЙ КЛАССИКИ
Смысл этого события современный нам исследователь определяет лаконично и точно: «В спорах о реализме как основном методе социалистического искусства Малый театр сказал свое очень важное, на том этапе, пожалуй, решающее слово. Вот почему “Любовь Яровая” — классическое произведение советского театрального искусства. Вот почему, говоря о социалистическом 142 реализме, мы всегда и с полным правом заявляем, что “Любовь Яровая” в значительной мере способствовала его формированию и утверждению»349*.
Крупный прозаик и драматург, начинавший до Октября, Тренев уже дал советской сцене талантливую народно-историческую драму «Пугачевщина», шедшую в МХАТ и ленинградской Акдраме. «Любовь Яровая» обязана своим сценическим рождением Малому театру. Ставили ее Платон и Прозоровский. «Они счастливо дополняли друг друга, — вспоминал писатель. — Если И. С. Платон привнес в спектакль громадную вековую культуру Малого театра, то Л. М. Прозоровский явился проводником в нем того нового, что дала театру революция… Кроме того, Л. М. Прозоровский много поработал над организацией материала пьесы»350*. Новаторство спектакля заключалось прежде всего в новаторстве его содержания.
Еще недавно академические театры в спектаклях — иносказаниях о современности («Каин» в МХАТ, «Ричард III» в Малом) — выступали против всякой вообще междоусобицы, братоубийственной распри. Сходную тему несла треневская «Пугачевщина». И в «Любови Яровой» с авторской симпатией были даны персонажи, чуждые активной борьбе, кровопролитию, внутренне осуждающие обе стороны. Истолкователи пьесы на сцене, и прежде всех Прозоровский, притушили эту тему. Новая работа Малого театра знаменовала сдвиг в мировоззрении и методе. Спектакль контрастно заострял движущие мотивы борьбы двух лагерей в перипетиях сюжета (красные сдавали город белым в первом акте, чтобы навсегда вернуть его в последнем). Не на жизнь, а на смерть схватывались разные субъективные правды, и победа подлинных героев представала победой объективной правды истории. Конфликты разворачивались между лагерями и внутри каждого из них. Правда истребляла неправду в собственных рядах: так расправлялся большевик Кошкин с анархистом-мародером Грозным. Конфликты протекали, далее, между характерами и внутри характеров: трудную духовную эволюцию переживала учительница Любовь Яровая, прежде чем порвать с мужем-белогвардейцем во имя выстраданной ею правды революции.
Широкая разработка социального фона, многообразие судеб, сложность характеров, развивающихся и меняющихся, приспосабливающихся и стойких, богатство речевых выразительных средств определяли жанр действия как народную драму.
Спектакль давал характерные сгустки эпохи и быта в множестве лиц. Персонажи второго плана (бесхитростный солдат Пикалов — Сашин-Никольский, темная крестьянка Марья — Рыжова) несли исходную тему народной драмы. Исполнители 143 центральных ролей больше поднимались над бытом, обобщая судьбы героев в тонах несколько романтизированной театральности.
Садовский играл ревкомовца Кошкина не в кожаной куртке комиссара, а в матросской тельняшке и бушлате. Роман Кошкин и его надежный друг-помощник Швандя были с разных кораблей, и тему боевого матросского братства, внесенную театром, это только укрепляло. Порой Садовский поступался житейским правдоподобием, чтобы олицетворить героику революции. В сцене разоблачения Грозного он играл Кошкина с силой трагического героя. После такой пламенной вспышки доказательней проявлялась воля руководителя. Расстреляв изменника, герой продолжал диктовать приказ машинистке, запинаясь и оттого, что голос прерывался после пережитого, и по причине малой грамотности. Мотивировки «высокого» и «низкого» порядка, сливаясь, делали образ живым и сложным.
Садовский передавал суровое в революции, Степан Кузнецов — радостное в ней. Его Швандя, неунывающий матрос с «Авроры», крест-накрест перепоясанный пулеметными лентами, озарял спектакль веселостью. В череде подвигов и балагурства складывался образ братишки, непременного героя спектаклей о гражданской войне. Кузнецов, а с ним Г. И. Ковров и В. В. Ванин в «Шторме» сразу определили черты этого нового характера, который со временем оброс штампами амплуа. Но в те дни образ воспринимался как открытие искусства. На премьере Кузнецов подчас излишне комиковал, пускал в ход свое актерское обаяние. Он словно бы всерьез воспринял шутливые слова Пановой об амурчике: его Швандя был на диво смазлив. Во всем этом отчасти сказывалась неуверенность поры репетиционных поисков. Прочный успех спектакля позволил актеру снять избыточные краски, вернуть образу внутреннюю строгость.
Главные темы пьесы пересекались в судьбе Любови Яровой. Личное и общее, чувство и долг, интеллигенция и революция — все эти проблемы, имевшие и сегодняшний смысл, Пашенная пропускала сквозь страдающую душу героини. Найти потерянного мужа, гибель которого она оплакивала, чтобы под конец отшатнуться от него как от врага революции, поставить крест на своем вчерашнем и завтрашнем женском счастье — таков был личный план трагедии. Пашенная давала его в смене робких надежд и горьких, неуступчивых прощаний с ними. Но и революция стала личным делом героини — и тоже отзывалась внутренней драмой. Уже много лет народная учительница жила в гуще простых людей, сроднилась с ними и у них переняла степенность повадки, неторопливую стать. Эти черты народного характера, найденные Пашенной, делали естественным эмоциональный взлет, вдруг вырывающийся на поверхность сосредоточенного, замкнутого в себе трагизма.
144 В конце пьесы ревкомовец Кошкин говорит Любови Яровой: «Спасибо, товарищ Яровая, я всегда знал, что вы наш верный товарищ».
Пашенная сама подсказала драматургу ответную реплику героини: «Нет, только теперь, только с этой минуты я по-настоящему и навсегда ваш верный товарищ»351*. В словах, авторизованных Треневым, отразился личный, автобиографический смысл спектакля для Малого театра. Пьеса помогла участникам уверенно определить их «место в рабочем строю».
На репетициях такой уверенности еще не было. Как вспоминал Прозоровский, труппа встретила пьесу настороженно. Ее не сразу оценили и Пашенная, и Садовский, и Кузнецов. Садовский даже направил протест директору: «Сцена не кафедра. Условия идейной пропаганды на ней совершенно иные…»352* Репетиции двигались трудно. Это был случай, когда мировоззрение актеров перестраивалось на ходу, в процессе творчества, и лишь к концу стал заметен происшедший сдвиг. Его и выразила Пашенная в своей подсказке Треневу, а закрепила — поддержка зрительного зала. Поддержка была горячей: «Любовь Яровая» жила на сцене Малого театра четырнадцать лет и прошла свыше четырехсот раз.
Даже Мейерхольд, который еще недавно поносил актеров Малого театра за вялое участие в гастрольных спектаклях Сандро Моисси и вообще полагал, будто «искусство актерской игры давно утеряно Малым театром», что там лишь «говорят о традициях, а сберегают рутину»353*, теперь увидел театр радостно помолодевшим на представлении «Любови Яровой». Он приветствовал спектакль и находил, что «Малый театр оказался впереди ряда театров, шедших по заданиям программы “театрального Октября”; драма Тренева качественно несравненно выше всех пьес, показанных за последние 3 – 4 года в Пролеткульте, Театре Революции и МГСПС»354*. Он не упустил случая признать эту «блестящую победу» в докладе о «Ревизоре» 24 января 1927 года. Реально дело обстояло так, что спектакль академической сцены воплотил позитивные помыслы «театрального Октября» о революционном зрелище убедительнее, чем этого добивались перечисленные Мейерхольдом театры левого фронта искусств. Так считали и критики из этого лагеря. «Крепкий сдвиг», «Новая победа Малого театра» — озаглавили Бескин и Блюм свои рецензии в «Программах гос. академических театров». В таком именно плане надлежит понимать отзыв Луначарского о том, что «Любовь Яровая» — «это настоящая победа 145 левого театра»355*, — то есть революционного, по терминологии тех лет. Луначарский утверждал: «Малый театр можно поздравить с этой постановкой». Прочувствованно отозвался о спектакле и французский писатель-коммунист Анри Барбюс в книге почетных гостей Малого театра356*.
Действительно, Малый театр совершил прыжок над собою недавним. Еще важнее было то, что театр остался самим собой. «Любовь Яровая» ничего не ломала в органике его искусства, напротив, молодила и обогащала его художественную природу. Прыжок был подготовлен. Предшествующие находки и просчеты отложились в новом опыте театра.
Оказались ни к чему нагие конструкции на сцене. Подвижная установка художника Н. А. Меньшутина, сочетавшая элементы изобразительной архитектуры и живописи, целиком принадлежала действию. Поворот круга перебрасывал это действие из одного лагеря в другой, стремительно сопоставляя ракурсы борьбы, разрезы жизни.
Театральный конструктивизм одной из целей ставил депоэтизацию сцены, отмену театральных таинств. Малый театр театральностью дорожил, разоблачать ее не собирался — оттого конструктивные декорации выглядели у него чаще всего данью моде, запоздалой данью к тому же. В «театрах исканий» уже назревал кризис конструктивизма. Мейерхольд в «Ревизоре», показанном за две недели до «Любови Яровой», Таиров в «Любви под вязами», показанной месяцем раньше, свободно обошлись без конструктивных станков. Малому театру они и вовсе были без надобности.
Очевидный шаг театра к советской классике вызвал тогда споры о подлинном и современном в искусстве. Но если Малый театр мог гордиться тем, что отошел от вульгарных упрощений иных прежних работ, наподобие «Ивана Козыря», и пришел к строгому жизненному реализму «Любови Яровой», то не многие, даже доброжелательные, критики могли похвалиться тем же: охота упростить и ниспровергнуть их неудержимо захлестывала. Они противопоставляли «Любовь Яровую» всему прошлому опыту Малого театра, его художественным традициям, его вековой славе. Под свежим впечатлением премьеры Э. М. Бескин так рисовал ситуацию в целом: «Старый Малый театр, по существу, умер. Его уже нет. Заветы Щепкина и даже Островского давно уже — пустые декламационные формулы, целиком принадлежащие истории и не имеющие живого содержания. Держаться за них — означало бы попросту похоронить Малый театр и физически». Критику как-то не приходило 146 в голову, что традиции не обязательно наблюдать в застывшем виде, что они движутся, обновляются вместе со временем, и та же «Любовь Яровая» давала пример того, как развивались коренные убеждения «дома Островского».
Попутно Бескин затрагивал другую, еще более острую тему дня. Он противопоставлял «Любовь Яровую» почти одновременно выпущенным «Дням Турбиных», а Малый театр — Художественному, к горькой невыгоде для последнего. Критик писал: «Мы наблюдаем сейчас как будто бы странное на первый взгляд явление. Малый театр, театр гораздо старше Художественного, определенно обгоняет его в равнении на современность» и т. д.357* Впрочем, тема носилась в воздухе, а Бескин лишь высказался о ней одним из первых. Получалось, что победа «Любови Яровой» была на руку критикам-демагогам, ополчившимся против «булгаковщины». Жаркая схватка вокруг двух спектаклей разгорелась на диспуте 7 февраля 1927 года в помещении Театра имени Вс. Мейерхольда358*. Там иные ораторы норовили воспользоваться успехом Малого театра, чтобы растерзать МХАТ. Это не удалось. Но их попытки еще несколько лет вербовали подражателей и продолжателей. Впрочем, речь о МХАТ впереди.
ПОСЛЕ «ЯРОВОЙ»
После «Любови Яровой» у Малого театра завязалась дружба с Треневым. В 1928 году была поставлена комедия «Жена», где на современном материале преломились некоторые идеи его предыдущей пьесы. Сатирически рисуя перерожденцев, спектакль порицал индивидуализм честного инженера Грушина, которого в укрупненном психологическом плане играл Садовский. Коммунистка Вера, жена Грушина, боролась с его субъективными ошибками — боролась за него. Пашенная в этой роли варьировала тему Любови Яровой, только с благополучным исходом. Ставил пьесу тогдашний директор театра Владимиров, что вызвало большие недоумения. «Вот что странно — эта постановка поручена директором Малого театра… самому себе», — говорилось в одной ехидной заметке359*. Малый театр и Тренев протестовали360*. Владимиров довел спектакль до премьеры, но режиссером все-таки себя не заявил. Он не сумел согласовать бытовую комедийность пьесы с крупным планом исполнительских 147 решений. Получилась комедия всерьез, тяжеловесная, с полыми образами. Недооценка режиссерского искусства больно мстила за себя.
Следующую пьесу Тренева — «Ясный лог», о коллективизации деревни, ставил осенью 1931 года уже Прозоровский. Действие дробилось на 33 эпизода, но чистой случайностью было это совпадение с количеством эпизодов мейерхольдовского «Леса» и более поздней чеховской программой ГосТИМа «33 обморока». Драматург и театр просто не могли ввести в берега материал бурно текущей жизни. Правдивые зарисовки характеров и быта перемежались в стихийной пульсации ритма. Актеры наслаждались сочным диалогом Тренева. Характеры, быт, словесные находки убеждали, когда дело касалось исконно деревенского, кондового, обреченного на слом. Вновь сверкнула мастерством Пашенная, сыгравшая на этот раз отрицательную героиню, темную кооператоршу Василису, а с нею прославленные «старухи» Малого театра — Массалитинова, Рыжова, Турчанинова. Но, изображая ломку старого уклада, театр не ушел от умозрительности. Лишь бедняк-острослов Жолудь с его застарелой ненавистью к богатым был дан Кузнецовым живо. Склонность Прозоровского примирять новую тематику с привычной стилистикой не дала результатов, равных «Любови Яровой». Рецензенты недоумевали. «Много неясного в “Ясном логе”», «“Ясный лог” и неясные пути», «Что же дальше?» — твердили и вопрошали заголовки газетных рецензий. И все-таки естественно было желание закрепить уже найденное, расширить взятый плацдарм: театр настойчиво тяготел к современности.
Другого своего драматурга Малый театр нашел в Б. С. Ромашове. Еще в 1924 году студия Малого театра сыграла мелодраму Ромашова «Федька-есаул» из времен гражданской войны. Его пьеса «Огненный мост» (1929) также не лишена была мелодраматической эффектности, однако авторы спектакля, Прозоровский и Арапов, перенесли эту пьесу на сцену, по словам Маркова, «тщательно подчеркнув ее публицистический характер и ее основную идеологическую направленность»361*. Метафорическое название означало: между романтикой гражданской войны и трезвой прозой настоящего пролегает символический огненный мост, где сгорают иллюзии, дается прочный обжиг характера. Такой путь просто и без потерь проходил большевик Хомутов, из рабочих, и мучительно — интеллигентка Ирина, его жена. Душевные срывы разочарованной Ирины и ее перестройка к финалу были сыграны Пашенной как обобщение судеб интеллигенции в революции. Тему Ирины осложнял детектив: ее брат Геннадий застрял по ту сторону моста и стал диверсантом. Степан Кузнецов играл его ненависть и его обреченность 148 в манере элегантного кинозлодея, затянутый в черное, вплоть до перчаток. Спектакль оказался сравнительно долговечным и через семь лет после премьеры исполнялся в 230-й раз362*. Романтизированная театральность одержала еще одну победу, но несла в себе и предвестия исчерпанности.
На исчерпанность декларативно указала новая пьеса Ромашова «Смена героев» в постановке М. С. Нарокова (1930). Она изображала сдвиги в актерской среде, оттеняя их драмой премьера-индивидуалиста Рощина, зашедшего в тупик. Ромашов упростил проблему. Приход нового выглядел всего лишь сменой актерских поколений, вдобавок молодежь сияла безликой голубизной. Кое-что в пьесе касалось Малого театра непосредственно: традиции, включая и изживающие себя, властвовали там. И хотя Рыжова и Массалитинова, Климов и Кузнецов виртуозно играли старых Актеров Актерычей, обывателей и приспособленцев, переводя пародийно-капустнический «стиль Ромашова в яркий сатирический план» (Марков), спектакль не задался. Он вызвал даже брожение в труппе. Одним из его противников был исполнитель главной роли Садовский, выражавший взгляды старых мастеров. Споря с автором, Садовский искал для неврастеничного Рощина возможность воскреснуть к творческой жизни. Другой исполнитель этой роли, Ю. М. Юрьев, перешедший в Малый театр из ленинградской Акдрамы, был ближе к авторскому императиву, играл актера, который не хотел понять современность и бросал коллективу упрямый вызов. Однако «ни Рощин Садовского, ни Рощин Юрьева переродиться не могут, — замечал Марков. — Проблема старого мастера остается не разрешенной ни в тексте пьесы, ни в изображении Малого театра»363*. Недовольство Садовского, таким образом, имело под собой почву. Пьеса в репертуаре не удержалась.
КЛАССИКА НЕ БЕЗЗАЩИТНА
Резко выступил Садовский и против спектакля «Горе от ума», поставленного Волконским к столетию со дня гибели Грибоедова. Волконский, самый дерзкий режиссер тогдашнего Малого театра, задался целью сценически расшифровать будто бы зашифрованные мотивы комедии и далеко отошел от ее привычного прочтения: нейтрализовал колорит эпохи с помощью условных декораций И. М. Рабиновича, сатирически обобщил лики фамусовской Москвы, утвердительно решил вопрос о декабризме 149 Чацкого364*. Чацкий — В. Э. Мейер казался не декабристом только, но и демократом-разночинцем — протестантом вообще. Финальный обличительный монолог герой обращал в зал, неся туда протест и оттеняя безысходность этого протеста: «Куда я поскачу? Зачем? В глухую ночь?» Наглядно сказывалась зависимость от спектакля Мейерхольда «Горе уму», показанного годом ранее, в 1928 году.
А. В. Луначарский, посетивший генеральную репетицию, не усмотрел в том ничего предосудительного. «Волконский подошел к тексту Грибоедова с огромным аналитическим вниманием. Ему захотелось проникнуть до дна как в умственное, так и в эмоциональное содержание каждой фразы, иногда каждого слова». Из-за этого, правда, замедлился темп сценического действия. «Блестящая парчовая материя грибоедовского слова, — продолжал Луначарский, — все время подбита его же, доселе недостаточно зримой, психологической внутренней подкладкой».
Но Волконский зашел и дальше. Смена героев, смена трактовок и репутаций как бы продолжалась теперь на территории классики. Например, средствами сценического обличения у него служили карикатурно-нарочитые характеристики, чего не было в «Горе уму» Мейерхольда. Вакханалией сатирических масок проходила сцена бала. Беспощадно разоблачался Фамусов у Головина — в противовес картинно барственному южинскому Фамусову, который, как уже говорилось во вступительной главе этой книги, не был образом сатирическим. Вспоминая о нем теперь, Луначарский писал, что «зритель невольно относился к нему, как к какой-то прямо-таки милой реликвии своеобразно живописного и стильного прошлого. Со всеми его чертами готовы были примириться…». Не то выходило у Головина. «Это отвратительный и злой старик, — писал Луначарский. — Это прежде всего потаскун, лицемер, ханжа, тиран, черный реакционер» и т. д. Еще более круто обошелся режиссер со Скалозубом. Луначарский, при всей его доброжелательности, не мог отрицать: «В совершенно карикатурном виде, переводящем уже в тот гротеск, в котором выдержан бал, дает Ржанов Скалозуба. Начиная с III акта этого Скалозуба сопровождают три других Скалозуба. Так ему и надо! Но вследствие этой карикатурности житейская, реальная сочность Скалозуба ослабела»365*. Второй, метафорический план образа развертывался за счет утраты первого, исходного значения, и метафора делалась полой, внешней. Остужев, почему-то получивший роль Репетилова, 150 вынужден был щеголять «в нелепом клоунском парике, до неузнаваемости обезображенный»366*.
Но классика не беззащитна. Она остается равной себе, едва сверкнет и погаснет любой, самый вызывающий, даже надругательский эксперимент. Не беззащитны и большие актеры, идеологи творчества в своем театре. Они отстаивают свои кровные убеждения, как режиссер — свои. Обоюдоострая коллизия возникла уже в начале репетиций Волконского. Садовский отстаивал каноническую версию, обычную для Малого театра, и требовал в письме директору отстранить Волконского от постановки. Премьера все же прошла своим чередом. Но в 1931 году Волконский вынужден был покинуть Малый театр.
Это случилось после того, как в грибоедовский спектакль внесли новые, так сказать, усовершенствования. По ходу действия Чацкий произносил злободневный монолог, написанный С. М. Городецким. Один рабкор восхитился новшеством: «Это сочетание классика с нашими днями разрешено очень удачно, ибо монолог написан в стиле пьесы. Он не коробит слушателей, не выпирает из спектакля чужим телом. Указывая зрителям на современных Фамусовых, Молчалиных и т. д., Чацкий раскрывает их социальную сущность. Эту попытку модернизации классиков надо, конечно, приветствовать»367*.
Сцена Малого театра никогда еще не служила площадкой для столь самонадеянного эксперимента. Но многим ли лучше были спектакли противоположного свойства?
Осенью 1929 года Платон и художник Арапов показали на филиальной площадке Малого театра «Разбойников». Словно бы в пику Волконскому постановка уклонялась от какого бы то ни было режиссерского истолкования юношеской пьесы Шиллера. Как художественное целое зрелище не давало и не искало сегодняшнего взгляда на Шиллера. Это вызывало тревогу. Марков писал: «Ошибка Малого театра — принципиальная ошибка, и в следующих “классических” работах ее необходимо учесть»368*. Имя Платона в рецензии даже не упоминалось, и это красноречивее всяких слов означало, что режиссура в спектакле отсутствовала. Бескин резонно писал, что спектакль вне всякой трактовки поднимал «общий вопрос — о месте классиков в репертуаре»369*. А. К. Гладков указывал на оперный облик разбойников и массовых сцен с их участием: там «все было традиционно и пахло плесенью»370*.
151 Романтика-идеалиста Карла Моора играл А. А. Остужев, его брата-злодея Франца — Н. Н. Рыбников. Добро и зло противостояли наглядно, носители этих качеств не ведали внутренних противоречий. Высшим торжеством Остужева была сцена, где Карл со своими разбойниками освобождал из темницы изможденного старого отца, похожего на тень человеческую. Карл приказывал схватить преступника брата, совершившего это святотатство, и доставить его не мертвого, а непременно живого. Он потрясал зрителей в зале и партнеров на сцене, когда, все повышая прекрасный голос до немыслимых теноровых пределов, кричал: «Живого! Живого!» Этот шедевр актерского мастерства запечатлен на страницах многих актерских мемуаров. Ради Остужева публика валом валила на «Разбойников», как потом добивалась билетов на «Отелло». Рецензенты премьеры не отрицали актерского успеха, но допускали всевозможные оговорки, часто справедливые. «Остужев отлично произносил монолог Карла. Он тонко чувствует слово Шиллера, — писал Марков в цитированной рецензии. — Это было мастерство большого актера, отличное по наполненности темперамента и по силе внутреннего напряжения. Вместе с тем это было мастерски сыграно в старой манере Малого театра». Да, манера оставалась старой, но чудесным образом доказывала свою жизнеспособность.
Спектакль — в который раз! — «вывозили» актеры. Он делал сборы. Это позволило Луначарскому заметить, что «театр не может посетовать на неуспех постановки “Разбойников”, ибо в настоящее время эта пьеса идет в филиале Малого театра три, а иногда — четыре раза в неделю с аншлагами»371*.
Кассовый успех, однако, на редкость не совпадал с приговором критики. Особенно атаковали Малый театр рапповцы. Как раз в том же сентябре 1929 года, когда вышли «Разбойники», А. А. Фадеев произнес на пленуме РАПП запальчивую речь «Долой Шиллера», получившую широкий резонанс. Это обстоятельство заставляет внести в итоговую оценку спектакля поправочный коэффициент, не меняя, впрочем, самой оценки по существу: «Разбойники» были успехом доброй старой актерской школы Малого театра в лице одного из ее выдающихся представителей и пустым местом в плане режиссуры как таковой.
Режиссура приходилась по душе Малому театру не тогда, когда преследовала собственные, сколь угодно творческие цели, а когда служила актеру, от актера исходила и к нему возвращалась.
Иногда актерская режиссура Малого театра создавала достаточно глубокие и оригинальные спектакли, инсценируя классику. Выразительной силой быто- и нравоописательных сцен 152 обладала «Растеряева улица», выпущенная в конце 1929 года, вскоре после «Разбойников» и за месяц до «Горя от ума» Волконского. Пьесу по очеркам Г. И. Успенского написал и поставил актер труппы М. С. Нароков, оформил А. А. Арапов. За девять лет спектакль прошел без малого 300 раз. На середине своей жизни он потребовал реставрации, и новое оформление было поручено В. В. Дмитриеву. Однако Пашенная, игравшая Маланью, резко выступила в печати против нового художника372*. Шаг был крутой, но, если вдуматься, понятный: актриса защищала тем самым нажитое ею в спектакле, защищала облик героини и облик среды, в которую Маланья вписывалась неотделимо. Позже Пашенная восхищенно вспомнила дело рук своих — этот образ: «… толстая, разряженная девка с натертыми бодягой щеками, заплывшими от жира глазками, то заспанная, еле-еле продирающая глаза, то лузгающая подсолнушки и высматривающая из-за спины своего сожителя нового любовника, то открыто продающая себя богатому купцу, — растеряевская гетера»373*. Автор спектакля признавался: «Впервые увидев Пашенную в гриме Маланьи, я был несколько озадачен: белобрысая, безбровая матрешка с ярко намалеванным румянцем. Что это такое? Ярмарочный шарж?.. Но В. Н. Пашенная убедила меня, что ее размалеванность в качестве “девы-красоты” вполне реалистична»374*. Актер этого театра бывал и режиссером, и декоратором собственной роли, а постановщику предоставлялось лишь убедиться в правоте исполнителя.
Притом Нароков и сам оставил в книге воспоминаний несколько подобных портретных зарисовок, запечатлев образы «Растеряевой улицы». Здесь были Климов — чиновник Толоконников, Рыжова — кухарка Авдотья, Остужев — рабочий Михаил Иваныч, Массалитинова и Турчанинова, в очередь игравшие богомольщицу-хапугу Балканиху, а с ними Белевцева, Гоголева, Васенин, Головин, Рыбников, Сашин-Никольский…
Это был спектакль именно Малого театра. Никто не пробовал с ним состязаться. Ни в щедрости, с какой изображалась среда, раздираемая злыми социальными распрями, ни в полноте прожитой на сцене жизни разных героев и жертв растеряевщины. В сфере инсценировки отечественной классики, шире того, в плане развития творческого мировоззрения и метода спектакль обозначил новую дистанцию органического саморазвития театра. Именно это обстоятельство имел в виду Марков, когда отмечал: «Для Малого театра глубоко знаменателен путь от плакатно-народнического “Посадника” до социально-художественного анализа “Растеряевой улицы”»375*.
153 Все же проблема режиссуры Малого театра стояла остро. Как бы то ни было, и случаи самоуправства Волконского, и пассивность позиций Платона, и скандальный режиссерский дебют директора Владимирова — все это, взятое вместе, свидетельствовало о трудном положении с режиссурой в тогдашнем Малом театре. Сложный творческий организм, с борьбой центробежных и центростремительных сил внутри него, Малый театр напряженно двигался к новому. Вершиной была «Любовь Яровая». Однако к концу 1920-х годов театр испытывал кризис репертуара, режиссуры, художественного руководства. Его традиции требовали бережной переоценки, его современный репертуар в общем не достигал уровня других академических театров Москвы, где шли «Дни Турбиных» Булгакова и «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Разлом» Лавренева и «Заговор чувств» Олеши, «Чудак» и «Страх» Афиногенова.
Осенью 1931 года развернулась бурная дискуссия о путях Малого театра. Отчасти она была подогрета нападками рапповцев, драматургии которых этот театр избегал. Но имелись и реальные просчеты, в том числе репертуарные376*. Итоги дискуссии подвел приказ Наркомпроса377*. Создавались постоянно действующие художественные совещания из представителей дирекции, режиссеров и актеров. К организации репертуара привлекались драматурги, устанавливалась должность заведующего литературной частью, расширялся круг режиссуры, открывались перспективы роста актерской молодежи.
Глава шестая
ЛЕНИНГРАДСКАЯ АКДРАМА
ПРЕВРАТНОСТИ АКАДЕМИЗМА
После двух пестрых сезонов, когда Петроградский государственный академический театр драмы возглавлял Е. П. Карпов, режиссер консервативных позиций, в московском еженедельнике «Эрмитаж» появился обзор. Его написал опытный, еще петербургских времен критик Э. А. Старк. О судьбах бывшей «Александринки» обозреватель размышлял с надсадой и болью. Он не приходил в восторг от того, что за эти два сезона «наибольшее количество спектаклей пришлось на долю Островского — бывали недели, когда пять спектаклей из шести отводились 154 этому драматургу, все постановки принадлежали Карпову». Критик с горечью определял позиции режиссера: «Что же означает охрана традиций в театре?
1. Никакое драматическое произведение, по форме и духу расходящееся с определенным литературным каноном, возвещающее собою наступление нового направления, отражающее настроения, думы и переживания современников, не может быть сыграно на сцене академического театра.
2. Никакая постановка, не согласная с каноном 70 – 80-х годов прошлого столетия, не может быть осуществлена на сцене академического театра. Пусть безумцы ломают площадки, упраздняют рампу, переносят действие в зрительный зал, громоздят кубы, треугольники, беспокоят хоть всю стереометрию целиком, мы будем воздвигать веселенькие павильончики в три стены с дверью посредине, дверью налево, дверью направо. И только иногда мы будем нарушать наше мещанское благочестие спектаклями мейерхольдовского “Маскарада”. Это дни, когда театр станет уподобляться кающейся Магдалине»378*.
К ожесточению примешивалась скорбь. Писал это ведь не какой-нибудь отрицатель «академического старья» из лагеря «театрального Октября». По прежним статьям Старка знали, что Александринский театр он по-настоящему любил и хотел ему добра. А если и он теперь писал в таком тоне, это значило, что дела в театре и впрямь обстояли неважно.
Осенью 1922 года руководителем Акдрамы стал Ю. М. Юрьев. Он выступил с декларацией, смысл которой особенно прояснялся в сопоставлении со статьей Старка. Как бы отвечая критику и молчаливо признавая его правоту, Юрьев заявлял, что «непрерывная цепь смены веществ» необходима «для здорового организма, каким мы все хотим видеть наш театр. В этом вполне естественном и логичном процессе некоторые могут усмотреть посягательство на традиции театра. Но я разрешу себе сказать им, что ограждение этих “славных” традиций китайской стеной есть уже нарушение самих традиций… Глубокое заблуждение принимать анахронизм за традиции»379*. Годы работы Юрьева (1922 – 1928) действительно были порой постепенных прогрессивных сдвигов в жизни театра.
Акдрама не сразу определила главные пути своего развития. Число новых постановок росло нередко за счет качества. В 1923 году Акдрама дала двадцать одну премьеру, некоторые — на сцене Малого оперного театра. Режиссировали Н. Н. Арбатов, А. Н. Бенуа, Е. П. Карпов, Н. В. Петров, С. Э. Радлов, В. Р. Раппапорт и актеры Г. Г. Ге, Б. А. Горин-Горяинов, 155 П. И. Лешков, Д. Х. Пашковский, Н. В. Смолич. Это не свидетельствовало о целенаправленности усилий. Например, в 1923 году, одна за другой, были показаны трагедия Шекспира «Антоний и Клеопатра» и комедия Шоу «Цезарь и Клеопатра». Обе ставил Раппапорт, оформлял художник-архитектор В. А. Щуко. Режиссер, «проповедующий нормальный египетский жест времен театра Комиссаржевской», как шутил Б. В. Алперс380*, подавал трагедию в плане всечеловеческой символики традиционализма, комедия звучала как ее скептическое экспрессионистское отрицание. Горин-Горяинов и Вольф-Израэль в комедии пародировали трагических Юрьева и Тиме. Такова вообще была амплитуда тогдашних колебаний театра — от изжившего себя традиционализма предоктябрьских лет до новейших искусов экспрессионизма.
К концу следующего года тот же режиссер вместе с тем же художником выпустили еще одну комедию Шоу — «Святую Иоанну». Об эклектической сбивчивости обоих позволяет судить интервью постановщика. Там сообщалось, что пьеса «трактуется в плане нового героизма, чуждого романтике и идеализму. Сценическое оформление по эскизам В. А. Щуко разработано в манере реалистического конструктивизма, резко отличающегося от “обычных” конструктивных постановок»381*. Здесь что ни слово — то вопрос. Сказать так — значило не сказать почти ничего. Ибо ничто тут не говорило ни о замысле спектакля, ни о его сути, ни о его цели. Можно было представить себе лишь одно — то, насколько эклектичный достигался результат. Хотя действию предпосылался специально сочиненный сатирический пролог с «машиной религии» и эмблемами капитала, финансирующего нынешний религиозный культ святой Жанны д’Арк, антирелигиозным спектакль оттого не становился. Рецензент премьеры по праву заключал: «Неясна основная мысль постановки»382*. «Очевидно, режиссер захотел из антицерковной пьесы сделать антирелигиозную, но у него вышло: “Долой церковь, да здравствует бог”», — гласил другой отклик383*. Так выходило потому, что сатирическая прокламация пролога не претворялась в последующем действии. Как писал С. С. Мокульский, «сатирическую установку нужно было применить к самой пьесе, отрешившись от добродушного академизма в трактовке отдельных ее персонажей, всех этих епископов, инквизиторов, феодалов, придворных. Спокойная эпическая манера игры Ге, Нелидова, 156 Лерского и др. здесь вовсе неуместна. Она затемняет сатирический замысел автора и сильно уменьшает интерес всего спектакля»384*. К сатирическим целям ближе других оказался Студенцов: его дофин Карл гротескно сочетал породу и вырождение, повелительный жест и развинченную пластику.
Жанну д’Арк играли здесь обе недавние Клеопатры — Тиме и Вольф-Израэль. Тиме склонялась к мелодраме и декламации, в чем ее критика не поддержала, Вольф-Израэль удачнее передавала «чисто народную простоту и непосредственность здоровой крестьянской девушки», развертывая характер в действии, «переходя от наивного легкого диалога в первых сценах до подлинного и ясного героизма в последних сценах, особенно в суде»385*. Мокульский тоже находил, что в ее игре «подкупает искренность и простота при большом внутреннем напряжении».
Все же успех или неуспех актрисы не мог радикально изменить общую суть зрелища, утомительного и громоздкого. Первое представление «Святой Иоанны» окончилось в 1 час 40 минут ночи, второе, после кое-каких купюр, — в четверть первого. Это позволило потом критике упоминать о тяжеловесных комедиях Акдрамы. Главное же, сила и безволие мастерства при смутности отправных предпосылок то и дело бросали театр в объятия эклектики.
В репертуар Акдрамы особняком вошел тогда «Мещанин во дворянстве», поставленный Александром Бенуа. Там стилистические цели сознавались явственно. Осенью 1910 года, когда Мейерхольд показал мольеровского «Дон Жуана», Бенуа выступил с весьма иронической статьей «Балет в Александринке». Теперь он сам ставил комедию-балет Мольера в том же театре, заботясь, «чтоб зрелище получилось бы особенно нарядным и блестящим» и походило на «смесь сна и яви, правдоподобия и сказочности»386*.
Предшествовавшие мольеровские спектакли Александра Бенуа — в Московском Художественном театре (1913) и в Большом драматическом (1921) — были ближе к демократическим помыслам автора, к народной игре, к бытовой характерности. Здесь же предстал Мольер аристократический, Мольер придворного театра. Посреди «королевского» голубого занавеса с золотистыми искрами находился овальный портрет драматурга. На портал ниспадала складками ткань «цвета умирающих роз». Преобладали блеклые тона, словно зрелище выцвело за два с половиной столетия после смерти Мольера. Единая для пяти актов сценическая установка изображала помпезный 157 барочный зал в виде грота, волшебно превращавшийся к финалу в иллюминированный сад. Все выказывало безукоризненный вкус художника-режиссера, но стилизация версальской пышности превращалась в самоцель. Зрителю предлагали не Мольера в сегодняшнем восприятии, а ушедшую театральную эпоху. Юрьев, игравший графа Доранта, вполне постиг стилизаторскую задачу в речевом и пластическом рисунке роли, прочие участники изведали разную меру успеха. Стихию неподдельного комизма вносили в действие Кондрат Яковлев — Журден и Горин-Горяинов — слуга Ковьель. Общий же колорит спектакля отдавал музейностью.
«Мещанин во дворянстве» прошел отголоском театрального традиционализма. Встречались в тогдашнем репертуаре Акдрамы и побочные явления, порой — откровенные уступки кассе. С одной стороны, «Сарданапал» Байрона (1924), «Царь Эдип» Софокла (1925), «Отелло» Шекспира (1927) возвращали Юрьева, исполнителя центральных ролей, к временам Театра трагедии: холодноватая патетика не одушевлялась современным подходом к героическим образам. С другой стороны, в годы нэпа на сцену Акдрамы проникали салонные комедии: «Фавн» Кноблаука, «В царстве скуки» Пальерона. В том же ключе исполнялись «Леди Фредерик» и «Авантюрист» Сомерсета Моэма. Такие спектакли продолжали развлекательную линию «Аквариума». Например, «Авантюриста» ставил осенью 1924 года Горин-Горяинов в приемах салонного фарса. То была истинно британская комедия о веселом сумасброде принце, который выдавал себя за лакея, нанимался служить в дом разбогатевших буржуа Паркерсов, дурачил этих глупых выскочек и покорял сердце их добродетельной дочери. Пьесу помнил еще дореволюционный Петербург, только тогда она называлась «Принц Себастиан» и шла в театре Суворина. Теперь ее давали примерно в таких же старозаветных павильонах, украсив их разноцветными лампочками и дверью-вертушкой, за сценой звучал фокстрот. К. К. Тверской саркастически заверял: «Все, как в Пассаже»387*, — то есть как в театре «Пассаж» С. Ф. Сабурова, строившем репертуар в расчете на нэпмана. «Вступили в конкуренцию с сабуровским театром. Ставка была на кассу», — подтверждал С. С. Мокульский388*. Третий, анонимный рецензент назвал это зрелище «ак-фальшивкой». По его словам, «честнее работали актеры. Они купались в салонно-конфетной манере». Чету Паркерсов изображали опереточный комик М. А. Ростовцев и Корчагина-Александровская. Горин-Горяинов, играя принца-лакея, «в тысячный раз демонстрировал свой приемчик — скороговорку. Корчагина-Александровская, прекрасно 158 играя пустяковую роль, напомнила о стольких славных актерах старой Александринки, растративших прекрасное дарование в пустяках»389*. Грустно заканчивалась рецензия. Так резко театр как будто еще не бранили. Да и Сомерсет Моэм вправе был рассчитывать на большее.
Справедливость требует прибавить здесь же, что весной 1926 года Акдрама глубже оценила Моэма. Она выпустила спектакль «Ливень» — по тексту инсценировки, сделанной для Рейнгардта. В постановку Раппапорта и оформление Ходасевич вписались серьезные актерские работы. Миссионера-фанатика Дэвидсона и его жену играли Вивьен и Мичурина-Самойлова, свободолюбивую Сэдди, девицу без предрассудков, — Вольф-Израэль и Тиме, смазливого морячка О’Хара — Симонов, трактирщика Горна — Зражевский. Много лет спустя С. Л. Цимбал вспомнил тогдашнего героя Симонова — «простодушного морского красавца, который появлялся на сцене в немыслимо широкополой тропической шляпе, едва заметно переваливался от собственной тяжести с боку на бок и все время улыбался светлой и доверчивой улыбкой…»390*
Нет, и легкомысленные комедии вроде «Фавна», с очередной бенефисной ролью для Горин-Горяинова, не задевали основ реалистической актерской школы — во все времена Александринский театр ставил не только высокую классику. Как прежде, традиции жили и продолжали жить в «Горе от ума» и «Ревизоре», в «Маскараде» и «Свадьбе Кречинского», в «Коварстве и любви» и «Идеальном муже», когда играли Е. П. Корчагина-Александровская, В. А. Мичурина-Самойлова, М. П. Домашева, М. А. Потоцкая, Е. М. Вольф-Израэль, Н. С. Рашевская, Е. И. Тиме, Ю. М. Юрьев, К. Н. Яковлев, Р. Б. Аполлонский, Г. Г. Ге, М. Е. Дарский, Ю. В. Корвин-Круковский, П. В. Самойлов, Н. Н. Ходотов, Б. А. Горин-Горяинов, Л. С. Вивьен, И. В. Лерский, П. И. Лешков, Я. О. Малютин. С 1925 года здесь работал И. Н. Певцов, с 1924 года — молодые М. Ф. Романов и Н. К. Симонов.
И все же не лишен был оснований горький вопрос, заданный осенью 1923 года в редакционной статье еженедельника «Жизнь искусства»: «Чему учиться публике в старом-престаром Александринском театре? Могучие таланты бродят там в потемках и без подлинного дела»391*.
И все же не сгущал красок Певцов, вспоминавший впоследствии свои первые впечатления об Акдраме: «Я столкнулся с труппой, у которой не было ни руля, ни ветрил, никаких сознательных направлений и исканий, хотя бы какой-нибудь борьбы направлений. Работали все как-то бессознательно. 159 И в самом театре было какое-то странное положение с актерским составом. Как будто бы был целый ряд лошадей, хороших лошадей, но одна возит воду, другой — скакун, который берет призы, третий — рысак, четвертый — извозчичья лошадь, а тройки из них не составишь, на тройке не поедешь. Тройка никак не выйдет, все вразброд»392*.
Речь шла о гастрольной игре в собственном театре, о неровности ансамбля убежденных реалистов, о разобщенности партнеров в диалоге, о перепадах «актерской режиссуры» и репертуарной пестроте.
Играли Островского, но все больше в стереотипных постановках Евтихия Карпова. Под Островского, с упором на бытовую характерность, исполняли и «Смерть Пазухина» Салтыкова-Щедрина. То была серьезная проба сил для Вивьена, «первая самостоятельная ответственная режиссерская работа», как считал он сам393*. Ей предшествовала своего рода репетиция — учебная постановка этой же пьесы силами студентов тогдашнего Института сценических искусств. Показанная в мае 1923 года, она произвела «отличное впечатление»394*; «это было вполне грамотное и интересное зрелище»395*. Блеснул в роли Живновского молодой С. А. Мартинсон. На академической сцене все вышло сложнее.
Спектакль тянуло в разные стороны. Почвенная игра Самойлова — Прокофия Пазухина, Малютина — Фурначева, Нелидова — Живновского вступала в конфликт с оформлением художника М. З. Левина, где сталкивались острыми углами плоскости, а по ним смещались тени разной глубины. Особенно непривычны показались актерам костюмы и гримы. После премьеры Самойлов даже написал протестующее письмо о том, что актеры не хотят изображать «кривляющихся, размалеванных марионеток»396*, к чему их обязывали эскизы художника. Актеру было под шестьдесят, в его излюбленном репертуаре преобладали трагические роли, да и он сам к тому же на досуге занимался живописью и устроил как-то выставку своих картин в манере передвижников. Словом, понять Самойлова можно, спектакль и сегодня показался бы экстравагантным. Главная же его беда была та, что крайности не сошлись и сойтись не могли. По всем законам школьной науки, слагаемые давали не стройное соединение, а эклектическую смесь. Как говорилось 160 в рецензии, на сцене шел «своеобразный матч»: «Левый Левин; совсем не левые исполнители; и во главе всех, в роли арбитра, стремящегося примирить враждующие стороны, — “не чуждый современности” Вивьен»397*.
Спектакль давал поводы для нападок и насмешек. Эксцентрика выносилась наружу, напоказ. Между тем некоторые метафоры художника прямо вытекали из стиля щедринской комедии, были подсказаны ее текстом. Образы сокрушительной гибели, сламывающегося уклада, рушащихся устоев вытекали из сути содержания пьесы, которая сначала называлась у Щедрина «Царство смерти». Предвестница этой гибели — комета, возникавшая наверху, также была щедринской метафорой: рассуждением о ней Фурначева начинался второй акт комедии. Поэтому ближе к истине был С. С. Мокульский, заметивший в рецензии на премьеру: «Чтобы выявить сатирическую сущность “Смерти Пазухина”, необходимо отрешиться от традиционного воззрения на нее как на бытовую “поддевочную” пьесу». Критик поддержал попытку Вивьена поставить пьесу «в плане динамического гротеска, резко подчеркивающего сатирический замысел автора». Однако цель не была достигнута: «Превосходно выполненные экспрессионистические декорации М. Левина оказались совершенно вне спектакля. Они ни к чему не обязывали актеров, а костюмы (того же Левина) только мешали им играть»398*.
Актеры и сами сталкивались между собой в этой затейливой игре, как оно бывало, впрочем, и во многих других тогдашних работах Акдрамы. Одна Корчагина-Александровская подымалась на высоту щедринского стиля, гротескно играя Живоедову. «Особенно порадовала своей чуткостью Корчагина-Александровская, краса и гордость “старой гвардии” Александринки», — писал Мокульский. «Если бы все актеры сумели достичь того, что делает Корчагина, — вторил анонимный критик, — зритель воочию убедился бы в том, что эта нереальная, эта карикатурная манера исполнения ближе и ценнее нам, чем простое фотографирование быта»399*.
Сами по себе попытки обновить облик александринского спектакля были своевременны, но осуществлялись нередко в ущерб цельности. Половинчатой вышла попытка Вивьена и художника Б. М. Кустодиева совместить в спектакле «Волки и овцы» (1927) живопись быта с конструктивной условностью приема. По лестнице в глубине спускались персонажи и оказывались посреди чуть закамуфлированного привычного павильона. 161 Но голая оконная рама повисала в пространстве на авансцене (I акт), чтобы Аполлон Мурзавецкий — Горин-Горяинов, всегда полупьяный, мог через нее пикироваться со своим псом Тамерланом. Из арьерсцены прямо на зал пялился иконописный лик какого-то великомученика, оттеняя ханжество и криводушие Мурзавецкой — А. Ф. Грибуниной (эта актриса, пожалуй слишком мягкая и кроткая для роли властной помещицы, справляла здесь 35-летие сценической деятельности). Садовая скамейка из третьего акта, на которой превесело объяснялись Лыняев и Глафира — Лерский и Вольф-Израэль, была кубистски скособочена. Для вящей полноты социального фона режиссер ввел на сцену персонажей, не предусмотренных Островским: приживалок, монахов и т. п. Выход Мурзавецкой напоминал чуть ли не крестный ход в начале Мейерхольдова «Леса»: сверху шествовала «процессия из нескольких приживалок и одного калеки, во главе с двумя монахами, поющими молитвы, — писал А. Л. Слонимский. — Копия, конечно, получается очень робкая, неумелая, так как движение процессии никак не разработано (спускаются с лестницы и тут же застревают)»400*.
Попытка Вивьена усилить социально-разоблачительные мотивы была закономерна, но то и дело оборачивалась водевилем и карикатурой. В театральном мышлении тех лет часто гнездилось некое механическое тождество: задача социально заострить постановку классической пьесы обязывала взять крен влево по части выразительности, разбить персонажей на положительных и отрицательных, кого — приподнять, кого — высмеять. Социальный подход не мыслился вне формальной левизны. Одно без другого не осуществлялось и будто бы не воспринималось. Вивьен в «Волках и овцах» поддался этому поветрию.
А труппа опять осталась верна себе и не поддержала режиссера. Выделялись Корчагина-Александровская в маленькой роли Анфусы Тихоновны и Певцов — Чугунов: «Только присутствие Певцова оживляло этот сонный захолустный спектакль»401*. Тверской добавил сюда еще Юрьева — Беркутова и Грибунину. Эти четверо, по его словам, создали «солидный противовес водевильной группе»402*, — то есть Вольф-Израэль, Горин-Горяинову, Лерскому и др. Правда, комедия Островского в трактовке Вивьена показалась одному рецензенту тяжеловесной, другому — легкомысленной. Иначе они и не могли ее расценить по тем временам. Во всяком случае, она пасовала перед социологической уверенностью, с какой позднее, в 1935 году, перетолковал эту пьесу К. П. Хохлов, ставя ее в Малом театре. Усадьба Мурзавецкой 162 преобразилась там в монастырь, а сама она — в игуменью, с прозрачным намеком на пресловутую игуменью Митрофанию, героиню нашумевшего уголовного процесса. И даже старый дворецкий Павлин превратился в монахиню Павлину… Вивьен, кое-что здесь предвосхитивший, так далеко не заходил.
АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С. Э. РАДЛОВА
Если одним полюсом в тогдашнем репертуаре Акдрамы (вообще-то к полюсам не тяготевшей) был ностальгический традиционализм Бенуа с его «Мещанином во дворянстве», то другой полюс наметили некоторые экспрессионистские постановки молодого С. Э. Радлова.
Юрьев привлек к работе этого самого левого, по тогдашнему счету, петроградского режиссера вскоре после того, как пришел к руководству театром. Вместе с художником В. В. Дмитриевым, питомцем Курмасцепа, а теперь дебютантом академической сцены, Радлов поставил драму Эрнста Толлера «Эуген Несчастный» — о скорбной участи инвалида мировой войны, кончающего самоубийством. Академический дебют двух недавних мейерхольдовцев состоялся 15 декабря 1923 года и вызвал разноречивые толки. Причиной был разлад между постановочным замыслом и навыками актеров, отчасти — между этим замыслом и пьесой. Когда 13 апреля 1926 года своего «Эугена» посмотрел в Ленинграде Толлер, он удивился. «По мнению Толлера, — сообщал интервьюер, — режиссерская постановка пьесы очень интересна, но к ней нужно привыкнуть. В Германии “Эуген” ставится как карикатура…»403* Драматурга удивила серьезность социальной трактовки темы. Гибель цивилизации осмеивалась и оплакивалась тут в одно и то же время.
Радлов вполне отдавал себе отчет в парадоксальных возможностях пьесы, сбивчивой и по тенденциям, и по художественной структуре. Он сообщал перед премьерой: «Тема “Эугена Несчастного”, которая могла бы быть использована для фарса, трактуется как трагедия — в таком подходе ее острота». Режиссер избрал путь «разыгрываемой трагедии с некоторым мелодраматическим оттенком, но не психологической драмы»404*. Это удалось провести не до конца, хотя Радлов нашел поддержку и в театре, и у большинства рецензентов. Виделся ему спектакль того рода, какой немцы называют Schreidrama (то есть драма-вопль), но поскольку к этому экспрессионизм Толлера не сводился, не вышло на сцене и особенного «вопля».
163 Сжато объяснял ситуацию А. А. Смирнов: «Радлов извлек из материала все, что было возможно, создав некоторую структурность и живую выразительность тона и движения (кое-что в жесте напоминает острый физиологизм “Рогоносца”). Но большая часть усилий режиссера разбилась о сопротивление плохой пьесы, литературно разностильной и идеологически сбивчивой, а также многих из исполнителей, привязанных крепкими узами к старой манере игры»405*. Действительно, Л. С. Вивьен, далекий от неврастении, психологически размеренно оттенял самообладание героя, изувеченного войной, В. Л. Юренева, напротив, играла Грету в привычных ей взвинченных тонах салонной декадентки, а Б. А. Горин-Горяинов безмятежно комиковал в мистически-гротескной роли Балаганщика, приняв указание насчет балагана в буквальном смысле. Видя, что экспрессионистская прививка к мощному академическому стволу удалась не вполне, да и не ожидая многого от такой прививки, Гвоздев напоминал, что экспрессионисты стремились «ударить покрепче, чтобы больнее было. Но такое избиение, конечно, не в стиле и не в традициях академических театров, и С. Радлов был прав, отказавшись от водворения подлинного экспрессионизма в культуру театра Островского…»406*
Помимо независимо «сольной» игры ведущих актеров, особенно Горин-Горяинова, помехой режиссуре была и нечуткость участников массовых сцен к напряженным ритмическим заданиям, к нервной пульсации мотивов социального протеста. Радлов не успел выполнить весь объем режиссерской работы в многолюдных эпизодах действия. Доброжелательный Э. А. Старк входил в положение постановщика: «Превосходна группа инвалидов войны, вопиющих о милостыне. Но она — чистый гротеск, который довольно неуклюжим клином врезается в толпу, вовсе не обработанную в стиле гротеска». Другую массовую сцену критик принял без оговорок: «Очень хорошо передано угарное настроение ночи в большом немецком городе»407*. И все же речь шла о половинчатости итога.
Во многих рецензиях на «Эугена» упоминался Островский. Это могло показаться странным: ведь Александринский театр и раньше не был так близок Островскому, как московский Малый. Причиной послужило одно случайное с виду, но немаловажное совпадение. В тот же вечер, когда на сцене Малого оперного театра впервые играли Толлера, на основной сцене Акдрамы шла премьера «Свои люди — сочтемся» в постановке Е. П. Карпова. Соревнование двух тенденций внутри одной 164 труппы получилось наглядным, чуть ли не демонстративным. Б. В. Алперс, не удовлетворенный работой Радлова, все же был на его стороне, а Карпова отнес к побежденным: «Это генеральное академическое сражение должно быть отнесено к разряду проигранных. Подтверждение тому можно было найти и в зрительном зале, едва наполовину заполненном в вечер премьеры»408*. Сторону победителя принял и руководитель театра Юрьев. По справкам печати, он «остался доволен этой новой постановкой».
«Я крайне волновался за “Эугена”, — говорит Ю. М. Юрьев, — но сейчас я окрылен надеждами, что дальнейшее освежение репертуара Александринского театра не встретит никаких препятствий»409*.
Активный деятель пролетарского фронта искусств, руководитель Госагиттеатра В. В. Шимановский подтверждал со своей стороны, что «определилась воля театра к воплощению трепета новой жизни, рождающейся в лоне современности», хотя опять-таки оговаривался, что коренные актеры труппы и приглашенные авторы спектакля, «добрые хозяева и застенчивые гости, на первых порах растеряны… Но каков режиссер? Правильно было бы назвать его героем»410*. «Радлов победил!» — восклицал Е. М. Кузнецов. Радуясь этому, он бранил за равнодушное гаерство Горин-Горяинова, а о других мастерах писал: «Вивьен и, пожалуй, Юренева пришли Радлову на помощь. В остальном победил режиссер»411*. Общую оценку суммировала информация «Правды», отметившая, что постановка Радлова «нашла горячий отклик в ленинградских театральных кругах» и на открытом диспуте «встретила полное одобрение и сочувствие у большинства ораторов»412*.
При всех зазорах, при внутренней сыромятности работа Радлова была свежее, режиссерски содержательней, чем по старинке прочитанная Карповым комедия Островского и — что еще существеннее — чем трактовка того же «Эугена Несчастного» в московском театре «Комедия» (бывш. Корш). Там нарочито сгущались клинические моменты в изображении Эугена, развертывалась натуралистическая мелодрама. Сопоставляя два спектакля, Я. В. Апушкин заключал: «Эуген в Ленинграде лучше, глубже Эугена в Москве. Москвичи его принизили, низвели до пикантного, с претензией на глубокомысленность поданного, анекдота»413*.
165 Таким образом, Радлов снискал много похвал, иногда не безоговорочных. Часть из них отпускалась в кредит. Часть вызывалась самим фактом проникновения в твердыню.
Все же на академической сцене Радлову удавалось порой достичь своего. Осенью 1924 года актеры Акдрамы, преимущественно молодые, показали в Малом оперном театре поставленную им «Лизистрату» Аристофана в обработке, сделанной совместно с Пиотровским. Интерес Радлова к античной комедии, заявленный еще «Близнецами» Плавта, неизменно сопрягался с тягой к комедии народной и современной. Так было и накануне прихода в Акдраму. «Проводником аристофановского смеха был простонародный артист — акробат, клоун, жонглер», — писал он, держа в памяти опыт «Народной комедии». Радлов считал этот опыт по-прежнему актуальным: «Общественный, открытый, “энергичный” смех физиологически необходим народу, напрягающему свои усилия в тяжелой борьбе, и нет такого момента, когда надо бы заставить его умолкнуть»414*. О том же Радлов докладывал и на диспуте после премьеры «Лизистраты». Газетный отчет сообщал: «По мнению докладчика, пьеса Аристофана близка современности, так как она является единственным в своем роде образчиком политической комедии. Это, в сущности, политическая речь, облеченная в театральную форму. Тема “Лизистраты” — война против войны — близкий нашей современности лозунг». Дальше Радлов указывал еще на близость антивоенной тематики комедии и ее структуры, а также характера собственной постановки «к политическим инсценировкам наших клубов» и замечал, что «всем клубным инструкторам было бы полезно посмотреть ее»415*. Таким образом, вполне современный замысел дополнял фундаментальную эрудицию режиссера.
Это прежде всего и отметил в своей рецензии С. С. Мокульский: «Постановка “Лизистраты” задумана С. Э. Радловым в стиле площадного балагана с элементами акробатики и клоунады, на фоне которых выделяются серьезные, патетические моменты, выявляющие обличительную тенденцию Аристофана. Режиссеру удалась здесь очень трудная задача: дать живое, яркое ощущение античности, не впадая в археологию и профессорский академизм. Его “Лизистрата” одновременно антична и современна. С особым искусством поставлены хоровые сцены, погружающие зрителя в маскарадную стихию античной комедии. Сцены схваток между женщинами и стариками развернуты в блестящее массовое действо, полное движения, темперамента и буйного веселья. Очень искусно использована здесь акробатическая техника. Вообще С. Радлов показал себя первоклассным 166 мастером в области техники массовых сцен»416*. Другой рецензент, Г. А. Авлов, тоже приветствовал «искреннее стремление режиссера создать спектакль народной комедии»417*, но, при всех театральных находках, увидел в зрелище не так уже много живых связей с современной жизнью, порицал тот самый профессорский академизм, отсутствие которого обрадовало Мокульского.
Проведя на этот раз свой постановочный замысел достаточно четко, Радлов не встретил поддержки зала. Зрители холодновато приняли народную комедию античности, склоняясь к оценке Авлова.
Спустя годы П. А. Марков, воскрешая перед читателями обстановку, в которой рождалась и жила прославленная «Лизистрата» В. И. Немировича-Данченко, к месту вспомнил и чуть более позднюю постановку Радлова, дав ей во многом объективную оценку. Марков писал, что в своей «Лизистрате» Радлов «не стилизовал, а реконструировал античный театр. Он подходил к Аристофану со всем запасом своей солидной учености и несравненного знания античного театра. Это была реконструкция античного спектакля даже в области актерской игры, поскольку ее допускали условия современной сцены. Привнесенные Радловым поправки на современность были недостаточны, чтобы заслонить от зрителя тяжеловесную научность его режиссерской работы, как бы изобретательна и талантлива она ни была»418*.
Характеристику можно принять как справедливую, с одной разве оговоркой: к тому времени, когда впервые были напечатаны эти строки419*, уже достаточно выяснилось, что «тяжеловесность» своей «научности» Радлов-режиссер преодолевал успешно, о чем наглядно свидетельствовали хотя бы его шекспировские спектакли; преодолевал именно «тяжеловесность», разумеется, а не «солидную ученость», которая творчеству не помеха. Долго давал себя знать устойчивый, но неточный взгляд на Радлова как режиссера, будто бы отягощенного и скованного собственной эрудицией. Такой взгляд П. А. Марков развернул в 1929 году в блестящей рецензии на книгу Радлова «Десять лет в театре». Признавая, что «ленинградская режиссура выдвинула в первые ряды Сергея Радлова», критик от разговора об одном режиссере переходил к суждению обо всей ленинградской режиссуре в целом.
167 Марков писал: «Режиссерское гелертерство — путь от университета к театру, от историко-теоретического театроведения к практической сцене — не самая значительная сторона Радлова. Истоки мастерства ленинградцев лежат в проповедях и сценическом учении Мейерхольда десятых годов. Эстетическая позиция Мейерхольда тех лет во многом предопределила будущее ленинградской режиссуры. Противники “московского” психологизма (МХТ), они впитали в себя борьбу с натурализмом на сцене и утвердили ряд эстетических позиций, связанных с “театральным театром”, с комедией масок — со студией Мейерхольда 1913 – 1917 годов. Соблазны бытоизображения были им чужды. Прыжок в современность совершался первоначально во имя театра, а не во имя современности. Ленинградские художники сцены во многом повторяли путь поэтов. Они отчетливо сознавали невозможность прогрессивного хода искусства вне связи с современностью. Быть контрреволюционным в политике означало контрреволюцию в искусстве: реакция в искусстве была им глубоко отвратительна. “Иные дали”, раскрытые революцией, увлекали к новым поискам»420*.
Этот этюд по социальной психологии творчества конструктивно закончен. Многие из тогдашних мыслей П. А. Маркова, брошенных как бы походя, привлекают и сегодня меткой остротой. Многое отвечало яви 1920-х годов. Многое, но не все — в том смысле, что полемически выстроенный критиком собирательный образ ленинградского режиссера подходил не поголовно всем и каждому, а выбор Радлова как объекта типизации был не бесспорен. Но сказанное Марковым распространялось на академические эксперименты Радлова 1920-х годов.
Работа Радлова в Госдраме развертывалась негладко — до того негладко, что поставленные им «Волчьи души» Джека Лондона и «Общество почетных звонарей» Е. И. Замятина (сезон 1924/25) вышли без имени режиссера на афише. И хотя с июня 1925 года Радлов сделался штатным режиссером академических театров, практически он обрек себя на роль исполнителя при творящем актере. Во многом «исполнительской» режиссурой была его подготовка юбилейного спектакля Юрьева «Отелло» (1927). Сколько-нибудь отчетливого замысла спектакль как будто не имел, если не считать, что трагедия исполнялась в полном объеме своего текста («текст дается без обычных купюр», — свидетельствовал Слонимский421*), отчего действие затянулось до двух часов ночи.
Все же одно положение, существенное и для его последующих встреч с Шекспиром, Радлов выдвинул уже здесь: «Трагедия Шекспира построена на обдуманном и последовательном 168 чередовании трагического и смешного. Конечно, найдутся “снобы”, которые оскорбятся свободными и веселыми персонажами, осмеливающимися разбивать серьезное их “настроение”. На всякий случай суфлирую им: шутки этих чудаков не менее “научно обоснованы”, чем тирады трагиков, таков подлинный Шекспир»422*.
Идеи времен «Народной комедии» явственно отзывались в этих размышлениях о монтажной структуре шекспировского действия, о чередовании жанровых начал, о раскадровке эпизодов. Радлов недаром пригласил оформлять спектакль Валентину Ходасевич, изобретательную художницу его ранних народно-комедийных постановок. Пока размышления во многом размышлениями и остались. Ибо сложность ситуации, в какой очутился Радлов на академической сцене, усугублялась еще тем, что в тот же спектакль на роль Отелло сразу после Юрьева вступал Певцов, совсем не герой-трагик, а актер интеллектуального анализа, подавленной рефлексии, прошедший через модное недавно амплуа неврастеника. Актер выдающийся, Певцов закономерно провалился, хотя, по свидетельству Н. В. Петрова, роль Отелло была условием его прихода в Акдраму и это особо оговаривалось в контракте, подписанном с руководителем театра Юрьевым423*. Лавров спектаклю Певцов не прибавил. Стоявшие перед режиссером трудности сделались очевиднее.
Но как раз тут приоткрылась исходная режиссерская концепция, Юрьевым не принятая. Теперь критика увидела в спектакле наличие замысла. Например, С. Д. Дрейден, недавно (29 апреля) писавший в «Ленинградской правде» о «декоративном Отелло — Ю. М. Юрьеве», теперь изменил тон, говоря не столько о герое, сколько о спектакле: «“Отелло” без ходуль, без мертвенной и скучной декламации, раскрытие пьесы как глубоко человеческой и с какой-то стороны современной трагедии — к этому стремился Актеатр драмы в своей последней постановке. Исполнение роли Отелло одним из самых примечательных наших артистов — И. Н. Певцовым доводит это стремление почти до абсурда»424*. Но в этой, новой характеристике и состояла суть. Психоанализ Певцова был Радлову не менее чужд, чем декламационная манера Юрьева. Последующая череда радловских постановок Шекспира в конечном счете сводилась к отказу от декламации, от ходуль, к передаче современного нерва трагедии, даже с риском снизить ее накал, к поискам человечности, рассмотренной в рамках конкретного историзма.
169 Академический «Отелло» был неоднороден. Почествовав Юрьева, критики вторично писали о спектакле с Певцовым, потому что это был, по многим признакам, другой спектакль.
После того Радлов почти на десять лет расстался с Акдрамой, чтобы возвратиться в качестве художественного руководителя театра.
НОВАЯ ПЬЕСА И РЕЖИССИРУЮЩИЙ АКТЕР
По-разному экспериментируя над классикой, ленинградская академическая труппа пробовала таким путем омолодить свой творческий метод. Классика позволяла хранить навыки мастерства. В ней сплошь да рядом открывались новые возможности, порой весьма перспективные. Но прежде всего пьесы советских авторов помогали театру самоутвердиться в современности. С приходом Юрьева к руководству эти пьесы начинали занимать прочное место в репертуаре.
После эпизодических опытов предшествующей поры, таких, как «Мужичок» Шишкова или «Фауст и город» Луначарского, советская драматургия только теперь стала ощутимо воздействовать на содержание и стиль искусства Акдрамы. Новый репертуар осваивался не сразу, процесс сопровождали издержки. Образы нового давались труднее, чем то, что относилось к отрицанию старого.
Это показали дальнейшие встречи с драматургией Луначарского. Как упоминалось, еще в ноябре 1920 года актеры Акдрамы сыграли на сцене театра Балтфлота пьесу «Канцлер и слесарь», поставленную Пашковским. В мае 1923 года о ней вспомнил Юрьев. Протокол совещания о репертуаре предстоящего сезона зафиксировал: «Ю. М. Юрьев рекомендует для Октябрьских дней пьесу А. В. Луначарского “Канцлер и слесарь”»425*. А уже 2 июня Луначарский, извещенный о намеченной постановке, в письме к Юрьеву соглашался прочитать пьесу перед труппой и осведомлялся о начале репетиций426*. Читка состоялась 13 октября в музее актеатров427*. Значит, над пьесой работали не слишком долго, но как бы впервые, поскольку теперь режиссировал Смолич. Хотя среди исполнителей и было несколько прежних, они тоже в большинстве случаев начинали сызнова. Чеканные образы-маски канцлера фон Турау, его жены и сына Лео дали Ге, Мичурина-Самойлова и Хованский. Макса Штарка и его жену Эмму играли Самойлов и Корчагина-Александровская. Схематичен был слесарь Фриц Штарк — Вольский, 170 недавний исполнитель плакатно-героических ролей на петроградской Арене Пролеткульта. Однако главный недостаток зрелища был в другом. Социально-философский конфликт действия заслоняли всплески «аквариумной» стихии, напоминавшей о себе в спектакле проделками авантюриста-соглашателя Франка Фрея — Горин-Горяинова. За это театру пришлось выслушать немало насмешливых укоров. Авлов иронизировал насчет «глубокой ненависти, которую питают творцы и участники спектакля к политическому соглашательству… только этим и объясняется, несомненно, та не знающая границ отвага, с которой под несмолкаемый хохот и аплодисменты зала актеры “разделывали” сцену у Фрея»428*. Исполнительский ансамбль настраивался то на риторику мелодрамы, то на карикатуру и фарс. Жизненные ноты в сбивчивом оркестре звучали приглушенно.
Увереннее всего пока что театр сводил счеты с прошлым. Но и в спектаклях на исторические темы общий уровень историзма бывал еще невысок, там встречались лишь отдельные актерские находки.
В начале 1926 года Вивьен поставил в декорациях В. Н. Мешкова пьесу-хронику «Иван Каляев» и сам сыграл ее героя. Написал пьесу с помощью актера И. Д. Калугина адвокат В. В. Беренштам, когда-то защищавший революционера Каляева на суде. С одной стороны, в пьесе звучали тирады о бессмыслице индивидуального террора, с другой — поэтизировалась личность «романтика» Каляева. Драматургия получилась бесформенно-иллюстративная, и никакая режиссура выручить ее не могла. Ни Вивьен-режиссер, ни Вивьен-актер не могли тут похвалиться успехом. «Вивьен очень старался притвориться Каляевым. Но — неудачно», — констатировал Мокульский. Что же касалось режиссуры… «Говорить о каком-либо постановочном принципе не приходится. Руки режиссера в этом спектакле просто не видно»429*. Имелось лишь несколько зрелых актерских работ. Юрьев с живым чувством эпохи и среды изображал великого князя Сергея Александровича, на которого покушался Каляев, Мичурина-Самойлова — великую княгиню Елизавету Федоровну. «Юрьев блеснул своим большим мастерством, своей прекрасной “барской” осанкой, своим умением вести диалог и выдерживать выразительные паузы… — писал Мокульский. — Интерес всего спектакля сосредоточился на этой единственной картине с участием Юрьева, в которой и другие исполнители (Малютин, Лерский, Корвин-Круковский) удачно ему подыгрывали».
Другим актерским событием стал выход Корчагиной-Александровской в роли матери Каляева. Много лет спустя Вивьен 171 признавался, что, играя Каляева, он «всегда испытывал неловкость от элементарных и грубоватых драматургических ситуаций. Но появление Корчагиной сразу придавало масштабность и глубину прямолинейным событиям этого спектакля. Она приходила в тюрьму, уже зная, что сына казнят. Сцена изображала какой-то условный кусок камеры. Я сидел на скамье, а мать успокаивала меня. Трудно представить себе, как абсолютно сливались два плана ее чувств. Там, внутри, была глубокая неутолимая боль. И голос был как будто спокоен, и вид такой, как обычно, а боль все равно ощущалась каждую секунду, проникала в сердце. Я, — продолжал Вивьен, — ясно помню ее темную фигуру. Почему-то она казалась высокой. Лицо бледное, строгое, худое. И темный платок горожанки как-то печально оттенял гладкую седину волос. И глаза почему-то казались большими, суровыми и добрыми — все вместе…»430* На втором плане образа накипали и подавлялись горькие сгустки трагедии. Так вырастала в минуты актерского духовного прозрения посредственная пьеса. Искусство начиналось там, где кончалась прямая иллюстрация к теме.
Невысок был уровень историзма и в пьесе Н. Н. Шаповаленко «Георгий Гапон», которую ставил актер труппы А. П. Нелидов (1926). Центральную роль и здесь играл Вивьен. Победоносцева изображал Гарлин, министра внутренних дел Плеве — Аполлонский. Критика премьеры отметила упрощенность в трактовке событий 1905 года. М. О. Скрипиль писал: «Исключительно слабая драматургическая сторона пьесы делает ряд ее сцен театрально непреодолимыми». Правда, Вивьен, как мог, старался сделать образ глубже и тоньше, сглаживал в начальных сценах провокаторские черты своего героя «по временам захватывающей Гапона искренней верой в дело». У Гарлина был меткий пластический рисунок роли — контраст «плавных, сосредоточенно спокойных движений с резкими и порывистыми и замечательным по своей эмоциональности жестом рук»431*. Но и с подобными актерскими находками спектаклю было недосягаемо далеко, скажем, до не самой счастливой удачи МХАТ-2 — «Петербурга» Андрея Белого с М. А. Чеховым в роли сенатора Аблеухова. Тот спектакль вышел раньше и «Гапона», и «Каляева». Не совпали ни достоинства литературного материала, ни степень проникновения в него. И однако новый репертуар Акдрамы позволял накапливаться качествам историзма в искусстве больших мастеров.
«Виринея», поставленная Вивьеном в декорациях Кустодиева, с Тиме в главной роли, обнаружила недостаточное еще знание 172 театром жизни новой деревни, рожденных ею новых характеров. Судьба спектакля сложилась незадачливо. На встрече с рабкорами после премьеры Вивьен рассказывал «о том, как менялись режиссеры для постановки этой пьесы, о том, как пьеса пролежала где-то под спудом больше года для того, чтобы в конце концов в какой-то месяц работы показать пьесу в сыром, еще не обработанном виде… Ясно, что в такой короткий срок работы над пьесой нельзя было яркий, образный язык пьесы поставить на должную высоту». Присутствовавшая на встрече Л. Н. Сейфуллина, по словам отчета, подтвердила «все сказанное Вивьеном» и призналась, что «авторское самолюбие, конечно, пострадало», но, несмотря на это, сочла, что «зрелищная часть постановки» на высоте. «На высоте и игра актеров, к сожалению, не овладевших еще языком пьесы»432*. То были сдержанные похвалы сравнительно с теми, какими писательница наградила раньше участников спектакля Студии пролетарского актера (второй студии ЛГСПС). Там повесть инсценировал — под названием «Ветер с поля» — и поставил в декабре 1925 года А. Н. Орбелов. «Я удивлена и обрадована убедительностью и очарованием спектакля, — писала студийцам Сейфуллина. — Из моего трудного для сценической обработки материала на маленькой сцене, с мизерными материальными средствами вы сумели создать незабываемое зрелище»433*. Рецензент запечатлел форму студийной инсценировки, в которой не было ничего от «большого театра»: «… зеленый абажур на столике перед рампой, и заглушённый голос чтеца…»434*
Еще раньше, в ноябре 1925 года, собственную инсценировку «Виринеи» показала и передвижная мастерская «Красный молот», вскоре влившаяся в Красный театр. Главную роль играла Е. М. Медведева, ставшая много лет спустя, после Отечественной войны, актрисой Академического театра драмы имени А. С. Пушкина.
Наконец, в мае 1926 года инсценировку Сейфуллиной и Правдухина исполняла мастерская Л. С. Вивьена в Техникуме сценических искусств. Виринею играла А. П. Павлычева, «давшая живой, сложный и пленительный образ героини новой деревни»435*. Эта учебная проба, как видно, и открыла Вивьену дорогу к работе над той же инсценировкой в Акдраме, где он достиг меньшего.
Таким образом, ак-«Виринее» предшествовали три студийные ленинградские «Виринеи», не говоря уже о значительном 173 спектакле А. Д. Попова у вахтанговцев, выпущенном в октябре 1925 года. Акдрама отставала — по срокам и качеству. Сценический образ, намеченный Тиме, был далек от правды своего литературного прообраза. Потом, в книге воспоминаний, исполнительница этого не отрицала: «Должна признать, что московская Виринея — ее играла в Театре имени Вахтангова Е. Алексеева — ближе к типу русской деревенской женщины». Соглашалась Тиме и с тем, что спектакль вахтанговцев «“опередил” нас не только по времени, но и по глубине раскрытия широкой социальной темы»436*.
Очень скоро на роль Виринеи была введена вторая исполнительница, П. Т. Митрофанова, актриса настоящего трагедийного темперамента, но, увы, почти несостоявшейся судьбы. Все равно спектакль было уже не поднять. Театр видел его недостатки. Стремление к большей правде жизненного материала сказалось в цикле последующих работ о современности.
В ПОИСКАХ РЕЖИССЕРА
Сдвиги в репертуаре не опирались поначалу на наличные силы режиссуры, хотя постановщиков разных пьес тут было видимо-невидимо. Готовя новинку, театр то приглашал режиссера-гастролера, то объединял двух-трех постановщиков. Еще в январе 1925 года Юрьев дал интервью по этому поводу, где разъяснял, что вопрос «давно назрел», а потому «в театре Акдрамы вводится система коллективных постановок»437*.
Первый, малоудачный опыт был предпринят тогда же: Л. С. Вивьен и приглашенный из Москвы Н. Я. Береснев поставили слабую пьесу М. Б. Загорского «Когда спящий проснется» («Не по Уэллсу»), плакатную антибуржуазную агитку. «Это не инсценировка романа Уэллса, а совсем новая пьеса», — писал Мокульский438*, предупреждая, что Уэллс за нее ответственности не несет. Зато в спектакле была техническая сенсация. Печать уведомила, что «по ходу действия впервые будет демонстрироваться радио-громкоговоритель»439*. Заря радиофикации театра коснулась своими лучами и подмостков Акдрамы.
Свою пьесу «Пушкин и Дантес» В. В. Каменский, повинуясь безотчетному и искреннему поэтическому порыву, заканчивал сценой дуэли, на которой Пушкин убивал Дантеса. Прихотливая эта пьеса долго не находила пристанища. Из информации 174 печати было известно, что еще в 1922 году автор предлагал ее театру В. М. Бебутова «Романеск»440*, но тот безвременно закончил свои дни. Каменский написал и роман под тем же названием, вышедший в Тифлисе441*. А тем временем пьесой заинтересовались актеры Акдрамы, нашедшие в ней роли для себя. Весной 1926 года состоялась премьера.
Постановщик спектакля К. П. Хохлов отверг авторский исход поединка, но и к правде истории особенно не тянулся. Все равно многое в пьесе происходило иначе, чем на самом деле, а иногда и наперекор тому, что считалось фактически бывшим. Весь второй акт, например, представлял собой кошмарные сновидения Пушкина; там было где разгуляться поэтической вольности без оглядки на историю. Акт был соответственным образом срежиссирован Хохловым и оформлен М. З. Левиным — «в живописно-фантастическом плане». И вообще, признавался постановщик, «для “реализации” на сцене авторского замысла мы вынуждены были отказаться от сугубо реалистических мотивов и скорее приближаемся к схематически-психологическим наброскам без особого нажима на быт»442*. Свободной авторской трактовке отвечала покорная иллюстративность режиссерских решений. И только обличительная сцена великосветского бала, на котором вспыхивала ссора Пушкина и Дантеса, составляла исключение. К. К. Тверской писал, что «это — единственный момент в спектакле, когда и автору и режиссеру удается создать более или менее правдоподобную картину общественных отношений того времени, показать загнанного и затравленного Пушкина, в какой-то мере привлечь к нему симпатии зрителя»443*.
Что оставалось актерам? Как скептически замечал Тверской, Корчагина-Александровская — няня Арина Родионовна, Тиме — Наталья Николаевна, Малютин — Пущин играли «с обычным мастерством и подъемом, которого, пожалуй, даже не заслуживает пьеса». Мастера сцены хранили достоинство при исполнении сценических обязанностей. Правда, Тиме играла скорее не лирический идеал Пушкина, а «слишком подчеркивала другую сторону этого исторического персонажа — легкомысленной “женки” поэта»444*. Автор приведенных строк относил к удачам спектакля образ д’Аршиака, которого играл «Романов, молодой актер с большим будущим».
175 Сочувственно писал Пиотровский о Юрьеве: «Заслуживает всяческого признания его борьба, иногда непосильная, с кретинизмом авторского текста, не давшего Дантесу ничего, кроме писарских сентенций и междометий». Еще трудней пришлось Певцову. Его задачей стала «также прежде всего — борьба, на этот раз не только с автором, но и с собственными внешними данными, мало отвечающими привычному представлению о Пушкине». Все же, касаясь внутреннего содержания образа, критик соглашался принять «найденный Певцовым тип несколько меланхоличного, тяжелокровного поэта» и добавлял: «Прекрасно чтение им стихов, простое и значительное»445*.
Многое в рецензиях звучало уклончиво, даже снисходительно. Но были и прямые высказывания против спектакля. С. Д. Дрейден отвергал увиденное с порога, не делая исключения и для работы Певцова: «Невероятная нелепость образа поэта, выведенного по пьесе истериком, назойливым и неприятным, делающим и говорящим невпопад всевозможные глупости, связала по рукам и ногам Певцова»446*. Пьеса Каменского не отвечала уровню требований тогдашней большой сцены и была любопытна скорей как курьез. По позднейшему рассказу С. Л. Цимбала447*, Певцов лучше многих понимал свое поражение в рискованном эксперименте, его оскорбляли натянутые похвалы. Созданный им образ мрачного, надорванного, обреченного поэта никого не мог убедить.
Преодолеть иллюстративность театр попробовал в «Пугачевщине». Пьесу Тренева был приглашен поставить И. Г. Терентьев, режиссер необузданной фантазии, выдвинутый студийной рабочей самодеятельностью. Оформлял Н. П. Акимов. Роль Пугачева поручили мейерхольдовцу И. В. Ильинскому448*. Это был отважный шаг руководителя театра Ю. М. Юрьева.
Как нарочно, в дни репетиций «Пугачевщины» здесь шли гастроли Станиславского и Качалова в «Горе от ума» и «Царе Федоре Иоанновиче». После «Царя Федора» Мокульский писал: «Важно не то, что мхатовцы играли лучше большинства наших аков (за вычетом Тиме и Корчагиной). Важно, что принципы их исполнения были общие, метод — единый. Нужно ли говорить о том, что метод Академической драмы есть метод Станиславского, растрепанный и дезорганизованный, уснащенный 176 доброй толикой провинциальных штампов?»449* Впрочем, об этом уже упоминалось. Сейчас речь о другом — о том, что театр намеренно шел на двустороннюю прокалку, лишь бы поубавилось шлака в его могучем искусстве. При всем том родственная перекличка с мастерами МХАТ и внезапный контакт с Игорем Терентьевым, прошедшие одновременно, были «две вещи несовместные». Они лишний раз подтверждали слова критика о растрепанном реализме тогдашней Акдрамы.
Звезда Терентьева взошла на театральном небосклоне только что. Весной 1924 года он сочинил и поставил в ленинградской агитстудии В. В. Шимановского некую антирелигиозную «пасхальную агитку» по мотивам «Снегурочки» Островского. Разыгрывая ее, студийцы пели и плясали под аккомпанемент шумового оркестра и гребенок, вошедших в особую силу со времен вахтанговской «Принцессы Турандот». Сказка Островского служила только предлогом, она тут была, в общем-то, ни при чем. Но в театральной печати «пасхальная агитка» получила поддержку: «Яркие краски лубка, хороводы и песни, которые чередуются с мотивами фокстротными у Берендея (“берендеи” во фраках и бальных туалетах разговляются у царя), аккомпанемент оркестра, в котором полноправным инструментом стала гребенка, — все поднимает жизнерадостность аудитории и дает основным мыслям блестящую оболочку»450*.
А в конце 1924 года пьесой-монтажом Терентьева «Джон Рид» (по книге Рида «Десять дней, которые потрясли мир»), им и поставленной в духе клубных инсценировок, открылся ленинградский Красный театр. Спектакль оказался заметным, но уже в январе 1925 года Терентьев ушел из этого театра.
Вскоре он основал другой — при ленинградском Доме печати (в Юсуповском дворце на Мойке) — и руководил им до весны 1928 года. Там он поставил несколько спектаклей. Первый же из них — «Фокстрот» В. М. Андреева, о житье-бытье городских подонков, — был запрещен к показу в рабочих клубах после того, как «на “Красном Путиловце”, в саду 1 Мая и на других клубных площадках “реализм” пьесы вызвал реплики рабочих, кричавших: “Довольно! Позор! Зачем вы нам показываете такие пьесы?” (Это после I акта, в сцене любви “кота” и проститутки)», — пояснял отчет451*. Под «реализмом» подразумевался, конечно, грубейший натурализм.
Собственноручная пьеса режиссера «Узелок» живописала трясину нэпа, бытовое разложение бывших героев гражданской 177 войны, пустившихся в загул и растраты. «“Узелок” — это петля из распущенности, попоек, карточной игры и растрат», — характеризовал зрелище Пиотровский452*. Рекорды режиссерского своеволия ставила интерпретация гоголевского «Ревизора». Натуралистически-плакатная инсценировка романа С. А. Семенова «Наталья Тарпова» завершила этот цикл. Монтаж эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир», замысел которого Терентьев изложил на страницах журнала «Леф», свершить уже не привелось453*. Свой кредит у ленинградцев режиссер исчерпал. Одним из его последних вызывающих манифестов был доклад в дискуссионном клубе ленинградских режиссеров на тему «Ре-ак-театры» — о «реакционных» академических театрах454*.
Терентьев очутился в Москве. В театре оперетты он поставил «Луна-парк» с музыкой Н. М. Стрельникова и либретто В. Е. Ардова (1928). Напоследок, прежде чем совсем покинуть не задавшуюся ему режиссерскую стезю, он с полной серьезностью предложил основать в столице… Антихудожественный театр — в пику Художественному455*. Терентьев был начинен безотборочными идеями и огнеопасен, как петарда, как неуправляемый снаряд.
И все же встреча Ре-ак-драмы с Терентьевым произошла, — правда, лишь наполовину. Когда она осталась позади, режиссер от души заявлял, что «только через отрицание пьесы возможно будет создать большой спектакль», и провозглашал выстраданный девиз: «Не пьеса — а литмонтаж!»456*
С этими мыслями он и открывал потом театр при Доме печати.
Пока же, на академической сцене, экстремизм режиссера приутих: высота подмостков влияла даже на Терентьева. Да и «Пугачевщина» Тренева, пьеса истинных литературных достоинств, не так-то просто поддавалась монтажной обработке и могла за себя постоять под любым натиском. Наконец, труппа за Терентьевым не пошла. Контактов не налаживалось.
Спектакль посвящался пугачевщине, а не Пугачеву. На сцене разливалась и бушевала стихия масс. Роль личности в истории отрицалась по господствовавшим схемам исторической школы М. Н. Покровского. Герой предстал фигурой комической, это был жуликоватый болтун и трус, пешка, закрученная водоворотом и выброшенная на поверхность стихии. «Одна из сцен, — 178 вспоминал Ильинский, — шла на заметенной снегом площадке, ворона, каркая, пролетала по сцене, я должен был прыгать с высокой колокольни a la Фэрбенкс». Но замыслы режиссуры наталкивались на противодействие труппы и постановочной части. Снег изображало белое полотнище, на котором оставляли след сапоги актеров. Чучело вороны, пока его тянули на веревке от кулисы к кулисе, «переворачивалось под карканье шумовиков вверх ногами, вызывая смех у зрителей»457*. Спектакль Терентьева провалился на генеральной репетиции в мае 1925 года458*.
И только следующей весной «Пугачевщину» выпустили в постановке Петрова, Хохлова и Вивьена. Несколько погодя Хохлов рассказал, как они втроем бились над пьесой, «тяжело захиревшей после начатой неудачной ее постановки; мы с Вивьеном поделили между собой отдельные картины, а Петров ставил массовые сцены». Опыт совместной режиссуры в итоге не удовлетворил соавторов: как ни договаривались они между собой, «все же отсутствовало единство выполнения»459*. На этот счет Хохлов не обольщался. Новый Пугачев — Малютин был романтизирован актером чуть больше, чем того хотели бы постановщики. В центр они выдвигали массовые сцены, больше того — искали современное эстетическое решение проблемы народной революционности.
На сцене была «соломенно-деревянная, избяная, лучинная, кондовая Русь, выжженная зноем, вся в дыме пожаров и боевых костров восставшего народа. Главное действующее лицо, по авторскому замыслу, — народная масса. В ряде прекрасно разработанных массовых сцен воскресала подлинно народная воля, народная борьба, вынесшая наверх Емельяна и стихийно им руководившая, а облик “героя” отходит на второй план, несмотря на то, что Малютин, вопреки основной трактовке режиссуры, местами “героизировал”. Многое в нем, начиная с танцующей походки и кончая десятком благородных жестов, было не от подлинного Пугачева. Режиссурой особенно заботливо подчеркнуты основные моменты, определяющие Пугачева лишь как носителя воли массы»460*. Таким образом, порывая с эксцентрикой Терентьева, коллективная режиссура Акдрамы возвращала спектакль к пьесе Тренева, тогда как исполнитель отступал от драматурга в подходе к Пугачеву. «Снова получается герой, ведущий за собой толпу, — досадовал рецензент. — 179 Но ведь толпа родит героев…»461* Толпа, народная масса была зато неоспоримым достижением постановки.
То и дело из массы выделялись контуры лиц, чтобы затем опять в ней раствориться. Иные эпизодические лица сильнее центральных персонажей уточняли жанровую природу спектакля как народной трагедии. А. Ф. Борисов, тогдашний ученик студии Акдрамы, изображавший в массовых сценах «Пугачевщины» бессловесный типаж, позже рассказывал о Корчагиной-Александровской. Актриса исполняла там «совсем крохотную роль старухи, провожающей тело своего повешенного сына. — “Сыночка провожаю”, — говорила она, чуть шевеля губами, и глаза ее, окаменевшие от горя, были неподвижны и выражали страшное, пугающее недоумение. Она смотрела не отрываясь на реку, по которой плыла установленная на плоту виселица, и рассказывала будто самой себе: “Третий день иду. Отстала было, да, спасибо, в заводи задержались. А с ночи опять поплыли”. Слова ее были ужасающе обыкновенны… И только в последних ее словах: “Идти-то уж моченьки нет. И отстать — моченьки нет”, — открывалось во всей своей невыносимой боли материнское ни с чем не сравнимое горе»462*. Прекрасная пьеса Тренева позволила театру в конечном счете сказать много правды о народном характере и о народной судьбе.
Тренев находил в постановке ленинградцев преимущество перед спектаклем МХАТ, показанным в сентябре 1925 года. Драматург писал, что в его пьесе «толпа — герой, а не фон, каким она была дана в МХАТ. Ленинградский театр Госдрамы это учел, и там пьеса имела успех»463*.
«Пугачевщина» увидела свет рампы после премьеры МХАТ. Вообще дублирование московских афиш оказалось для Акдрамы одним из неизбежных путей организации нового репертуара. Так бывало раньше, так обстояло дело и потом.
«Мандат» Н. Р. Эрдмана появился здесь тоже через полгода после его выпуска в ГосТИМе. «Постановка В. Раппапорта оказалась навеянной сценическим оформлением той же пьесы в Театре им. Вс. Мейерхольда», — отмечал рецензент, хотя кое-что переиначивалось, лишь бы «не было похоже на Мейерхольда»464*. При всех ухищрениях режиссера, его постановка заметно уступала московской в остроте гротескного отрицания прошлого, в цельности системы образов, в прочности гражданской позиции. Все-таки оформление Акимова и работы актеров представляли 180 самостоятельный интерес. Ильинский, признаваясь, что играл Гулячкина «посредственно»465*, отдавал пальму первенства другому исполнителю роли, Горин-Горяинову. С живой характерностью играла Гулячкину-мать Корчагина-Александровская.
Также через полгода-год после московских премьер прошли на сцене Акдрамы «Иван Козырь и Татьяна Русских» Смолина (играла студийная молодежь), «Виринея» Сейфуллиной и Правдухина, «Конец Криворыльска» Ромашова, «Штиль» Билль-Белоцерковского…
Ну, а москвичи, сопоставляя афиши, свои и ленинградские, порой пожимали плечами. Н. Д. Волков замечал с холодным недоумением, что в репертуаре Акдрамы соседствуют «пьесы всех московских больших театров, и какой-нибудь “Мандат”, пришедший от Мейерхольда, уживается рядом с “Концом Криворыльска” из Театра Революции и “Штилем” из Театра МГСПС. И в этом году репертуар Академической драмы также является мозаикой московских новинок»466*. Критик хотел уличить театр в несамостоятельности и эклектике. Но указанные им факты свидетельствовали о другом: театр поворачивался лицом к советской пьесе. Он становился театром всесоюзного репертуара — включая актуальную драматургию современности. Наставал новый этап на путях Акдрамы.
«Пугачевщине» было суждено свершить переворот во внутреннем распорядке Акдрамы. Авария с Терентьевым, которому не удалось довести до конца ни одной генеральной репетиции своего спектакля, толкнула руководство на важный шаг: впервые в истории этого театра была учреждена должность главного режиссера. Этим главным режиссером — заместителем управляющего театром Юрьева — был единогласно избран Н. В. Петров, чья деятельность во многом определила следующий период в жизни Акдрамы — период большого советского спектакля.
РЕЖИССЕР ЧИТАЕТ ПЬЕСУ
«Возмутителем спокойствия» назвал потом Н. В. Петрова вспоминавший о нем А. Ф. Борисов467*. Петров не избегал дискуссионных пьес и спорных спектаклей, не боялся пробовать, ошибаться, убеждать.
И раньше, еще не занимая в театре видных постов, Петров несомненно был режиссером современности, имел живое чутье на новую пьесу — соответственно тем стадиям, какие она сама 181 тогда одолевала. Придя накануне Октября из мхатовской школы в Александринский театр (где работали и другие молодые режиссеры, питомцы МХТ: А. Н. Лаврентьев, А. Л. Загаров, Ю. Л. Ракитин), Петров застал еще М. Г. Савину и К. А. Варламова. Он дебютировал там в 1915 году постановкой пьесы Л. Н. Андреева «Тот, кто получает пощечины». Вечерами, когда кончались спектакли императорской сцены, помощник режиссера Николай Петров направлялся в артистический подвальчик «Бродячая собака» (а когда тот закрылся, в другой — «Привал комедиантов»), надевал бархатную блузу с галстуком-бабочкой в крупный горошек — и возникал эстрадный конферансье Коля Петер, собеседник зала, любимец публики, душа кабаре. С эстрадой, с театром малых форм он не расставался до середины 1920-х годов, до того самого дня, как сделался главным режиссером Акдрамы. Еще в дни мхатовского ученичества Петров поставил несколько занятных вещиц для «Летучей мыши», состязаясь с приятелем юности Вахтанговым. После революции он возглавил в Петрограде театр политической сатиры «Вольная комедия», правда, превратившийся с приходом нэпа в коммерческое предприятие; там был любопытный ночной филиал — эстрадный театр «Балаганчик». В начале 1920-х годов Петров побывал главным режиссером Большого драматического театра, где его сменил К. П. Хохлов. Попутно он поставил несколько оперных спектаклей на академической сцене, снял два кинофильма.
Он успевал режиссировать и в Акдраме. Среди его работ той поры выделялась уже упомянутая постановка «Фауста и города» Луначарского. Петров не справился с «Ночью» Мартине, тускневшей рядом с мейерхольдовской переделкой — «Земля дыбом». Но и неудача подтверждала его тягу к новому, неиспробованному.
В январе 1925 года Петров выпустил бытовую комедию А. Н. Толстого «Изгнание блудного беса». Ее события, преломленные сквозь призму авторской иронии, развертывались в диковатом уголке довоенной России. Оценивая спокойный реализм постановки достаточно сдержанно, как «решительное отступление от всех новаторских попыток» Петрова, К. К. Тверской признавал: «Конечно, пьеса “без измов” нашла прекрасных исполнителей в труппе Академической драмы»468*. Действительно, мастера играли непритязательные роли, забавляясь и слегка шаржируя. Из молодого, здорового, но склонного к неврастении купчика Драгоменецкого — Вивьена изгонял беса звероподобный старец Акила, сыгранный Малютиным под Распутина. Сопутствовала старцу, умиляясь его святости, деловитая Прасковья Алексеевна, из жен пресидящих, — роль играла «неизменно 182 прекрасная Корчагина, с ее чудесной певучей речью», как писал Д. Г. Толмачев. По его словам, режиссер «особенного труда на постановку не затратил. И правда, стоило ли?» — соглашался он, но все же отзывался добром о «хорошей разверстке массовых сцен, которые — лучшее, что есть в спектакле»469*. Не слишком тонко каламбурил еще один рецензент: «“Изгнание блудного беса” превратилось в изгнание театром из своих стен “беса театрального обновления”»470*. Все-таки доказать это было бы трудно. Шутку не подтверждали ни качества спектакля, ни тем более последующие шаги Петрова, который в июне того же года, как сказано, стал главным режиссером Акдрамы.
Новое приходило, естественно, не сразу. Все же осень 1925 года обозначила начало сдвигов в жизни Акдрамы, а с ней и в остальных академических театрах Ленинграда. Каждый театр отныне обзаводился собственными штатными режиссерами, главным и очередными. В Театр оперы и балета ушли В. Р. Раппапорт и С. Э. Радлов, Малый оперный театр возглавил Н. В. Смолич471*. Главрежу Акдрамы Н. В. Петрову был придан очередной режиссер К. П. Хохлов472*, покинувший пост главного режиссера Большого драматического. Число постановщиков Акдрамы резко сократилось против прежнего, былая всеядность сменялась понемногу более четкой направленностью действий. Ограничилась режиссерская предприимчивость актеров труппы. В сущности, один Л. С. Вивьен делом закрепил свои режиссерские права и возможности. Сторонние режиссеры работали тут лишь эпизодически.
В январе 1926 года скончался Е. П. Карпов. Его последним спектаклем стала комедия Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын» (1925). С Карповым отходила в прошлое определенная эпоха Александринской сцены.
На склоне лет Петров тепло отзывался о своем сотруднике Хохлове: «Работа проходила у нас дружно, и дружба наша сохранилась до последних дней жизни Константина Павловича»473*. Возможно, сказанное относилось к тем спектаклям, которые делались совместно. Самостоятельных работ у Хохлова было немного: «Царь Эдип» (1925), «Пушкин и Дантес» (1926), «Бархат и лохмотья» (1927), «Доходное место» и «Горе от ума» (1928). «Доходное место», приуроченное к артистическому сорокалетию Е. П. Корчагиной-Александровской, было поставлено академично, во вкусе юбилярши, которая после смерти Давыдова 183 первая олицетворяла дух и плоть реализма Акдрамы. Но за этим исключением спектакли Хохлова на афише не удерживались. «Царь Эдип», поставленный для Юрьева в плане хрестоматийного классицизма, не захватил зрителей и выдержал пять представлений. «Пушкин и Дантес» — только три. Драма «Бархат и лохмотья» («Свадьба ван Броувера» Эдуарда Штукена в переделке с немецкого оригинала А. В. Луначарского), изобретательно оформленная М. З. Левиным, шла в двадцатипятилетний бенефис Б. А. Горин-Горяинова, со вступительным словом Луначарского и с участием талантливого оперного артиста Н. К. Печковского, но все же, как извещала хроника, «второе представление “Бархат и лохмотья” было заменено спектаклем “Ливень”»474*. При всех симпатиях к бенефицианту и его партнерам, зал остался равнодушен к участи художника-бунтаря эпохи Возрождения, которая никаким краешком не касалась проблем текущей современности.
Полное фиаско Хохлов потерпел в «Горе от ума». Причиной была попытка сбить с комедии серьезность и злость, гиперболизировать сквозную тему светской пустой болтовни, подчеркнуть мальчишескую резвость и легкомыслие Чацкого. С этой целью гостиную в доме Фамусова украсили тридцать шесть клеток с попугаями, вместо шести княжен Тугоуховских возникло двенадцать, болтливых и пестрых. Комиковали в ролях Фамусова и Скалозуба Горин-Горяинов с его благодушной и уютной скороговоркой, Малютин с его выступкой ревнителя плацпарадов и припрыжкой лучшего в Москве мазуриста. Комиковал в роли Чацкого и… Симонов, которому тогда было двадцать семь лет. При первом выходе герой резвился, «как расшалившийся школьник»475*. В действии реализовались слова Чацкого, обращенные к Софье: «Свиданьем с вами оживлен». То была опять-таки реализованная гипербола. «Он выбегал на сцену, как заведенный волчок, и уже не мог остановиться… Чацкий, безумно влюбленный в Софью, ослепленный этой любовью, — просто неумный человек» — таким виделся он по прошествии лет Л. А. Малюгину476*. Зрителей премьеры этот Чацкий ошеломлял, как и вся расстановка сил в спектакле. «С Чацким что-то неладно», — недоумевал А. А. Гвоздев477*. А один рецензент, не склонный к тонкостям, заявлял: «Если Чацкий выведен круглым идиотом, если Скалозуб, этот грубый солдафон… делается на сцене добрым малым, а Фамусов своей отеческой 184 заботой и мягким отношением ко всему безобразию, творимому Чацким, вырастает в откровенно положительную фигуру комедии, то…» — впрочем, вывод следовал из заголовка рецензии478*.
Пересмотреть привычную трактовку Чацкого, громогласную читку роли и впрямь надлежало. Это подтвердил спектакль Мейерхольда «Горе уму», появившийся в том же году. Он был небезупречен и вызвал законные споры — из-за концепции декабризма Чацкого, проведенной императивно, из-за ряда подробностей воплощения, хотя находки спектакля, особенно знаменитая сцена сплетни, вошли в историю театра как подлинные открытия. Ничем подобным спектакль Хохлова похвалиться не мог. В борьбе с обветшалыми штампами режиссер ударился в крайность их негативного отрицания. Вдобавок он мало заботился о том, чтобы суть роли, постановочный замысел и данные исполнителя образовали некую художественную цельность. Как справедливо писал С. Л. Цимбал, «истолковательский план режиссера возник вне всякой связи с артистической индивидуальностью Симонова»479*. Режиссер делал все от него зависящее, чтобы в игре актера не прорвалась лирическая или тем более трагическая нота.
Весной 1928 года Хохлов покинул Акдраму. Увы, четыре года спустя критика не выше оценила «Горе от ума» в постановке Петрова. Выпуском этого спектакля деятельность главного режиссера Акдрамы закончилась точно таким же образом, как и карьера его помощника.
А покамест следует отвергнуть догадку, будто дружба с Хохловым завязалась у Петрова на почве коллективной режиссуры. Собственно, речь тут могла бы идти лишь о двух совместных постановках сезона 1925/26 года: «Яд» и «Пугачевщина». Других пьес Петров с Хохловым не ставил.
«Яд» Луначарского оформлял М. З. Левин. Спектакль показывал, как тлетворно влиял нэповский «ренессанс» на молодые неустойчивые души. Это был заметный сдвиг в современном репертуаре Акдрамы. Лучшие актеры труппы изображали лиц отрицательного плана: Юрьев играл мошенника белогвардейца Батова, Вивьен — международного авантюриста-гастролера Мельхиора Полуду, Зражевский — полковника Евстигнеева и т. д., вплоть до юного Романова, который дебютировал здесь в роли Редендорфа. Лица эти, участники детективных происшествий пьесы, были вдобавок романтизированы сценически. Позднее Петров вспоминал, что пребывал тогда «еще в достаточном плену у романтического театра; вот почему в спектакле, в его решении была допущена, вероятно, в излишней мере театральность. Но возможно, что, реши мы этот 185 спектакль в сугубо реалистических, бытовых тонах, он не имел бы успеха, так как обнаружились бы и недостатки пьесы, и недостаточная опытность режиссуры в утверждении эстетики современного спектакля, да и актерский коллектив еще не владел тем новым мастерством, без которого невозможно воплотить современный характер»480*. Последнее было справедливее всего. Что же касалось недостатков пьесы и неопытности режиссуры, утаить их романтика не могла. Петров, по его словам, был удовлетворен актерскими работами Ф. П. Богданова — наркома Павла Шурупова и молодого Г. И. Соловьева, игравшего сына наркома, Валериана. Критика с режиссером не вполне соглашалась.
Пиотровский отдавал должное очевидным достоинствам спектакля, построенного «по отчетливому и точному режиссерскому замыслу. Два мира: мир новых “строителей” и царство бывших, “мир призраков”. Их противопоставление — вот конструирующий принцип спектакля. Здесь, у новых — четкая, скупая реалистическая декорация, ровный свет, бытовые костюмы, прямые линии, чистые цвета. Там — в призрачном царстве — экспрессионистские наклоненные плоскости заговорщицкой мансарды и притона сводни, бегающие лучи прожекторов, фантастические костюмы, а надо всем — падающие колокольни старой Москвы»481*. Подобное противопоставление нет-нет да оборачивалось прямолинейной схемой, особенно в изображении положительных лиц пьесы. Как ни предан был театр романтике — достаточно умозрительной, а проще говоря, мелодраме, — утверждающая тема на его сцене еще звучала вполголоса. Все же «Яд» прошел как обещание и предвестие. Пиотровский соглашался занести его в актив — в «книгу живота», у публики пьеса встретила хороший прием и выдержала больше сорока представлений.
Исполнить обещанное Петров сумел очень скоро — в следующем же сезоне. Поставленный им «Конец Криворыльска» (1926) вышел в центр современного репертуара Акдрамы как крупная, никем не оспариваемая победа. «Первая победа». «Торжество театра». Так выглядели заголовки рецензий. Правда, без мелодрамы опять не обошлось. «Сатирическая мелодрама» — этот жанровый подзаголовок дал пьесе Ромашов. Но, в отличие от «Яда», театр вносил жанровые поправки в обратном порядке: на сцене мелодрама Ромашова совершала путь восхождения к романтике. Сатирически развертывалась тема крушения обывательского Криворыльска, романтически — тема рождения советского Ленинска. Сценическая «повесть о двух 186 городах», старом и сменяющем его новом, строилась в быстрой череде эпизодов, обрамленной отправной и завершающей точками: начальной сценой приезда и финальной сценой отъезда. Такой структурной ясности не было в постановке А. Л. Грипича на сцене Театра Революции: московскому спектаклю больше подходили жанровые признаки современного обозрения.
Конструктивной и ритмической четкостью ленинградский спектакль был во многом обязан «изобретательности художника Акимова»482*, который механизировал отдельные участки сцены и детали трансформирующихся декоративных конструкций. Это позволило четырнадцати картинам спектакля в темпе сменяться, больше того — дробиться на подвижные, динамичные составные: например, только последняя, четырнадцатая картина монтировалась из семнадцати эпизодов. Как писал К. К. Тверской, «труднейшая задача быстрой смены многочисленных и самых разнообразных декораций разрешена авторами постановки крайне оригинально, доходчиво и притом без обычного за последнее время стремления к экспериментированию и трюкачеству»483*.
Новизна форм и сценической техники была под стать новизне драматического содержания. Суть дела заключалась в нем, в образах людей, полных притягательной силы, таких, как военком Мехоношев и комсомолка Роза Бергман в исполнении Симонова и Рашевской, как вереница их друзей-комсомольцев. Здесь и развертывалась ведущая романтическая тема целого. А. И. Пиотровский утверждал, что в спектакле торжествовала «смело выдвинутая режиссурой на первый план мажорная линия молодежи, линия романтизма», и приветствовал этот «оптимистический, утверждающий спектакль», «парад молодой жизни»484*. Так о советской пьесе на сцене Акдрамы еще не писали. Успех режиссера. Успех художника. Успех актеров. Они слагались в успех театра. «Значительнейшее театральное событие нынешнего сезона», «событие, обязывающее театр к дальнейшим достижениям»485*, — говорилось еще в одной рецензии.
Все же сила спектакля была бы меньшей, если бы молодые герои не сталкивались в остром конфликте с ликами старого мира, — таким выступал прежде всего отщепенец Севостьянов, сыгранный Певцовым с жесткой психологической надсадой. «Он паясничал, злобствовал, кривлялся и в этом угрюмом 187 шутовстве пытался спрятать свою истинную сущность — ничтожного, давно уже потерявшего покой труса… — вспоминал С. Л. Цимбал. — У него был особый, косой взгляд, выработанный, очевидно, привычкой наблюдать за людьми, оставаясь незаметным, — навык матерого, видавшего виды и приученного к неожиданностям уголовника». В финальной сцене казалось, что «певцовский Севостьянов не умирал, а отмирал», по меткому наблюдению критика486*. Он нес в себе исчерпанность и опустошенность. Тем внушительней представала в спектакле победа советского человека, советского общественного строя.
Победа — это слово звучало и применительно к театру. «Настоящая и большая победа театра», — подчеркивал Авлов и предрекал: «Отныне Криворыльск будет для Акдрамы и своеобразным барометром. И если о следующих постановках можно будет сказать, что они не ниже “Конца Криворыльска”, — это будет значить, что спектакли хороши»487*.
И новые спектакли в самом деле закрепляли успех «Криворыльска». В 1927 – 1928 годах Петров показал пьесы Билль-Белоцерковского «Штиль» и «Шахтер» («Голос недр»). В «Штиле» продолжился на шаткой палубе нэпа путь героя «Шторма» — доблестного «братишки». Симонов в этой роли развернул цепь романтических разочарований моряка-инвалида, оставшегося душой в далеких уже днях гражданской войны и «военного коммунизма», крупно дал борьбу внутренних противоречий здоровой натуры в перекосившихся условиях жизни. Режиссер и здесь выделял утверждающие мотивы пьесы, развивал массовые молодежные сцены, сталкивал их с сатирически сдвинутой стихией нэпманского разгула.
Рецензент «Штиля», вспоминая «Конец Криворыльска», находил, что тому спектаклю выпала на путях Акдрамы роль, какую мог бы сыграть драматургический предшественник «Штиля» — не поставленный в этом театре «Шторм» Билль-Белоцерковского: «Ибо “Криворыльск” — наша первая любовь на новом пути Ак-драмы, это ее “Шторм”». Он счел продолжение достойным начала и среди «радостных достижений» нового спектакля выделил сцену в комсомольском клубе: «Клуб — эпизодическая сцена — волею режиссера и зрителя становится на одно из главных мест как противовес кошмарам пивных и притонов с “цыганами”, необходимый противовес и даже драматический корректив»488*. Здесь было схвачено главное в спектакле. Режиссер вполне отдавал себе отчет, что в пьесе «автору более удались картины нэпа и материал для актерского творчества 188 в этих картинах значительно ярче и интереснее. Более скупо написаны положительные образы, что и ставит очень трудную задачу выигрыша спектакля как нужного современно-общественного представления»489*. Спектакль был выигран, что называется, по главной линии — по линии утверждающей. В театре проступали черты нового художественного мировоззрения. В работе, в деле формировались слагаемые метода, утверждавшего новое в жизни.
Вместе с мятущимся романтиком братишкой — Симоновым к важным удачам спектакля принадлежали образы непримиримой коммунистки Кузьмы — Митрофановой и ее мужа, партийного работника Красильникова, которого играл Певцов. Да, на этот раз Певцов вышел в новой для него роли большевика, в роли утверждающего плана. И как преобразился актер! Тогдашний ученик студии Акдрамы, а потом член академической труппы М. Л. Никельберг, впервые увидевший Певцова как раз в этой роли, вспоминал: «По сцене прошел человек. На нем были поношенный свитер, старый пиджак, порыжевшие сапоги, кепка. Лицо человека было очень своеобразным, совсем “не актерским”. Я подумал, что это не персонаж спектакля, а замешкавшийся рабочий сцены. Вел он себя поразительно естественно и просто: походка тяжеловатая, усталая, как у хорошо поработавшего человека, руки двигались уверенно, спокойно, и от всей его фигуры веяло каким-то мудрым покоем, не вязавшимся в моем представлении в ту пору с актерской игрой. Но “рабочий” произнес первую фразу, и я понял, что это герой пьесы — старый большевик Красильников. Артист был без грима. Я начал рассматривать его необычную внешность: высокий лоб, густые, тяжелые брови, крупные черты лица, огромные пронзительные, буквально завораживающие глаза. Через несколько мгновений я был уже целиком во власти Певцова и инстинктивно понимал, что такая простота — вершина огромного мастерства. Такого полного слияния с ролью я даже не мог себе представить»490*.
Отмеченные здесь качества жизненной простоты и правды делали актера соавтором роли. Со временем Петров вспоминал «очень примитивную роль, можно сказать, просто схему, с небольшим даже количеством как текста, так и поведенческого материала, и тем не менее оживленную Певцовым в огромный художественный образ; я говорю о роли Красильникова в пьесе “Штиль” Билль-Белоцерковского. Как-то сразу Илларион Николаевич схватил “хребет” этого образа, нашел специфику его мышления, его поведения, и плоскостно написанная схема автора заблистала потрясающей жизненной правдивостью».
189 Подобные обогатительные метаморфозы совершались затем и в других постановках Петрова с участием корифеев Акдрамы. Важные процессы тогдашней современности — борьба за индустриализацию страны, разоблачение вредителей-«шахтинцев», отраженные спектаклем «Шахтер», — отлились в формы преобладающей публицистики. Театр изучал жизнь, действенную среду (о том свидетельствовала большая выставка, развернутая в фойе) и, передавая ее средствами своего искусства, включался в борьбу за новое. «Взятый два года назад курс на современную тематику тем самым подкрепляется», — писал после премьеры А. А. Гвоздев.
И снова главные удачи спектакля были связаны с реалистической убедительностью его подлинных героев. «Отмечая удачную работу театра в массовых сценах, — продолжал Гвоздев, — следует сказать, что ряд образов, принадлежащих к героическому, рабочему плану, получился весьма убедительным. К ним принадлежит фигура угрюмого, молчаливого шахтера Казанка (Симонов), превосходная по типажу, впечатляющая по характеру тяжелых, громоздких движений, отлично передающих решимость и героизм. Певцов очень удачно очертил образ шахтера Пацюка… Умелой разработкой героических сцен из рабочей жизни театр сделал большое дело»491*.
В книге о Симонове С. Л. Цимбал рассказывал, что актер одно время отказывался от роли, протестовал против пьесы — и из-за художественной беглости драматургии, и из-за обычного отставания театра с постановкой: московский Театр имени МГСПС успел показать ее раньше. Но инстинкт правды и уровень мастерства то и дело обогащали предоставленный актеру жизненный материал, художественно преображали то, что предлагалось только отобразить. «В своей чуть сползавшей на сторону, видавшей виды буденовке, отрывисто и нехотя бросающий короткие, словно обрубленные спереди и сзади фразы, медленно озирающийся вокруг Казанок в еще большей степени, чем другие симоновские герои, сдерживал свою силу, таил ее в себе и уже одним этим вызывал интерес и симпатии», — описывал этот образ Цимбал, добавляя, что «роль Казанка Симонов выиграл наперекор своим внутренним сомнениям, в невольном и мучительном споре с собственными взглядами на пьесу»492*. Но постановщик, как уже было замечено, творческих споров не боялся, — напротив, их подстрекал и разжигал в интересах художественного итога — спектакля. И здесь ему было на кого опереться в труппе.
О том говорил и опыт недавней Октябрьской премьеры театра.
190 К десятилетию Октября Акдрама показала «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова в постановке Петрова и остродинамичных декорациях Акимова. Здесь уже не было репертуарного повтора: спектакль выпускался в те же праздничные дни, что и премьера МХАТ. Образы героической борьбы народа в гражданской войне на Дальнем Востоке были вполне самобытна истолкованы и монументально воплощены. Режиссер говорил в интервью, что стремился к формам «масштабного героического спектакля, с которым в полной мере согласуется и художественное его оформление работы Н. П. Акимова»493*. Это было сказано скуповато. Театр дал свою концепцию народной войны за свободу и расставил свои идейные акценты в пьесе, иногда уходившей, как ему казалось, от окончательных решений. За режиссера это объясняла критика.
Расценивая постановку как «счастливую удачу», А. А. Гвоздев писал: «То обстоятельство, что б. Александринский театр пошел на такую творческую переработку и сумел показать свое театральное лицо (помимо авторского содержания), является неоспоримой и большой заслугой театра. Театр внес свои поправки в произведение Вс. Иванова. Он сделал их в плане идеологического и психологического истолкования, не трогая самого текста. Но в ряде сцен режиссер (Н. В. Петров) лишил текст двусмысленной неопределенности, конкретизировал отвлеченность образов, сбил во многих местах беспочвенный романтизм, уточнил смысл и сказал во многих случаях “да” там, где автор говорит “нет” или “может быть”. Эта работа над текстом в целях придания ему более прочной идеологической выдержанности является большим шагом вперед для б. Александринского театра. В сущности, мы встречаем ее впервые за последние 10 лет. Встречаем ее в скромных, не широких пределах, но все же встречаем, и это самое главное, так как только при условии творческой устремленности к современной общественности театр начинает жить подлинной жизнью и прекращает “влачить свое существование” по инерции от прошлого»494*. Иначе говоря, от спектакля к спектаклю (особенно если говорить о современном репертуаре) сдвиги в сфере творческого метода становились все очевиднее.
И снова режиссер опирался на лучших своих актеров. Симонов, выдвинувшийся в ряд ведущих мастеров театра, играл кряжистого партизанского вожака Вершинина как носителя воли и совести стихийной крестьянской революции. В то же время (что удовлетворенно отмечал в своей рецензии Гвоздев) «Симонов сумел придать романтической фигуре Вершинина реальный 191 облик и перебороть ряд заманчивых, но опасных уклонов в сторону легковесной идеализации “слепой стихии”. Он удержал этот образ от оперной фальши и тем самым вложил здравый смысл в символ». В налете оперности упрекали (во многом напрасно) противники МХАТ Качалова, сравнивая его эпически монументального Вершинина с Иваном Сусаниным; это было обидно потому, что опера Глинки тогда не исполнялась как «монархическая». До мастерства Качалова молодому Симонову было далеко, однако отказ от качаловской романтизации мужицкой вольницы уточнял самостоятельные черты ленинградского спектакля.
Народной героике было раздолье в массовых сценах спектакля: в эпизоде пропагандирования пленного канадца, в картине подвига на насыпи развертывались образы справедливой освободительной борьбы, звучала тема интернациональной солидарности трудящихся. Героике народа в спектакле был противоположен жертвенный героизм белогвардейца Незеласова. Страшную и пустую душу Певцов раскрывал в несколько взвинченной, неврастеничной манере. Актер играл сложно, и позже его младший товарищ по сцене А. Ф. Борисов находил такую сложность чрезмерной495*. Да, образ вышел глубже, чем ожидалось. Психологический анализ уводил от однозначных оценок. Но дискуссионные решения таких мастеров, как Певцов, не страшили постановщика, а напряженность идейного конфликта, острота смертельной схватки враждующих сил лишь возрастали. Недаром в цитированном интервью Петров определял жанр спектакля как героическую поэму и предупреждал, что пафос народного восстания там выражен прежде всего «коллизией характеров главных персонажей, являющихся как бы синтезами борющихся идеологий».
Притом в книге Борисова брошена любопытная догадка, что «Певцов мог бы оказаться в постановке “Бронепоезда” замечательным предревкома Пеклевановым». В таком Пеклеванове, по-певцовски глубоком, интеллектуальном, устремленном, нуждался спектакль Акдрамы — но его не нашел. Народно-героическая стихия торжествовала победу, однако театр не сумел убедительно показать роль партийного руководства в этой борьбе как раз из-за нехватки актерской глубины. Тому Пеклеванову, которого здесь играл Б. Е. Жуковский, внутренней силы недоставало, хотя внешние проявления воли, характера, ума давались в жизненно полнокровных красках. Образ больше демонстрировался, чем жил, и это обедняло общую концепцию спектакля: в столь важном звене он уступал выдающейся постановке Художественного театра. А это значило, что возможности пьесы, при всей находчивости режиссерских акцентов, были осуществлены Петровым не в полную меру.
192 Но то, что было достигнуто, много значило для судеб Акдрамы: и как ориентир на взятом пути, и само по себе, как результат. Пьеса и спектакль, художник, актеры имели зрительский успех. «Рабочий зритель, пришедший посмотреть “Бронепоезд № 14-69”, уйдет вполне удовлетворенным как самой драмой, так и постановкой и исполнением ее», — говорилось в одной из рабкоровских заметок496*. Статистика подтверждала успех советской драматургии на академической сцене. Если весной печать сообщала, что по уровню посещаемости Акдрамы «на первом месте в течение всего сезона стоит “Конец Криворыльска”»497*, то к концу года «Бронепоезд» вышел вперед: «Наибольший спрос имеют “Бронепоезд” и “Конец Криворыльска”»498*.
Готовя «Бронепоезд», Акдрама приняла участие и в Октябрьских спектаклях других академических театров Ленинграда. На сцене Малого оперного Н. В. Смолич поставил «Двадцать пятое» Маяковского — синтетическое представление по тексту поэмы «Хорошо!», с большой выдумкой оформленное М. З. Левиным. В быстрой раскадровке действия (29 эпизодов) встретились актеры драмы, оперы, балета, эстрады и цирка. Памфлетные маски Керенского, его адъютанта и ренегатки Кусковой показали Б. А. Горин-Горяинов, В. И. Воронов и Н. В. Ростова. Мастера музыкальной сцены П. М. Журавленко и М. А. Ростовцев гротескно изображали Милюкова и казачьего офицера Попова. Например, пародируя сцену в спальне Татьяны из оперы Чайковского «Евгений Онегин», вели комический дуэт Кускова — Ростова и Милюков — Журавленко: «усастый нянь» Милюков наставлял безутешную Кускову. Многое тут напоминало о приемах клубного рабочего театра.
26 октября репетицию посетил Маяковский. «Я видел только черновую репетицию, — сообщал он в печати, — и тем не менее могу с уверенностью сказать, что спектакль из поэмы несомненно получится и, думаю, будет смотреться с интересом»499*. Как установил С. Д. Дрейден, давший уникальный пример реконструкции спектакля, «образы буффонадно-сатирического плана у него при этом вызывали наиболее высокую оценку (это относилось, в частности, к игре таких актеров, как П. М. Журавленко, Н. В. Ростова, М. А. Ростовцев, Б. А. Горин-Горяинов)»500*. Малый оперный театр, еще недавно бывший филиальной площадкой и акоперы, и акдрамы, сделал смелый почин в жанре театральной публицистики. Кроме того, инсценируя Октябрьскую поэму Маяковского, он сам на многое натолкнул 193 ее автора, вызвав к жизни дополнительные поэтические находки. Оправданно пишет исследователь: «Подобно тому как Московский Художественный театр сумел увлечь Всеволода Иванова мыслью об инсценировке повести “Бронепоезд 14-69”, а Ленинградский Большой драматический побудил Бориса Лавренева писать пьесу к Октябрьскому десятилетию на близком для него материале похода крейсера революции, так и смелая инициатива деятелей ленинградского театра сыграла свою роль в истории создания “Хорошо!”, содействовала работе Маяковского над поэмой»501*. Важно повторить: то была общая, совместная заслуга ленинградских актеатров.
Меньше удался другой революционный синтетический спектакль — «Штурм Перекопа», с музыкой Ю. А. Шапорина: его поставили В. Р. Раппапорт и А. Ф. Мокин на сцене Театра оперы и балета. Вместе с оперными певцами выступали Вивьен (в роли начдива Блюхера), Юрьев (в роли барона Врангеля), Студенцов (в роли генерала Слащева, прообраза Хлудова из «Бега» Булгакова), Аполлонский, Ге, Дарский, Корвин-Круковский, Малютин, Романов, Ходотов и другие мастера Акдрамы. В откликах на премьеру звучали где сердобольные, где ядовитые ноты.
Смотр октябрьских премьер подтвердил ведущее место Акдрамы в системе ленинградских академических театров, весомость творческих заслуг, перспективность предстоявших ей исканий.
УСТУПЫ ВОСХОЖДЕНИЯ
Немалая роль здесь принадлежала обоим руководителям театра, Юрьеву и Петрову. С именем управляющего труппой Юрьева связывались благородные традиции академизма, прочные навыки мастерства. Они давали устойчивость в шторме. Юрьев выступал одновременно их стражем и олицетворением. Это помогало держать уровень текущего репертуара, сохранять и канонические постановки классики, и образцы предреволюционного новаторства, такие, как мейерхольдовский «Маскарад». Руководитель театра Юрьев был крупной личностью в искусстве, поступал открыто и прямо и исключал для себя возможность художественных компромиссов. Притом он оставался столпом старой «Александринки» и его критерии не всегда позволяли проявить чуткость к новизне, — тут главный режиссер Петров его явно опережал. Прежде всего Петрова привлекала свежесть темы, характеров, ситуаций. И когда эти качества обнаруживались в пьесе, пусть художественно слабой, — Петров, засучив рукава, брался за ее «доводку». В таких пьесах Юрьеву ролей не находилось, да он на них и не претендовал. Со временем 194 трещина в руководстве становилась заметнее. Причиной было большое все-таки несходство во взглядах на сегодняшние и завтрашние цели искусства, в понятиях об эстетике и этике. На стороне каждого, и Юрьева, и Петрова, была собственная благородная правота. Каждый по-своему хотел театру добра. Настойчиво проводя современную пьесу на академическую сцену, Петров преодолевал подчас отпор Юрьева, добивался реальных побед, но не избегал и азартной односторонности. Не все новое, за которое сражался Петров, обладало искомой ценностью. Иногда дороже было общее направление, чем конкретно достигнутый результат. И все-таки эта борьба за новое была необходима. Она выражала потребности зала и объективные интересы театра, ибо к тому звала бурная жизнь, кипевшая повсеместно. И в том, что победителем на несколько лет оказался Петров, имелась очевидная закономерность. Но ради нового Петров был готов принести в жертву сокровища «старого» искусства, не делая исключения даже для Юрьева.
Юрьев отступал — и как руководитель, и как актер. У него впрямь оставалось мало ролей, и число их убывало. Еще в январе 1926 года он отметил 30-летие своих выступлений в роли Чацкого. За всю сценическую историю «Горя от ума» то был «единственный пример, когда артисту, благодаря сохранившимся внешним данным», роль так долго приходилась по плечу502*. 4 апреля Юрьев играл Чацкого последний раз. В интервью он сообщал: «30 лет я беспрерывно выступал в этой роли и считаю этот срок предельным. Я свое дело сделал. С будущего сезона роль Чацкого переходит к другому исполнителю»503*. Как уже говорилось, спектакль заново ставил Хохлов, а молодой Симонов в роли Чацкого всех озадачил.
В январе 1927 года Юрьев сыграл Беркутова («Волки и овцы»), в апреле справил свое актерское тридцатипятилетие премьерой «Отелло». Доигрывая прежние роли, новые он получал от случая к случаю: руководитель театра стал актером внеплановых спектаклей. Под занавес сезона он играл Тоцкого в «Идиоте» на тридцатилетнем сценическом юбилее Н. Н. Ходотова. В следующем сезоне не появилось ни одной новой роли, если не считать графа Палена в «Павле I», поставленном для актерского двадцатипятилетия Певцова и прошедшем несколько раз. Юрьев не был занят в репертуаре до такой степени, что устраивал выездные, наспех «срепетованные» анонимные постановки. Например, 16 января 1927 года «Красная газета» известила, что вечером в Народном доме имени Бабушкина состоится «выездной спектакль Акдрамы. Пойдет “Эрнани” В. Гюго при участии засл. арт. Ю. Юрьева». Такого спектакля в репертуаре Акдрамы не было.
195 9 августа 1928 года «Ленинградская правда» уведомила, что «согласно личной просьбе нар. арт. Ю. М. Юрьев освобожден от управления Академическим театром драмы», а вечерняя «Красная газета» пояснила мотивы: «… ввиду производимой реорганизации и разграничения функций художественного руководителя и управляющего труппой…» Сезон кончился, близился новый. 19 августа «Ленинградская правда» указала, что разграничения были временными и вновь отпали, поскольку обе должности совместились в одном лице: и худруком и управляющим стал Петров.
20 сентября вечерняя «Красная газета» поместила корреспонденцию из Москвы о том, что Юрьев просил Главискусство освободить его и от актерской работы в Акдраме. В ответ ему предложили «остаться в труппе с тем, что артисту будет предоставлена возможность периодически выступать на сцене Малого театра в Москве». Но такая возможность у Юрьева и без того имелась. Еще 28 января 1928 года вечерняя «Красная» сообщала, что «вчера из Москвы вернулся Ю. М. Юрьев, выступавший в Московском Большом театре в “Отелло” с ансамблем Малого театра».
Тем временем Петров выпускал, одну за другой, новые пьесы: «Рельсы гудят» Киршона, «Мятеж» по Фурманову (сыгранный студийцами Акдрамы), «Шахтер» Билль-Белоцерковского, «Высоты» Либединского, «Огненный мост» Ромашова. Ни в одной для Юрьева не нашлось роли. В конце сезона он сделал последний шаг: «Народный артист Ю. М. Юрьев вышел из состава труппы Госдрамы и с будущего сезона подписал контракт в Московский Малый театр»504*. Он уходил туда, где когда-то родился как актер.
Четыре года спустя Юрьев оставил и Малый театр — но не ради Акдрамы, а ради Театра имени Вс. Мейерхольда. Там он несколько лет кряду играл только одну роль — Кречинского в «Свадьбе Кречинского». Покидая Малый театр, он отказался даже от роли в «Дон Карлосе» Шиллера, которого начинал ставить К. А. Марджанов. «Почему я это сделал? — говорил Юрьев в интервью. — Я понял, что сейчас для мастеров искусства необходима перестройка, пересмотр старых позиций… Скажу прямо: я еще хочу учиться…»505* Ради Мейерхольда, ради давней дружбы с ним Юрьев согласился появляться в мейерхольдовских спектаклях и на сцене Акдрамы — в «Маскараде» и «Дон Жуане», возобновленных к столетию Александринской сцены. Теперь он там гастролировал; это продолжалось несколько лет и после того, как был уволен Петров. Гастролер в собственном театре?.. Что ж, такое больше должно было смущать театр, чем его самого.
196 В 1927 году, уходя, Юрьев играл на выезде «Эрнани», а теперь, приезжая, — «Царя Эдипа». Того самого «Эдипа», которого когда-то представлял на арене цирка, впервые покинув свой театр. Весной 1932 года трагедию Софокла специально для Юрьева поставил Радлов в декорациях Валентины Ходасевич на открытой сцене сада Госнардома. Зрелище снова имело успех. Как писал А. А. Дорохов, «успех “Царя Эдипа” говорил о желательности и массовых постановок на садовых площадках»506*. Той же осенью ленинградская пресса отметила сорокалетие артистической деятельности Ю. М. Юрьева. А он все числился московским актером. И по-прежнему был предан высокой классике.
В Академический театр драмы Юрьев возвратился после семилетнего перерыва507*. Он продолжал играть в «Маскараде», в «Свадьбе Кречинского», репетировал роль Несчастливцева в «Лесе» — одном из самых крупных спектаклей классического репертуара 1930-х годов: его начинал ставить В. П. Кожич к предстоявшему юбилею В. А. Мичуриной-Самойловой.
В 1929 году Юрьев покидал Акдраму не один.
Тот памятный год и вообще повлек за собой организационные сдвиги в искусстве. Сменился народный комиссар по просвещению: вместо А. В. Луначарского пришел А. С. Бубнов. Годом раньше, как упоминалось, было распущено управление ак-театрами во главе с И. В. Экскузовичем. Театральное дело децентрализовалось, театры получили большую самостоятельность. Общее руководство сосредоточилось в Главискусстве под началом А. И. Свидерского. Тогда же было решено упразднить самую категорию академических театров, что коснулось Ленак-драмы непосредственно: отныне и до 1937 года, когда театру было присвоено имя А. С. Пушкина, он назывался Госдрамой, хотя и прежнее имя Акдрамы все еще за ним сохранялось. В январе 1929 года директором ленинградских гостеатров стал З. И. Любинский. Одним из решительных его шагов было сокращение труппы Госдрамы, действительно разбухшей до семидесяти пяти человек508*.
Еще в 1927 году умер И. В. Лерский, в 1928-м — Р. Б. Аполлонский и К. Н. Яковлев. В 1928 году перешел в Московский драматический театр (б. Корш) А. И. Зражевский. Осенью 1929 года, после ухода Юрьева, увольнялись за выслугой лет ветераны театра М. А. Потоцкая, Н. Л. Тираспольская, Г. Г. Ге, 197 М. Е. Дарский, Ю. В. Корвин-Круковский, П. В. Самойлов, Н. Н. Ходотов и бывший представитель временного комитета по управлению театром Д. Х. Пашковский. Покинули труппу Н. М. Железнова и Е. П. Студенцов. «Эти актеры не учли того, что они плотно заняты в старом репертуаре, постепенно вытесняемом новыми премьерами, — рассказывал Петров, — и их незаменяемость уменьшалась с каждым днем»509*. С уходом актеров уходил и их репертуар.
Другой упразднительной мерой нового руководства была ликвидация учебной студии при Акдраме. Ее основал Юрьев в конце 1923 года, придя на пост управляющего. Всякому театру нужны актеры на молодые роли, эти жильцы с временной пропиской, нужен вспомогательный состав для массовых сцен, нужен, наконец, и резерв для пополнения труппы. Всему этому и призвана была служить студия Акдрамы. Преподавали там лучшие мастера труппы во главе с Юрьевым, но режиссерские полномочия с годами стягивал в своих руках Петров. Уже через несколько лет в студии образовалось два этажа: ученики и окончившие курс актеры. В апреле 1925 года скромно прошел первый самостоятельный спектакль студийцев — «Полубарские затеи» Шаховского. Некоторые работы, после обкатки на клубных площадках, стали выносить и на академические утренники; иногда там участвовали молодые силы труппы. В мае 1925 года на сцене Малого оперного театра студийцы играли пьесу Смолина «Иван Козырь и Татьяна Русских». Несмотря на то что главные роли исполняли Н. К. Симонов и О. Г. Казико, дебют обернулся горькой неудачей. «Козырь?!» — недоумевал К. К. Тверской в журнале «Рабочий и театр». «Тухлый товар из академической лавочки», — возмущался рецензент комсомольской газеты «Смена». А. И. Пиотровский в «Жизни искусства» писал о том, что на сцене звучали мелодраматические отголоски «Каширской старины» Аверкиева, лишенные интонаций новизны. Живые споры вызвал «Ревизор» в экспериментальной трактовке Н. В. Петрова (1926). Признание встретила поставленная С. Э. Радловым японская трагедия Кидо Окамото «Ода Набунаго» (1927), с ее условной героикой, стилизованной ритмопластикой и динамическими паузами.
В 1927 году, к юбилею Юрьева, студии было присвоено его имя. Это внешнее обстоятельство сыграло сакраментальную роль. Придя к руководству, Петров захотел реорганизовать и студию, но привел дело к краху учебного заведения. Что же касалось актерской группы студийцев, она раскололась, стала игрушкой в руках преобразователей: появились «группа тринадцати», «производственная группа», так называемый филиал Госдрамы. 1 марта 1932 года филиал открыл спектакли в Пассаже, после ликвидации «Комедии» Е. М. Грановской и С. Н. Надеждина. 198 Ядром филиала тогда уже стал Театр актерского мастерства под руководством Л. С. Вивьена. Через год и филиал Госдрамы был ликвидирован в свой черед: с уходом Петрова в Пассаже обосновалась малая сцена Госдрамы — вторая площадка академической труппы.
Наиболее способные актеры студии в 1929 году стали сотрудниками при труппе Госдрамы. То были прежде всего участники последних студийных спектаклей 1928 года: «Двенадцатой ночи» Шекспира, «Соломенной шляпки» Лабиша и инсценировки фурмановского «Мятежа» (все три ставил Петров). «Мятеж» на несколько лет закрепился в репертуаре Госдрамы.
Из студии на ленинградскую сцену пришли в разные годы А. Г. Белоусова, О. Г. Казико, Л. А. Скопина, Т. В. Сукова, А. В. Филипповская, К. И. Адашевский, И. П. Бомбчинский, А. Ф. Борисов, Д. М. Дудников, И. С. Зонне, В. Г. Киселев, М. Л. Никельберг, М. Ф. Романов, Л. С. Рудник, А. В. Савостьянов, Г. И. Соловьев, В. И. Честноков, В. В. Эренберг, А. И. Янкевский, В. И. Янцат. Как писала Т. В. Сукова, студийный коллектив «после “Мятежа” шел по пути слияния с основной труппой театра»510*. Тогда и возник в первоначальном виде филиал Госдрамы — без собственной площадки. Со временем некоторые филиальцы сделались коренными актерами академической сцены. Труппа пополнялась и со стороны.
В 1928 году актерами Госдрамы стали А. Ф. Борисов и В. И. Честноков, в 1929-м — Ю. С. Лавров и возвратившийся из МХАТ-2 А. П. Нелидов, в 1930-м — С. В. Азанчевский, тоже недавний актер МХАТ-2, в 1931-м — Б. А. Бабочкин, Н. К. Вальяно и М. И. Царев. Пост главного художника театра принял Н. П. Акимов. Взамен ушедшего К. П. Хохлова очередным режиссером Н. В. Петров пригласил В. Н. Соловьева.
Организационная перестройка проводилась решительная. При всех издержках она была неизбежна и перспективна. Как ни расценивать реформы Петрова, трудно отрицать, что с ними — в «петровскую эпоху» — лицо старого театра помолодело и оживилось.
ВСТРЕЧИ С «ПОПУТЧИКАМИ»
1928 – 1929 годы были началом натиска РАПП на репертуар ведущих театров страны. Сжатый очерк дел, которые потрясли Госдраму, был бы неполон без этого завершающего штриха. Петров не был убежденным режиссером-рапповцем, но охотно предоставлял академические подмостки пьесам В. М. Киршона, Ю. Н. Либединского, А. Н. Афиногенова — лидерам рапповского большинства, группировавшимся вместе с А. А. Фадеевым и 199 критиком В. В. Ермиловым вокруг журнала «На литературном посту». С драматургами другой рапповской группировки, «Литфронт», — В. В. Вишневским, А. И. Безыменским, начинавшим тогда Н. Ф. Погодиным — Петров контакта не имел, поскольку они тяготели к театрам левого фланга. Госдрама четко склонялась не к литфронтовцам, а к налитпостовцам.
Шли и пьесы попутчиков — Б. С. Ромашова, И. Л. Сельвинского, О. Д. Форш. Но теперь они не делали погоды в театре. «Постановка “Огненного моста” не является особенно значительным событием в жизни Ленинградского Гостеатра драмы, — находил Мокульский. — Она не намечает никаких новых путей, не открывает новых горизонтов. И по форме, и по содержанию это типичный “середнячок”, образец стандартного советского спектакля, в меру идеологически выдержанного, в меру грамотного и занимательного»511*. Подобные свойства уже не удивляли, они примелькались, как все ординарное. Постановщик Петров пробовал «оторвать пьесу от мелкого бытовизма и натурализма, четко вскрыть основные моменты тематики и дать заостренные образы»512*. Задача была как задача, без пыла и риска. В спектакле успешно дебютировал театральный художник П. И. Соколов: он уходил от привычного бытового павильона, выстраивая такую действенную среду, такую стереометрию сцены, где «форма, свет и пространство могут быть широко оркестрованы»513*. Все же откровений не нес и он.
Зрелище содержало несколько дельных актерских работ. Таков был прежде всего образ мятущейся Ирины. Н. С. Рашевская в этой роли перешагнула через мелодраму, заставила зал вспомнить о другом своем успехе в другой пьесе Ромашова, «Конце Криворыльска». Л. С. Вивьен (который как член художественного совета театра резко высказался о ремесленной пьесе и возражал против ее постановки514*) по мере сил выручал роль бестрепетного Лаврентия Хомутова, положительного мужа колеблющейся интеллигентки Ирины. Вивьен играл, «убедительно подавая довольно тусклые речи публицистического фельетона, влагаемые в его уста автором», — писал Мокульский. Но роль оттого не переставала быть резонерской. Мастера труппы, опытные и молодые, от Горин-Горяинова и Певцова (Дубровин-отец и Геннадий) до Воронова и Жуковского (актер Стрижаков и Лысов), были находчивы, изобретательны, но это мало что меняло в конечном итоге.
200 Еще меньше успеха имела «Причальная мачта» Ольги Форш, выпущенная осенью 1929 года. Действие происходило на советской полярной станции. Интерес к подобной тематике сильно возрос в дни, когда арктический перелет Нобиле на дирижабле «Италия» потерпел потрясшую всех катастрофу во льдах и на поиски снаряжались экспедиции полярников из разных стран, в том числе из СССР.
На этот раз режиссировал Вивьен. Он оценил литературные достоинства пьесы, в самом деле ничуть не ремесленной или эпигонской. Все же ни он, ни драматург не были искушены как авторы спектакля в той мере, что творцы «Огненного моста» Ромашов и Петров. Ставя «Причальную мачту», Вивьен делал упор на фабульную занимательность, на феерическую зрелищность. В последнем ему помогал тот же художник Соколов. Конструктивная установка с подвижными площадками позволяла менять и множить конкретно-изобразительные приметы среды. «Лучший момент — это крушение айсбергов и северное сияние, которые принимались публикой аплодисментами», — свидетельствовал Маширов. Он добавлял: «То, что Госдрама храбро вступила на путь расширения своей тематики, это — хорошо»515*. Но общий вывод был суров.
Критика не приняла пьесы, не приняла спектакля, не приняла Симонова в главной роли ученого-метеоролога Ермилова. И действительно, удались только отдельные жанрово-характерные образы: юная эскимоска Окка, сыгранная Карякиной, завхоз станции Причальная мачта Дарья Логовна — Корчагина-Александровская, предприимчивый матрос Товкач — Малютин.
Писатели М. Э. Козаков, Б. А. Лавренев и другие пробовали заступиться за коллегу по литературному цеху, объясняя атаки на пьесу групповыми пристрастиями. Козаков заявил: «Форш охаяна главным образом потому, что она — попутчик. Будь она писательницей пролетарской, к ее пьесе отнеслись бы иначе»516*. Выкладки такого рода мало кого способны убедить. Но логика полемики проливала свет на условия, в каких эта полемика велась. Рапповский поправочный коэффициент становился реальностью, и с ней нельзя было не считаться.
Но истина не лежала посередине. Она заключалась в том, что встречи с попутчиками теперь досадным образом не несли удач Госдраме. Сокрушительный урон театр, вернее его филиал, понес, ставя романтическую трагедию в стихах И. Л. Сельвинского «Командарм 2» (1930). Режиссерский замысел В. Н. Соловьева (сорежиссерами значились Н. В. Петров и молодой И. С. Зонне) складывался в творческой полемике с трактовкой 201 Мейерхольда. На сцене ГосТИМа были выпрямлены и укрупнены социальные характеры. Мейерхольд поступился моментами рефлексии и самоиронии некоторых близких автору персонажей, во многом их развенчал, отменил и сложно протянутые ассоциативные нити поэтической ткани. Трагедию в спектакле Мейерхольда теснила прямота героического эпоса. Соловьев в своем спектакле возвращался к автору и не скрывал, что намерен реабилитировать пьесу, «искаженную» Мейерхольдом. Он не предвидел только, что из этого получится. «Автор удовлетворен, — писал после премьеры Гвоздев. — Но со зрителем дело обстоит иначе»517*. Зритель такого «Командарма» не принял. Руководство Госдрамы, сняв спектакль после первого представления, вынуждено было дать случившемуся горькую оценку: «Управление театра Госдрамы пришло к выводу, что поставленные театром задачи в работе над трагедией Сельвинского не выполнены. Масштабы трагедии снизились до условной драмы, затушевана основная установка автора, неверна трактовка отдельных персонажей. Учитывая, что в таком виде спектакль показывать нецелесообразно, управление Госдрамы решило временно спектакль снять для дальнейшей переработки»518*. Весть о чрезвычайном происшествии в Ленинграде быстро облетела Москву519*. Факт оставался фактом. С «попутчиками» Госдраме тогда не везло. Решительно не везло.
А однажды, в конце 1928 года, театр, заключив союз с одним видным писателем-попутчиком, одержал успех вопреки этому союзу и вынужден был данный союз расторгнуть. В обработке А. Н. Толстого ставилась пьеса Вальтера Газенклевера «Наилучший господин» — по афише «Делец». Режиссеры Петров и Соловьев, художник Акимов внесли много тонкой сатирической выдумки в спектакль, где изображалась жульническая изнанка буржуазной респектабельности, мошеннический путь финансового воротилы к депутатскому креслу, шире — фальшивые отношения и нравы людей в одном из центров западной цивилизации.
Режиссура разбила текст на эпизоды, «причем каждому из эпизодов соответствует определенный стиль сценического исполнения, начиная от психологической мелодрамы и кончая мюзик-холльным гротеском». Новинки постановочной техники применялись и тут же разоблачались с нескрываемой иронией, что дополнительно оттеняло сатирическую тему действия. Музыкальный монтаж Шапорина пародировал расхожие мотивы и ритмы западных шлягеров, а оформление Акимова напоминало, 202 по словам постановщиков, «заостренную карикатуру западноевропейского сатирического журнала»520*. Карикатура, эксцентрика, плакат образовали подвижный сатирический сплав, сохранявший психологическую органику в игре актеров почти до конца действия.
Для театра спектакль стал поворотным в том смысле, что иронически перечеркнул былой салонный репертуар, который еще недавно исполнялся здесь всерьез, с охотой.
В манере цельно растушеванного акимовского плаката играл Малютин продувного дельца-миллионера Людвига Компаса, монументально механичного, плотно сбитого с виду и оборотисто-юркого по внутренней сути. «Его выезд на движущейся площадке вместе с четырьмя секретарями, замершими в деловито-подобострастных позах, его завтрак в семейном кругу, развертывающийся словно заседание биржевиков»521*, — подобные мизансцены закрепляли в чеканных ритмах то заостряющегося, то раздувающегося гротеска исходную сатирическую установку спектакля. «На нашей сцене редко встречаются случаи такой органической спайки оформления со стилем игры актеров и режиссерской трактовки всей пьесы, как в “Дельце”», — писал Мокульский522*. Все участники упомянутого завтрака-заседания подтверждали эту оценку: и простодушно-добропорядочная жена миллионера госпожа Компас — Корчагина-Александровская, вдруг бросившая чепец через мельницу и вкусившая сладость греха, и авантюрно-решительная дочь Лиа — Вольф-Израэль, и сын-шалопай Гарри — Романов. «Прошу сесть… Прошу не перебивать… Прошу не повторяться… Прошу еще чашку чая…» — изрекал похожий на гладкого робота Компас. «Прошу слова… Я делаю предложение…» — подавал свои реплики Гарри. Эти начальные эпизоды пьесы были наименее затронуты переделкой Толстого523*. Но чем дальше, тем больше давала о себе знать грубоватая обработка текста. Критики, которых нельзя было заподозрить в рапповской групповщине, единодушно признали это. Приветствуя режиссуру, М. О. Янковский писал: «От того, что Лиа Компас начинает говорить вульгаризированным языком, а мошенник Мебиус именует себя “кустарем-одиночкой”, еще не происходит освежения текста. Вообще попытка внесения социальной значимости двумя-тремя подкинутыми фразами в достаточной степени наивна»524*. На диспуте 203 о спектакле выступили с докладами С. Д. Дрейден и А. А. Гвоздев. Как сообщал отчет, «оба докладчика сходились на отрицательной оценке переделки А. Н. Толстого, ослабившей остроту пьесы Газенклевера»525*.
Особенно пострадал финал спектакля. «У острой пьесы оказался тупой конец», — писал Гвоздев в цитированной статье.
Критика возымела последствия. Театр прислушался к ней, и уже на втором представлении «Делец» исполнялся с финальной, шестой картиной, возвращенной к оригиналу Газенклевера. Печать сообщала: «В последнюю постановку Госдрамы “Делец” со второго представления внесен ряд поправок и купюр, общая цель которых — приблизить спектакль к подлинному оригиналу Газенклевера»526*.
Так обстояло дело с попутчиками в репертуаре Госдрамы. Разумеется, их пьесы не были отгорожены китайской стеной от пьес рапповских драматургов или от классического наследия. Удачи и там перемежались с неудачами. Живой процесс нет нужды схематизировать. Репертуарные течения по-всякому совмещались в русле афиши. Можно было говорить лишь о том, что театру больше приходилось по душе, что приносило ему больше удовлетворения. На том отрезке времени Киршон, позже Афиногенов обозначили памятные вехи в фарватере репертуара.
РЕЖИССЕР ЧИТАЕТ ПЬЕСУ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Весной 1928 года Петров и Акимов показали «Рельсы гудят» Киршона. Действие развертывалось в цехе паровозоремонтного завода и поблизости от него. Сознательные рабочие во главе с красным директором Новиковым боролись за выпуск двадцатого отремонтированного паровоза. Им противостояли своекорыстные «спецы». Да и отсталая часть рабочих не слишком считалась с Васькой Новиковым, вчерашним слесарем из инструментального цеха, поставленным править заводом. Директору-выдвиженцу приходилось трудно. Враги приписывали ему уголовное преступление, он попадал под арест. Вдобавок собственная жена, Анна, неловко пользовалась служебным положением мужа, ставя Василия под удар и осложняя драматическую ситуацию.
«Героя в общепринятом смысле слова в пьесе нет, — считал постановщик. — На первый план выдвинута обстановка производственного предприятия»527*. Режиссерская декларация о схеме произносилась на том раннем этапе пути, когда схема-то еще не 204 сложилась. То, что потом, в косяке подражательных поделок, превратилось в схему и исчерпало себя, тогда, в период социалистической реконструкции производства, получало современный поэтический смысл. Пущенный на рельсы паровоз становился символом дня. Возвращение директора-выдвиженца к руководству после того, как клевета отпадала, было символом рабочей победы в классовой борьбе с отживающим старым. Недаром роль Василия Новикова исполнял Вольский, уже игравший, как упоминалось, еще более символических героев в пролеткультовском театре. Пьеса Киршона допускала такую перекличку между драматургией рапповской и пролеткультовской, с одной стороны, между профессиональной и самодеятельной клубной — с другой.
В весьма одобрительной статье Авлов выделял этот последний момент как особое достоинство. По его словам, спектакль «держал все время аудиторию в напряжении, электризовал ее и заставлял с неослабным вниманием следить за ходом разворачивающихся событий. Прекрасный спектакль, в котором, может быть впервые, без оговорок мы увидели настоящее лицо советского театра и почувствовали его огромное организующее и агитационное, в лучшем смысле этого слова, воздействие». Дороже всего Авлову было следующее обстоятельство: «Такой спектакль и такая пьеса, как “Рельсы гудят”, могли родиться на свет только потому, что органически связаны здесь профессиональный театр с самодеятельным творчеством»528*. Много сделавший для развития рабочей театральной самодеятельности как практик и теоретик, Авлов находил в академическом спектакле прямые отзвуки самодеятельного искусства, его приемы, его социальные маски, его словарь. Например, по всем правилам жив-газеты строил Петров сцену клубной «бузы», где кружок чечеточников мешал заниматься кружку политграмоты.
Из тех же самодеятельных истоков вылилась веселая находка Петрова и Акимова в сцене общего собрания: карикатурный Чемберлен, служивший мишенью для стрелкового кружка, вдруг тоже подымал руку вместе с голосовавшими против, совсем по-клубному оттеняя отсталость этой части рабочих. Таковы были в своей эстетической основе и типажные маски персонажей обоих лагерей: комические, жанрово-характерные, пародийные, мелодраматические. Суетливый, «запарившийся», по слову Авлова, весь на бегу председатель завкома Захар — Киселев, эксцентричный инструктор чечетки Злобин — Березов, преуспевающий нэпман Паршин — Горин-Горяинов и его вульгарная жена, любительница жестоких романсов Аглая — Карякина, их строптивая прислуга Машка — Стрешнева и прежде всего благообразный с виду «спец» Телесфор Эдмундович Потоцкий — 205 Певцов — все это были социальные маски плакатного порядка.
Сродни клубному агиттеатру был и подъем в зрительном зале, когда к финалу на завод возвращался его оправданный директор. Зал встречал Василия Новикова бурей рукоплесканий. Зрительный зал Александринского театра помнил немало оваций, но теперешний феномен был в том, что приветствовали не актера, не драматурга, не режиссера — приветствовали героя, рабочего, партийца, шагнувшего из жизни, приветствовали жизненный факт, суть которого была в том, что своего человека не дали в обиду, справедливость восторжествовала, дело двинулось дальше. «Выход за рамки театрального искусства длился всего несколько минут, — писал после премьеры Гвоздев. — Но эти моменты составляют большое событие в б. Александринском театре. Впервые мы переживали их здесь, в б. “императорском” театре. Не в театре МГСПС в Москве, не на спектаклях Мейерхольда эпохи театрального Октября, не в самодеятельном театре рабочих организаций, а в стенах академического театра… Потребовался ряд повторных опытов, переходных этапов вроде “Конца Криворыльска”, “Виринеи”, “Штиля” и других постановок Н. В. Петрова, дабы проделать брешь в старых навыках, дать доступ современной советской общественности»529*.
Приветствуя актуальное в спектакле, Гвоздев не умолчал и о том, что публицистический нерв бился там подчас независимо от актерских усилий. Хотя в больших и малых ролях выступали, сверх уже упомянутых, Корчагина-Александровская, Домашева, Карташова, Ростова, Бороздин, Вивьен, Лешков, Малютин, Усачев, а с ними большая группа молодежи: Симонов, Романов, Борисов, Жуковский, Эренберг и др., критик констатировал: «Актерское исполнение местами шло вяло, медлительно».
Принципиальной темой завязавшейся дискуссии стала нищета сценического оформления. Одна из прошлогодних премьер, «Бархат и лохмотья», дала дискуссии центровку. Постановка «Бархата и лохмотьев», выдержавшая всего девять представлений, обошлась в 8000 рублей, но лишь 2000 рублей отпустили на боевую советскую пьесу, шедшую при битковых сборах530*. 2 декабря 1929 года спектакль «Рельсы гудят» исполнялся в 100-й раз.
Тем временем на сцене шла уже и другая пьеса рапповского репертуара: «Высоты» («Кожпромторг») Либединского. Она была во всем противоположна предыдущей, и обе вместе давали характерный пример внутрирапповских антитез. Открытой 206 публицистике и многолюдности «Рельсов» автор «Высот» предпочитал камерный масштаб и подробный психологизм. Либединский убежденно следовал налитпостовскому девизу «живого человека» — то есть концепции героя, непременно наделенного изъянами, и врага, обладающего кое-какими завидными превосходствами. Постановщики Вивьен и Петров с некоторым недоумением признавались: «На первый взгляд кажется, что в пьесе нет героев “положительного начала”, на самом же деле герой у Либединского есть, но не в виде “стопроцентного” положительного коммуниста, а в виде мощного коллектива, сильного своей единой волей. Каждое из действующих лиц этой положительной группы (Айвазов, Галанов, Суриц, Шорохов, Антипов), стремясь к “высотам” и порой падая благодаря личным недостаткам, все же, объединенные в единый коллектив, побеждают и поднимаются к верхам строительства. Отрицательное начало в пьесе (Миндлов) тоже дано не плакатно, а в образе человека большого ума и дарования, идеолога новой буржуазии, принявшего революцию 1917 г., но не коммунизм»531*.
Стремясь усилить публицистику спектакля, а вместе с тем дать крупный план психологического показа, режиссура и художник А. В. Рыков избрали формой сценического станка самую прочную геометрическую фигуру — покатый треугольник, обращенный острием к залу: на это острие персонажи выходили в решающие минуты. Через полгода в «Наталье Тарповой» на сцене Камерного театра А. Я. Таиров предельно обнажит дискуссионность своего спектакля: вынесет к линии рампы подобие кафедры, откуда персонажи обратятся к зрителям. Госдрама не спешила воздействовать так открыто. Однако предвестия публицистических решений уже давали себя знать и в ряде предшествовавших спектаклей о современности.
Всякий современный спектакль советского театра есть диспут о жизни. Постановщики «Высот» выделяли не столько проблемы, сколько общую проблемность, не то чтобы искали ответы, а скорее заостряли вопросы. При известной экстравагантности формы, спектакль оставался в пределах иллюстрации к пьесе, так как ни собственных вопросов не ставил, ни ответов самодобытых не предлагал, проще говоря, не обладал собственным духовным и жизненным содержанием. Дело свелось к поискам приема. Вопросы и люди, ими снедаемые, выносились поближе к залу. Лишь необходимые для действия предметы убранства возникали из нейтральной атмосферы спектакля: ее создавали цвет и свет, «монтаж цветовых плоскостей и объемов, определяющих игровую площадку каждой картины»532*.
207 Все так же недоумевая, постановщики делились своими заботами: пьеса «написана несколько необычным в драматургии приемом — не развитием внешнего положения и действия к концу акта (обычный “эффект”), а наоборот, — каждое действие начинается ярким “событием” общественного порядка и заканчивается психологическим разговором трех, двух и даже одного человека; отсюда задача режиссуры — найти новые игровые приемы для современных психологических сцен и подать их так, чтобы внимание зрителя не ослабевало к концу действия»533*.
Увы, задачу не удалось решить ни режиссуре, ни исполнителям центральных ролей (положительного Айвазова изображал Симонов, отрицательного Миндлова — Горин-Горяинов). Не получился коллектив, единый и мощный, не возникло глубины индивидуального анализа. Спектакль пал жертвой сидячего разговорного бездействия и громоздких монологов под занавес. Неподвижны были и сценические характеры. Горин-Горяинов придал спецу Миндлову, человеку на свой лад умному, убежденному, широкому, «черты откровенного и назойливого злодейства, мелкого карьеризма», — досадовал Пиотровский. Упрощенно играл коммуниста Айвазова и Симонов — «с налетом того поверхностного темперамента и несколько наигранного ребяческого простодушия, который грозит стать однообразным штампом в работе этого даровитого актера». Опасения насчет Симонова, к счастью, не оправдались, но в данном случае критик был вправе подчеркнуто говорить об актерской неудаче спектакля534*. Актеры Госдрамы не справились с интеллектуальными, мировоззренческими заданиями. Все же не одни актеры были в том виноваты. Прежде всего сбивали с толку парадоксы драматургии.
Театр пробовал еще поработать над пьесой, благо и автор пошел навстречу535*. Перечисляя поправки и переделки, внесенные в спектакль, Мокульский уверял, будто они сделали зрелище «более острым, напряженным и (что очень важно) более увлекательным»536*. Репертуарная участь спектакля этого не подтвердила. Он не имел данных для того, чтобы увлечь зрителей и удержаться на афише.
Притом понятна попытка театра сохранить сделанную работу. Больше озадачивал почти подобострастный тон критики в этой связи. «Причальная мачта» шла через полгода после «Высот», но ведь уже к «Высотам» можно было отнести многое, 208 сказанное о «Причальной мачте». Например, А. А. Гвоздев предъявил Госдраме три упрека. Во-первых, критик продолжил старую тему о репертуарных повторах и заимствованиях: «Наш академический театр не ведет систематической работы с драматургами, не вызывает к жизни новую драматургию. Он берет готовые пьесы, возникшие в других театрах, главным образом в московских». Другой упрек констатировал пассивность режиссерского подхода: «Здесь еще возможна простая иллюстрация пьесы сценическими средствами…» Третий упрек обличал косность актерских решений537*. Не все упреки были бесспорны. Ни «Высоты», ни «Причальная мачта» как раз никого не повторяли: коршевцы показали «Высоты» на полгода позже, когда Госдрама уже выпустила «Причальную мачту», — а эту последнюю пьесу вообще никто больше не ставил. Но особой работы с авторами режиссура действительно не вела. Имели место и иллюстративность, и актерские стереотипы. Только в наибольшей мере это проявилось именно в «Высотах»: «Причальная мачта» лишь подтвердила осенью недочеты весенней премьеры.
Логика движения театра, таким образом, была сложна. Путевые издержки случались немалые. Все же это было движение, имевшее внутреннюю логику. Приметы агитационного воздействия на зал в спектакле «Рельсы гудят» и рефлективный камерный психологизм «Высот», подобно тезису и антитезису, уже очень скоро дали синтез обоих начал — творческий союз театра с Афиногеновым, успех «Чудака» и особенно «Страха», радостный для всей советской драматургии, для советского театра в целом.
В тот период, на исходе столетия Александринской сцены, закреплялись новые ее черты — намеченные «Криворыльском» и «Штилем», «Бронепоездом» и «Шахтером», по-разному проглянувшие в «Рельсах», в «Высотах» — черты политического театра современности. Во многом справедливо утверждает новейший исследователь, что к 1932 году «Госдрама подошла с четко сформированной программой агитационно-публицистического театра, выраженной в стилистике политического спектакля. И эта программа была сформирована и сформулирована деятельностью Н. В. Петрова»538*.
Здесь подразумевается обширная постановочная практика режиссера. Стоит добавить, что попутно Н. В. Петров пробовал теоретически осмыслить основные категории своего искусства. Его ранние книги «Азбука театра» (1927), «Режиссер читает пьесу» (1934), «Актер и сценический образ» (1935) давали эскизные характеристики установленных им пяти первоэлементов 209 театра (драматург — режиссер — актер — искусство сцены — зритель) и намечали формы их взаимодействия: творческие — ремесленные — технические. Теоретическая (да и практическая) ценность указанных книг Петрова невелика. Реальный опыт творчества режиссера отложился не в отвлеченных наставлениях по театральному делу, а в позднейших мемуарных книгах: «Встречи с драматургами» (1957) и «50 и 500» (1960). Все же отдельные крупицы опыта можно извлечь и из ранних теоретических сочинений Петрова, особенно из книги «Режиссер читает пьесу».
В КАНУН СТОЛЕТИЯ. «ЯРОСТЬ»
В 1932 году страна праздновала столетие бывшего Александринского театра — тогдашнего театра Госдрамы. К юбилею вышла книга К. Н. Державина «Эпохи Александринской сцены». Под конец там говорилось: «Десять лет, истекшие со дня постановки первой советской пьесы “Фауст и город” до дня постановки “Страха”, обеих в режиссерской интерпретации Н. В. Петрова, не прошли бесследно для одного из старейших театров СССР. От абстрактно-революционного философизма “Фауста и города” к конкретной социальной философии “Страха” лежал путь советской драматургии и путь Александринской сцены»539*. Прошло всего лишь десятилетие, но как чудодейственно преобразился облик «Александринки»!..
Границы решающих сдвигов Петров обозначил, назвав одну из своих многочисленных статей к юбилею: «Три из ста»540*. Три последних года перед столетием театра были порой уверенных перемен, полосой «Ярости» и «Страха». Петров был деятельно причастен к свершившемуся и тем гордился. Для монументального сборника, изданного к столетию, он написал заключительный раздел, где пробовал объективно оценить сделанное. Конечный вывод был непререкаем: «В великолепное здание Росси, на смену б. императорскому Александринскому театру, пришел советский Ленинградский Государственный театр драмы, осознанно, искренно и убежденно пропагандирующий идеи коммунизма, активно включившийся в процесс социалистического строительства и во всемирно-историческую борьбу пролетариата за создание новой эры человечества, за построение бесклассового социалистического общества»541*.
Вполне подтвердила это уже «Ярость» Е. Г. Яновского, показанная в начале 1930 года и отразившая острые моменты 210 коллективизации деревни. В прямых, лобовых схватках представали бедняки и кулаки с подкулачниками, в мужицкой массе бродила стихийная ярость, понемногу вводимая в берега большевистской сознательностью вожаков.
Почти метафорически выражал эту стихийность массы однорукий и немой Семен Ковров, недавний партизан, которому белые вырвали язык. Симонов в бессловесной роли, мыча и дергаясь, с большой нервной отдачей играл олицетворенный классовый инстинкт, мужицкую тоску по справедливости, ненависть к богатым и хитрым, настороженность к ним и безразличие к личной незадачливой судьбе. Безразличие шло и оттого, что жена Семена, сельская активистка Марфа, жалея убогого мужа, душой тянулась к Степану Глобе, сознательному коммунисту, вожаку коллективизации на селе. Отчасти повторялась ситуация, сыгранная уже этим театром в «Виринее»: отношения между вольной героиней — Тиме и ее недужным Василием — Ходотовым. Главным был все же конфликт между пробуждающимся классовым самосознанием и его первоначальной стихийной неоформленностью. Для героя Симонова это был внутренний конфликт. Центральной у актера получилась сцена, где его Семен, первым дознавшись о заговоре кулаков, взбегал на колокольню, ударял в набат, будоражил сельчан. Но объяснить он ничего не мог. «Растревоженный, возбужденный до предела Семен по-прежнему мычал, размахивал своей единственной рукой и с тоской оглядывался вокруг, ожидая, что его все-таки поймут, что правда, которую он вынужден носить в себе, откроется наконец всем»542*.
Разум и волю масс воплощали в спектакле Степан Глоба — Богданов, Марфа Коврова — Тиме. Самой крупной актерской работой в этом ряду стал сыгранный Певцовым эпизодический персонаж — секретарь укома партии Максим Путнин, появлявшийся в одной из последних картин. Сила и значительность образного решения Певцова как бы направляли неизбежный исход событий. «Старый большевик, фигура только эпизодическая в пьесе, выросла в спектакле в центральную фигуру, — писал после премьеры М. О. Янковский. — Партия — вот эта фигура. Можно только упрекнуть актера в том, что его укомец кажется перерастающим уездный масштаб, напоминает цекиста. Но редко на сцене мы видели подобный положительный образ коммуниста, который подчиняет себе с первого до последнего момента, заставляя верить, вливает подобную уверенность в правоту творимого дела»543*. И на отдалении десятилетий можно ощутить, что образ, созданный актером, был сколком крутой породы, тугих времен, нес трудную правду дня.
211 И другие отклики на премьеру сплошь да рядом напоминали сводки о ходе коллективизации: спектакль Госдрамы сам включался в боевую кампанию. Как помнит читатель, еще недавно критика справедливо упрекала Госдраму в пассивности подхода к пьесам, в иллюстративности режиссуры. «Ярости» подобные упреки не предъявлялись. Достаточно прямолинейная пьеса обогащалась в ходе репетиций. Петров рассказывал: «Редкая репетиция проходила без зачитывания того или иного места центральной печати, где вопросам коллективизации отводилось основное место. Стенографические материалы обсуждений в деревнях вопросов коллективизации служили для исправления, пополнения и уточнения текста пьесы. В театре неоднократно проводились беседы по программным вопросам коллективизации, а также выступления отдельных партийных работников, приезжавших с колхозного фронта и привозивших колоссальный бытовой материал из области обостренной классовой борьбы в деревне» и т. д.544*
Режиссура пошла на большее. Она изменила благополучную авторскую развязку. Пьеса кончалась ложной тревогой, спектакль — трагической гибелью Глобы от кулацкого ножа. В минуты, когда сход решал вопрос о выборах в сельский совет, на руках вносили убитого Глобу. Звучал траурный марш Шапорина, сверху спускалось полотнище с именами действительных жертв кулацкого террора, митинг на сцене переплескивался в зал: зрители подымались заодно с героями…
Не все участники этого реквиема-митинга сразу находили верный тон. «Со слезами в голосе говорила я заключительные слова роли», — вспоминала Тиме, но добавляла, что эти слезы в голосе не устраивали постановщика: «Мне было замечено, что слова Марфы на выборах в совет: “Я за него!” — следует выкрикивать радостно и в высшей степени бодро (даром что рядом лежит еще не остывшее тело любимого). Пришлось подчиниться»545*. Задачи действия обязывали к прямоте чувств. Тиме не вполне удавалось прийти к такой прямоте. По глубине постижения характера актриса недалеко ушла от прежде сыгранной Виринеи. Критика улавливала в игре Тиме все тот же «мелодраматический нажим»; советы режиссуры были не случайны. Для другой исполнительницы, Скопиной, Марфа была первой заметной ролью, и, как вспоминал в цитированной статье Цимбал, «многое в ее Марфе прозвучало более современно и внутренне правдиво. Созданный ею характер был проще, строже, сдержанней».
Спектакль входил в контекст бурной современности. Его сценическая история обросла легендами. Легендарно было стремительно 212 нараставшее число представлений: от февральской премьеры к октябрю оно перевалило за сотню546*. Театр создал несколько вариантов портативного оформления: актерские бригады, часто с новыми, молодыми исполнителями ведущих ролей, отправлялись в глубинку, на места событий, приспособляя к действию самые скромные площадки. Одна такая бригада чуть не разделила судьбу Семена Коврова и Степана Глобы: «Несчастье было предупреждено, так как актеров ночью разбудили и своевременно сообщили им, что кулаки решили этой же ночью сжечь избу, где ночевали “агитаторы”»547*. Так актеры изучали жизнь, и тем убедительней развертывались эпизоды спектакля, особенно финала. Успех финала был легендарен, и эта легенда связана с именем руководителя ленинградских большевиков С. М. Кирова.
Источником служит рассказ Петрова о том, как Киров привел на спектакль Серго Орджоникидзе: «В антракте перед последним актом Сергей Миронович неожиданно обратился ко мне с вопросом:
— А что, сегодня зрители встанут или нет?
Уж очень хотелось Кирову показать московскому гостю то, чего он не видел в Москве.
Я помчался на сцену и, обойдя всех исполнителей, рассказал о беспокойстве Кирова.
Актеры обещали максимальную отдачу себя — но ведь это все же зависело не только от них.
Акт шел на хорошем актерском нерве. Приближался финал.
Вот выбежал Андрейка и взволнованно крикнул:
— Сейчас кулаки Глобу порезали!!!
Вот выносят тело Глобы, кладут его на помост, прикрывают сорванным флагом.
Киров и Серго сидели в ложе и внимательно следили за спектаклем, который волновал обоих.
Медленно, медленно сверху начал опускаться траурный занавес, вступил оркестр и… и весь зрительный зал, как один человек, встал.
По щеке у Серго скользнула слеза, а Сергей Миронович обернулся ко мне и тихо сказал:
— Поблагодарите актеров»548*.
Совсем немного времени прошло после триумфов «Ярости», а постановщик спектакля уже рассуждал в очередной книге о том, что иные боевики, «в которых настоящее непосредственно введено в действия и в события, имея очень большой успех на определенных этапах развития общественной жизни, 213 часто быстро стареют и сохраняются лишь в архивах театров. Как далеки сейчас такие пьесы, как “Шахтер” Билль-Белоцерковского или “Ярость” Яновского! В них непосредственно обнажено настоящее эпохи, в них слишком прямолинейно и плакатно подана основная проблема, и не через систему художественных образов, не в столкновении живых людей вскрывается существо пьесы»549*. Так расценивал сам режиссер отшумевший успех, которому недавно служил с азартом испытателя.
Но успех действительно был. Вот один из типичных откликов отнюдь не театральной прессы: «В театре Госдрамы с большим успехом прошла премьера “Ярости” Яновского. Несмотря на то что пьеса имеет ряд недостатков — некоторую сюжетную примитивность, бедность языка и пр., — исключительная острота ее темы (переустройство деревни) дала благодарный материал для нужного, увлекающего спектакля. Режиссура спектакля (Н. Петров и М. Вольский), подойдя с большой тщательностью к своей работе, с успехом преодолела постановочные трудности, вызываемые недостатками пьесы. Премьере предшествовали многочисленные обсуждения пьесы на фабриках и заводах во время обеденных перерывов. Сделанные указания были приняты во внимание. Устроенный Пролетстудом после спектакля диспут вылился в митинг о переустройстве деревни»550*.
Рывком в необжитое пространство искусства, скачком в новое, неизведанное стал для театра спектакль о бушующей, развороченной деревне времен сплошной коллективизации. Как поиск, как разведка боем «Ярость» и осталась памятна истории советского театра. Нигде больше эта пьеса подобного, пусть кратковременного, успеха не знала, хотя и ставилась тогда достаточно широко. Московский Театр имени МОСПС, показавший ее двумя месяцами раньше, ничего похожего не достиг. В спектакле режиссера Е. О. Любимова-Ланского и художника Б. И. Волкова отдельные сцены имели «привкус какой-то оперности… К чему эта слащавость, это обилие “зелененьких” ночей и пр.? — спрашивал рецензент. — Особенно не к лицу они такой пьесе, как “Ярость”»551*.
Но и попытка Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина воскресить через тридцать шесть лет свой давний успех не могла оправдаться. «Невозможно забыть тот гражданский пафос, то волнующее единение сцены и зала, которое чувствовалось на каждом представлении “Ярости”», — писал Ю. В. Толубеев. Но повод к воспоминаниям — новая постановка «Ярости» — удручал актера, ибо получился «спектакль, в котором героика подменена напыщенной декламацией, 214 энергия и напряженность борьбы сняты внутренней холодностью помпезного зрелища»552*.
«Ярость» 1930-го принадлежала своему суровому времени, и только ему. Во всех противоречиях, скоротечности, нестойкости она отразила стремительный бег дня, координаты мчащейся истории, минуты боя, когда решалось: кто — кого?..
Пьеса явно пролетарского, явно советского драматурга Яновского не вполне пришлась по вкусу рапповским ортодоксам, с их концепцией «живого человека». Рапповцы отмахнулись от «Ярости», от ее прямоты, сочли ее «красной халтурой», что было в высшей степени предвзято. Прямота жизненных вопросов и художественных ответов оказалась в «Ярости» к месту. Рапповцы же исповедовали веру в догматически понятый «диалектический метод» при показе так называемого «живого человека». Не им ли запальчиво отвечал Маяковский: «Мы диалектику учили не по Гегелю. Бряцанием боев она врывалась в стих…» Яновскому было далеко до Маяковского, но бряцание боев слышалось в его пьесе и гулко отдавалось в постановке Госдрамы. Спор о преимуществах сложности и прямоты в общей форме беспочвен. Как ни заманчивы полярные дали искусства, ни тот ни другой подход универсальных выгод не сулит. Другое дело, что Петров имел свои предпочтения. Он был режиссером открытых контрастов в большей степени, чем аналитиком. Даже в пьесе «Ярость», как упоминалось, ему не хватало порой действенной прямоты, например в финале, который он преобразовал: «В пьесе “Ярость” Яновского я убил центральную фигуру Глобы, который, по пьесе, после покушения на него остается жив, — признавался Петров. — Я его убил, и основная мысль дошла до зрителя гораздо острее, чем в благополучном “поцелуе в диафрагму”, как этого хотел автор»553*. Так читал тогда пьесы режиссер Петров, и если чего-то нужного ему в них не находил, — сам вносил недостающее. Вместе с тем он не был режиссером монотонным и любил браться за разные пьесы, чередовать способы подачи и пробовать новые.
«ЧУДАК» И «СТРАХ»
Не слишком посчитался Петров с налитпостовской диалектикой, обращаясь к пьесам Афиногенова. Можно сказать, режиссер освобождал драматурга от избыточного психологизма, сообщал и его пьесам больше открытой прямоты. Это неодинаково сказалось на результатах. Сравнительно с московскими постановками «Чудак» в Госдраме проиграл, «Страх» выиграл.
215 Пролетарский драматург Афиногенов в «Чудаке» избрал героя не стандартного. Борис Волгин, молодой канцелярский служащий из интеллигентов, честный беспартийный специалист, даже не комсомолец, давал бой карьеристам, бюрократам и шкурникам, собирал на маленькой бумажной фабрике кружок энтузиастов, соревнующихся не за страх, а за совесть. При всем своем интеллигентском идеализме Борис закалялся и во внутреннем конфликте — с собой самим, с собственной слабостью и личными неудачами, и в конфликте внешнем — с косной средой: с «главносомневающейся» — предфабкома Трощиной, с пожилой «фабричной ханжой» Добжиной, с отсталым шпанистым рабочим из деревенских Васькой Котовым, со счетоводом-неудачником Рыгачевым, наконец со сверстником-карьеристом, почти приятелем Игорем Горским: здесь разница моральных коэффициентов получалась под финал особенно драматичной. Равнодушную позицию занимал директор фабрики Дробный. Но были у героя и настоящие друзья: опытный рабочий-партиец Петр Петрович, комсомолец-рабочий Федя Вишняков, к ним тянулась фабричная молодежь, на их сторону вставала в итоге и Трощина. При всех душевных неурядицах и потерях, побеждал Волгин, побеждал рабочий коллектив.
В композиции лирической драмы Петров крупнее выделял не тему внутреннего преодоления, а тему достижения цели. «Энтузиазм и энтузиасты в строительстве Советского Союза» — так формулировал он девиз спектакля в интервью к премьере554*. Режиссер смело выпрямлял авторскую тему, избавлял пьесу от «настроенчества», «чеховщины», полутонов. Где мог, Петров избегал безысходных выводов даже о противниках энтузиазма, отказывался ставить крест и на них. Своей задачей он полагал «не выводить отрицательных людей (директор Дробный и предфабкома Трощина), а показать их ошибки, вскрыв положительную сущность данных людей»555*. Критика подтвердила наличие такого примирительного оптимизма и в режиссерском замысле, и в его сценическом осуществлении. По словам Гвоздева, режиссер «не злоупотреблял выпячиванием отрицательных черт ни предфабкома Трощиной (Митрофанова), ни красного директора Дробного (Лешков). Тем самым характеристика этих персонажей оказалась лишенной язвительных черт, оттенков злой насмешки и велась с учетом возможного исправления их в будущем»556*. На такое смягчение не пошла Корчагина-Александровская: она вовсе не ласково изображала ехидную и глупую сплетницу Добжину. Разоблачительные краски накапливались изнутри и в образе Горского, которого играл 216 Романов, и в Ваське Котове — Адашевском. Среди соратников героя наиболее убедителен был старый рабочий Петр Петрович — Бороздин.
Смело выдвинул режиссер и актера на главную роль. Выбор пал на Борисова, никому тогда не известного: герою было двадцать пять, актеру — на год меньше. Афиногенова это тревожило, даром что сам он был ровесником Волгина. 1 февраля 1930 года, когда репетиции в Госдраме начались, драматург деликатно напоминал режиссеру, что «для Бориса нужен актер громадного диапазона чувств и сил… Вы поручаете эту роль молодому актеру, не имею основания не доверять Вашей опытности, но все-таки екает сердце — “а ну как?..”»557* В чем-то авторские предчувствия были напрасны, в чем-то они сбылись.
Нет такого литературного портрета Борисова, где не упоминалась бы роль Волгина, принесшая ему актерское имя. Исполнитель вложил много душевных сил в полюбившуюся ему работу, сказал много правды о молодом герое, но притом кое в чем не на шутку разошелся с автором. Он фронтально давал энтузиаста, а сбоку, походя — его внутренние конфликты, важные для драматурга. Актер и потом не отказывался от сделанного: «Лично у меня создалось впечатление, что во всех своих мелодраматических, надрывных сценах Борис Волгин, как говорят дети, “изображает из себя”, наигрывает, а на самом деле в глубине души остается простым советским парнем, улыбчатым, здоровым, жизнерадостным и полным безграничной веры в жизнь»558*. Таких бодрых парней можно было повстречать в действительности. Но не о них писал пьесу Афиногенов. Образ Волгина, освобожденный от противоречий, во многом терял свой драматизм и свой жизненный смысл.
Нечто подобное и произошло в спектакле Госдрамы. Зрители приветствовали открытого, чуть простоватого энтузиаста-героя и его молодого звонкоголосого исполнителя с сияющими глазами, приветствовали результат, заданный изначально, поверх перипетий драматургического развития. Но с чего же такой прямодушный, такой обаятельный Волгин прослыл чудаком — оставалось неясно. С героем пьесы герой спектакля вступал в психологически не вполне определимые отношения. Прямоты здесь как раз недоставало. С возможной мягкостью писал об этом в цитированной рецензии Гвоздев: «Борисов сближает образ “чудака” Волгина с образом здорового и целеустремленного комсомольца, деловитого и дельного, уже освободившегося от интеллигентских настроений. В таком истолковании роли есть, безусловно, здоровое начало — нежелание актерского молодняка “копаться” в душевных тонкостях героя-индивидуалиста. Для пьес иной формации, массовых и индустриальных, эта установка 217 актера может оказаться очень полезной и нужной. Но в данном случае она упрощает образ и замысел автора». Критик многое предощутил в дальнейшем репертуаре актера. Пока же главный упрек свелся к утрате лирики, к известному прагматизму чувств: «У Волгина — Борисова не устанавливаются отношения (эмоционального порядка) с другими людьми. Ни дружба, ни любовь, ни просто человеческое сочувствие (к Симе) не находят достаточно прочного места в его слишком деловом, практическом “энтузиазме”».
Режиссер «Чудака», в отличие от исполнителя главной роли, не считал свою работу особой удачей. Разумеется, он не имел причин ее стесняться. Но пока сценическая жизнь спектакля продолжалась, Петров видел его несовершенства, писал о своих «незрелых, во многих отношениях, постановках “Чудака” и “Высот”»559*. Но, как бы то ни было, именно они прокладывали дорогу к «Страху».
В статье о Петрове — режиссере Госдрамы В. В. Иванова, исследовательница четкая и объективная, разобрала немало найденных ею новых свидетельств о постановке «Чудака». Она установила, что «жизнерадостная ясность этого “не чудака” — Волгина далеко не исчерпывала противоречий спектакля… Петров “поправлял” пьесу жизнью, ее требованиями “простого, жизнерадостного, здорового” героя, которого он и демонстрировал на фоне незначительных недоразумений и откровенно жанровых, бытовых картинок. “Чудак” не стал сценическим “романом”. Он стал уроком, на выводах которого был построен “Страх”»560*.
Уроком послужил не один «Чудак». Звеньями пестрой цепочки прошли встречи театра с советской драматургией: с пьесами попутчиков, и правоверных налитпостовцев, и тех революционных авторов, которых рапповские вожди почему-либо не воспринимали как пролетарских. Но менялся облик дня, менялась атмосфера академической сцены — менялись и наиболее талантливые из рапповских писателей. Менялся автор «Чудака». До последних минут РАПП Афиногенов и Киршон оставались адептами налитпостовских догм как ораторы и публицисты, доходя до чудовищных порой нападок на МХАТ, на «систему» Станиславского. В творчестве же Афиногенов все больше отдалялся от рапповских установок, расходился и с Киршоном, на них застрявшим.
Петрова тянуло к Афиногенову. Выглядело же это так, будто Петров становился рапповским режиссером. Быть таковым слыло тогда доблестью. После «Чудака», особенно после 218 «Страха», Петров вполне мог претендовать на соответствующие лавры. Критика их ему и раздавала. «Только в тесном контакте с РАППом нашему театру удалось подойти к задаче овладения методом диалектического материализма», — писал после премьеры «Страха» Мокульский. Он считал, что смычка Госдрамы с Афиногеновым не случайна: «Та линия “психологического реализма” на диалектико-материалистической основе, которую проводит в своей драматургической практике Афиногенов и которая присуща всему “налитпостовскому” отряду РАППа, является, по-видимому, наиболее близкой творческим устремлениям Гостеатра драмы»561*.
Петров ничего не имел против РАППа, но ставил он все-таки конкретные пьесы определенного автора, Афиногенова, бесспорно крупного драматурга советской современности. Никакой диалектико-материалистический метод не может быть целью художественных исканий: по самой своей смысловой сути метод есть средство и способ, а не цель, не результат. Петров, режиссер практический, был не из тех, кто службу методу превращает в ритуал. Режиссер читает пьесу — в этом девизе высказался он весь. «Страх» привлек его глубиной жизненных вопросов и образных возможностей. Афиногенов сам предложил ему свою пьесу для постановки. Петров ее прочитал глазами режиссера, и она захватила его художественной реальностью. Пьеса была развернута на сцене выдающимися мастерами — итогом была правда жизни. Это и был лучший довод в спорах о творческом методе.
Примерно по тем же мотивам был возведен в сан налитпостовского режиссера И. Я. Судаков, постановщик «Хлеба» Киршона и «Страха» Афиногенова на сцене МХАТ. И там, в игре Добронравова и Хмелева, Леонидова и Ливанова, Тарасовой и Бендиной, встречались откровения жизни, находки искусства. Несомненным мастером был Судаков: его вклад в такие шедевры МХАТ, как «Горячее сердце», «Дни Турбиных» и «Бронепоезд 14-69», весьма и весьма велик. Да только много ли общего имели методы работы Судакова и Петрова?.. «Психологический реализм»? Что ж, пожалуй, на нем можно было сойтись, но разве он стал монополией налитпостовцев? А все остальное? Диалектический материализм, хотя бы? Механического тождества между научным и образным познанием жизни ни тот ни другой режиссер не могли бы установить, даже если бы порывались. Но и такой, негативный признак не способен объединить.
Подробный мхатовский психологизм был Петрову чужд. Как уже говорилось, постановщик намеренно внес в «Чудака» кое-что от прямоты «Ярости». Автор «Страха» сам шел навстречу 219 режиссеру: полемическим диалогам, внутренним конфликтам предстояло разрастись в большой и открытый философский диспут о жизни. Но прямота спектакля на этот раз не означала упрощения. Напротив, от прямоты в расстановке сил, от прямоты исходов в нравственных, идейных, социально-классовых поединках действия решающим образом зависело восприятие художественного целого.
Уходя от кабинетно-комнатного интерьера, от павильона, вообще от бытового антуража, автор спектакля Петров и его полномочный соавтор Акимов строили пространство публицистического действа, где учитывался опыт и «Высот», и «Дельца», и «Человека с портфелем» Дикого и Акимова в Театре Революции, и таировской «Натальи Тарповой», и еще многих публицистических зрелищ советской сцены конца 1920-х годов, где быт и уют изгонялись с площадки политических споров, а кафедра, трибуна, стол президиума становились необходимостью пика событий. В «Страхе» Акимов соорудил на сцене некое подобие дороги: она скошенным перпендикуляром уходила от рампы вглубь и ввысь, как овеществленный противовес прошлому, давящему на иных персонажей, как зримый знак будущего, завтрашнего, перспективного. А на просцениуме развертывался камерный план событий.
«Нам хотелось сохранить реалистические элементы пьесы, происходящей в комнатной обстановке, — писал Петров, — и в то же время вынести действие за пределы комнаты, на широчайший путь жизненной борьбы»562*. То, что символизировало перспективу и путь, отчасти напоминало «дорогу цветов» японского театра — ханамити, только переброшенную не через зрительный зал, а через сцену. Неправдоподобно длинный, истинно акимовский стол президиума вытягивался вдоль этой условной дороги, когда шли сцены заседаний, и намеренно тупым алогизмом звучала единственная хриплая фраза молчаливого члена президиума — А. В. Соколова: «Чай весь. Бутерброды все. Можно домой идти». Невинная фраза дико отдавалась в подобной сценической среде: шедшее от быта парадоксально остраняло сценическую публицистику. Остраняющим пластом действия было и нашествие на некоторых персонажей призраков из дореволюционного прошлого. Гротескным символом прошлого для профессора Бородина становилась его домоправительница Амалия Карловна, первая, несбывшаяся любовь студенческих времен. Концертно развертывали диалог на просцениуме И. Н. Певцов и А. П. Есипович, и наваждения минувшего проникали потом в дальнейшие эпизоды, в диалоги Бородина — Певцова совсем другого рода, с совсем другими собеседниками. «Что сделалось с людьми, 220 что сделалось с людьми, я спрашиваю?» — размышлял как бы наедине с собой скептический профессор, хмурясь, сопоставляя, оценивая. «Моя первая любовь поступила ко мне в экономки…» — это казалось смешным, но это и озадачивало, а потому веселило зал больше, чем героя. Распалась связь времен, прошлое исподтишка подкрадывалось к людям, и кое-кто из «бывших» норовил от прошлого сбежать, сменить фамилию, скрыть социальное происхождение, как обманом проникший в партию аспирант Цеховой, отрекшийся от своей матери Амалии Карловны…
Память о казненном сыне-революционере, счет палача, найденный в музее революции, предъявляла с кафедры старая большевичка Клара Спасова, опровергая ложный доклад профессора Бородина о страхе как стимуле человеческого поведения. Революционеры умели подавить в себе страх, идя на борьбу с царизмом. «Закаляйтесь в бесстрашии классовой борьбы!» — эти слова звучали итогом самоотверженной жизни, прожитой Кларой — Корчагиной-Александровской.
Выбор характерно-комедийной актрисы на эту роль был очередным смелым шагом режиссера Петрова. «Я никак не ожидала, что мне придется играть роль Клары, и готовилась получить Амалию Карловну, — признавалась Корчагина-Александровская. — И вдруг мне, “старухе”, предлагают роль героического плана. Но я решилась на этот шаг. С первых дней революции я увидела тип новой женщины: женщины общественницы и революционерки. Увидела его на фабриках, заводах, в Красной Армии, в общественных организациях, в повседневной жизни. Этот тип и попыталась я передать в образе Клары, сочетав его с прежним моим опытом создания героического образа матери-революционерки»563*.
В новом образе отозвался опыт прежней поры: можно было вспомнить мать повешенного пугачевца из «Пугачевщины», мать в тюрьме у приговоренного Ивана Каляева. Но пришло и новое качество. В тех, сравнительно давних уже ролях Корчагина играла стойкость духа страстотерпицы, трагически беспредельную выносливость национального характера. Теперь к неутолимой боли материнского сердца, к прочности народной, почвенной натуры прибавилась мудрость кадровой подпольщицы, сознательность коммунистки, сыгранной во всей ее нынешней обыкновенности.
Клара — Корчагина, в круглых очках, в строгом деловом костюме с длинным галстуком и с зажатой меж пальцев папиросой, мало чем напоминала тех горемычных матерей революционеров, которые сами революционерками не были и быть еще не могли. «Актриса прибегает в течение всего 221 вечера лишь к некоторым скупым жестам, — писал после премьеры И. А. Крути. — Ее интонации на высоте той театральности, когда каждое слово полно глубокого смысла. Именно мысль светится в глазах, в каждом поступке, в каждом движении Клары. Образ растет на глазах у зрителя. Поэтому так волнующе выступление старой партийки против Бородина»564*.
Героиня Корчагиной побеждала своего идейного противника, разбивала его умозрительные доводы особенно потому, что олицетворяла в открытом поединке человечность, справедливость, выстраданный революционный опыт. Голос актрисы пресекался в тяжких воспоминаниях, но она сурово обрывала себя, подтягивалась, взгляд из-под очков испытующе скашивался на зрителей в зале, — Клара умела управлять собой, научилась она владеть и всякой аудиторией. В строгой сердечной речи была сила, которая помогала крупному, но наивно сосредоточенному мыслителю Бородину — Певцову растерянно задуматься над своим поражением, чтобы потом подняться и увидеть возможность будущей настоящей победы.
Лучи света, все более ограничивая зримое пространство сцены, замыкались на одной лишь фигуре докладчика и на его кафедре — островке одиночества. Световая режиссерская метафора выдавала изолированность ученого и реализовалась в ходе и исходе его доклада. «В голосе Певцова звучала настоящая умственная страсть, бурная и неукротимая работа сознания. Но работа — это было передано с поистине трагической ясностью — напрасная, бесплодная и пустая»565*. Словесный поединок захватывал зал мерой вложенных туда духовных затрат, человеческих чувств и убежденности. В голосе Певцова, чуть ироничном, чуть усталом, в процеженных сквозь губы гневных словах Корчагиной-Александровской или в убеждающе сердечных, почти певучих ее интонациях — везде отзывался драматизм прожитой большой жизни. Спустя годы, вспоминая крупнейший свой спектакль, Петров-мемуарист обронил, должно быть невольно: «Я пишу сейчас эти строки и буквально физически слышу эти фразы, слышу и понимаю, как ужасно, что больше никто никогда их не услышит. И все-таки звучание их длится, и оно должно дать нам силу и энергию для трудового и ответственного дела строительства советского театра»566*. Написать так можно только от сердца. Ну, а тот, кому посчастливилось видеть спектакль, слышать те голоса, не может не присоединиться…
Откровением спектакля стал образ, созданный Корчагиной-Александровской. Афиногенов писал ей, «милой тете Кате», 10 марта 1934 года: «“Страх” скоро устареет, жизнь наша 222 движется вперед такими темпами, за которыми не угнаться порой… но всегда будет жить в моей памяти образ Клары, который Вы подняли на необыкновенную высоту. Никогда я не предполагал, что можно так почувствовать и понять существо образа, его дыхание и воздух, которым он живет, как это сделали Вы»567*.
В спектакле встретились многие талантливые мастера труппы. Валентину играли Вольф-Израэль, Глебова, Скопина; Макарову — Рашевская, Митрофанова, Белоусова; пионерку Наташу — Карякина, Ежкина, Смирнова; Боброва — Вивьен, Азанчевский, Эренберг; Кастальского — Бабочкин, Лавров, Честноков; Цехового — Романов, Царев, Лешков; Захарова — Бороздин, Усачев; Варгасова — Воронов; Невского — Богданов, Адашевский; Кимбаева — Вальяно, Борисов. Певцова в роли Бородина иногда дублировал Малютин; Корчагину-Александровскую — Грибунина, Карташова, Сукова. Но душой спектакля оставались они, Корчагина и Певцов. Они распространяли на сцене вокруг себя некое поле нравственного творчества, во всяком случае регулировали его. Об этом рассказывали потом разные актеры.
Бабочкин вспоминал, что Певцов «не переносил слова “переживание” и употреблял его только в ироническом смысле. Надо сказать, что в то время (двадцатые и тридцатые годы) искусство Художественного театра официально называлось искусством переживания. Певцов всем своим инстинктом большого художника понял одну основную истину поведения человека в жизни. Человек не показывает, а скорее скрывает свои чувства, — значит, и на сцене правдивый актер поступает так же. Я помню, как во время спектакля “Страх” мы стояли с Певцовым на выходе за кулисами. На сцене актеры играли какой-то сильно драматический эпизод, нажимая, что называется, на все педали. Актеры в бывшем Александринском театре были тогда сильные, темпераментные. Со сцены доносились до нас надрывные интонации и рыдающие звуки. Певцов посмотрел на меня своими умными ироническими глазами и сказал, несколько заикаясь (этот недостаток он преодолевал только на сцене): “Все-таки… к… ак хорошо, что мы ст… т… обой не эмоциональные актеры”, — и открыл дверь на сцену, продолжая так же, в этих же тонах, только без заикания, говорить уже, как профессор Бородин, слова роли»568*.
Бабочкин играл Кастальского. Другой исполнитель роли, Лавров, оставил встречное свидетельство569*. Два Кастальских, рассказывая о разном, устанавливали одно.
223 А успех «Страха» нарастал, спектакль шел чуть ли не каждый день, если не на основной сцене, то на площадках домов культуры. Вводились новые исполнители. Общий высокий уровень сохранялся. И все же некоторые исполнители премьеры, партнеры Корчагиной и Певцова, выделялись особо.
Поводы для претензий к ленинградскому «Страху» с трудом находили даже критики сугубо рапповских пристрастий, имевшие всегдашней целью доказать, будто никакой, самый хороший спектакль не достоин сравниться с недостижимыми качествами налитпостовской пьесы. В театральном рапповском журнале Крути отдал должное игре ведущих актеров. Принципиальной удачей счел он и образ молодого ученого Елены Макаровой, созданный Рашевской: «Нам впервые, признаться, привелось увидеть полноценный сценический образ советской женщины»570*.
Спектакль рецензировали специальные писательские бригады. 6 июня 1931 года «Ленинградская правда» поместила отзыв бригады, в которую входили Вс. Вишневский, А. П. Штейн, М. О. Янковский и др. В декабре на страницах «Литературной газеты» появился отчет бригады Всероскомдрама, куда вошли С. И. Амаглобели, Вс. Вишневский, Я. Л. Горев, И. М. Зельцер, Н. Н. Никитин, В. Е. Рафалович, А. П. Штейн. Этот последний отчет утверждал, например, что сцена доклада Бородина «в трактовке ленинградской Госдрамы вызывает максимальный эффект: классовое расслоение зала. Это место — публицистическое место в лучшем смысле этого слова. Это не голая публицистика лефовско-литфронтовского толка, содранная с газетной полосы, это публицистика большой формы… Веришь Корчагиной-Александровской: вот она, наша старая гвардия»571*. Театр с его публицистической прямотой делал революционный, новаторский шаг в искусстве и подымался над пьесой. Групповая борьба продолжалась. Группы наскакивали одна на другую. Спектакль оставался не задетым. Он служил поводом к очередной литературной потасовке, но достоинства его самого не вызывали споров у обеих сторон.
Постановка привлекала зрителей. К декабрю 1931 года «Страх» выдержал 100 представлений. Этот факт не преминул отметить Либединский, поместив в журнале «Рабочий и театр» приветствие Госдраме от Ленинградской ассоциации пролетарских писателей, составленное в тонах победной реляции. В сходных тонах звучала и заметка из редакционного дневника журнала, где говорилось: «Сто спектаклей 224 “Страха” — это Наглядное свидетельство огромного культурного роста рабочего зрителя, идущего в театр не за развлечением, а за мыслью… Сто спектаклей “Страха” — это красноречивый документ, отражающий процессы перестройки наших крупных попутнических театральных организмов (нет никакого сомнения, что работа над образами “Страха” активно помогает перестройке мировоззрения таких актеров, напр., как т. Певцов, как т. Корчагина-Александровская и др.)»572*.
Взмывая над групповой борьбой, ленинградский «Страх» пережил крушение РАПП. Эта ассоциация рухнула 23 апреля 1932 года, — а 5 марта спектакль шел в 200-й раз573*. 16 сентября того же года, когда праздновалось столетие Александринской сцены, «Страх» исполнялся в 300-й раз, уже как один из легендарных спектаклей советского пятнадцатилетия, но еще полный жизненных сил.
РЕЖИССЕР ЧИТАЕТ ПЬЕСУ. (ОКОНЧАНИЕ)
Такие головокружительные удачи Петрова, как «Ярость», как «Страх», несли Госдраме победы на важном участке творческого фронта, если говорить языком тех напряженных лет. Но многие другие участки фронта оказались оголены. С уходом старых мастеров выпали из репертуара прежние постановки классического репертуара, отечественного и переводного. Новые бывали малочисленны и не удерживались в афише.
Но и не все пьесы современных авторов могли удовлетворить зрителя, критику, труппу. В сезоны «Ярости» и «Страха» прошли и весьма примитивные пьесы: «Нефть» Горева, братьев Тур, Штейна, «Карта Кудеяри» тех же Горева и Штейна. Мало удались театру пьесы молодого украинского драматурга Микитенко «Диктатура» и «Светите, звезды», монтажная хроника Соболева и Подгорного «1905 год» («Генеральная репетиция»). К постановкам привлекались сорежиссеры, ассистенты, целые бригады, но результаты не радовали.
Недолгим, сравнительно, успехом пользовалась «Сенсация», наполовину переписанная театром. К. Н. Державин констатировал «полуудачу постановки не столько американской, сколько советско-американизированной “Сенсации” Бен Хекта и Мак-Артура (1930) с ее детективно приключенческой и не столько сатирической, сколько пародийной основой»574*. Оценка была объективна. Огорченно писал после премьеры С. Л. Цимбал: «Спектакль холоден, равнодушен, и, при всей своей занимательности, 225 при всем видимом усердии театра, ему не дано стать подлинным памфлетом, образцом злого и взволнованного сатирического зрелища»575*. Рядом потерпело полную неудачу «Нашествие Наполеона», переделка еще одной пьесы Газенклевера, выполненная А. И. Дейчем и А. В. Луначарским. Она шла в постановке Петрова и Соловьева, с Горин-Горяиновым в главной роли, через какой-нибудь месяц после премьеры «Страха» и дала поводы к негодующему письму четырех драматургов в адрес театра576* и к специфическим возгласам такого рода: «Вот поистине ненужный спектакль! В репертуаре Госдрамы, рядом с “Яростью” и “Страхом”, он кажется досадным недоразумением, нелепым и неожиданным провалом»577*.
Из-за творческой неудовлетворенности труппу покидали молодые, талантливые актеры. Чрезвычайным происшествием обернулось заявление об уходе так называемой группы пяти: Симонова, Киселева, Соловьева, Карякиной и Романова. Симонов и Соловьев уехали в Самару и возвратились к 1934 году. Киселев и позднее Романов покинули этот театр совсем. Президиум Ленинградского областного профсоюза работников искусств в специальном постановлении осудил группу пяти как дезорганизаторов производства, а руководителю театра — Н. В. Петрову предложил «выправить свои ошибки в тактике поведения по отношению к работникам театра, вплотную подойти к повседневной общественно-бытовой жизни театра и производственным интересам работников его, углубляя вопросы дифференциации, сплачивая вокруг производства социально и художественно ценный актив работников, учитывая, что коренная перестройка должна происходить под углом осознания и коллективной ответственности всех работников за всю принципиальную художественно-политическую и общественную направленность театра»578*. В переводе с канцелярского на общепонятный язык это означало, что Петров мало прислушивался к другим, мало ценил творческие интересы актеров, а все брал на себя и решал самолично. В таком театре это было не слишком осмотрительно и дальновидно. Доводами самозащиты могли быть новые крупные удачи, но здесь у Петрова, как сказано, не все обстояло благополучно.
Утверждая современный репертуар, Петров был менее счастлив в репертуаре классическом. Постановки классики далеко 226 не во всем отвечали требованиям академической сцены и ее актеров.
Натянутой попыткой осовременить Мольера оказался. «Тартюф» в своевольной трактовке Петрова, Соловьева и Акимова, показанный к концу 1929 года. Спектакль был направлен, по мысли его творцов, против эстетизированной созерцательности, заявлявшей о себе в недавней практике театра. Авторы спектакля предупреждали: «Режиссура ленинградского театра Госдрамы в постановке мольеровского “Тартюфа” ставит своей задачей перенесение действия комедии в наши дни и расширение ее сценической интерпретации по двум линиям:
а) по линии современного религиозного мракобесия и ханжества;
б) по линии политического соглашательства»579*.
Это развертывалось на сцене декларативно и с избыточной наглядностью, хотя текст Мольера сохранялся нетронутым (перевод принадлежал М. Л. Лозинскому).
Под галантную музыку в манере Люлли, на фоне пышного занавеса, где из одного золотого рога изобилия в другой такой же сыпались розы, в пантомимной интермедии-заставке «Оргон оказывает услугу королю» выступали дублеры некоторых персонажей действия, пышно разодетые в стиле Людовика XIV, и среди них введенный режиссурой сам король — Савостьянов. В музыку, стилизованную Шапориным, внезапно вторгался резкий диссонанс, костюмы эпохи сами собой слетали с персонажей, занавес взвивался — и вместо рогов изобилия открывались две фановые трубы, откуда гурьбой высыпали на наклонный овальный помост участники действия. Порой это действие переносилось в глубину, на высокий станок с зеркальным полушарием, которое множило отражения ступавшего туда Тартюфа — Певцова, злодея в рыжем парике, с извилистым ртом и хищными глазами, как описал его Гвоздев580*.
В интермедиях Тартюфа — Певцова заменял Тартюф — Н. А. Волков. Таким путем зловещий персонаж то и дело менял маски, как доктор Фреголи из итальянской комедии дель арте, как тот же Фреголи из пьесы Евреинова «Самое главное», поставленной Петровым на сцене «Вольной комедии» еще в 1921 году.
Кроме овальной площадки между фановыми трубами и станка-помоста с зеркальным полушарием имелась третья, приближенная к залу линия игры. Вдоль рампы тянулся помост вроде неправильно повернутой «дороги цветов», — в «Страхе», 227 как сказано, она вообще отвернется от зала и перекинется через сцену. По этой тропе Марианна — Карякина, в коротком детском платьице и с мячом, бежала мимо коровника на сеновал, чтобы наложить на себя руки, следом спешила ее горничная Дорина — Домашева, а потом и возлюбленный Валер — Романов, превратившийся здесь в гусарского офицера. Корова в окне тревожно провожала глазами бегущих, а потом, когда любовники приходили к согласию, благодушно мычала, отворачивалась, в окошке виднелся ее приветливо машущий хвост.
Под стать своей дочери Марианне были в спектакле Оргон — Горин-Горяинов и Эльмира — Вольф-Израэль. Гвоздев писал: «Постановщики Госдрамы сочли невозможным показать буржуа в качестве добродетельных людей, то есть встать на историческую точку зрения, или изменить социальную среду. Они изобразили дом буржуа Оргона как некое сборище сумасшедших людей. Оргон, в костюме XIX века, оказался чудаком из буржуазного водевиля или фарса, персонажем из легкой комедии Лабиша, вроде той “Соломенной шляпки”, которую недавно ставил филиал Госдрамы. Жена Оргона превратилась в распущенную женщину, щеголяющую мюзик-холльными костюмами, настойчиво соблазняющую Тартюфа обнаженным телом и выступающую в сопровождении “друга дома” (персонаж, введенный режиссурой)… Пылкий и негодующий (у Мольера) сын Оргона — Дамис обернут в истеричного шалопая с теннисной ракеткой, а мать Оргона, в исполнении актера-мужчины, кувыркается и катается по полу с азартом циркового клоуна»581*. Не вполне справедлив был разве что последний упрек: известно, что и в театре Мольера маменьку Оргона — мадам Пернель изображал актер. В Госдраме им был Жуковский. Дамиса играл Соловьев.
Действие перебивали пантомимные агит-интермедии, призванные показать сегодняшнюю опасность тартюфства. В интермедии «У фонаря» изображался современный публичный дом, пляшущие «герлс желтой прессы» (ставил танцы Ф. В. Лопухов). Сверху, из зеркального полушара спускался Тартюф — Волков, попадал в объятия развеселых герлс, завязывалась потасовка между клиентами из-за девиц, и наконец парочки расходились по интимным кабинетам заведения. В следующей интермедии, «Тартюф-миссионер», по овальной площадке брела, гремя кандалами, вереница узников капитала, а из люка посреди вырастала двенадцатиметровая кукла в облике Тартюфа, с крестом в одной руке и с маузером в другой, подымая то правую руку — для фарисейского благословения, то левую — для расправы. В финале спектакля потоки воды смывали в фановые трубы, как нечистоты, всех участников представления.
228 Сохраняя мольеровский текст, авторы спектакля порой не давали ему дойти до зрительного зала, перебивая и заглушая диалог режиссерскими заставками. При первой встрече Оргона и Клеанта «на особой площадке выкатилось полное, вместе с тремя поварами, оборудование кухни, и зрителю уже некогда слушать текст — его развлекают “трюком” и отвлекают “обыгрыванием” кастрюль и вареных поросят. Должно же это, по-видимому, означать, что буржуа — чревоугодник. Но эта “глубокая” мысль убивает текст Мольера, и, выиграв развлекательность, зритель потерял возможность понять основное в происходящем…». Так писал Крути, и писал, как видно, не без резона. Только в одной сцене он находил «полное совпадение приема, с которым сделан спектакль, с содержанием. Это — в молельне, в сцене второго объяснения Тартюфа в любви Эльмире. Вот здесь аналой с сидящим в нем Оргоном, вертящееся изображение и дым из трубки Оргона оказались органичными в фарсово разыгранной сцене»582*. В целом спектакль не дождался похвал. С критиком никто не поспорил. Защитников «Тартюфа» не нашлось, если не считать Пиотровского, которому приглянулся трамовский подход к классике на академической сцене583*.
Спектакль занял видное место среди тогдашних попыток осовременить классику. Тут был отдаленный и окольный подступ к акимовскому «Гамлету», разыгранному весной 1932 года вахтанговскими актерами. «Тартюф» некстати напомнил о прежних эстрадных шалостях Петрова — конферансье и режиссера малой сцены.
Рецидивы эстрадной эксцентрики так же неожиданно обнаружились у Петрова в «Горе от ума», постановке 1932 года, приуроченной к столетию Александринской сцены. Над водевильной легкостью трактовки подтрунивал Гвоздев584*. Мейерхольд заметил после этого спектакля, что бал у Фамусова «ассоциируется с парижскими, берлинскими, пражскими, лондонскими кабаре… Со сцены веет дыханием “Летучей мыши”, дыханием “Фоли Бержер”»585*. Но эти слова Мейерхольда не могут сойти за исчерпывающую оценку спектакля: при всех оплошностях торопливой режиссуры он был парадом реалистического актерского мастерства и вновь демонстрировал побеждающую силу коренных традиций труппы. Многие актеры дали здесь образцы традиционных трактовок: от Горин-Горяинова и Нелидова — Фамусова, Рашевской — Софьи, Карякиной — 229 Лизы, Малютина — Скалозуба до Мичуриной-Самойловой — Хлестовой и Корчагиной-Александровской — Хрюминой. Традиции оправданно обновились в игре отдельных исполнителей. Певцов играл Репетилова, гася комедийные краски и приоткрывая драму незаурядного, но пропащего человека, махнувшего рукой на поруганные идеалы юности. Монолог Репетилова обращался в зал и звучал почти исповеднически. Весьма современные мотивы находил в Молчалине Азанчевский, актер аналитической складки. Разные грани образа Чацкого, бунтующего, мятежного, наступающего, открывали Бабочкин, Романов, Царев.
Все же наиболее крупными спектаклями классического репертуара были в то время старые постановки Мейерхольда, возобновленные к юбилею театра: «Маскарад» и «Дон Жуан». Последний спектакль восстанавливался под руководством самого постановщика. В 1933 году Мейерхольд дал и свою вторую редакцию «Маскарада». В обоих спектаклях играл Юрьев, сначала как гастролер.
Лучшие спектакли советского репертуара были реальной заслугой Петрова, но его работа над классикой в целом отступала от задач академического театра. Это вызвало недовольство и у актеров, и у зрителей. В конце 1932 года, вскоре после юбилейных торжеств, Петров был освобожден от руководства Госдрамой. На его место пришел режиссер и актер МХАТ-2 Б. М. Сушкевич, воспитанник школы Станиславского.
Глава седьмая
МХАТ
ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ
В августе 1924 года Московский Художественный театр возвратился из длительной поездки по Западной Европе и Америке. Он мог быть доволен итогами гастролей. Искусство театра и его мастеров получило мировое признание. За рубежом остались последователи. Целые школы испытали воздействие МХАТ. С собой Станиславский привез книгу «Моя жизнь в искусстве», написанную в пути. Книга представляла исповедь художника и проповедь его творческой веры, излагала этапы жизни МХАТ и принципы «системы». Она привлекла к себе деятелей мирового театра. Паломничество в Москву, к Станиславскому, вошло в обычай.
По приезде театр встал перед лицом сложных задач. Надо было самоопределиться в советской современности, выразить практикой творчества свое отношение к идеям революции и 230 социализма. Это мог дать новый, социально-критический подход к классике. Но прежде всего нужен был современный репертуар, объясняющий новое в жизни. Предстояло вдуматься в эстетические основы своего искусства, углубить творческое мировоззрение.
В новый период работы МХАТ вступал помолодевший. Его руководители В. И. Немирович-Данченко и К. С. Станиславский находили, что театр никогда еще не имел такой разносторонне талантливой труппы. По-прежнему блистали старики: О. Л. Книппер-Чехова, М. П. Лилина. А. Л. Вишневский, В. Ф. Грибунин, В. И. Качалов, Л. М. Леонидов, В. В. Лужский, И. М. Москвин. С 1922 года к ним прибавился М. М. Тарханов. Почти целиком в труппу влилась Вторая (Мчеделовская) студия. А. К. Тарасова и Б. Г. Добронравов ушли оттуда в МХАТ раньше других, а среди пришедших теперь были О. Н. Андровская, К. Н. Еланская, А. П. Зуева, М. И. Кнебель, В. С. Соколова, Н. П. Баталов, М. Н. Кедров, М. И. Прудкин, В. Я. Станицын, Н. П. Хмелев, М. М. Яншин, режиссер И. Я. Судаков. Остальные студии отпочковались от МХАТ, пошли дальше своими путями. И Художественный театр порывал со своим вторым поколением. 10 июля 1924 года Станиславский писал Немировичу-Данченко из-за границы: «Подчиняюсь и одобряю все Ваши меры. 1-ю Студию — отделить. Это давнишняя болезнь моей души требует решительной операции. (Жаль, что она называется 2-й МХТ. Она изменила ему — по всем статьям). Эту студию я называю для себя — Студия Гонерилья.
Отсечь и 3-ю Студию — одобряю. Это Студия — Регана. Вторую студию — Корделию слить. Они милы и что-то в них есть хорошее, но, но и еще но… Сольются ли конь и трепетная лань…»586*
Вслед за Первой и Третья, Вахтанговская студия была отсечена. Но из нее в МХАТ перешли А. И. Степанова, А. Н. Грибов, Ю. А. Завадский, И. М. Кудрявцев, В. А. Орлов, режиссер Н. М. Горчаков.
Словом, труппа МХАТ, минуя второе поколение, сливалась с третьим. Как вспоминал П. А. Марков, Станиславский, вернувшись в Москву, «шутя говорил, что вновь созданная труппа состоит из “дедов” и “внуков”, так как разница между “стариками” МХАТ и его молодежью заключалась в пределах тридцати лет. “Дети” МХАТ работали в Первой студии»587*.
Тогда же труппа пополнилась еще несколькими актерами. В 1924 году из Четвертой студии был приглашен Б. Н. Ливанов, 231 в 1927 году из бывшего театра Корша — В. О. Топорков. Кроме того, в 1926 году режиссером МХАТ стал В. Г. Сахновский.
Возобновлению спектаклей МХАТ посвятил приветственную статью А. В. Луначарский. Нарком высоко оценивал вклад театра в отечественную культуру, триумф художественников за рубежом. Он восхищенно и почтительно писал о «Смерти Пазухина», открывшей новый московский сезон: «Заслуга Художественного театра, превратившего ее в настоящий шедевр, чрезвычайно велика», «столь виртуозного исполнения мы в Москве за последнее время не видели»588*. П. А. Марков сдержанней отозвался об обновленной щедринской постановке. В спектакле «сильном и ярком» ему не хватило сатирической злости, критик досадовал на излишнее спокойствие и объективность подачи. Исключением для него были отец и, в последней сцене, сын Пазухины — Леонидов и Москвин, а с ними чета Фурначевых — Грибунин и Шевченко. Во многом благодаря актерам спектакль воспринимался «как один из верных путей к народному театру. Это — хороший и крепкий реализм»589*. Притом, как писал Марков в другой статье, спектакль все же казался недостаточно щедринским: «демонстрировал отсутствие щедринской сатиры в режиссуре», а «часть исполнителей добросовестно и уныло повторяла зады системы Станиславского». Лишь коренные мастера труппы предъявляли «крепость и глубину реалистических дарований», напоминая «о былом умении художественников “слушать жизнь”»590*. По словам Ю. В. Соболева, Москвин — Прокофий Пазухин достигал в финале «огромной, почти жуткой выразительности, именно сценически сгущенного образа. Это не только жанр и это не только быт: это как бы символ торжествующей во всей своей силе тугой мошны»591*. Получалась реалистическая гипербола, несшая в себе очевидный социальный смысл. Ради одной такой удачи в любом другом театре ставили и играли бы спектакль специально. В любом, но только не в Художественном: строгость его критериев была известна.
Оттого увиденное все же не до конца удовлетворяло зал. Называя зрелище музейным, В. И. Блюм писал, будто оно не доходило до нового зрителя: «Советский зритель пришел в театр, исполненный самых ласковых чувств к театру (как известно, МХАТ с первых дней революции был “баловнем” Советской власти), — и все же он скучал, был вялым и скупым на 232 выражения своего привета театру»592*. Блюм занимал позиции на крайнем левом фланге тогдашней теакритики, и эта левая критика вообще встретила МХАТ в штыки. Был отзыв о том же спектакле, озаглавленный презрительно и кратко: «Смердит»593*. Некто, укрывшийся за «пролетарским» псевдонимом, изображал МХАТ разлагающимся трупом и название пьесы Салтыкова-Щедрина обращал к самому театру, так что «Смерть Пазухина» означала как бы «Смерть МХАТ». На возвратившийся театр смотрели как на старый, недужный и далекий от жизни организм. Одни высказывались в этом смысле деликатно, сострадательно, другие — грубовато, с превосходством собственной молодости над чужой старостью. Но театр хоронили не впервые. Борьба вокруг него подчас принимала и еще более резкие формы. Теперь это была, по существу, начальная стадия борьбы за творческий метод советского театра. МХАТ защищался средствами своего искусства. Он бил недругов доводами практики, опирающейся на теоретические открытия Станиславского. В борьбе он рос творчески и перевооружался граждански.
Нападки слева, при всей грубости, имели под собой кое-какую почву. МХАТ возвратился на родину, еще не слишком разбираясь в происходивших там процессах послевоенного восстановления. Доброжелательно настроенный Б. С. Ромашов, касаясь первых спектаклей МХАТ, признавал: «Здесь, конечно, нет никакого веяния Октября, здесь стоит во весь рост его огромная проблема — проблема современного спектакля»594*. Чтобы принять революцию, ее предстояло понять, освоить в деле, в идеях и образах собственного искусства. Последним словом МХАТ о гражданской войне пока что был «Каин», роковое хождение по мукам братоубийства. За несколько лет позиция театра изменится. От «Каина» (1920) до «Бронепоезда 14-69» (1927) — дистанция огромного размера. Крупными звеньями цепи стали «Пугачевщина» К. А. Тренева (1925) и «Дни Турбиных» М. А. Булгакова (1926).
КРУПНЫЕ ЗВЕНЬЯ
В «Пугачевщине» театр напряженно задумался о справедливости, о смысле гражданской войны XVIII века. Поиски правды, сложной, неоднозначной, определили творчество МХАТ классической поры, когда работали его основатели. «Пугачевщина» 233 отразила тогдашний мхатовский уровень постижения истины. Ставили спектакль Немирович-Данченко, Лужский и Леонидов.
По словам Немировича-Данченко, театр трактовал «Пугачевщину» как «романтическую трагедию с максимумом темпераментной насыщенности». Натурализма избегали, а искали умеренную поэтическую условность. «Режиссура стремилась использовать последние достижения современного театра и разрешения сценической площадки, однако без уклона в так называемое “циркачество” или натурализм, органически ненужный спектаклю»595*. Несколько абстрагируя историко-декоративный фон, выполненный средствами конструктивизма вперемежку с лубком, художник А. Ф. Степанов по-разному освещал распахнутый горизонт с игрушечными куренями и скирдами. Другими словами, конструктивная установка в действии не участвовала и выполняла обычные декоративные обязанности.
На этом фоне театр детально проникал в «жизнь человеческого духа» крестьянской массы, исстрадавшейся, наивной, жестокой. Театр видел и праведность бунта, и его безысходность. Символом двуединства стала участь ветхого крестьянина Марея, отданного сельским миром на расправу карателям. Хмелев достигал щемящего, за душу берущего трагизма, показывая тихую покорность Марея, непричастного к творимому злу. «Сцена прощания Марея с “миром” самая проникновенная в роли Хмелева, — писал П. И. Новицкий. — Она наиболее близка к лучшим образцам народного эпоса и лирики… Эпическую способность русских людей к самоотверженности, к подвигу, способность “порадеть миру” Хмелев показал в образе Марея с потрясающей силой»596*. Трагизм ситуации воспринимался тем сильней, что под стать карателям были сами мужики, избравшие из своей среды безответную жертву. Что-то тут шло от незапамятных времен, отозвавшихся в «Весне священной» Стравинского. Стороны уравнивались в моральной оценке. Жертва приносилась обоюдная.
Противоречия спектакля были противоречиями его духовной сущности. Романтики, какую искал Немирович-Данченко, нашлось в трагедии немного. Театр еще овладевал методом историзма, еще только постигал природу народной революционности. Имелись и другие, внутренние причины. Их объяснял Марков: «Для МХАТа “Пугачевщина” была первым опытом объединения молодой и старой части труппы: спектакль не мог казаться цельным; принцип построения массовых сцен, очень частых в “Пугачевщине”, не был до конца уточнен; интерес сосредоточился 234 преимущественно на исполнении Пугачева Москвиным и Леонидовым»597*. Оба толковали роль различно.
У Москвина это была фигура трагикомическая. Актер играл казака себе на уме, ничуть не геройского, склонного подчас к тоскливой истерике. Воля стихии вознесла именно этого участника событий на гребень волны, сделала мужицким царем. Только к финалу заключенный в железную клетку негероичный Пугачев вбирал в себя горечь народной судьбы, становился трагичен. Романтики не было и в помине. Такой Пугачев не всех убеждал в своей исторической подлинности. Одни делали ответственным за это автора, другие — актера. «В корне подточенный внутренним противоречием Пугачев Тренева, — писал Соболев, — двоящимся вышел и в изображении высоко даровитого Москвина»598*. Херсонский, напротив, упрекал исполнителя: «Москвин играет не свою роль, играет он чересчур надрывно, напряженно в технике рисунка роли (голос, движения) и неврастенично по внутреннему наполнению»599*. Но актера и автора противопоставляли напрасно.
Выдающийся трагик советской сцены Леонидов, вошедший в спектакль позднее, дал образ более монументальный, но и более статичный. «Очень он интересный и декоративный Пугачев», — проницательно оценила его Книппер-Чехова600*. На черновой репетиции Леонидов обрадовал и автора. «Когда я впервые увидел его на репетиции 3-й картины, я чуть не бросился ему на шею — так это было хорошо», — писал драматург Лужскому 7 ноября 1925 гота. Но, посмотрев его в спектакле, Тренев ужаснулся. 2 марта 1926 года он писал Лужскому: «Что случилось? Ведь это же пустое место! Вошел сонный человек, проспал 6 картин и вынесен в клетке, как в люльке… Но ведь на репетициях-то видел же я Леонида Мироновича! Потрясающий Пугачев!.. Последний раз я смотрел пьесу непосредственно после Александринки. Конечно, впечатление дорогой шелковой ткани после яркого ситца. Но там как раз налицо тот электрический заряд, который у Вас был, да вышел. Вот Пугачевы. Их смешно даже и сравнивать. Но… там скудный огонек, да горит, а здесь пламень, да лишь два-три раза вспыхнул»601*.
Трагедийные дарования Леонидова и ленинградского исполнителя роли — Малютина были и впрямь несоизмеримы. Но в данном случае это ничего не решало. Та романтическая трагедия, какую имел в виду Немирович-Данченко на первых порах, 235 не получалась и с Леонидовым. Определение вообще мало подходило треневской пьесе. И не зря драматург в тех же письмах Лужскому признательно поминал первого мхатовского Пугачева: «У Москвина свои собственные огромные достижения»; «Ведь как-никак Пугачев — Москвин замечателен»602*. Оживали в памяти впечатления генеральных репетиций с Москвиным 24 и 26 апреля 1925 года, которые посетил Тренев и назвал тогда увиденное «ценным и искренним зрелищем»603*.
Трагедийная прямота Леонидова в подходе к Пугачеву не случайно оборачивалась внутренней пустотой. И Треневу, и театру важно было показать, как исторически бессмысленна организованная жестокость; трактовка Москвина была ближе этому замыслу. Так написана роль. Разве иначе поручили бы сыграть ее в Ленинградской Акдраме Игорю Ильинскому? После премьеры МХАТ тоже писали, что «театр дал зрительному залу много случаев для восприятия в плане комическом происходившего на сцене»604*. Речь шла о моментах, связанных с Пугачевым, который еще не причастился к страданию народному. Дикарь еще не преобразился душой, не принял перед мученическим концом всей меры искупительного подвига.
Трагикомическую трактовку Москвина драматург фактически авторизовал. За год до премьеры печать извещала, что «К. А. Тренев участвует в подготовительных работах МХАТ к постановке его пьесы. Автор разъясняет артистам своеобразные особенности казачьего языка действующих лиц и помогает режиссуре в трактовке характеров героев пьесы, особенно центральной ее фигуры — Пугачева. По замыслу автора, Пугачев не похож на традиционного Пугачева — либо “злодея”, либо народного героя — вождя восстания. Пугачев К. А. Тренева — создание народных чаяний, самозванец, превращенный историей из легкомысленного казака в знамя народной трагедии»605*. Так оно и выходило на сцене МХАТ, когда играл Москвин.
Инстинкт правды, присущий искусству этого театра, заставил признать справедливость народной борьбы. Но опасливая надежда времен «Каина» — подняться над схваткой — еще давала себя знать в «Пугачевщине». Филиппов в цитированной рецензии указал на «момент большого театрального напряжения — когда крестьяне при жутком молчании смотрят в зрительный зал, как бы следя за плывущими по реке плотами и виселицами». Цепи народа-страдальца мы чтим — как бы говорили тут авторы спектакля. И в страдании, и в бунте народ 236 нес свой крест. Пугачевщина шла к гибели, а Пугачев из случайного и мнимого героя превращался в действительную жертву. Тогда театр оплакивал и смутьяна, и смуту, но тут опять возникал ропот в критике. С. М. Городецкий, недавний поэт-акмеист, сделавшийся на время театральным рецензентом, нашел, что «изобилие заунывных песен, завываний, колокольного звона, свечей (особенно резали свечи при аресте Пугачева), зарев, закатов придавало пьесе некий совсем не соответствующий теме мистический налет и выпячивало, как в Устинье, так и в самом Пугачеве, идею жертвы перед идеей восстания»606*.
Противоречия спектакля были его органикой. Они не принадлежали к легко устранимым. Больше того, театр на них настаивал. Оттого весьма разные критики выносили примерно одну и ту же оценку: метод МХАТ оставался еще несовершенен как инструмент социально-исторического анализа. Херсонский, в сущности, повторял сказанное до него многими, когда писал: «В первом опыте народной революционной трагедии Художественного театра чувствуется неуверенность в методах своей работы». Много лет спустя, в книге завлита Марков тонко замечал, что в этом спектакле МХАТ «никак не мог решить для себя, кем он, театр, здесь является — поэтом или историком, бытописателем или лириком»607*. О трагедии, о романтике, впрочем, речь уже не шла.
МХАТ продолжал постигать природу народной революционности. Поиски велись в разных жанровых разрезах и приносили неодинаковый успех, цепь составлялась из неодинаковых звеньев. Следующему крупному звену — «Дням Турбиных» предшествовало звено промежуточное: менее значительный по драматургической основе, но не по теме спектакль «Николай I и декабристы», пьеса А. Р. Кугеля и К. К. Тверского, поставленная Н. Н. Литовцевой под руководством К. С. Станиславского, в оформлении Д. Н. Кардовского и В. А. Симова. Объективно получалось так, что еще один этап революционно-освободительного движения в России приковал к себе творческие интересы театра.
Спектакль развернулся из трех эпизодов, инсценированных Кугелем по роману Мережковского «Четырнадцатое декабря» для «Утра памяти декабристов», которым МХАТ почтил столетие событий на Сенатской площади. Эти эпизоды вошли в концертную программу, исполненную один только раз, 25 декабря 1925 года. Ее открыт вступительным словом Станиславский, к концу первого отделения исполнялись три сцены: совещание у Рылеева 13 декабря, допрос Николаем Трубецкого и Рылеева, очная ставка Голицына и Рылеева у генерала Чернышева, 237 после чего Леонидов под траурный марш читал описание казни пяти. Во втором отделении исполнялись стихи декабристов и о декабристах.
Центром всего стал эпизод, где Николай, притворяясь и провоцируя, допрашивал «бедных мальчиков России», которые все ему прямодушно открывали, во всем благородно сознавались. Трубецкого изображал Завадский, Рылеева — новый для МХАТ актер В. А. Синицын, перед тем игравший Овода и другие героические роли в Театре МГСПС. Николай у Качалова был сложен, значителен, исторически верен. Как писал Соболев, «с подлинным мастерством явил нам Качалов “маски императора”, показав Николая Павловича в облике Николая Палкина, раскрыв с изумительным проникновением тонкую игру царя-сыщика с пойманными и обольщенными им жертвами»608*. Играя такого царя-сыщика, царя-актера, поминутно меняющего личины, Качалов, по словам Волкова, «дал исключительно тонкие интонации и движения, каждым словом и взглядом выявляя внутренний ход истинных и лицемерных чувств»609*. Психологизм подобного рода, аналитичный, срывающий маски, проникающий к сущности, был правдой искусства и вел к социально-исторической оценке вполне современного, сегодняшнего свойства.
Это был обновляющий шаг. Естественно, МХАТ хотел удержать взятый рубеж и овладеть следующим. 19 мая, через полгода, состоялась премьера: «Николай I и декабристы». Качалов упрочил и умножил найденное им, но беглые штрихи инсценировки не прибавили жизни образам декабристов, хотя вместе с Синицыным и Завадским играли еще и Баталов — Каховский, и Прудкин — Голицын, и Подгорный — Пестель, и Ливанов — Муравьев-Апостол. Только последняя сцена в крепости перед казнью была несколько развернута Станиславским при участии Л. М. Леонова, над «Унтиловском» которого начинал параллельно работать театр610*. По общему мнению, образы декабристов остались бледны и в спектакле. Встречались и откровенно недоброжелательные выпады. «Правильнее было бы назвать эту вещь просто “Николай I”», — находил один из рецензентов611*. Другой называл героев спектакля «жалкой кучкой растерянных интеллигентов» и негодовал: «Кроткими и примиренными мучениками идут декабристы на казнь, целуют крест и принимают братский поцелуй “всепонимающего” тюремного 238 священника, отпускающего им прегрешения вольные и невольные»612*. Но МХАТ слишком быстро перестал бы быть самим собой, если бы не толковал тему подвига как тему мученического страдания, искупительной жертвы: ведь «Утро памяти декабристов» отделяли от премьеры «Пугачевщины» какие-нибудь три месяца; по театральному счету, дело было накануне вечером. Не случайно М. Н. Строева в свежем и глубоком разборе спектакля о декабристах высветила кадр финальной сцены, где Муравьев-Апостол — Ливанов в камере, выезжавшей на рампу, «размышлял о страхе смерти и читал со свечой в руке то место из Библии, которое так хотели теперь вспомнить художественники и которое так хотели забыть их критики: “Перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча и не будет больше учиться воевать…” “Так и будет”, — говорил Муравьев и вместе с ним — театр»613*.
Но не только такими были декабристы на сцене МХАТ. Завадский, игравший Трубецкого, писал о Баталове: «Я хорошо помню его Каховского в пьесе А. Р. Кугеля “Николай I и декабристы” — небольшая роль, в сущности, одна сцена. В Каховском он совсем убрал свой природный юмор и передал одержимость Каховского революцией. Этот революционный фанатизм он вытащил из себя, потому что сам был фанатиком театра»614*. Человек мятежной решимости, на счету которого была реальная смерть Милорадовича, жил обособленно среди других приговоренных, и это тоже давалось изнутри: Соболев отметил в рецензии «Баталова, намечающего психологически верный образ одинокого Каховского»615*.
Страдая о своем, о давнем, декабристы в спектакле поясняли современное, высказывались на одну из сквозных тем тогдашнего Художественного театра.
Спектакль предлагал залу вопросы духовного, нравственного порядка, хотя утвердительные ответы, связанные с декабристами, убеждали меньше, чем отрицательные, связанные с Николаем. Образ диктатора-лицедея ниспровергался средствами именно мхатовского аналитического искусства, и достигнутый результат был бесспорен. Луначарский, особо выделил «необыкновенно сильно впечатляющий образ царя-жандарма», созданный Качаловым. Находя, что драматургическая основа действия «даже не пьеса, а скорее серия картин», он, однако, признал, что эта серия картин, как и показанный в том же сезоне «Петербург» Андрея Белого на сцене МХАТ-2, «близко касается 239 нашей эпохи» и повышает «художественное понимание наших дней»616*.
Образы декабристов тонули в темной глубине сцены, удаляясь в бессмертие. Захваченный зал стоя слушал Леонидова, который под траурный марш В. А. Оранского с трагической силой читал описание казни пяти. Звучали скорбно и мужественно финальные фанфары из музыки И. А. Саца к старому мхатовскому «Гамлету»… Театр дорожил жизнью традиции и, порываясь к современности, двигался дальше в благородных поисках значащего репертуара.
Совсем не задалась постановка «Прометея» Эсхила, которой МХАТ, развивая свою тему о великих мятежниках духа, возможно, надеялся взять реванш за неудачу «Каина». Несколько лет репетиции вел В. С. Смышляев, актер МХАТ-2, книгой которого о режиссуре так недоволен был Станиславский. Постановочные версии Смышляева отклонялись театром одна за другой. Образ титана-богоборца Прометея, которого молодой Маркс считал «самым благородным святым и мучеником в философском календаре»617*, был близок театру и благородством, и мученичеством, но философичность темы то так, то этак уводила и режиссера, и Качалова — Прометея к декоративной зрелищности, к условности формы, к отвлеченной декламации. И выбор задачи, и незавершенность усилий были симптоматичны. От кровных для него духовных исканий МХАТ не отступался и дальше, но поиски тогда приводили к открытиям, когда сполна давала себя знать сила земного притяжения, когда события планетарного, даже космического размаха преломлялись в гранях живых человеческих судеб. Потому действа о пугачевщине и о декабристах куда больше приближали театр к искомой цели.
ВСТРЕЧА РОВЕСНИКОВ
В «Пугачевщине», в спектакле о декабристах, отчасти в несостоявшемся «Прометее» проходила смычка мхатовских поколений, тех самых «дедов и внуков», о которых говорил Станиславский. С одной стороны, внушительно представительствовали «деды» — в ролях Пугачева, Николая I, Прометея; с другой — преобладали «внуки»: почти все пугачевцы, все до одного декабристы. Аншлюс протекал уравновешенно и благопристойно. Иные критики аж досадовали: «Между “дедами” и “внуками” еще нет существенного антагонизма»618*.
240 Спектакль «Дни Турбиных» стал полем творчества «внуков». Правда, после того как 1 сентября 1925 года Булгаков прочитал труппе МХАТ инсценировку своей «Белой гвардии», играть там захотели и «деды»: Вишневский, Качалов, Леонидов и другие. Но, как вспоминал Прудкин, Станиславский рассудил иначе: «Я считаю, — сказал он, — что эту пьесу должны играть молодые. Они эту жизнь, изображенную Булгаковым, знают и чувствуют лучше, чем мы»619*. Так и решили.
В «Днях Турбиных» театр вплотную подошел к одному из современных аспектов своей темы: с подробным психологизмом исследовал путь интеллигенции в революции. Итоги звучали почти автобиографично. Исполнители были ровесниками героев. Пьеса Булгакова, свободный парафраз романа, увлекла молодежь бывшей Второй студии во главе с режиссером Судаковым. К концу репетиций в работу вошел Станиславский и дал ей мхатовскую марку. Надежды прорицателей антагонизма не сбылись. Станиславский был с молодыми.
Марголин в той же статье дальше писал: «Станиславский играл, кажется 20 лет назад, с трогательной любовью к своему образу — полковника Вершинина. Его “внукам” было суждено сыграть роли вершининских детей: Алеши, Николки и Леночки Турбиных, отброшенных волною революции по ту сторону ее баррикад. Смена увлеклась Турбиными так же, как некогда увлекался Вершининым Станиславский. Герои М. Булгакова стали для них не только персонажами, но и родственниками героя А. Чехова. В порыве юного великодушия смена простила им все, даже то, что они противодействовали революции… Смена МХАТ вживалась в внутренний мир опустошенных потомков чеховского полковника, не осуждая их». Все это казалось Марголину весьма предосудительным, он скорбел о потерянном поколении мхатовцев, воспринимавшем революцию с оглядкой на полковничьи погоны Вершинина, вообще на образы Чехова и Станиславского.
За кремовыми шторами дома Турбиных естественные, чистые люди порывались к правде, верили, страдали и оставались людьми, минутами даже счастливыми людьми — несмотря ни на что. Там, за окнами, в оккупированном Киеве, громоздились кошмары: измена и бегство белой верхушки, напыщенные гримасы гетманщины, брезгливое безразличие немцев, а потом разгул сменившей их всех банды петлюровского хамья… Все смешалось: идеалы, достоинство, честь, обычные представления о порядочности. Но потерять эти качества в себе для круга Турбиных значило бы потерять себя. Каждый здесь мог быть только самим собой, человеком — не больше, но и не меньше того.
241 Хмелев, по его словам, играл «человека без противоречий, закованного в мундир белого офицера. Он погиб, разуверившись в своей идее, убедившись в ее несостоятельности. В этой роли меня интересовала гибель и внутреннее крушение той немногочисленной части “белой” интеллигенции, которая верила в свое “дело”»620*. Показывал Хмелев и то, как нелегко твердому, щепетильно честному Алексею Турбину оставаться человеком без противоречий. Внутренняя драма таилась глубоко. То, чему Алексей служил и верил, летело в бездну вверх тормашками. Крах старого он видел лучше многих. Но вера его была искренна, другой он не знал и знать не хотел. А потому оставалось одно — погибнуть. И он погибал с холодным самообладанием, разочаровавшись в своем деле, трагически прозрев, но не изменив себе.
Был, однако, и другой путь. Капитан Мышлаевский, бросивший окопы, ибо фронт перестал существовать, не решал мировых проблем. Он только испытывал честную злость фронтовика к бежавшим изменникам-генералам и спекулянтам-тыловикам. Роль исполнял Добронравов. Обветренное, загорелое лицо. Неторопливая сила в руках, в плечах, в скупых, тяжелых движениях подавшегося вперед тела. С душевной надсадой герой под конец утверждался в мысли, что игра проиграна безнадежно и единственная русская армия сейчас — Красная: «Пусть мобилизуют. По крайней мере, я знаю, что буду служить в русской армии».
Судаков потом признавался, что театр «сознательно работал над “радикализацией” Мышлаевского, считая, что таким образом пьеса получит более приемлемое политическое звучание. Автор охотно, в пределах художественной правды, шел на все изменения, и незначительный толчок с нашей стороны приводил к таким ярким и уже совершенно независимо от нас неожиданным поворотам его фантазии, которые создали целые великолепные вновь написанные картины»621*. Театр во многом был соавтором и этого образа.
События с тревогой и любопытством переживал порывистый Николка Турбин — Кудрявцев. Боготворя старшего брата, угадывая его глубоко запрятанное смятение, он не мог скрыть и интерес к тому новому, что надвигалось с приходом красных, со звуками «Интернационала», нараставшими в финале за сценой.
Душой этого островка человечности была Елена, сестра, которую с мягким благородством играла Соколова. «Изумительная Соколова, — писал много лет спустя Товстоногов, — для меня она осталась самым прекрасным актерским достижением 242 в этом спектакле»622*. В Елене — Соколовой были сердечная прочность, покой и чисто русская вальяжность. Она могла уйти в себя, опустить руки и вдруг воскликнуть весело и беззаботно: «А, пропади все пропадом!» Легкие комедийные ноты вносил в действие нежданный-негаданный роман Елены и Шервинского — Прудкина. Актриса как бы мимоходом играла кружение сердца своей героини. С милой застенчивостью ловя добрые, понимающие, прощающие взгляды друзей, подтрунивая над судьбой, Елена тянулась к неунывающему красавцу. Ее бросил бежавший с немцами муж, как Шервинского — его генерал, тоже улепетнувший. И вот, уже забыв о черкеске адъютанта, Шервинский на собственной свадьбе щеголяет в концертном фраке душки-баритона. Жизнь берет свое. Надо жить!..
«Дни Турбиных» соединили поэтику давних чеховских спектаклей МХАТ с новым содержанием жизни, с новыми трудными проблемами русской интеллигенции. Это не мешало автору пьесы и участникам действия с легкой печалью отодвигать от себя идеальные представления о «чеховщине». Ни к селу ни к городу чеховскими цитатами сыпал трогательно нелепый Лариосик, «кузен из Житомира»; он привозил книги Чехова, завернутые в рубашку. Яншин с тончайшим лиризмом играл самого юного среди персонажей и самого старомодного из них по взглядам на жизнь. В Лариосике — Яншине были грусть и улыбка театра, далекого от односложных ответов.
Трагикомические краски оттеняли психологическую драму. Трагикомедия вообще выступает то псевдонимом, то оборотной стороной сложного жанра, восходящего к Чехову и больше обязанного русской прозе XIX века, чем формам дочеховского театра. Это объясняет закономерность и силу мхатовских инсценировок, появившихся после смерти Чехова. Тренев, тоже шедший в прозе по стопам Чехова, в драматургии от Чехова уходил: «Пугачевщину» он назвал в ее сценической версии «картинами народной трагедии». Первый булгаковский спектакль МХАТ был спектаклем-романом. Так сложно сочетал он планы жизни и измерения характеров, так глубоко проникал в психологию личности и социальный быт. Развивая чеховскую традицию психологической драмы, театр шел к новому содержанию, к приятию нового как реальной исторической неизбежности. «Мир раскололся пополам, и трещина прошла по сердцу поэта», — писал Гейне. Тема прошла сквозь судьбы героев, пережитые их ровесниками актерами.
Словно отвечая Марголину, Марков писал: «Молодежь МХАТ демонстрировала правду актерской системы МХАТ: спорные “Турбины” бесспорны в актерском отношении»623*.
243 Этого не решались отрицать и ожесточенные противники мхатовского реализма. Блюм, с места обвинивший спектакль в «чеховщине», в том, что театр совершил… «художественный подлог — подмену послеоктябрьской интеллигенции “чеховской”», проделывал затейливые критические вольты, попрекая спектакль его удачами: «Режиссер Судаков своей четкой выдумкой и хорошим темпераментом окончательно сбивает с панталыку зрителя»624*; «чем превосходнее играют их (Елену и Лариосика. — Д. З.) Соколова и Яншин — тем хуже для автора, для театра, для них самих»; немецкий генерал нашел «в лице Станицына изумительного исполнителя — с чисто “Станиславской” хваткой». Но все равно, чем лучше, тем хуже, заключал критик. «Любимцы пьесы, автора, театра, режиссера и актеров — все эти Турбины, Мышлаевские и Шервинские — от превосходной игры Хмелева, Кудрявцева, Вербицкого и др., вдохнувшей в эти фальшивые, надуманные фигуры подобие жизни, моментами до прямой иллюзии, нимало не в выигрыше: стоит сдвинуться занавесу, чтобы в памяти остался наш классовый враг — “золотопогонник” и злобный хищник»625*. Заботами о доказательствах Блюм, как это часто бывало с ним, себя не обременял. Но тут спотыкалась и маломальская логика. Критика бесили сплошные актерские удачи, отмести которые он не мог, бесила правда искусства, которой он противопоставлял лишь заурядную демагогию.
Находились и относительно более логичные ругатели спектакля. Длинно и обстоятельно пробуя доказать, будто мхатовская режиссура зря героизировала то, что у Булгакова смахивало-де на водевиль, налитпостовский критик Эльсберг сталкивал лбами прозу Булгакова и лирику МХАТ. Он писал: «“Белая гвардия” Булгакова — попытка представить большие трагические события в виде фарса. “Дни Турбиных” — неудачная попытка (не с того конца!) трагической обработки материала, пасующая порой перед положенным в ее основу фарсом». Оттого строгая жизнь и гибель Алексея Турбина в спектакле возникали якобы вопреки Булгакову. «У мхатовского Турбина героичны даже перчатки и полушубок! — негодовал критик. — Но ведь Судаков не Мейерхольд! Принципиально и в корне изменить установку пьесы до последнего ее винтика режиссер не сумел. Куда было девать насмешку, иронию, смех Булгакова?»626*
На сцене МХАТ действительно исчезли сны и молитвы, сарказмы и метафоры романа. Но шел на это сам писатель. 244 Фактический сорежиссер Судакова, в меру уступчивый, а где надо было — непреклонный, он авторизовал спектакль. Ведь, как сообщал Судаков, «пьеса в первоначальном виде имела шестнадцать картин»627*, на сцене их осталось только семь. Эта концентрация действия проводилась при участии драматурга-режиссера и без него пройти попросту не могла. О Булгакове как о возможном и желательном режиссере МХАТ немного погодя писал и Станиславский: «Большие надежды возлагаем на Булгакова. Вот из него может выйти режиссер. Он не только литератор, но он и актер. Сужу по тому, как он показывал актерам на репетициях “Турбиных”. Собственно, он поставил их, по крайней мере дал те блестки, которые сверкали и создавали успех спектаклю»628*. Таким образом, оба составных в заголовке статьи Судакова «Режиссер и автор» чуть не равноправно можно было отнести к Булгакову.
Критика в своем большинстве не сразу поняла логику движения МХАТ к современности. Многие увидели в «Днях Турбиных» всего лишь сменовеховский спектакль о хороших белогвардейцах. На диспутах ему ставили в пример «Любовь Яровую», показанную одновременно. Иные ораторы норовили воспользоваться победой Малого театра, чтобы сразить МХАТ. На диспуте в Комакадемии с осторожной оценкой Луначарского спорил, среди других, не принявший спектакль Маяковский629*.
Спектакль МХАТ очутился в центре жаркой полемики о творческом методе советской литературы и театра, о современных качествах реализма в искусстве.
На другом диспуте, организованном «Правдой» в помещении Театра имени Вс. Мейерхольда, выступили Луначарский, Марков, Орлинский, директор Малого театра Владимиров630*. Появление на подмостках диспута М. А. Булгакова и лаконичная речь стали поводом для легенд. Булгаков, по его словам, поднялся на эту площадку, чтобы поближе разглядеть Орлинского, который грубо нападал на МХАТ и звал снять с афиши «Дни Турбиных». Вскоре случилось так, что Орлинский фатально исчез с критической арены, замешанный в злоупотреблениях Теакинопечати631*. Он сгинул в безвестности, сделавшись одним из прообразов булгаковского Латунского. Но его нападки 245 еще несколько лет вербовали подражателей и продолжателей, порой влиятельных.
Как негативное, в общем, явление расценила «Дни Турбиных» печать. «На неверном пути», «Фальшивый вексель гр. Булгакова» — вот заголовки некоторых откликов. Спектакль искренне требовали запретить. «Постановка такой пьесы на советской сцене несвоевременна, неуместна и категорически недопустима», — подчеркивал рецензент газеты «Труд»632*. «Комсомольская правда» опубликовала письмо группы партийно-комсомольских работников (в их числе был видный рапповец В. В. Ермилов), которые сочли долгом «выразить свое возмущение по поводу постановки»633*. Поддерживая их, с запальчивым письмом выступил затем комсомольский поэт А. И. Безыменский634*. Встречались и другие точки зрения. Сталин нашел, что спектакль доказывал неизбежность гибели белой гвардии, и в письме к Билль-Белоцерковскому, одному из недругов «Турбиных», высказался в защиту постановки. Полного умиротворения это не внесло. Противники МХАТ и его спектакля не унимались. Когда в начале следующего сезона печать сообщила, что, после двухмесячного перерыва, «разрешено возобновить пьесу Булгакова “Дни Турбиных”»635*, это вызвало новую волну протестов. В ленинградском журнале Блюм ожесточенно твердил: «Дух творчества уже отлетел от МХАТ»636*.
Ирония судьбы была в том, что оставалось только две недели до премьеры «Бронепоезда» Вс. Иванова, — ею МХАТ отметил десятилетие Октября.
Что же касалось «Дней Турбиных», то к началу 1940 года спектакль прошел 987 раз. Он жил на сцене и дальше, вплоть до Отечественной войны. (Декорации погибли в Минске, где гастролировал МХАТ летом 1941 года).
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Белогвардейские каратели в бронепоезде 14-69 катили по рельсам, накатанным в дни Турбиных. Маршрут продолжался. Звенья укрупнялись, цепь нарастала и крепла. Командир бронепоезда Незеласов, тиская в руках щенка, на свой лад тосковал о тех же кремовых шторах. Прудкин играл его отчаянную усталость и жажду жизни. Капитан Незеласов был 246 молод, любил невесту, боялся своего подвига и упрямо шел до конца, рисуясь, переступая через собственное малодушие, исступленно ненавидя восставший сброд. У него была своя вера. Обреченность выступала независимо от добрых или дурных свойств участника борьбы. Незеласов и его дело погибали, ибо другая сила, другая нравственность сознали себя и властно заявили свои права. Для МХАТ естественно было такое приятие революции — как нравственной правды. Театр оставался верен себе, выходя на новые просторы художественного исследования жизни, духовных борений, народной революционности.
И этот спектакль ставил Судаков (с помощью Литовцевой, которая готовила сцены «Оранжерея» и «Станция»). Судаков сыграл немалую роль в том, что сцена на колокольне, первоначально предложенная театру Вс. Ивановым, разрослась до цельной многоактной пьесы. В статье «От “Сцены на колокольне” к “Бронепоезду 14-69”» писатель об этом подробно рассказал. «Народная сцена “на колокольне” и была тем центром пьесы, поняв который, мхатовцы быстро разобрались и в остальном… — вспоминал он. — “Бронепоезд 14-69” возник как пьеса благодаря МХАТу»637*. Есть у Вс. Иванова статья, где он прямо указал на совершенно деловой характер соавторства Судакова: «И. Судаков получает по “Бронепоезду” половину процента»638*, — то есть режиссер имел некую небольшую долю в обычных авторских отчислениях со сбора. Существует и встречное свидетельство Судакова на этот счет, поясняющее неотложные причины соавторства. «Пьеса уже работалась, — сообщал Судаков, — когда нам понадобилось сделать ряд перемен в целях развития руководящей роли рабочего города в стихийном крестьянском движении. Вс. Иванов в этот момент был в Париже. Работа над пьесой велась в бурных темпах к десятилетию Октября. Автор был поставлен в известность о том, что ему следует переработать последнюю картину, а все остальные переработки мы взяли на себя, не имея возможности ожидать его приезда. Пришлось обложиться сочинениями Вс. Иванова, чтобы, не погрешая против стиля автора, произвести необходимые вставки. Нами была вставлена в “Колокольне” сцена митинга с приездом Знобова и его диалог с Вершининым, переработана роль Незеласова в “Станции”, сделаны добавления в “Башне”. Автор привез переписанную заново последнюю картину и отредактировал то, что было сделано без него»639*.
Руководил постановкой опять Станиславский. Посмотрев прогон, он сказал: «Настолько все верно и хорошо, что не хочется 247 делать те небольшие замечания, какие есть»640*. Притом роль Станиславского на завершающей стадии работы была велика. Он провел одиннадцать репетиций и многое изменил в спектакле. Например, отпало экспрессионистское оформление Л. Т. Чупятова — космический обзор вздыбленной, покореженной земли. Его заменили близкие натуре декорации В. А. Симова. Коренной мхатовский художник Симов дал крепкие фактурные решения сценической среды, прежде всего в ключевой сцене на колокольне. Впрочем, он не был вполне удовлетворен своей работой и признавался: «В итоге декоративная сторона спектакля не создала цельности, не оторвалась от техники прошлого, но местами стремилась разрешить проблему новых веяний»641*.
МХАТ середины 1920-х годов привлекали не стихии, а характеры и судьбы, не железная поступь масс, а психология людей, не экзотика партизанского быта, а быт. Мотивы эпоса, объективирующего личность и снимающего трагизм, он по-разному сочетал с подробным психологизмом собственно драмы, дающей общее через личное.
На берегу хмурого океана, в городе, еще остававшемся у белых, встречались двое. Кряжистый мужик Вершинин и председатель подпольного ревкома Пеклеванов, бледный, очкастый, сутуловатый. Качалов и Хмелев. Один из славных мастеров МХАТ и недавний студиец. «Дед» и «внук». Роли были непривычны для обоих и для их театра. К тому же начала эпоса и психологизма совмещались в ролях различно: с креном к эпосу у Качалова, с преобладающим психологическим анализом в трактовке Хмелева.
Вершинин не думал идти к партизанам, к большевикам, полагал быть в стороне. Весть о гибели детей, о сожженном доме меняла все. Война сама, не спросясь, вошла в жизнь. И вот бородач в длинноухой мохнатой шапке помора и зверобоя, уважаемый по всей округе за достаток, совесть и ум, застыв в тоске, слушал заурядно-будничного на вид горожанина. Слова Пеклеванова, протянутый им револьвер теперь приходились кстати. Вершинин становился партизанским вожаком.
Личная беда служила мотивировкой перемен. Прочно сбитый, с тяжелой поступью и увесистым жестом, с грубоватым окающим говором сибиряка, качаловский Вершинин жил народной болью. Справедливый, понимающий мужик не мстил, а искал правды для всех и вместе со всеми. Он нес в себе волю масс и выражал ее неспешно, в орнаментальном рисунке текста роли.
248 Эпическое и психологическое сближались в сцене на колокольне. Сюда, к штабу Вершинина, стягивались партизанские силы из волостей. Зритель не видел толп: они были внизу, на земле, а сцена вмещала верхний срез колокольни, маковку с крестом и скат кровли, на котором разместились, глядя снизу вверх, с десятка полтора партизан. Художник и режиссура строили композицию сценического пространства так, что диагонали жестов и поз устремлялись к одной центральной точке — к звоннице, где был Вершинин с помощниками. Возникало впечатление высоты и общего порыва к цели, а заодно фиксировались индивидуальные характеры драмы, что имело насущный эстетический смысл в мхатовском спектакле.
Патетику рождала простота.
Так было и в проходившем здесь эпизоде «упропагандирования американца». Пленный канадский солдат озирался среди озадаченных бородачей. К нему подходил Васька Окорок — Баталов, в солдатской фуражке и обмотках, в красной слинявшей рубахе. Зубоскал и задира, единственный грамотей в отряде, присев на корточки, вглядывался в лицо пленного и, озаренный догадкой, говорил по слогам:
— Эй, ты… слухай… Ленин…
— Льенин, Льенин, — кивал пленный.
Буря восторга сопровождала ответ. Партизан будто подменили. Нашлось слово, понятное всем. Диалог продолжался.
— Пролетариат, — тыкал себя пальцем в грудь Васька, и пленный, весь встрепенувшись, подхватывал слово и жест.
«Легким пламенем вьется Васька Окорок в изображении Баталова, — писал Волков. — Все легко в этом партизане: и ритмическое движение рук и ног, и белозубая улыбка, и слово, и при этом какая-то ласковая нежность, когда он шепчет канадскому солдату имя Ленина, звучащее у него как древняя народная легенда»642*.
Тема пролетарского интернационализма, пропущенная сквозь личное отношение участников, вызывала горячий отклик в зале. Горький, смотревший «Бронепоезд» в 1928 году, плакал в этом месте. Кудрявцев, игравший в «Бронепоезде» студента Мишу, потом вспоминал: «Алексей Максимович, сдерживая слезы, глядел на эту сцену, замечательно разыгранную Баталовым. Я видел, — продолжал Кудрявцев, — как задрожали уголки его губ и он заплакал»643*. Почти те же чувства испытывал Луначарский. Называя мхатовский «Бронепоезд» «во многих отношениях триумфальным спектаклем», он считал, что «центральный момент, в особенности “пропагандирование 249 канадца”, сделан с правдивостью совершенно изумительной и трогает вас за сердце…»644*
Итак, «упропагандирование» достигало цели. У партизан сам собой вспыхивал митинг. Васька Окорок заводил частушки про Колчака («Эх, шарабан мой, американка…») и, не в силах сдержать радость, заломив руки за голову, пускался в рискованный пляс на торце колокольни, так что рубаха колыхалась огненным языком набата.
Взгляд Вершинина теплел при виде Васьки, который воплощал пыл и накал борьбы. И с почти иконописным поклоном Вершинин — Качалов снимал шапку, когда детски застенчивый, плавный Син Бин-у — Кедров, в выгоревшем синем ватнике, ложился на рельсы, чтобы своей смертью остановить бронепоезд. Рядом с синим ватником на рельсы опускалась и Васькина красная рубаха. Под прибывающий стук колес китаец отталкивал друга: «Васька, ты шибко нужна».
Командирский окрик Вершинина — и Васька медленно полз с насыпи, подымался в сторонке, не замечая, что утирает слезы рукавом.
Грохот колес опрокидывался на зал. Партизаны припадали к земле. В кромешной тьме грохот обрывался. Тишина. Подвиг свершился.
Действие сцены на насыпи было очищено от натуралистических подробностей. Нарастал ударный лаконизм событий, темнота поглощала то, что дополнялось воображением в зале.
Лаконизм торжествовал в игре Хмелева. Образ большевика впервые пришел на сцену МХАТ. Но как раз тут мхатовские принципы выразительности оказались ближе всего новому содержанию характера. Хмелев решительно ушел от эпической «объективации» образа и не без вызова противопоставил свою трактовку штампу твердокаменного комиссара в кожаной куртке. Позже он писал, что «делал эту роль в те годы, когда большевики на сцене еще не появлялись иначе, как в “кожаной куртке”…». И актер решил снять с образа декламационность: его герой «скромно появлялся на сцене, говорил тихим голосом, он был близорук и казался чудаком, но за его внешней необщительностью скрывались большой ум, сосредоточенность и душевная мягкость»645*.
Все было справедливо, разве что штамп кожаной куртки к временам «Бронепоезда» сложился больше в прозе, а в драме и театре ему еще предстояло примелькаться. Хмелев размышлял об этом задним числом, и отдельные подробности могли в памяти чуть сместиться. Точна Е. И. Полякова, заметившая 250 в этой связи, что такой большевик, которого играл Хмелев, «не был похож не только на железных комиссаров. Он казался неожиданным даже сравнительно с такими образами, решенными в традициях реалистического театра, как Кошкин в “Любови Яровой” или председатель укома из “Шторма”. В тех образах была патетика, была романтика, глубоко органичная для революционных лет… В то же время он был теснейшим образом связан с героями “Шторма”, “Виринеи”, “Разлома” — связан тем, что все они были не символами революции, но людьми революции…»646*
А еще был он связан с мхатовской традицией, с цепью разновеликих звеньев, отражавших исторические пути народной революционности. У Пеклеванова в спектакле была внешность чеховского героя, может быть, повзрослевшего Пети Трофимова. Медлительный и, пожалуй, невзрачный человек, с виду не то телеграфист, не то учитель, стоял вполоборота к собеседнику, близоруко поглядывал из-под очков, но видел его насквозь. Не стараясь нравиться, он убеждал простым дружеским вопросом, интонацией доверия, шуткой, ссылкой на сегодняшнюю необходимость дела. Хмелев признавался Вс. Иванову, что хотел воссоздать отраженно ленинскую работу мысли, ленинскую манеру общения. Тема Ленина, проведенная в сцене с канадцем, образно воплощалась в Хмелеве — Пеклеванове. Не было парадной портретности, какой не избежал МХАТ в иных позднейших спектаклях. Была правда, строгая, без романтических прикрас. Горький выделил Хмелева из всех превосходных участников спектакля и сказал Вс. Иванову: «Россию, уважаемый, можно поздравить с появлением еще одного великого артиста»647*.
Вожака крестьянской вольницы Вершинина монументально сыграл Качалов. Это был характер эпической простоты и спокойной, неостановимой, кряжистой мощи. «Вершинин — туча. Куда ветер, туда и он с дождем. Куда мужики — значит, туда и Вершинин». Эту авторскую оценку, вложенную в уста одного из персонажей, Качалов взял исходной мерой судьбы. Вершинину не хватало знаний по части того, «как делать революцию, как побеждать врага», — тех именно знаний, о каких ему говорил Пеклеванов. Готовясь к захвату бронепоезда, герой горько сомневался в своих способностях: «А вдруг, паря, не теми ключами дверь-то открыть надо?» В тоне Качалова была глубокая человеческая скорбь о людях, которым предстоит погибнуть — и кому-то, может быть, из-за его неопытности. Передавал актер и хозяйскую боль за землю, выжженную, опустошенную, за мост, который Вершинин приказал взорвать 251 и который потом придется отстраивать заново. Герой разговаривал, негромко и сурово, со своей совестью, несшей тяжелое бремя ответственности перед богом и людьми. Но решение, так или иначе, принять приходилось… Голубые глаза сверкали под нависшими мохнатыми бровями, обводя партизан; медленно поворачивалась грузная фигура. В немногословной речи качаловского Вершинина, в скупом повелительном жесте была ровная, непреклонная сила. Теперь он был готов вести за собой и первым показать пример отваги.
Актер углублял духовную жизнь героя. По свидетельству драматурга, именно Качалов подсказал заключительный монолог Вершинина и, кроме того, предложил, чтобы в сцене на колокольне мысль об «упропагандировании» канадца была внушена Окороку Вершининым. «Так у партизанского вождя возрастала сила политического и психологического убеждения»648*.
Двинувшись к новым рубежам от дней Турбиных, в пути набирая скорость, «Бронепоезд» вышел на прочные советские рельсы и вынес за собой МХАТ. Впервые на эту сцену шагнули бойцы революции, впервые здесь был создан образ большевика. «Тем самым постановкой “Бронепоезда”, — писал потом Мокульский, — МХТ вышел из состояния аполитичности и нейтрализма, стал попутчиком революции»649*. Театр привлек к себе новых друзей. Противники «Дней Турбиных» призадумывались, а некоторые раскрывали приветственные объятия. Правда, кое-кому из былых завсегдатаев Художественного театра «Бронепоезд» казался слишком уж решительным актом большевизации. Правда, кое-кто из прежних врагов сдержанно оценивал шаг театра. Например, Качалова в роли Вершинина сравнивали с оперным Иваном Сусаниным, то есть упрекали актера в театральной архаике. А упоминавшийся критик Блюм, склонный к социологическим упрощениям, находил, будто МХАТ, выдвигая в герои «кулака» Вершинина, еще раз подтвердил свою мелкобуржуазную сущность650*.
Многое тут шло от предвзятости, от групповых пристрастий. Но были и критики из числа прежних ругателей МХАТ, которым «Бронепоезд» помог перешагнуть через предубежденность. К их числу принадлежал, например, налитпостовец Эльсберг. В обзоре московских премьер, выпущенных к Октябрьскому десятилетию, он выделил спектакль Художественного театра как наиболее крупное событие: «Шаг, сделанный МХАТом и Всеволодом Ивановым в “Бронепоезде”, является как для 252 театра, так и для писателя очень большим шагом к революции и по пути тесного с ней сотрудничества. Этот успех, имеющий несомненно большое политическое значение, характеризующий настроения подавляющего большинства нашей интеллигенции к десятилетию Октября, нужно всячески приветствовать, а не встречать диким, безобразным улюлюканьем»651*. Рапповские симпатии не помешали критику оценить реальную ценность достигнутого. И если ансамблю «Бронепоезда» порой действительно недоставало стилевой однородности, если Хмелев дал концентрат мхатовского психологизма, а Качалов был эпически монументален, — в том отзывался процесс поисков. Пределы метода МХАТ раздвигались.
Уже «Пугачевщину» и «Дни Турбиных» можно было называть важными звеньями продолжающейся цепи. «Бронепоезд» стал звеном узловым и ведущим. С ним цепь получила высокое напряжение. За «Бронепоездом» в 1928 – 1929 годах последовали новые пьесы попутчиков о советской современности: «Унтиловск» Леонова, «Блокада» Вс. Иванова, комедии Катаева «Растратчики» и «Квадратура круга». Разносторонне отражая действительность, они обновляли реалистический опыт МХАТ и его мастеров.
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО КЛАССИКА
Станиславский стремился обогатить выразительные возможности театра, отвечающие сути образно воссоздаваемой жизни. Он был за то, чтобы расширять, а не ограничивать такие возможности. В первые годы революции Станиславский писал, что «все формы внешней сценической постановки следует приветствовать, раз что они применены с умением и к месту. Жизнь так неисчерпаемо сложна и разнообразна, что никаких приемов и способов сценического творчества не хватит, чтобы исчерпать ее целиком»652*. Поэтому, отвергнув «космический» макет «Бронепоезда» как неуместный, он добивался изобразительного лаконизма сцен на колокольне и у насыпи, взаимодействия эпического и психологического в драме. В этом плане «Бронепоезду» предшествовали крупные эксперименты Станиславского: спектакли «Горячее сердце» (1926) и «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1927).
Комедию Островского под руководством Станиславского ставили Тарханов и Судаков. Щедрая режиссерская выдумка била через край. На сцене разворачивалось сатирическое представление. Восходя к истокам веселого народного игрища, оно не 253 изображало, а гротескно преображало быт. Станиславский чувствовался поминутно. Недаром один рецензент писал: «Афиша сообщает имена режиссеров — М. М. Тарханова и И. Я. Судакова, но брызжущая фантазия в отдельных сценах и законченное мастерство их позволяли угадывать творческое участие в постановке К. С. Станиславского, отмеченного на программах лишь в качестве ответственного руководителя. Не случайно публика разразилась овацией по его адресу»653*. Другой критик замечал еще прямее: «Режиссура, делавшая спектакль под руководством К. С. Станиславского, великолепно почувствовала маски театра Островского»654*. Станиславский, Островский и театр масок? Многим это казалось неожиданным. Тальников в монографии о спектакле МХАТ спорил с Марковым и другими критиками премьеры, которые установили там наличие масок. Дело было, понятно, не в том или другом термине, — не спор о словах решал вопрос. Суть состояла в другом: то, что Марков называл маской, а Тальников — образом, выросло в спектакле МХАТ из коренных основ русского национального игрища. Если это и была маска, то собственно русская. Тальников снимал им же поставленный вопрос, когда писал, что игровые приемы «спектакля Островского в Художественном театре глубочайшим образом коренятся в самых основах народного русского искусства». Ему принадлежит и важное наблюдение о том, что «доведенный до предельной театральной остроты внешний рисунок» у исполнителей гротескно-сатирических ролей вместе с тем дает зрителю «впечатление о внутреннем образе персонажей»655*. Иная заведомая невероятность делалась вдруг психологически вероятной благодаря органике актерского действия в роли. Больше того: видимый алогизм становился логической необходимостью, явная гипербола простодушно реализовалась на сцене. Тем самым сценически осуществлялись и развертывались мысли Станиславского о гротеске. А находки в сфере стиля, поэтики театра исподволь вели к дальнейшим сдвигам в области метода.
Гротеск Станиславского заявлял себя в цельных фигурах спектакля. Дикое, неистовое и тоскливое озорство Хлынова — Москвина, колкая вкрадчивость Градобоева — Тарханова, сонная одурь и тупое чванство звероподобного Курослепова — Грибунина были преувеличены, помножены на самих себя, но во всем оправданы изнутри. Виртуозная техника комедийной игры, легкость обобщений в смене неисчерпаемо изобретательных, парадоксальных мизансцен сами собой рождали хмельные 254 образы-маски хлыновщины, градобоевщины, курослеповщины и, шире, собирательный образ дремучего быта.
Словно глазами пьяного безобразника Хлынова был увиден его несусветный сад. Художник Н. П. Крымов воздвиг ничего не подпирающие колонны, похожие на витые церковные свечи, с прожилками, напоминающими фактуру скорее казанского мыла, чем мрамора; водрузил трон, перед которым ресторанно-вокзальный медведь-чучело держал наготове в лапах поднос с горячительным напитком. А на заднем плане высился густой лиственный лес: могучая красота природы контрастно выдавала натужность хлыновского разгула. Контраст был тем уместней, что пульсацию горячего сердца в спектакле заглушало буйство сатирических выходок. «Режиссура, работавшая по указаниям Станиславского, очень хорошо наметила и раскрыла в спектакле именно театральное звучание пьесы», — отмечал Соболев в другой статье, но добавлял: «К сожалению, тот мир, который Островским противопоставлен курослеповскому и хлыновскому царству, — мир “горячих сердец” показан был в спектакле гораздо слабее. Прежде всего не было Параши, которую играет неопытная Еланская. Романтика пьесы, таким образом, заглушается, хотя эту же романтическую струю моментами верно нащупывает исполнитель роли Гаврилы — Орлов»656*. Параша — Еланская и впрямь терялась в этом море разливанном театральной игры: терялась и рядом с плотоядной, наглой Матреной — Шевченко, истуканом Наркисом — Добронравовым, старым бестолковым хитрецом Силаном — Хмелевым.
Станиславский выказал в «Горячем сердце» живое чувство современности, неистощимую режиссерскую фантазию. Напрасно критика усматривала в том уступку Мейерхольду и измену «системе». Напрасно полагал Загорский, будто спектакль свидетельствовал «о несомненном распаде былого МХТ как единого художественного организма и продолжающемся кризисе прежних принципов игры и режиссуры»657*. Мрачный диагноз не подтвердился. Спектаклю была суждена долгая, славная жизнь. Через три десятка лет после премьеры его смотрел Бертольт Брехт и записывал в дневнике: «С неслыханным удовольствием видел в Художественном театре “Горячее сердце” Островского. Все величие Станиславского становится зримым»658*. Такого рода признания из другого творческого лагеря имеют особую объективную ценность для истории театра.
Но подобная перекличка началась уже в дни выпуска 255 премьеры. Случилось так, что на один день, 22 января 1926 года, пришлось два театральных события: утренняя генеральная репетиция «Горячего сердца» в МХАТ и вечерний общественный просмотр спектакля «Рычи, Китай!» в ГосТИМе. Мейерхольд, утром посетивший МХАТ, скромно просил своих зрителей не сравнивать эту работу «с замечательной постановкой Станиславского». Сообщая об этой просьбе Мейерхольда с некоторой досадой, лефовец Н. Н. Асеев все же и сам под конец признавал: «Конечно, “Горячее сердце” останется выше по своей театральности»659*.
Станиславский был чуток к находкам учеников, и не только в сфере гротеска. Здесь он с этими находками отчасти соприкоснулся, независимо открывая свое, пролагая собственные пути.
Десять лет спустя Мейерхольд, отбиваясь от упреков в формализме, представлял дело так, будто своей постановкой «Леса» он подготовил появление «Горячего сердца» на сцене МХАТ. «Не было бы и превосходнейшего спектакля “Горячее сердце” Константина Сергеевича Станиславского в МХАТ, — говорил Мейерхольд, — если бы до этого не было “Леса”»660*. Тут не было уже той скромности, что на давнем просмотре в ГосТИМе, но и вовсе безосновательным счесть сказанное нельзя. Луначарского радовало, например, что «седовласый Станиславский, великий мастер театра, не побоялся продвинуться к приемам Мейерхольда в “Лесе”»661*, он охотно признал «несомненное мейерхольдовское влияние в великолепной постановке “Горячее сердце” нашего старого мастера Станиславского»662*. Великие умы сходятся, сказал мудрец.
МХАТ в «Горячем сердце» не поднял утверждающей темы Островского так, как это сделал в «Лесе» Мейерхольд, верх взяла сатира, но его негласное, внутреннее состязание со спектаклем ГосТИМа было в целом плодотворно для искусства. МХАТ доказал, что новый подход к классике не обязательно предполагает перемонтаж текста и ревизию характеров. Классическая пьеса может современно звучать на советской сцене и в своей подлинности, с нетронутым текстом, — важно творчески осмыслить текст, увидеть сегодняшний поворот содержания в соответствующей художественной форме. Поиски здесь безграничны. Мысль Станиславского на этот счет приводилась чуть раньше. Воплощенная в «Горячем сердце», она дала результат высокой самостоятельной ценности.
256 Во многом экспериментальный характер имел и спектакль «Женитьба Фигаро». Станиславский отобрал для комедии Бомарше преимущественно молодежь. Одной из задач была отработка и выверка принципов «системы». Отвергая разнарядку актерских амплуа, режиссер требовал от исполнителей, чтобы они умели оправдать изнутри любые поступки и реплики, добивался логики чувств, естественности поведения во всяком художественном конфликте. Конфликт этого спектакля проходил по линии социальных противостояний, и постановщик хотел, чтобы на сцене, оформленной А. Я. Головиным, великолепные графские покои контрастировали с бедной обстановкой подвала башни и т. п. Станиславский настойчиво просил художника дать такие контрасты, чтобы выделить «ту основную разницу, которая нужна для пьесы»663*. С этой целью акты были разбиты на эпизоды, сословные верхи и низы сопоставлялись наглядно.
Отдавая должное «той большой театральной культуре, которая показана в “Фигаро” и автором постановки К. С. Станиславским, и художником А. Я. Головиным, и теми, кто сотрудничал вместе с ними в осуществлении общей формы спектакля», Волков специально останавливался на том, что содержательна вся композиционная структура здания — спектакля. «Станиславский, сохраняя поактное деление, счел нужным произвести внутреннее сечение, обособляя отдельные куски в особые картины. Это более дробное деление текста позволило гораздо шире и полнее показать тот бытовой уклад, который определял бы “замок графа Альмавивы”. Таким образом, замок оказался показанным не только со стороны парадных апартаментов, а и со стороны его черного хода. У Бомарше подобных ремарок нет, и они всецело принадлежат театру. Если замок был показан зрителю в дифференцированном виде, то естественно должна возникнуть мысль и [о] социальной дифференциации его обитателей. Взгляд зрителей легче скользил по ступенькам классовой лестницы и легче противополагал “господам” — замковую демократию»664*.
Тем нагляднее сталкивались персонажи в диалогах-поединках. Напористый, ухмыляющийся плебей Фигаро — Баталов, с серьгой в ухе, его находчивая подруга Сюзанна — Андровская, активные в борьбе за счастье, за свои человеческие права, всем существом противостояли изнеженному и бессердечному красавцу графу Альмавиве — Завадскому.
Как вспоминал Марков, сразу привыкнуть «к такому Фигаро было трудно — так начисто он был лишен, к торжеству Станиславского, знакомых, ожидаемых черт и приемов. Он был 257 и проще и острее. Проще потому, что не носился по сцене, не щелкал пальцами, не изгибался в немыслимо придворных поклонах, а был легок без подчеркнутости, почтителен без унизительности — в его глазах постоянно соединялось простодушие с опасной иронией. Станиславский постоянно обращал сугубое внимание на поставленную им сцену бритья — когда Фигаро — Баталов как бы опасливо и фатовски играл с бритвой перед беспомощным графом»665*.
Интересы Станиславского — режиссера и Станиславского — учителя сцены совпадали в главном, определяя социальное звучание жизнерадостного спектакля. «Женитьба Фигаро», обладая привлекательными чертами студийности, была крупной вехой на пути идейно-творческой жизни МХАТ как театра современного, театра советского.
Экспериментом другого порядка был спектакль «Отелло» (1930). В режиссерском плане Станиславский развернул основы метода физических действий: «Если актер выполнит с помощью слов и действий простейшие физические задачи, но так, что он почувствует в них правду и искренне поверит этой простой физической правде, то он может быть покоен: это создаст хорошую почву для правильного чувства, и он переживет эту задачу постольку, поскольку дано ему сегодня пережить»666*.
Автор спектакля и его режиссер сочетались на этот раз в двух лицах: Станиславский писал план «Отелло» в Ницце и присылал по частям Судакову, ставившему спектакль в театре. Между планом и его сценической реализацией вышел разрыв. Спектакль, обдуманный одним режиссером и поставленный другим, получился умозрительно холодным. Метод физических действий не помог Леонидову и Тарасовой сыграть Отелло и Дездемону, не помог театру воссоздать Шекспира вне живого общения с инициатором постановки.
Премьеру 14 марта 1930 года зал принял сдержанно. М. Ф. Андреева, которая когда-то сама прощалась со сценой в роли Дездемоны, посетила второе представление и наблюдала лишь внешний успех. Она писала Горькому 23 марта: «Видела “Отелло”, играл Леонидов. Один акт он провел изумительно — когда в нем зарождается ревность и он, большой и сильный, но простой и добродушный, бессильно борется против этого чувства, полный любви и нежности к Дездемоне. Но как-то, по правде сказать, староват он для Отелло. Публика была самая, что называется, изысканная. Много хлопали и послали телеграмму Станиславскому»667*. Это был едва ли не единственный сердечный отзыв.
Критика бранила и режиссуру, и художника, и игру Леонидова, обострившаяся болезнь которого (боязнь пространства) 258 помешала ему сберечь при переходе на сцену нажитое в дни репетиций: он играл в глубине, не приближаясь к рампе, держась рукой за предметы обстановки, сбивая рисунок образа, ритм. Не задались декорации и костюмы Головина: их пышноватая узорчатость не отвечала строгому замыслу постановки.
Лишь Синицын в роли Яго и Ливанов — Кассио удостоились похвал. Они и впрямь играли хорошо. Но вдохнуть душу живу в целый спектакль, повлиять решающим образом на его звучание, естественно, не могли. Недоброжелатели театра объясняли успех отдельных актеров тем, что они-де играли «вопреки методу» Станиславского668*. Это было, разумеется, не так. Но факт оставался фактом. Спектакль преследовали несчастья. Серьезно болел Леонидов. 17 апреля, через три недели после премьеры, умер художник А. Я. Головин. Самоубийство В. А. Синицына 28 мая и вовсе оборвало судьбу спектакля: он успел пройти десять раз.
Режиссерский план «Отелло», обстоятельно выстроенный Станиславским, имеет выдающуюся творческую и методическую ценность. В 1945 году он был опубликован в виде объемистой книги669*. Его истолковательские находки, постановочные идеи и режиссерская методика стали предметом серьезных изучений670*. Это полезное теоретическое и практическое пособие по искусству режиссуры служит сценической и учебно-педагогической практике, к нему еще долго будут обращаться ученики. Метод физических действий поныне остается предметом творческих дискуссий и имеет немало приверженцев.
Но эксперимент эксперименту рознь. Это показала история постановки гоголевских «Мертвых душ», инсценированных Булгаковым (1932). Спектакль, первоначально сделанный Сахновским, был снят Станиславским. В более решительной форме повторилось то, что произошло прежде с «Бронепоездом». Теперь Станиславский вообще отверг спектакль, где образы гоголевской поэмы давались как полуфантастические грезы русского путешественника в Италии, проступали гротескным наваждением из прекрасного далека. Композиционный прием снов был дорог Булгакову: в первоначальной версии «Дней Турбиных» имелась сцена сна Алексея, опущенная театром; пьеса «Бег» снабжена подзаголовком «восемь снов» и т. д. Этот прием инсценировки подхватили Сахновский и художник В. В. Дмитриев: в обрамлявший эстетизированный итальянский 259 план действия наплывал из дымки гротескно-сатирический план российских эпизодов.
Станиславский поставил «Мертвые души» заново. Он отменил итальянский план, вернул спектаклю бытовую среду, локальный колорит. Тема гофманского в Гоголе ушла, взамен появился Гоголь — быто- и нравоописатель. Художником спектакля стал Симов, взявший за образцы известные иллюстрации Боклевского. Сатира возникала теперь не в режиссерских метафорах, а изнутри актерских характеристик. Способ типизации изменился. Станиславский сознательно делал уступку иллюстративности, чтобы выдвинуть на первый план гоголевские типы и их истолкователей-актеров. Возросла действенная задача Чичикова — Топоркова: под светской обходительностью таилось социальное зло, и было оно всепроникающим. Похождения такого Чичикова, субъекта действия, сюжетно мотивировали главное в спектакле — сценический обзор объектов воздействия, соучастников зла.
Спектакль Станиславского был полемичен. У зрителей напрашивались сравнения с мейерхольдовским «Ревизором», где фантастический гротеск Гоголя, мотивы русской гофманианы оттачивали социальную остроту режиссерского анализа. В полемике неизбежны издержки — и Станиславский впадал в другую крайность. Сочная обстоятельность мхатовских «Мертвых душ» отдавала хрестоматийностью, иначе говоря, художественный анализ замыкался в пределах изображенной действительности, не соотносясь с современными жизненными вопросами.
«Это — театрализованные бытовые и психологические иллюстрации к Гоголю», — писал критик П. И. Новицкий671*, и он не был одинок в своей оценке. Станиславский и сам признавался актерам:
«Я выпускаю спектакль, хотя он еще не готов… Это еще не “Мертвые души”, не Гоголь, но я вижу в том, что вы делаете, живые ростки будущего гоголевского спектакля. Идите этим путем, и вы обретете Гоголя»672*. Станиславский убежденно отстаивал путь реалистического анализа характеров, эпохи, быта эпохи и лишь на этом пути видел возможность прийти к подлинному Гоголю, охватить многообразие гоголевского стиля.
В намеренном самоограничении сказывалась принципиальность художника.
Круг его задач был достаточно широк для того, чтобы едва покончить с ними за два года методичной репетиционной работы у себя дома, в Леонтьевском переулке, и на сцене театра. 260 Ко дню премьеры от первоначального замысла инсценировки не осталось следа.
Спектакль имел свои неоспоримые достоинства по законам, им над собою признанным. В нем была череда блестящих актерских удач: Москвин — Ноздрев, Тарханов — Собакевич, Леонидов — Плюшкин, Зуева — Коробочка, Кедров — Манилов, Станицын — губернатор, Топорков — Чичиков. Достигнутое большими мастерами обладало прочностью и дало спектаклю долговечность. Однако ностальгическая тема Гоголя, видящего Россию «из прекрасного далека», связанное с этим жанровое определение поэма из спектакля ушли. Могло показаться странным: Булгаков, Дмитриев и Сахновский, оставаясь в Москве, искали и нашли театральный поворот к поэме, а Станиславский, только что возвратившийся из Италии, твердой рукой найденное сломал. «Казалось бы, — тонко заметила М. Н. Строева, — прожив два года за границей, художник вполне мог понять и принять тот взгляд “из прекрасного далека”, какой предложил Сахновский»673*. Но речь шла о большем, чем решение спектакля, — о взглядах на метод, об убеждениях реалиста.
К МУЖЕСТВЕННОЙ ПРОСТОТЕ
Выдающимися достижениями МХАТ стали работы Немировича-Данченко на материале русской классической прозы: «Дядюшкин сон» по Достоевскому (1929) и «Воскресение» по Толстому (1930). Традиция дореволюционных мхатовских инсценировок возрождалась на уровне нового творческого мировоззрения. Это были спектакли современно осознанного реализма. Они во многом определяли тогдашнее лицо МХАТ — «театра мужественной простоты», как его определял чуть позже, в 1938 году, Немирович-Данченко.
Им предшествовала не до конца задавшаяся встреча с пьесой советского автора, ставшего уже своим для МХАТ. Осенью 1928 года Судаков начал репетировать «Блокаду» Вс. Иванова — о кронштадтском мятеже 1921 года. Немирович-Данченко деятельно включился в постановочную работу. Полгода спустя, перед премьерой, Вс. Иванов благодарил театр за «внимательное, редкое отношение к автору». Называя себя «драматургом плохим и неуверенным», он признавался, что «только огромные актерские и режиссерские силы Художественного театра способны разъяснить и донести до зрителя те тощие образы, которые называются моими пьесами»674*. Большой 261 писатель скромничал, но пьеса в самом деле была трудна для постановки, и не все трудности оказывались разрешимы.
Из того, что говорил Немирович-Данченко после премьеры, выяснялся характер задач: его сотрудничество с Судаковым в «Блокаде» многим отличалось от работы Станиславского с Судаковым над «Бронепоездом» того же Вс. Иванова, а еще больше — от работы с Сахновским в «Мертвых душах». Немирович-Данченко как раз преодолевал бытовизм Судакова и искал революционной символики. На диспуте о «Блокаде» он сожалел, что «театру бросали упреки именно за то, чего он добивался, — за широкое романтическое обобщение темы, за отход от натурализма»675*. Согласно другому отчету, Немирович-Данченко говорил без обиняков, что кое в чем не сошелся с Судаковым: «Мой товарищ по режиссуре Судаков хотел сделать “Блокаду” бытовой пьесой. Я отвел эту попытку, стремясь в своей трактовке дать настоящий реализм, большое обобщение, вырастающее в символ».
Немирович-Данченко добавлял: «Мы поставили своей задачей утончить мастерство революционного спектакля»676*.
Намерение «утончить» революционный спектакль предполагало уход и от сценического натурализма, и от прямоты агитационного воздействия. Не все задуманное осуществилось. Театр продвигался к новому на преодолении настоящих, трудных задач. В поисках строгой простоты он обнаруживал непоказное мужество.
Особые претензии вызывал Качалов в роли «железного комиссара» Артема Аладьина: «железо» показалось кому-то слишком мягким. Недоумевал Туркельтауб: «“Железный комиссар” Артем какой-то толстовец»677*. Ему разъяснял Загорский: «Качалов, видимо, ясно понимает, что не всякий “железный комиссар” на сцене должен непременно греметь, и спасает роль уходом в скупость, сосредоточенность, но вся сценическая ситуация такова, что железо все же гремит и подвигами, и смертью, и страстью к женщине»678*. Да, не все трудности были устранимы, не все вопросы разрешались однозначно.
Но спектакль для МХАТ ошибкой не был, он отразил напряженный ход самого театра через мост — к новым качествам реализма. Образ моста, соединявшего берега (художник И. М. Рабинович), стал высшей точкой спектакля. Упрекнуть этот образ в театральщине было нельзя. Любопытными словами 262 заключал один критик статью, где сравнил две одновременно появившиеся премьеры: «Блокаду» Художественного театра и «Огненный мост» Малого театра. Критик резюмировал: «“Огненный мост” — угасающий день советского театра. “Блокада” — его ближайшее будущее»679*. Недавно, когда сравнивали «Любовь Яровую» и «Дни Турбиных», чаша весов склонялась не в пользу МХАТ. Но дело заключалось не в предпочтении, тем более не в реванше: выкладки палаты мер и весов не бесспорны, когда на чаше кровь и плоть живого искусства. Живой вес тут устанавливается иначе. Важнее было другое: символы огня («Огненный мост») и железа («Блокада»), столь распространенные на заре советского театра, получили теперь у «аков» почти противоположное эстетическое содержание. «Блокада» была спектаклем обещающих поэтических тенденций. Ради них стоило пробиваться к сложности и глубине образов Вс. Иванова. Когда подобные качества в пьесе имеются, задача театра не в том, чтобы вычерпать их до дна: достаточно сполна взять свое, выбрать важное тебе и твоему залу сегодня…
Театр взял свое не сполна. Но не только тенденциями был привлекателен его спектакль. Встречались там образные осуществления немалой подчас ценности и новизны. Серьезные работы показали, вслед за дискуссионным Качаловым, другие актеры. Грибунин в лучших мхатовских заветах играл отца Артема: Осип Мироныч мягко балагурил за чайком и тревожно задумывался «по-достоевскому», когда уходили «на лед», один за одним, сын и оба внука. Старшего, Лукьяна, играл Ливанов. Но особо и единодушно писали об успехе Кудрявцева в роли младшего, Дениски. Он жил на сцене с «тончайшим проникновением в сферу сценической простоты и правдивости», — находил Загорский. «Этот тихий парень сделан из той душевной стали, которая куда надежнее всякого гремящего железа». По отзыву Туркельтауба, Кудрявцев играл «подкупающе, с истинно художественным тактом». Критик отмечал и то, что «в массовых сценах привлекают своим внешним видом курсанты, — они живые». Бьющим через край темпераментом выделялся среди кронштадтских «братишек» разбитной анархист-спекулянт Рубцов. Играл его Баталов. Театр постигал правду вчерашних героических будней, правду, ничуть не излишнюю для дней текущих.
В дни выпуска «Блокады» Немирович-Данченко не меньше своих критиков размышлял о связях новой работы с коренными устоями МХАТ, в том числе и с чеховскими, и с Достоевскими, и с ибсеновскими традициями репертуара. Накануне премьеры он разъяснял, что глубокие внутренние сдвиги обновили опыт театра. «Максимализм эпохи должен проникать 263 на сцену в положительных утверждениях», — считал он. Опираясь «на лучшие традиции и приемы Художественного театра, очищенные от натурализма и доведенные до четкой и строгой простоты»680*, Немирович-Данченко ставил на этой прочной основе и свои следующие спектакли. В них тоже велись поиски правды и простоты. В них высвобождалась внутренняя энергия драматизма русской психологической прозы.
Через полгода после премьеры «Дядюшкина сна» в доверительном письме-отчете Станиславскому Немирович-Данченко признавался: «Несмотря на то, что я так сильно упирался, в “Дядюшкин сон” меня втянули. Я потратил на это очень много сил и времени, невероятно много. Но в конце концов спектакль получился недурной»681*. Немирович-Данченко вступил в работу уже на сравнительно позднем этапе движения, когда многое там нашли В. Г. Сахновский и К. И. Котлубай, но многое и не ладилось. Готовили «Дядюшкин сон» для репертуара малой сцены МХАТ и особых надежд на него не возлагали. В дни репетиций Книппер-Чехова писала Лилиной: «Владимир Иванович меняет все мизансцены, и уже от этого одного пьеса становится на рельсы»682*. В самом деле, протокол репетиций фиксировал 25 ноября, за неделю до премьеры, что «В. И. Немирович-Данченко и К. И. Котлубай по обоюдному согласию и по добровольному желанию проработали детально всю пьесу»683*. Пьеса, то есть инсценировка, принадлежала Лужскому, который сначала и приступил к постановке, и репетировал роль князя К. Но Лужский заболел. После того как его сменил за режиссерским столом Сахновский и особенно с приходом Немировича-Данченко, инсценировка изменилась в такой степени, что афиша вышла без имени Лужского.
Успех спектакля больше всех поразил его участников. Нешумный этот успех нарастал, а вместе с тем крепли, углублялись образы, сначала очерченные не совсем уверенно даже у Книппер-Чеховой — Москалевой, даже у князя К. — Хмелева. Скоро спектакль стали перебрасывать с малой сцены на большую: его значение в борьбе за метод, его крупная художественная ценность вырисовывались все определеннее.
Спектакль передавал прихотливые интонации невероятного сна, нес парадоксальные находки в исследовании человека. Анекдотическая ситуация проступала сначала в красках легкого водевиля, оборачиваясь затем сатирой и трагическим гротеском. Психологический анализ был тонок и беспощаден. Нравы мордасовского захолустья, борьба вожделений, вздорных 264 самолюбий и корыстных расчетов воплощалась в характеристиках, сатирических по образному итогу.
Глава мордасовских дам Москалева — Книппер-Чехова победительно и упоенно плела сеть интриги, опутывая князя К. Молодящийся фатоватый князь — Хмелев подносил лорнет к тусклым глазам жестом заводной куклы, механически сгибал ноги в коленях. Словно собранный из распавшихся частей, он был жалок и по первому впечатлению смешон. Он становился трагически жалок, когда попадался в силки сватовства и принимал случившееся за сон. К финалу гротеск окрашивался жутью. Шла фантасмагория пробуждения. Живое чувство слабо вспыхивало в рамолическом старце, бросая неожиданный свет на образ. Хмелевский князь оказывался много человечней его гонительниц.
Сам актер полагал, что герой Достоевского — «не человек, а футляр человека. И тема его образа — механизация человека, моральное умирание, доведенное до предела, умирание, при котором выпотрошены и внутренняя сущность и душа человека». В соответствии с таким взглядом на задачу возникали пластика, внутренний ритм. «Я нашел ощущение человека, поступающего интуитивно и слепо, составленного из несогласованных частей тела, рук, ног, действующих отдельно и независимо друг от друга»684*. Так строился образ, результат же обладал глубиной драматических, психологических оттенков. В футляре обитал все-таки человек — в этом была главная сила образного решения. Описывая актера в роли, Малюгин заметил: «Странная вещь — эта “полукомпозиция, а не человек” очень редко вызывает у зрителей смех. Человек, утративший чувство возраста, был не смешным, а жалким, временами даже трогательным»685*.
Немирович-Данченко в упомянутом письме к Станиславскому называл и другие удачные, на его взгляд, актерские работы. Отсутствие Лилиной, которая до отъезда начала репетировать Карпухину (она получила роль в уже готовом спектакле, когда возвратилась со Станиславским из-за границы), заставило искать подходящую замену: «Только за неделю, перепробовав нескольких, наткнулся на недурную — Кнебель», — сообщал Немирович-Данченко. Большой потерей для МХАТ, для этого спектакля в частности, был безвременный уход из жизни Синицына: «… великолепный получился…» — писал о его Мозглякове руководитель постановки. О том же писала Станиславскому и Книппер-Чехова: «Очень приятен и хорошо играет Синицын. Он мог бы быть хорошим Хлестаковым… У Кнебель отличный темперамент, острота, и, подумайте, она 265 ведь с двух репетиций пошла. Все дорабатывает теперь. Прямо молодчина. В III акте почти всегда уходит с аплодисментами. Воображаю, что бы Мария Петровна натворила тут»686*. Но Станиславский, посмотрев спектакль по приезде, нашел, что «натворила тут» как раз Кнебель. «Уезжая из театра, Станиславский сказал: “Кнебель с роли снять”»687*. И только по прошествии времени, после внезапной импровизационной репетиции с глазу на глаз и беседы о сокровенной правде гротеска Станиславский возвратил актрисе ее роль. Об этом, о спектакле, о своих режиссерах и партнерах М. И. Кнебель бесподобно рассказала в книге театральных воспоминаний688*. И более всех живыми выступили со страниц книги образы учителей — Немировича-Данченко и Станиславского.
Правду и простоту, найденные в «Дядюшкином сне», Немирович-Данченко искал и в работе над «Воскресением». Инсценировки Достоевского и Толстого репетировались параллельно. Книппер-Чехова упоминала в цитированном письме к Лилиной о том, что «Владимир Иванович прекрасно занимается “Сном”, но одновременно ведет и репетиции “Воскресения”… Две премьеры почти сталкиваются». За декабрьским выпуском «Дядюшкина сна» последовала январская премьера «Воскресения».
Крупный план показа характеров и среды, сила критического анализа общественных неустройств, глубина философских раздумий не противоречили понятиям правды и простоты в мхатовской трактовке «Воскресения». На первый план вышло лицо от автора. Горький, прочитав текст инсценировки, усомнился в надобности чтеца, опасаясь за цельность действия. Немирович-Данченко, Судаков и молодой И. М. Раевский, ставившие спектакль, а с ними Качалов — исполнитель сделали многое, чтобы такие опасения отпали.
Качалов, актер интеллектуального обаяния, появлялся в свободной куртке, с карандашом в руке то перед занавесом, то среди персонажей спектакля-романа. Он нес в зал описательные куски текста, скрепляя звенья событий, пояснял эти события в манере интимной импровизации, беседуя с залом, задумываясь вместе со зрителями над сложностью происходящего, сочувствуя и любуясь, негодуя и скорбно иронизируя, а иногда лукаво предвидя исход. Прямой полемики с Толстым не было, но из романа отбиралось важное для современного отношения театра к давним и вечным вопросам нравственности, духовного совершенствования личности, к критике казенного бездушия. В этом смысле Качалов играл скорее лицо от авторов спектакля, чем от автора романа, и, по 266 творческой сути, выступал самым современным исполнителем на сцене.
Наиболее сильной в спектакле была первая половина, где преобладали мотивы социальной критики: сцены суда и тюрьмы. Во второй части порой мелькали иллюстративные эпизоды (выразительно и отнюдь не иллюстративно оформленные В. В. Дмитриевым). Начала критические были театру важнее, в том сказалось новое качество его подхода к Толстому сравнительно с предреволюционным спектаклем «Живой труп». Тема духовного воскресения Нехлюдова, которого весьма пассивно играл Ершов, отошла на задний план и проходила главным образом в раздумчиво ироничных комментариях Качалова. В противовес вырастала тема воскресения Катюши Масловой: Еланская давала угловатую смену психологических состояний, характерно окрашенных, с резкими взрывами, с минутами душевной просветленности, с нескончаемой внутренней борьбой.
Спектакль, как и «Дядюшкин сон», получил своего рода авторецензию постановщика в упоминавшемся письме к Станиславскому. Немирович-Данченко сообщал: «“Воскресение”, как Вы, вероятно, знаете, было событием. Это — из лучших спектаклей действительного Художественного театра. Тут слились и обаяние Толстого, и обаяние Качалова, и лучшие приемы старого Художественного театра, и очень много настоящих актерских блесток. В постановке только три больших роли, но потом около полусотни толстовских образов. Все они сделаны старательно, а больше половины и талантливо. Блестящая Катюша — Еланская, и по данным, отвечающим образу, и по яркости и силе. Но, разумеется, все покрывал Качалов. Давным-давно он не был так великолепен»689*.
Как все тогдашние премьеры МХАТ, спектакль вызвал дискуссии. Его структура озадачила, например, Луначарского, вообще приветствовавшего здесь многие новаторские находки. По его словам, Качалов удачно «придал своему комментарию характер интимности и импровизации. Это — человек, который очень мягко и непринужденно, без нажима, без педалей беседует с публикой, зрительным залом о том, что происходит на сцене, в то же время, однако, постоянно давая понять, что эти происходящие там события крайне для нас важны, включая сюда и его самого». Притом Луначарского смущали моменты, когда Качалов отступал с авансцены в глубину и оказывался среди персонажей действия, заставляя их мимически пояснять произносимый им описательный текст Толстого. «Бедный артист Ершов вынужден в течение десяти минут пантомимой выражать свои чувства и сопровождать жестами и конвульсиями воспоминания, которые мастерски передает Качалов. Особого 267 богатства выразительности при этом никак нельзя найти. Ершов то сядет, то встанет, то та, то другая судорога пробежит по его рукам и т. д. Для чего это?»690* Впрочем, «бедный артист» не заслуживал особого сочувствия. Он играл скверно. Он попросту при сем присутствовал, иллюстрируя поступки Нехлюдова, но не проникая в духовную драму героя. Тем самым играющий актер настолько же отдалялся от Толстого, насколько приближался к Толстому читающий Качалов. Качалов доигрывал за Ершова.
М. И. Кнебель верно сопоставила двух чтецов Художественного театра — из «Братьев Карамазовых» (1911) и из «Воскресения»: «Чтец в “Карамазовых” — начало нейтральное: он лишь пассивно иллюстрирует действие, объединяет разрозненные эпизоды спектакля; его роль начинается, когда падает занавес, и с открытием занавеса она кончается. Соответственно с этим и место он занимает в углу авансцены, за кафедрой, где в темноте загорается лампочка и шуршат перелистываемые страницы романа. Лицо “от автора” в великолепной передаче Качалова — начало активное, страстно заинтересованное в ходе совершающихся событий. Он — совесть спектакля, его философия, его душа; он — связующее звено между сценой и зрительным залом, через него с наибольшей силой выражено отношение театра к образам и идеям Толстого»691*.
Опыт «Воскресения», включая и его структурные новшества, отозвался на дальнейших судьбах сценического романа, помог советскому театру постигать классику «свежими и нынешними очами», подсказывая и пути инсценировки современной прозы.
Мужественная простота добывалась в сложных художественных поисках. Завоеванная правда выражалась активно. Активная позиция теперешнего театра заявляла о себе и в остроте критического отрицания, остроте истинно современной и притом неопровержимо толстовской, и в силе утверждающей темы, проведенной прежде всего в лице от автора.
МХАТ СОЮЗА ССР
В классике МХАТ чувствовал себя увереннее всего. Он постигал ее современные оттенки тоньше и глубже многих театров исканий. Даже противники тушевались подчас перед лицом очевидных достижений этого театра. И все-таки в конце 1920-х годов, в дни репетиций «Дядюшкина сна» и «Воскресения», театру жилось нелегко. Обвинители «слева» доходили до крайностей. На Художественный театр все еще «покушались»: 268 к нему присматривались, его обследовали, хотели его «разъяснить» в булгаковском смысле слова — например, освободить от Немировича-Данченко со Станиславским.
В глазах комиссии, созданной Главискусством, Станиславский и Немирович-Данченко выглядели подозрительно и фигурировали в выводах как «бывшие владельцы театра». Обследователи приходили к выводу, что организационные неполадки упираются «в руководство государственным театром бывшими владельцами, которые крепко держатся за старые традиции и ни в какой мере не могут согласиться с коренными изменениями в руководстве государственным предприятием»692*.
17 февраля 1930 года критик П. И. Новицкий выступил в подсекции театроведения Комакадемии с вульгарно-социологическим докладом «Система и творческий метод МХТ». Установки докладчика отразились в соответствующем разделе его книги о театральных концепциях современности, вышедшей несколько лет спустя. Называя систему МХАТ «системой субъективно-психологического театра», Новицкий соглашался признать «величайшую художественную добросовестность и творческую дисциплину» деятелей МХАТ, господствующий там «принцип полноценной глубокой психологической характеристики образа», даже «методику работы над образом» и высокую «технику актерской игры». Но это ничего не решало в глазах докладчика. Несмотря на все качества, Новицкий заключал: «Но мы должны решительно отвергнуть душу системы субъективно-психологического театра — ее идеалистическую и мистическую сущность»693*. Доклад прозвучал широко, он обсуждался несколько недель. П. А. Марков дважды выступал в прениях, определяя истинную позицию МХАТ. Отводя ортодоксальные с виду, а по существу пустозвонные упреки, он справедливо указывал на то, что Новицкий «пытался определить творческий метод МХАТ вне того постоянно движущегося состояния, в котором находится театр. Стремление закрепить основы метода, произвольно выбирая черты из различных эпох жизни МХАТ, и тем доказать его чуждость современности привело к большим противоречиям в докладе и неверной оценке этого творческого метода»694*. Так происходило тогда и во многих других случаях.
Не успела утихнуть полемика после доклада Новицкого, как с теми же избитыми упреками выступил драматург А. Г. Глебов, один из руководителей группы «Пролетарский театр», отколовшейся от РАПП в 1928 году. Глебов осуждал и налитпостовскую головку РАПП за попустительство Художественному театру. В конце пространной статьи он заявлял: «Вопрос “кто кого?” (мы — идеалистический МХТ или идеалистический 269 МХТ нас!) стоит перед пролетарским театром во весь рост»695*. От имени театра Марков опять резко протестовал против приемов полемики, допущенных Глебовым, который в очередной раз «с удивительной легкостью, жонглируя хронологией и переводя прошлое в настоящее, обращает уже преодоленные и отброшенные МХАТ этапы в сознательные стремления театра на текущем отрезке времени»696*. А риторический вопрос, заданный Глебовым, решился в пользу советского театра, в пользу МХАТ, в пользу многообразия социалистического реализма и единственно не в пользу догматиков и демагогов.
Одну из пьес налитпостовца Киршона, «Хлеб», МХАТ принял к постановке. Режиссировал Судаков, ему ассистировал Кедров. «Я бы ее совсем не ставил. Это будет недурно, но не более», — повторял Немирович-Данченко любимое старомодное словечко в письме Станиславскому 18 июня 1930 года697*.
Немирович-Данченко рассудил по совести. Пьеса Киршона касалась жгучей темы дня — хлебозаготовок в только что коллективизированной деревне, но не блистала ни особой правдивостью в показе драматической ломки и переустройств, ни особой художественностью. Многое там было заявлено тезисно, декларативно.
Тем трудней пришлось Судакову и другим изрядно повзрослевшим «внукам» Художественного театра, творческими усилиями которых выстраивалась подлинность жизни в спектакле. Это они — Судаков, Тарасова, Бендина, Добронравов, Кедров, Хмелев — брали на себя ответственность за весьма решительный шаг своего театра. И они извлекали из пьесы Киршона все возможные ресурсы сценического реализма. Много лет спустя, когда Судакову самому было уже семьдесят пять лет, Марков напоминал, как много значил Судаков для Художественного театра 1920-х годов. Марков вспоминал о «Днях Турбиных»: «Творческим организатором всей постановки и фактическим ее создателем был Судаков, работу которого лишь в отдельных сценах корректировал Станиславский, первоначально скептически относившийся к пьесе, но затем увлеченный дарованием автора». Вспоминал о «Бронепоезде»: «Станиславский являлся художественным руководителем обоих спектаклей, он внутренне направлял спектакль, давал ряд драгоценных советов, он был инициатором замены художника Чупятова художником Симовым, но это только подчеркивало самостоятельную роль Судакова и его сорежиссера Литовцевой в создании этого эпохального спектакля». Вспоминал Марков о Судакове и как о прямом соавторе Вс. Иванова. Критик писал, что «постановки 270 “Страха” и “Хлеба” неразрывно связаны с именем Судакова, который с любовью и большой ответственностью перед театром выводил на сцену образ современника и наполнял спектакль политической страстностью»698*. Судаков действовал не в одиночку: рядом были друзья по Второй студии. Они вдохнули жизнь в образы Киршона.
Особенно много дал спектаклю Добронравов, игравший большевика Михайлова. Луначарский писал, что материал роли оказался «не только в руках артиста-мастера (Добронравов), но еще и артиста, обладающего сценическим обаянием, родственным этому типу своей огромной внешней простотой, при огромном внутреннем переживании… У Михайлова фасад — красноармейская шинель, а внутри — гигантский мир мыслей, энергии, социальной ценности»699*. Удачу актера признали все писавшие о спектакле. Живые, переливчатые, спелые краски нашла в крестьянке Зотовой поразившая всех Бендина. Крупным обобщением был образ врага, Квасова, созданный Кедровым. В некоторых случаях трудности преодолевались не до конца. С ролями красноречивого оппортуниста Раевского и «мелкобуржуазно» влюбившейся в него Ольги, жены Михайлова, лишь отчасти управились, при всем мастерстве и таланте, Хмелев и Тарасова. Но решающей была удача Добронравова. Убеждали зал и находчиво поставленные массовые сцены, и суровое, лаконичное оформление Н. А. Шифрина.
Художник потом вспоминал, что «сцена представляла собой как бы чашу, внутри которой по мере надобности возникала либо деревенская площадь, либо горница избы, либо ее внешняя сторона», и добавлял: «… элементы конструктивизма были здесь минимальными»700*. Вообще же к конструктивизму, к театральной левизне Шифрин, по его словам, тогда тяготел и порой сходился с Судаковым. Это не помешало Вишневскому через год после премьеры привычно ругнуть «бутафорскую мертвечину МХАТ»701*, в частности ту сцену «Хлеба», где изображалась ночная деревня.
Тематический сдвиг на мхатовской афише бурно обрадовал единомышленников Киршона. Ликовали они, впрочем, не столько из-за победы театра, в той или иной степени реальной, сколько из-за победы над ним. Самый факт «проникновения» сходил за событие особого исторического смысла.
Они и раньше усматривали в этом театре, при всех его идеалистических, мистических и прочих грехах, весьма желательный 271 репертуарный плацдарм. Проводились аналогии между психологическим реализмом театра и «диалектическим методом» налитпостовцев, между законом внутреннего оправдания Станиславского и концепцией Ермилова о «живом человеке». Далекие и от налитпостовцев, и от мхатовцев деятели театра тоже подчас сближали и тех и других. Например, идеолог трамовского движения А. И. Пиотровский иронически предлагал «рассматривать метод МХАТа как театральную конкретизацию творческого метода “налитпостовства”, метода так называемого “психологического реализма”»702*.
Что же говорить о самих налитпостовцах с их нескрываемыми видами на МХАТ… Они рассчитывали приблизить этот театр к себе, возвысить до себя и облагодетельствовать, завладев им безраздельно. И до и после премьеры «Хлеба» они соблюдали дистанцию и указывали театру на его место. С достоинством констатировал Ермилов: «Постановка пьесы Киршона обязывает: Художественный театр уже не может оставаться на нейтралистских позициях, работая с одинаковым интересом над контрреволюционными “Днями Турбиных” и революционным “Хлебом”».
Что же подразумевал Ермилов под мхатовским объективизмом? «Вспомним хотя бы такой спектакль МХАТа, как “Горячее сердце”, — продолжал критик, — спектакль, являющийся разгулом натурализма и объективизма, спектакль, в котором “общечеловеческая” трактовка юмора приводит к тому, что все герои одинаково любовно осмеяны и “внутренне оправданы”, — все тонет в стихии беззлобного, ласково-спокойного юмора. Юмор в “Горячем сердце” играет ту же “всепрощенческую”, “общечеловеческую” роль, какую в “Днях Турбиных” играла дешевая и пошленькая мелодраматическая лирика Булгакова. Постановка “Хлеба” показывает внутреннюю способность театра к подлинной перестройке…»703* и т. д., и т. д.
Итак, «Хлеб» представал панацеей от всех бедствий. Ермилов соглашался считать МХАТ своим союзником — но при условии, что театр откажется от прежнего репертуара, от накопленного опыта, от метода, должно быть, отвергнет и Станиславского с Немировичем-Данченко — как а) субъективных идеалистов и б) бывших владельцев. Все возвращалось на круги своя. Между обследователями из Главискусства, вульгарным социологом Новицким, схематиком Глебовым и доброжелателями из РАПП оказывалось не так уж много разницы. Театру жилось и работалось трудно.
Критики не переставали трубить, что МХАТ прозревает, озаренный светом рапповских истин. Путь «к овладению “наследством” 272 МХТ только один, — писал Крути, — это гегемония на его сцене пролетарского драматурга»704*.
Театру все время старались внушить, что он получил, больше, чем дал, и, следовательно, остается в долгу. Он с этим, понятно, не мог согласиться, потому что такого и не было. Тогда был предпринят еще более прямой тактический ход: внушалась мысль, что МХАТ лишь покорно и робко проиллюстрировал на сцене новаторскую пьесу, а собственных открытий не сделал. И. М. Нусинов завершал длинную статью таким выводом: «Киршон дал новое в художественном росте пролетарской драматургии. МХТ дал очень четко и грамотно сделанную театральную иллюстрацию пьесы, но ничего принципиально нового в художественных приемах МХТа эта пьеса не раскрыла»705*. Апология Киршона велась безудержная. Но в том, что относилось к театру, критик, пожалуй, был ближе к истине, чем ему самому казалось. МХАТ упорно овладевал новым, текущим материалом окружающей жизни. Пройденный путь в достаточной мере подготовил его к тому. Но было бы странно, если бы он при этом почему-нибудь перестал быть самим собой. На дискуссии о «Хлебе» в Комакадемии Афиногенов вынужден был признать, что «пьеса, усвоенная театром в основном правильно политически, не пропущена сквозь мироощущение актеров, сквозь творческие их приемы, оставшиеся, конечно, такими, какими они были прежде»706*.
То, что в глазах налитпостовца сходило за слабость и порок, на самом деле, как показало ближайшее будущее, говорило о духовном здоровье, о прочности навыков, о самобытности и силе. Рапповцы, спору нет, подталкивали МХАТ поближе к общественно-политической тематике дня, но не успели поработить его своими взглядами на искусство.
Сходные претензии высказал Афиногенов и после премьеры его собственной пьесы «Страх». Репортерский отчет передавал слова драматурга, произнесенные публично: «Наша жизнь, жизнь величайшей напряженности, на сцене МХТ все-таки недостаточно горяча. Еще Немирович-Данченко во время первых репетиций “Страха” говорил участникам спектакля: “Бойтесь философии за чашкой чая. Помните, что рояль, на котором играет Герман [Кастальский], стоит не в гостиной, а в окопах”»707*. Афиногенов, как видно, сожалел, что метафора Немировича-Данченко 273 была реализована на сцене не до конца, не буквально.
Очень скоро Афиногенову пришлось пожалеть о многих речах и докладах подобного сорта, о книге «Творческий метод театра» (1931), вообще покончить с прямолинейным подходом к художественным явлениям. Премьера его пьесы «Страх» на сцене МХАТ, прошедшая 24 декабря 1931 года, в еще большей мере, чем «Хлеб», оказалась не рапповской, а именно мхатовской, и сам он в ней выступил намного крупнее, чем в тезисах и резолюциях. Через четыре месяца после премьеры не стало РАПП, а пьеса продолжала жить на мхатовской сцене: 23 марта 1933 года шла в 100-й раз, 1 марта 1935 года — в 200-й. За это время многое переменилось во взглядах серьезного советского драматурга. Теперь он утверждал: «Художественный театр — это такой творческий университет драматурга, который при любых обстоятельствах (удачный или неудачный спектакль) оставляет неизгладимое впечатление на всей дальнейшей творческой практике автора, который имел счастье работать вместе с Художественным театром над постановкой своей пьесы»708*. Это было много ближе к истине.
Со своей стороны, МХАТ отнесся к «Страху» еще внимательнее, чем к «Хлебу», — как к пьесе, значительно более принадлежащей искусству. Особенно беспокоило режиссуру политическое звучание спектакля. От того, насколько убедит зрителей центральная сцена диспута-поединка профессора Бородина и старой большевички Клары Спасовой, — зависел весь вообще итог постановки. Судаков говорил после премьеры: «Мы сознавали лежащую на нас ответственность за правильную политическую интерпретацию драматургического произведения тов. Афиногенова. Основное наше стремление было — дать правильное политическое звучание спектаклю. Мы считали, что если этот спектакль прозвучит политически неверно, фальшиво, то пусть он лучше совсем не звучит»709*.
Правильное политическое звучание спектакль получил. И все-таки остроты ленинградской постановки сцена диспута не достигала. Случилось это во многом из-за боязни сценической публицистики. Леонидов обогатил внутренний мир профессора Бородина мягкими и теплыми красками. Он олицетворял добрую силу, этот крупный человек с высоким лбом мыслителя, с сердечным и пронзительным взглядом из-под удивленно поднятых бровей, то и дело подтрунивающий над собой, над другими. Певцов в Ленинграде играл более холодно, колюче, аналитичней. Бригада Всероскомдрама, в которую входили С. И. Амаглобели, В. В. Вишневский, Я. Л. Горев, И. М. Зельцер, 274 Н. Н. Никитин, В. Е. Рафалович и А. П. Штейн, резюмировала: «Для МХТ этот спектакль означает движение вперед, перестройку, следующий шаг от “Хлеба”. Однако, в силу своей системы, МХТ вступает в борьбу с тенденциями автора. И груз старого мхатовского либерализма и “человечности” давит пьесу. Леонидов трактует Бородина как “добряка”. Певцовым же в Ленинграде показан умный и опасный враг. В МХТ после фразы Бородина — Леонидова: “Что делается с людьми!” — стоит хохот, в Ленинграде же чувствуется, что происходит гигантский социальный процесс. Что действительно делается? Столкнулись классы. Что тут смешного?»710*
Главным уроном спектакля было то обстоятельство, что убежденный мыслитель Бородин на диспуте не встречал достойного противника. Образ Клары не удался в спектакле. Образ был совершенно вне возможностей Книппер-Чеховой, которая работала над ним долго и безуспешно, вплоть до генеральной репетиции. Лишь типажно отвечала задаче исполнительница премьеры Н. А. Соколовская. «МХТом никак не дана коммунистка (Клара). Странный грубовато-желчный персонаж», — указывала та же писательская бригада. И естественно, упоминала о победе Корчагиной-Александровской.
Подобные сравнения проводились во многих отзывах. Но имели они не всегда одинаковый смысл. Чуть не дословно повторяя тезис о том, что для МХАТ постановка «Страха» — следующий логический шаг после «Хлеба», О. С. Литовский не столько радовался этому обстоятельству, сколько сожалел о том, что для мхатовской режиссуры это шаг скорее попятный. Критик не находил «никакого следа того нового и любопытного, что было в режиссерском плане создано самим МХТ в годы революции (например, “Блокада”, “Лизистрата”)», — и такое замечание трудно признать несущественным. Он продолжал: «МХТ полностью и целиком, не исключая и диспута, уводит пьесу в павильон, в семейно-психологический интерьер, ослабляя ее публицистическую, большевистскую страстность. Где лучше идет “Страх”: в Ленинграде или в Москве?» — следовал неизбежный вопрос. Ответ был тот же: «Общий баланс все-таки в пользу ленинградцев, по той причине, что они могут положить на свою чашу весов замечательную Клару. А это уже 50 процентов успеха!»711* Снова палата мер и весов подкрепляла выкладки критики. Но как измерить вклад художника в спектакль… В труппе Художественного 275 театра попросту не нашлось актрисы на роль Клары, и режиссура это сознавала.
Все же Афиногенов, как умел, заступался за Станиславского, который после отъезда Немировича-Данченко наблюдал за постановкой. Незадолго до премьеры «Страха» состоялся очередной пленум РАПП, на котором брал слово и Афиногенов. Его речь цитировал в рецензии на спектакль И. А. Крути, предпослав цитате характерный для времени пассаж: «На последнем пленуме РАПП т. Афиногенов, иллюстрируя мысль о том, что неверно было бы абсолютное скидывание со счетов работы Станиславского, привел беседу последнего с актерами, играющими в “Страхе”.
— Больше всего, — сказал Станиславский, — бойтесь, играя коммунистов, играть интеллигентов Художественного театра. Вы очень хорошо играете интеллигентов Художественного театра, но помните, что психология коммуниста, все его поведение основано на других законах, привычках и условиях, чем те, которые вами усвоены. Это качественно новые люди, и если вы это новое качество не сумеете различить, то вы, может быть, очень хорошо будете играть хороших интеллигентов, но вы никогда не сыграете настоящего коммуниста»712*.
Слова Станиславского могли относиться раньше всех к Книппер-Чеховой, репетировавшей коммунистку Клару. Первой на это указала в своей книге М. Н. Строева. По свидетельству П. А. Маркова, актриса рассталась с ролью «без споров»713*. Актеров помоложе, игравших другие ответственные роли «Страха», слова Станиславского касались в меньшей степени.
В бурном духовном росте, в динамичном приобщении к культуре города, к основам науки жил на сцене аспирант Кимбаев, которого играл Ливанов. Снова мхатовский актер выступил соавтором роли. «Для того чтобы лучше понять и ощутить такого человека, — рассказывал Ливанов, — я разыскал в одном из московских институтов аспиранта казаха, познакомился с ним. Его судьба совершенно точно совпадала с судьбой Кимбаева. Я много почерпнул из встреч с моим новым знакомым и понял, чего недоставало в роли. Я копил материал, долго не решаясь показать найденное автору. Но Афиногенов горячо принял все, что ему понравилось в моей работе»714*. По меркам науки Бородина о стимулах человеческого поведения Кимбаев не выходил за пределы заурядности. На сцене это пылко опровергалось актером. Как писал Н. Д. Оттен, там изображался «человек незначительного поведения и значительных поступков», «цельный, здоровый, вооруженный великолепным инстинктом и 276 прекрасной организацией. Он весь — протест против своей отсталости»715*.
Ливанов в роли Кимбаева и Е. Н. Морес в роли пионерки Наташи были бессменными участниками спектакля. Сложно и резко играла Тарасова молодую коммунистку Елену Макарову, перипетии ее изнурительных научных споров и путаницу личной жизни. Критики продолжали сравнивать разных актеров в разных спектаклях. Но сравнения, поясняя оттенки, лишь подстрекали к дальнейшему спору. Важно было одно: сравнивались, как правило, содержательные находки сцены.
Правда современных характеров ожидалась от всех. Многоплановыми получились образы у Прудкина и Добронравова, исполнителей ролей Кастальского и Цехового. «Напряженность и страх чувствуются в этой согнутой и неуверенной фигуре даже тогда, когда Цеховой держится смело и развязно. Психологически это передано правильно и достаточно тонко», — замечал в статье о разных постановках «Страха» И. Б. Березарк. Образы разоблачались в ходе сценической дискуссии о них. А это подготавливало итоги действия в целом. Небрежно напористый, хлыщеватый Кастальский Прудкина как бы отбрасывал с порога самую мысль о двуличности. Но такова была задача: он, как и образ Цехового, призван был в спектакле опровергнуть схему Бородина о стимулах поведения. «Поражаешься, — писал Березарк, — как мог профессор любить такого ученика. Этот сценический образ окончательно нарушает стройность всей системы, он показывает зрителю, что профессор с самого начала мог ошибаться, “принимать удавов за кроликов”»716*.
МХАТ находил в пьесе Афиногенова свое, близкое собственным творческим интересам, рассматривал драму идей как драму духовных борений. Близорукость таланта, одержимость выстраданной мыслью и боль прозрения; острота ситуации, в которой герой, только оказавшись побежденным, выходит на подступы к действительной победе, к победе над собой вчерашним, — это, при всех индивидуальных свойствах большого актера Леонидова, определяло главную суть сценического поведения.
С какой точки зрения ни расценивали работу театра, нельзя было отрицать значительность рывка к новому. Многое решала коренная мхатовская традиция доверия к пьесе, коль скоро пьеса принята к постановке. А тут была острота, подымавшаяся над плоскостью прямозначных ответов, будоражившая зал вопросами жизни.
277 После премьеры Афиногенов записывал в дневнике: «Это — уже победища!»717* В конце концов с ним согласились и зрители, и критики. Трудная была победа, неровная, нервная, но — победа. В статье о мхатовском спектакле Крути, опуская имена, спорил с критиками вроде Литовского, которые не усмотрели новизны в работе театра. Крути находил, напротив, что «Судаков внес в спектакль, в исполнение актеров, в свой постановочный план… много для МХТ принципиально нового. Спектакль получил серьезное идейное звучание, но поднять его на достаточную философскую высоту, придать ему исчерпывающую классовую четкость — этого еще не удалось». Критик выделял черты нового в искусстве актеров, прикоснувшихся к новому для них жизненному материалу: «Радостно констатировать, что в творчестве Ливанова, Тарасовой, Прудкина, Добронравова уже имеются значительные сдвиги. Мы уверены, что и могучий талант Леонидова не остановится на путях перехода к новому качеству»718*. Независимо от групповых пристрастий эти слова содержали много справедливого.
А групповые пристрастия имели тогда большую власть над людьми театра. Парадокс состоял в том, что и Афиногенов тоже не принадлежал себе до конца: он то и дело возвращался к своим обязанностям рапповского лидера, расходясь с самим собой как драматургом в оценке МХАТ, Станиславского, «системы». Ну не странным ли, действительно, было то обстоятельство, что в том же номере журнала «Советский театр», где появилась цитированная статья Крути о «Страхе», публиковался многословный доклад Афиногенова на пленуме РАПП, где походя прорабатывался «идеалист» Станиславский719*.
Все-таки рапповские лидеры брали на себя чересчур много — хотя бы тогда, когда рассуждали вкривь и вкось о драгоценности народа — Московском Художественном театре. Станиславский воспринимал это с болью. Его чувства разделяли объективные критики, начиная от Маркова, ведавшего литературной частью театра. Многие проницательные критики не представительствовали ни от лица МХАТ, ни от имени РАПП. Они достаточно высоко ценили заслуги МХАТ перед советской современностью и с тревогой воспринимали обиды, наносимые театру досужими проработчиками. Хотя и отдавая дань тогдашней фразеологии, выработанной рапповцами, С. С. Мокульский оправданно замечал, что «проблема МХТ является проблемой современного театра, проблемой путей и методов его социалистической реконструкции». Мокульский писал, что «каждый шаг этого театра в новом направлении, каждая попытка его 278 овладеть советской тематикой и найти для нее адекватную сценическую форму превращается в настоящее театральное событие». Критик указывал на то, что «не так называемые “левые” театры Москвы, а именно “академический” МХТ концентрирует в себе сейчас самые узловые вопросы творческой методологии советского театра»720*. Это был глубокий вывод. Расстановка сил на театральном фронте в самом деле заметно видоизменилась. Критиков, верных профессиональному долгу, не могли не ободрить живые предвестия перемен. Сожалея о грехах своей корпорации, они готовы были взять назад иные скоропалительные упреки в адрес МХАТ.
Весьма основательно писал об этом тогда С. Л. Цимбал: «Мы были несомненно несправедливы и непоследовательны в отношении к МХТу. Думается, вышеупомянутые наскоки на МХТ были худшей формой “детской болезни левизны”, как известно, чреватой всякими опасными осложнениями. Вместе с тем нам хотелось бы предупредить читателя, что вышеописанные наши собственные благоглупости не скрывали за собой никаких зловредных поползновений и в гораздо большей степени объясняются той специфической и противоречивой обстановкой, в которой формировался за последний год наш театральный фронт. Ошибок в отношении расценки места МХТ в советской театральной современности было понаделано в те времена великое множество»721*. Поскольку отмечалось это еще до выпуска «Страха», признание такого рода требовало от критика незаурядного мужества. Но правду о МХАТ уже трудно было скрыть, а директивная критика рапповских ортодоксов становилась все более уязвимой, все менее доходчивой.
Почти одновременно с публикацией статей Цимбала, Мокульского и других объективных критиков и обратился Станиславский к правительству с призывом оградить МХАТ от грубого административного вмешательства различных комиссий, от наскоков распоясавшейся рапповской критики, а вместе с тем укрепить и внутреннюю структуру театра, обеспечить там условия, благоприятные для творчества, повернуть театр лицом к главным его творческим задачам с помощью общественных организаций коллектива. Станиславского не удовлетворяла, например, работа художественно-политического совета МХАТ: он «без всякой критики идет навстречу критиканствующей печати и вынуждает театр, под предлогом необходимости… ставить пьесы-однодневки с тем минимумом примитивной агитации, которая более уместна была бы и, может быть, даже лучше достигала бы цели в другой обстановке и в другой постановке». Станиславский писал: «Я бью тревогу, потому что вижу грозную 279 опасность. Я — старый рулевой сцены и знаю, откуда ждать опасности. Я был бы осчастливлен, если бы Правительство вняло моему предостерегающему голосу и, оставив меня у моего руля, дало бы мне, может быть, накануне моей смерти, ввести свой корабль в свободную и надежную гавань социализма»722*.
Реальным ответом на письмо К. С. Станиславского оказалось постановление ЦИК Союза ССР. 15 декабря 1931 года газета «Известия» сообщила: «Президиум ВЦИК постановил изъять I Московский Художественный академический театр из ведения Народного Комиссариата Просвещения РСФСР и передать его в ведение Президиума ЦИК СССР». Помимо своего конкретного смысла документ имел еще и то общее значение, что восстанавливал в правах отмененный Главискусством ранг академических театров. Теперь возобновлялись написания: МХАТ, МХАТ-2 и т. п.
Главискусства уже давно не существовало. Близился и черед РАПП.
29 января 1932 года, незадолго до ликвидации РАПП, в газете «Вечерняя Москва» появилась еще одна информация: «Президиум ЦИК Союза ССР постановил принять МХАТ 1-й в ведение ЦИК СССР. Театр переименован в МХАТ СССР».
Это была гарантия свободного и спокойного творчества, реальная победа МХАТ, а с ним и всего советского театра. Что же касалось театральной программы РАПП, она обнаружила свою несостоятельность.
С большим достоинством Станиславский поздравил участников 100-го представления «Страха»: «В течение всей своей деятельности МХАТ считал для себя обязательным откликаться на важнейшие вопросы современности, которые волновали передовые круги. Тем более обязательно это для МХАТ теперь, когда он со своей сцены говорит с тысячами новых и жадных зрителей… Теперь перед нами стоит задача еще глубже и еще ответственнее понять и передать вопросы, образы и чувства наших дней, не снижая, а развивая и утончая наше мастерство»723*.
Решая эту задачу, всегда близкую, всегда трудную, МХАТ СССР вступал в новый период деятельности…
Годы 1924 – 1932-й были порой восхождения. Театр овладевал советским репертуаром, а его сотрудничество с авторами плодотворно отложилось в опыте драматургии. «Пугачевщина» и «Бронепоезд 14-69», «Блокада» и «Хлеб» обозначили рубежи развития народной драмы. В спектаклях другого рода, от «Дней Турбиных» до «Страха», обновлялся тип психологической драмы. Зрелость творческого мировоззрения театра сказалась в подходе к классике. «Горячее сердце» и «Женитьба 280 Фигаро», «Дядюшкин сон» и «Воскресение» давали в единстве художественное и социальное, выдвигали современные вопросы жизненного и творческого порядка, обогащали формы и средства сценического действия. В этом смысле не было непереходимых перегородок между современным и классическим репертуаром МХАТ. В разных постановках утверждался созданный на сцене МХАТ тип спектакля-романа, где трагикомедия социальной жизни выступала то псевдонимом, то оборотной стороной современной психологической драмы. В разных постановках по-своему проявлялось побеждающее стремление к правде.
Глава восьмая
МХАТ-2
ОТ СТУДИИ — К ТЕАТРУ
Первая студия МХАТ после смерти Вахтангова быстро превращалась в театр. Исчерпывали себя студийные начала, завещанные Сулержицким. Лабораторная проработка «системы» Станиславского сменялась попытками преодоления. Утверждалась самоценность искусства театра, независимого от драмы. Импровизация становилась основой тренировок, ключом к искомому актерскому самочувствию, порой — способом действия на сцене. Подробный мхатовский психологизм уступал место психологизму условному, возведенному в ту или иную степень театральной игры: такая игра должна была выявить изначальную природу актерского творчества. Путь Вахтангова от психологического натурализма его первых спектаклей («Праздник мира» и особенно «Росмерсхольм») к экспрессионизму «Эрика XIV» продолжался теперь разветвленно в коллективной режиссуре студии. Интерес к игровым приемам комедии дель арте, возникший в «Двенадцатой ночи» и затем резко обобщенный в «Эрике XIV», теперь в снятом виде стал основой образной системы спектакля: персонажи подразделялись на группы по принципу масок — с положительным и отрицательным знаком; образ выстраивался уже в первом акте, а дальше только проявлял себя.
Этические основы студийного самовоспитания, внутренняя дружеская спайка давали трещины. Доверительные интонации разговора с залом-единомышленником выветривались. Менялся зал, публика, менялась и сцена. В 1922 – 1924 годах студия часто играла на площадке МХАТ, уехавшего за границу, потом получила помещение бывшего театра Незлобина (ныне там Центральный детский театр). Поправки вносило и время. Но контакты со временем студия налаживала медленно.
281 Ранние спектакли, согретые мечтой Сулержицкого о всечеловеческом братстве, омрачались трагическим восприятием мировой войны. Гуманная элегия «Сверчка на печи» противостояла тогдашней действительности. После революции «его тихая-тихая, скромная, нежная песенка», как писал Ю. В. Соболев в 1922 году, отмечая пятисотое представление «Сверчка»724*, звучала милым анахронизмом. В том же году, 29 октября, спектакль посетил В. И. Ленин и ушел огорченный: «Уже после первого действия Ильич заскучал, стала бить по нервам мещанская сентиментальность Диккенса, а когда начался разговор старого игрушечника с его слепой дочерью, не выдержал Ильич, ушел с середины действия», — вспоминала Н. К. Крупская725*.
Спектакль жил еще десять лет и всего прошел 886 раз. Пресса была к нему сурова. «Тараканы запечные» — называлась статья о «Сверчке», показанном в Ленинграде весной 1924 года. «О чем верещал сверчок в 600-й раз», — озаглавил свою статью М. Б. Загорский в 1926 году. Но искусство актеров, особенно Чехова, продлевало спектаклю «визу времени». Студия дорожила своими первенцами. «Двенадцатая ночь» исполнялась до 1930 года. Как рассказывала Луиза Брайант, жена Джона Рида, Ленин видел и этот спектакль и «наслаждался от души»726*. По словам Крупской, «ужасно понравился» Ленину «Потоп»727*. Свыше 650 представлений выдержала «Гибель “Надежды”».
28 января 1923 года студия праздновала десятилетие. Станиславский прислал поздравительную телеграмму из Нью-Йорка. Вечером на сцене МХАТ шел юбилейный спектакль: фрагменты «Эрика XIV», «Гибели “Надежды”» и «Двенадцатой ночи». Чествование открыла А. А. Яблочкина. Приветственную речь произнес Немирович-Данченко. С ответным словом от студии выступил Сушкевич. После эмиграции Болеславского и смерти Вахтангова он остался тут основным режиссером и был избран председателем правления студии. Друг Вахтангова с 1906 года, со студенческих лет, его помощник по «Эрику XIV», Сушкевич разделял его творческие идеи и хранил верность студийным принципам.
Сушкевич решительно отстоял независимость студии, когда ей предложили влиться в труппу МХАТ. Немирович-Данченко обратился с этим призывом раньше всего именно к Первой студии. Ведь, помимо Чехова, помимо Сушкевича, там работали С. Г. Бирман, Н. Н. Бромлей, С. В. Гиацинтова, Л. И. Дейкун, 282 М. А. Дурасова, Е. И. Корнакова, В. В. Соловьева, Б. М. Афонин, А. А. Гейрот, В. В. Готовцев, А. Д. Дикий, В. А. Подгорный, В. А. Попов, В. С. Смышляев, А. И. Чебан… МХАТ же нуждался в молодых актерах.
Независимость удалось отстоять, но выборная коллегия во главе с Сушкевичем недолго пробыла у руководства. Студию разрывали центростремительные силы. Разным группам по-разному виделись судьбы вахтанговской традиции, перспективы и формы работы. Основы студийности шатались. Внешне это выразилось и в приходе сторонних актеров: в декабре 1922 года был принят бывший мхатовец И. Н. Берсенев, за ним молодой мейерхольдовец И. В. Ильинский и маститый актер-«неврастеник» И. Н. Певцов, прогремевший в пьесах Леонида Андреева и в «Павле I» Мережковского. Оба последних актера играли здесь около двух сезонов и к задачам студийности приобщиться не успели.
В 1922 – 1924 годах увеличился список режиссерских выдвижений. Бирман дебютировала в режиссуре комедией А. Н. Толстого «Любовь — книга золотая». Дикий, на счету которого была успешная постановка «Зеленого попугая» Шницлера в студии имени Шаляпина (1921), показал «Героя» Синга. Смышляев тоже пробовал себя как режиссер в Пролеткульте, показал там, в частности, «Мексиканца» по Джеку Лондону (с помощью Эйзенштейна) и даже издал руководство по режиссуре; теперь он поставил в студии вместе с Чебаном «Укрощение строптивой» Шекспира.
Бирман, в содружестве с художником Д. Н. Кардовским, изящно стилизовала под старину пьесу-анекдот, с вальяжной Екатериной II — Дейкун и простодушными хитрецами. Ни на историзм, ни на сатиру спектакль не посягал и легко подтрунивал над милыми несуразностями минувшего.
Дикий, не слишком заботясь об ирландском колорите Синга, выделял приметы народного зрелища вообще, площадной игры вообще. Спектакль оформлял А. А. Радаков в плоскостной манере рисовальщика-карикатуриста. Ключарев в роли Кристофера напоминал, по отзыву Л. В. Никулина, «лапотника с частушечным налетом»728* (эти краски подхватил и введенный на роль Ильинский). Вся ироническая буффонада несла отпечаток вольной натуры Дикого, который, по его признанию, всегда гордился своей «земнородностью»729*.
С прежним студийным репертуаром новинки соприкасались лишь по линии иронического гротеска, теперь сдобренного разными приправами буффонады; психологизм сменялся откровенной театральной игрой.
283 Постановка «Укрощения строптивой» возводила эту игру в принцип. На занавесе был начертан девиз: «Totus mundus historionem agit» («Весь мир лицедействует»). Буффонада была безудержной, но обнаруживался эклектизм режиссуры, повторявшей находки соседей «слева». Новый шекспировский комедийный спектакль уступал «Двенадцатой ночи» и по уровню актерских работ. Только Ильинского — Грумио критика выделяла как актера нового театра, что едва ли грело коренных студийцев.
Напротив, Сушкевич в «Короле Лире» остался верен исходным идеям студии, только теперь они окрасились безысходностью. Зловещие тучи застилали сценическое поднебесье. Сквозь туман исторических усобиц, с надсадой и болью, продирался к простым человеческим истинам подавленный Лир — Певцов. Он напоминал не то диккенсовского чудака, не то русского интеллигента, драматически опомнившегося в дни, когда явь разогнала иллюзии о ней. Певцов играл трагизм обыкновенной судьбы. Роль шута исполняла актриса Бромлей и несла мягкое сострадание к герою, жертве им же перевернутых обстоятельств. Разочарованность, пессимизм — такова была суть спектакля.
Другая постановка Сушкевича, «Расточитель» Лескова, проводила похожую тему на почве бытовой драмы. Обыкновенный порядочный человек падал жертвой среды бесчестной, мстительной, лживой. Нравственные вопросы занимали режиссуру прежде всего. Народная песня то и дело звучала за окнами, как раздумье о справедливости и добре. Эта фольклорная краска была близка Дикому, сорежиссеру Сушкевича и исполнителю: его Молчанов был здоровый, прочный, искренний человек; недоумение героя перед гонителями позволяло прорываться наружу «земнородному» темпераменту актера. Зло олицетворяли пресмыкающийся пакостник Минутка — Берсенев и Фирс Князев — Певцов, терявший внешнее купеческое благообразие в сценах сатанинского торжества над жертвой. Быт сгущался до психологически мотивированного гротеска. «Расточитель» явился спектаклем крупных актерских удач, но мало что добавлял к сказанному студией раньше. В честной проповеди добра не было прежней интимности, и хотя ставили и оформляли спектакль студийцы (художник — Гейрот), над ним тяготела консервативность формы. Б. М. Эйхенбаум скептически оценивал успех такого зрелища — «точно публика, назло всяким новшествам, приветствует знакомое, старенькое, бытовое, “естественное”, на чем можно “отдохнуть”»730*.
Ни в одном из названных спектаклей Чехов, первый актер студии, не играл и не всему сделанному сочувствовал. Он давно 284 помышлял о другом, новом театре. Коллектив обнаруживал разные тенденции роста, студийная униформа трещала по швам. «Расточитель» стал последним спектаклем студии.
«На второй год моего пребывания в студии, — рассказывал Ильинский, — бразды художественного правления взял М. А. Чехов… Я был на том собрании, когда М. А. Чехов объявил товарищам, что он хочет стать руководителем студии, что он хочет строить театр, что он видит для этого путь, по которому должен идти театр-студия, и что если товарищи верят ему, то он станет во главе театра. Если же нет, то он вынужден уйти из студии и строить такой театр на стороне. Все студийцы призадумались — они поняли, что с этого дня изменится облик студии. Особенно это почувствовали старшие товарищи. Но авторитет Чехова был так велик в это время, вся молодежь так любила его, что не могло быть и речи об уходе Чехова. Предложение Чехова было принято, и началась новая страница Первой студии, которая вскоре стала МХАТ-2-м во главе с М. А. Чеховым и его главным помощником И. Н. Берсеневым»731*.
ТЕАТР М. А. ЧЕХОВА
7 сентября 1924 года Первая студия была преобразована в МХАТ-2. Начался новый этап пути, трудный, омраченный раздорами, но принесший несколько спектаклей большой художественной ценности. На четыре сезона МХАТ-2 стал театром М. А. Чехова. Чехов сыграл всего три новые роли. Но его творческие идеи, его личность художника влияли и на спектакли, в которых сам он не был занят.
Актер невысокого роста, тщедушный, даже невзрачный, Чехов опровергал ходячее представление о сценичной внешности. Силой духовного воздействия он создавал и пересоздавал атмосферу спектакля, внося с собой на сцену мир глубоких, острых, причудливо верных переживаний, мыслей, поступков. Глуховатый, срывающийся голос затрагивал тайники подсознания. Актерские приспособления Чехова были неиссякаемы, многое рождалось импровизационно, по ходу сценического действия. Случалось, если наскучит устоявшийся рисунок, Чехов менял его весь, от интонаций до одежды, приводя в смятение давно сыгравшихся партнеров. М. И. Кнебель называет четыре разные его трактовки роли Фрезера в «Потопе»732*. Его блестящей работой в спектакле Художественного театра (1921) был Хлестаков. Но, гастролируя в Ленинграде, он поставил условием играть «Ревизора» без репетиций. Ему была нужна неожиданность сценического самочувствия.
285 Талант Чехова был исповеднический. Импульсивная пластика, внезапные синкопы ритма, парадоксальные паузы — все это служило одной цели: проникнуть в духовный мир человека и объяснить его, вскрыть до донышка и выстроить его форму, его модель. Так были сыграны Калеб в «Сверчке», Мальволио в «Двенадцатой ночи», Эрик XIV. В сущности, так подошел Чехов и к Хлестакову. Актер играл разорванное сознание героя-пустышки, давал смелую смену характерных тонов, странность доходила порой до патологии. Он плакал настоящими слезами, когда при первой встрече городничий — Москвин упоминал о тюрьме, — любые приемы могли тут Чехову подойти, кроме сатирического. Хлестаков нес надрыв обреченного «маленького человека» и нет-нет да располагал к сочувствию. Место Чехова — между Мартыновым и Чаплином. Гоголь и Диккенс были внутренне близки этому актеру, но современники недаром называли еще Достоевского, которого он в Москве не сыграл. К актерской исповеди с годами примешивалась проповедь. Проповедь добрая, человеколюбивая, протестующая против любого насилия над личностью, но и надорванная, со вкусом к страданию, с примесью богостроительства. Чехов стремился пробудить «божеское» в душе человека — «божеское» не в церковном, а в нравственном смысле. Так он видел свою миссию.
Не власть, чтобы править, а власть, чтоб искать и проповедовать, — вот что маниакально влекло Чехова, когда он возглавил МХАТ-2. Эта маниакальность поразила А. Д. Попова, которому Чехов для режиссерского дебюта в МХАТ-2 предложил было поставить Евангелие733*. Помыслы Вахтангова болезненно преломились в сознании Чехова. Как упоминалось выше, в 1918 году Вахтангов писал: «Надо взметнуть, а нечем. Надо ставить “Каина”… Надо ставить “Зори”, надо инсценировать Библию. Надо сыграть мятежный дух народа»734*. Вахтангов предсказал многое: и мхатовского «Каина», и мейерхольдовские «Зори», и собственную работу в театре «Габима», своей «библейской студии». Чехов, мечтая инсценировать Евангелие, миновал вахтанговский контекст. «Взметнуть», «сыграть мятежный дух народа» он не порывался, ибо революции не понял. А справедливые слова Вахтангова о том, что «художественное учреждение, не имеющее миссии, лишено печати религии и просуществует недолго»735*, — эти слова, обращенные к совету Первой студии в 1918 году, были истолкованы так, что религия понималась буквально и становилась синонимом художественной миссии. От революционной действительности 286 Чехов бежал в дебри теософии, но выход оттуда ему давало только творчество.
Единодушной поддержки в труппе Чехов не встретил. Первый же сезон театра выявил полюсы противостояний. Чехов сыграл Гамлета. Дикий показал «Блоху» по Лескову.
Новый шекспировский спектакль ставили Смышляев, Татаринов и Чебан, но все в нем определял Чехов. Убранство сцены напоминало готический храм, с витражами узких окон: там священнодействовало Искусство. Но витражи давали в тройном увеличении желтые фигуры солдат, застывших у подножия сценической площадки: Искусство преображало мрачно падавшие на него тени действительности. Посреди храма художник М. В. Либаков воздвиг подобие усеченной пирамиды; на вершине находились король и королева. Там, в вышине, Гамлету открывалась тайна преступления Клавдия. Затянутый в черное, с льняными, неровно обрубленными волосами до плеч, Гамлет стоял в отвесном снопе света, воздев руки к небесам. Звучала инфернальная музыка, сгущалась атмосфера тайны. Тень отца не появлялась, озарение нисходило свыше. Герой узнавал о своей миссии — и был сражен ею.
Чехов поубавил философские монологи, минуты сомнений. Актера влекла мессианская тема, он вел негероичного героя навстречу предназначенному, предвидя исход. Он играл трагедию совести в мире безумном и мнимом. Непосильная ноша словно наложила на Гамлета вериги, он был болен своим обетом. Но и больной, он был самым реальным лицом в уродливо-бесчеловечной среде. Клавдий — Чебан свирепой гротескной маской напомнил Луначарскому об актерах японского театра Кабуки. На муляж сановника, увешанного орденами, походил Полоний — Шахалов. Еще гротескнее выглядели придворные, безликие, лысые, с оттопыренными острыми ушами, в черно-белых одеждах, отливающих мышиной мастью; головные уборы дам с черными висячими крыльями напоминали о нетопырях, летучих мышах. Гамлет впивался глазами в маски нечисти, пытаясь найти в них хотя бы подобие человеческое, и отшатывался одиноко. Союзниками героя выступали бродячие актеры, утонченные служители духа, юные, гуманисты Возрождения, прекрасные в своих грубоватых трико. Репетиция «Убийства Гонзаго» проходила пантомимой перед занавесом и была высшим утверждающим моментом спектакля, напоминая о пластике и поэзии «Принцессы Турандот». В сцене «Мышеловки» лицом к лицу сталкивались обе стороны, контраст проходил в сфере духа, давая этическую формулу всего спектакля. После этой сцены чеховский Гамлет уже не выпускал шпаги из слабых рук — иногда судорожно сжимал ее, иногда очерчивал ею круг, словно отрезая себя от наваждений преступного мира. Действие, медленное у Шекспира, в МХАТ-2 мчалось к развязке-возмездию. Гибель Гамлета отдавала безысходностью. Фортинбраса 287 и его войска не было в спектакле. Горацио — Азанчевский, с юным лицом и седой прядью в черной копне волос, молча опускал забрало. Сцена тонула во тьме.
Чеховский больной Гамлет был далек от академичных традиций, но, как у всякого почти Гамлета, боль выдавала свои современные причины. Это была «болезнь современного горожанина, нервы которого не выдерживают бури времен», — писал М. Б. Загорский736*. Другой критик, Я. А. Тугендхольд, находя в Полонии — Шахалове сходство с российским мракобесом Победоносцевым, к главному герою применил тургеневскую характеристику: «Гамлет Щигровского уезда, славянский интеллигент из семинаристов с вялыми и длинными (а не “курчавыми”, как у Шекспира) волосами»737*. Луначарский возражал: «У нас теперь ни в одном Щигровском уезде Гамлета нет»738*. Спор касался современности трактовки. Но актер и его критики относились к современности по-разному. Чеховский Гамлет ее экспрессионистски отрицал.
Различно понимали ее и внутри МХАТ-2. Концепциям Чехова противостоял спектакль Дикого «Блоха» (1925). Хотя пьеса Е. И. Замятина, написанная по мотивам «Левши» Лескова, не касалась современности, она позволила режиссеру высказаться на свой лад о современных возможностях театра. Рисуя в балаганных, «шутейных» тонах русскую национальную стихию, пьеса легла в основу озорной скоморошьей игры. На сцене через край переливалась развеселая выдумка и приятие жизни. Полемика с Чеховым велась в плане творческих проблем, а не аллюзионных оценок действительности. От мучительных вопросов бытия, снедавших Чехова, Дикий был далек в своем благодушном спектакле. Он искал русскую версию «Принцессы Турандот» и опрокинул вахтанговскую театральность на почву лубка. Цветастые и сдобные, как тульские пряники, декорации Б. М. Кустодиева выдавали суть площадной потехи. Игрушечный царский дворец, игрушечная Тула с огородами и заборами, с многоглавой церквушкой по колено актеру — все было понарошку, наперекор понятиям о соразмерности и перспективе. Расписная шкатулка с блохой, гармошка-ливенка в руках Левши — весь реквизит был выдержан в том же условно-лубочном стиле.
Вели спектакль халдейка и двое халдеев, по ходу игры преображаясь в персонажей сюжета. Халдейка — Бирман представляла то фрейлину Малафевну, то вертлявую тульскую девку Машку с русой косой и заливисто смеялась в ответ на призывы Левши: «Машк! А, Машк! Пойдем обожаться!» 288 В третьем акте она же играла деревянную аглицкую девку Мерю и «белым» голосом тупо распевала шансонетку. Халдеи — Готовцев и Громов изображали царского лекаря-аптекаря и скомороха, тульского купца и раешного зазывалу, аглицких химиков-механиков. С помощью халдеев обнажался генеральный прием спектакля: актеры театра играли не образы, а актеров из народа, играющих эти образы. Персонажи выглядели такими, какими виделись бойкой и невежественной фантазии народных лицедеев.
Царь — В. А. Попов представлял собой брюшко на коротких и хилых ножках. При его выходе туча фуражек взлетала ввысь на заднем плане сцены. Так изображалось придворное ликование. Царедворцы были ветхими старикашками, из которых сыпался песок. Метафора развертывалась наглядно: за старцами следовал дворник и песок подметал. Царь катился по сцене, напевая: «Боже, меня храни». Снимал новые галоши в углу и потом не раз бегал проверять, целы ли.
Во втором акте царевы посланцы с гиком и свистом влетали в Тулу верхом на палках-лошадках с мочальными гривами. Стояло лето, но атаман Платов въезжал в санях, держал речь к народу о том, что «должны наши тульские мастера ихним разным европам нос утереть». Роль играл Дикий. По его словам, Платов был страшенным верзилой «с громадными, сокрушительными кулаками, разбойной мордой в аршинных усах и медной глоткой, привычно выкрикивавшей “верноподданнические” фразы»739*.
Тульского оружейника Левшу, подковавшего аглицкую блоху, играл Л. А. Волков. Неказистый, пьяненький, с клочьями кудельных волос, кое-где выдранных от «науки», Левша был наивно влюблен в секреты механики. Была в нем и хитрость битого, дошлого мужичонки «себе на уме». В Англии он с любопытством приглядывался к заморским диковинам. Половой-негр в трактире обметал стол щеткой, с которой сыпались электрические искры. Левша садился на табуретку — вспыхивала затейливая лампа; вставал — лампа гасла. Лубок здесь электрифицировался и американизировался, пародируя трюки Эйзенштейна («Мудрец») и конструктивизм Мейерхольда («Озеро Люль»). Левша маялся в этом странном мире, рвался домой. Он лез на стену и бился о нее головой (метафора опять реализовалась буквально). Но, как писала М. Ф. Андреева Горькому, у Волкова была «такая истовая кондовая тоска и любовь к своей земле, что даже не верится, что это — актер»740*. Образ обретал патетику.
Дикий перечеркнул скорбную концовку Лескова. Городовые били Левшу, топили его в Неве, а под занавес герой выходил 289 сухим из воды (еще метафора). На сцене торжествовал победу вечный, неумирающий Левша. Ирония Лескова под конец ушла из спектакля. Дикий освободил тему от сложностей: лубок, став средством гиперболизации, дал в конечном счете монументальное зрелище во славу самобытной народной натуры.
Критика недоуменно встретила премьеру, обвиняя Дикого то в гаерстве, то в славянофильстве. Полемику с «Блохой» отчасти вел Маяковский, когда писал «Клопа», а затем «Баню» с героями-умельцами другого, сегодняшнего склада. Выпады Маяковского против балета «Красный мак» (1927), в постановке которого участвовал Дикий, делают полемику очевидной. Но такие разногласия плодотворны для искусства.
Перед МХАТ-2 русская «Турандот» открывала неожиданные пути. Они могли обогатить возможности театра. Этого не произошло. Спектакль прозвучал как вызов Чехову и оказался итоговой работой Дикого-режиссера в вырастившем его театре.
Меньше всех был в том повинен Чехов. Он заинтересовался успехом «Блохи» и даже подумывал, не сыграть ли ему Левшу. Объективно же не бывало двух столь разных искателей внутри одного театра.
Разлад затронул глубинные устои организации МХАТ-2 и вместе с тем, развертываясь у всех на глазах, выплеснулся на поверхность. Его обсуждали в печати, он встречал и чисто театральные отклики. Московский театр сатиры в обозрении Н. А. Адуева, Арго, Д. Г. Гутмана и В. Я. Типота «Семь лет без взаимности», показанном весной 1925 года, разыгрывал пародию «Блохамлет, принц Мхатский». Критика сочла ее мало удачной. «Кроме великолепно звучащего заглавия, ничего, по совести говоря, нет», — заметил Садко — Блюм741*, а Марков откликнулся односложным «скучно»742*.
До ухода Чехов сыграл сенатора Аблеухова в «Петербурге» Андрея Белого и Муромского в «Деле» Сухово-Кобылина. Там открылись новые грани его искусства. «Петербург» появился в МХАТ-2, когда Чехов сблизился с символистом Белым. Символистская поэтика сумрачно окрасила спектакль, поставленный Бирман, Татариновым и Чебаном. В согласии с Белым, сценический Петербург казался мглистым, болотным, химеричным, на него падала гнетущая, смутная тень Медного всадника: важным изобразительным средством была световая проекция на тюль. И сама революция 1905 года, двадцатилетию которой посвящался спектакль, представала в зыбком, колеблющемся свете. На сцене ее, собственно, и не было — она отзывалась в кратких проходах Рабочего и Неуловимого, да 290 в финальном хороводе юношей и девушек. «Революция в тумане» — так назвала свою рецензию В. М. Инбер743*. Спектакль был фрагментарен, но стиль его крупно выразил Чехов — Аблеухов.
Чехов решал для себя сложную антропософскую задачу, задачу «на преодоление», отыскивая человеческое в бесчеловечном. Художник побеждал философа, и объективная ценность спектакля намного превосходила первоначальный замысел. Образный результат затрагивал сферу социального, говоря о призрачной изнанке бюрократического могущества, об исчерпанности самовластия. Графически резок был рисунок: восковой заостренный череп, оттопыренные мохнатые уши, мешки под глазами, а в глазах, круглых, обезумевших, «каменных», — испуг перед революцией, шагающей по Невскому, страх смерти, сознание конца. Запинающаяся речь, с провалами многоточий, угловатый излом спины, с торчащими лопатками под мундиром, походка куклы, негнущиеся руки в серых лайковых перчатках — все напоминало о вырождении, гибели, тлене, о той поре, когда «Победоносцев над Россией простер совиные крыла» (Блок). Тема краха Победоносцева, походя задетая в «Гамлете», здесь разрасталась в трагический фарс. Аблеухов был умудрен и гадок, он впадал в детство, но детское в образе лишь оттеняло жутковатую значительность властвующего. Как всегда, Чехов сложно «оправдывал» своего безжалостно обрисованного героя. В сцене бала Аблеухов выходил на рампу, с рассчитанным автоматизмом принимал позу человека, стоящего на вершине, холодно оглядывал гостей, — но автомат не срабатывал до конца, завершающий штрих не давался. Герой пробовал закинуть руку за спину, методично повторял попытку, а рука не повиновалась и все падала книзу. Наконец с помощью другой руки ее удавалось удержать, как следовало. Эпизод не смешил — он был страшен. Без слов говорилось о распаде могущества. Все время зрителей пронзал спокойный испытующий взгляд актера. Соблазнам сатиры Чехов предпочел горечь трагикомедии. Четыре года спустя Хмелев в «Дядюшкином сне» напомнил о трагическом гротеске Чехова.
В «Деле», поставленном Сушкевичем (1927), тема распада бюрократической власти обретала протестующие тона. Чехов играл судьбу Муромского как драму «маленького человека», раздавленного казенной машиной. Человек и машина — таковы были стороны неравной борьбы. Звероподобный Варравин — Готовцев и юркий Тарелкин — Азарин были страшны прежде всего как рычаги механизма. Скульптор Н. А. Андреев, оформлявший сцену, поставил по бокам фигуры, символизирующие Закон и Правосудие, — столб с короной и статую Фемиды, с проникновенными 291 девизами над ними: «Закон — блаженство всех и каждого», «Гнушаясь мерзости коварства, решу нелицемерно». Чиновники у преувеличенно больших чернильниц скрипели и шуршали перьями, тек конвейер бумаг, в речах слышался рык, хрип, посвист, пластика поз напоминала углы и спирали работающего устройства. Над всем возвышался портрет самодержца, такой большой, что зрителям были видны только ноги в лосинах и солдатских ботфортах. Образ власти, данный обобщенно, попирал подданных, как свирепый Клавдий в «Гамлете», как тень Медного всадника в «Петербурге».
Чехов выступал защитником простых человеческих истин, его Муромский был «негероем» и поначалу выглядел скорее комично, с добродушным сморщенным личиком, поросшим длинными клочьями шерсти, со старческой хитрецой в глазах, с запинающейся, но напевной речью, благодаря которой Чехов, по словам Мейерхольда, «влюбил нас в себя в роли старика Муромского»744*. Актер с умыслом давал здесь комедийные краски — тем сильней звучало трагикомическое, а потом и трагическое в образе. «Наивно-хитрые глаза в ужасе и тоске останавливаются перед миром, который, в лице Светлейшего и Варравина, неожиданно и предельно страшно раскрылся удивленному Муромскому», — писал Марков745*. Сцена гибели униженного Муромского проходила с силой гуманистического протеста против деспотии, подымалась до героической защиты прав личности, вбирая в себя высокие традиции русского реализма. Некоторые критики усмотрели здесь выпад против современности. Одна бранная статья о Чехове — Муромском называлась «Пророк в маске». Луначарский же находил в игре Чехова ценный сегодняшний смысл: «Взята проблема личности и ее прав, с одной стороны, гнетущей среды или государственного деспотизма — с другой. Может ли такая тенденция, великолепно проведенная в художественном отношении, быть признана соответствующей коммунистическому миросозерцанию? Конечно, может…»746* Таков был объективный итог, хотя сам Чехов в вопросы коммунистического миросозерцания не вдавался. Судьбу героя он переносил в общечеловеческую сферу и не уточнял темы бунта.
С темпераментом, каким был проникнут спектакль «Блоха», Дикий выступил против упадочного, как он считал, руководства Чехова — Берсенева. Борьба была неравной: за Диким шло меньшинство. Печать шумно обсуждала раскол в МХАТ-2. В мае 1927 года журнал «Новый зритель» поместил тревожное письмо актеров О. И. Пыжовой, Л. А. Волкова, А. Д. Дикого, 292 В. П. Ключарева, Г. В. Музалевского, М. И. Цибульского и Б. В. Бибикова с критикой порядков в театре и его направления. «Оппозиция» была разбита на голову и 6 июня покинула МХАТ-2.
А осенью 1928 года ушел и Чехов, не сыграв предстоявшей ему роли Дон Кихота. Прощаясь с театром, он писал из Берлина 29 августа: «В самое последнее время воля большинства коллектива МХАТ-2 нашла, наконец, свое конкретное оформление, и я увидел, что эта воля не соответствует тому идеалу и тем художественным целям, которые я, как руководитель, имел в виду для театра»747*. Уклончивая фраза таила сложный подтекст. Теперь не одна группа Дикого, а весь МХАТ-2 оказался противником Чехова.
Причины заключались в обстоятельствах и внешнего, и внутреннего порядка. Многое объяснялось отчужденным отношением Чехова к современности. В 1933 году Луначарский вспоминал: «Чехов, сидя в моем кабинете, не без заносчивости говорил, что новый репертуар для него неприемлем и что даже такую пьесу, как “Дело” Сухово-Кобылина, он играет с превеликим отвращением. Он требовал, чтобы Советское правительство дало ему особый театр, который был бы назван “Театром имени Михаила Чехова” и играл бы исключительно Шекспира, Шиллера, Гете, из русских — Пушкина, Гоголя и Грибоедова. В противном случае артист грозился уехать за границу. Он это сделал»748*. Актерский эгоцентризм значил в отъезде Чехова больше, чем его политическая индифферентность.
Кое-что было сказано Луначарскому сгоряча. Если Чехов и противился постановке советских пьес, то пассивно, и «Евграф, искатель приключений» Файко (1926) появился на сцене МХАТ-2 не многим позже, чем первые советские пьесы в МХАТ или у вахтанговцев. Пьеса Файко, с ее постепенным переходом от юмора к драматизму, была близка теме Чехова: она изображала бессильный донкихотский бунт маленького человека против мещанского образа жизни. Парикмахер Евграф — Ключарев, нескладный и трогательный мечтатель о красоте противостоял нэпманской среде, густой колорит которой был схвачен в постановке Сушкевича. Особенно выделялись сатирические образы-маски маникюрши Тамары — Бирман и бандита Мишки Ливера — Берсенева.
Крупным событием явился «Закат» Бабеля, также в постановке Сушкевича (1928), трактованный как закат мещанства вообще, с выдвижением философских и социальных мотивов за счет локальных примет времени и быта. В драме мрачно мятущегося Менделя Крика, «выломившегося» из косного уклада 293 и побежденного в битве с жизнью, Чебан увидел близкую театру тему короля Лира. «Трагик в костюме возчика и с кнутом в руках, какой-то “богоборец” с надрывом», — писал о нем Тальников749*. Грани лирики, юмора, трагикомедии перемежались в игре Бирман — Двойры, Корнаковой — Маруси, Азарина — Арье-Лейба. Экзотику одесских гангстеров переводили в план экспрессионистских типажных масок Берсенев — Беня Крик и Гейрот — Боярский. Снова трагическая борьба одинокого мятежника, противопоставившего себя обывательской среде, перекликалась с актерской темой Чехова.
Наконец, Чехов деятельно помогал В. А. Громову в постановке пьесы Ю. Родиана и П. Зайцева «Фрол Севастьянов» — из жизни советских вузовцев. Это была последняя работа «театра Михаила Чехова» (1928). Ее оглушительный провал усилил трения в труппе и болезненно повлиял на уход Чехова. Громов последовал за ним в эмиграцию, перипетии которой потом описал в книге750*.
С другой стороны, ударом для Чехова была постановка «Смерти Иоанна Грозного» А. К. Толстого, осуществленная В. Н. Татариновым и А. И. Чебаном (1927). В ней он мечтал сыграть — и не сыграл — роль Грозного. По своей образности спектакль словно принадлежал ему и для него предназначался. Каменные своды Кремля представали на сцене покореженными под тяжестью веков, истаивали в сумраке, свет падал на них неверными пятнами. Картина была увидена глазами полубезумного царя. В поединке умирающего Грозного — Чебана и молодого, сильного, с вкрадчивой «азиатской» хваткой Годунова — Берсенева не было просветленного исхода. Тема безграничной власти, иссушающей человеческое в человеке, пожирающей себя самое, перекликалась с темой Чехова. Но Чехов сыграл Грозного только несколько лет спустя в Риге; им восхитился тогда крупный латышский поэт Ян Судрабкалн.
В МХАТ-2 считали, что ни Грозный, ни Дон Кихот не отвечали внешним данным актера. Но так же думали о ролях Гамлета или Хлестакова, пока Чехов их не сыграл. На сей раз актер отступил.
Таким образом, причины эмиграции были различны. В натуре Чехова уживались многие крайности его персонажей. Он был художник «не от мира сего» и блуждал в замкнутом кругу своих идей. В то же время он, как ревнивый актер-деспот, порабощал режиссуру своих спектаклей и из партнеров составлял антураж при себе — гастролере в собственном театре. Это не могло не вызвать противодействий. За отпором последовал разрыв.
294 Уход Чехова был потерей для отечественного искусства. Дикий в своей книге писал: «Лишь теперь, через годы, я с огорчением думаю о том, как мы были в те времена невнимательны…»751*
После отставки Чехова МХАТ-2 выступил в «Известиях» 14 сентября с холодным письмом, где никак не оценивал и не объяснял поступка своего бывшего директора. Сообщалось о реорганизации театра на началах коллегиальности. Это не означало, что возрождались студийные основы. МХАТ-2 не возвращался к прошлому, а обновлялся как театр. Уже 9 октября заместителем директора — фактическим руководителем стал Берсенев, больше других далекий от студийных верований.
ПОСЛЕ ЧЕХОВА
Убежденным студийцем был Сушкевич, самый опытный режиссер МХАТ-2. С горечью переживая утрату студийной атмосферы, он опирался на основы, заложенные в давние славные времена. В своих постановках он тяготел к психологизированной театральной игре, обогащенной социальным анализом, давал эпоху в условном разрезе, в сгущенных красках, оттачивал образ до гиперболы и гротеска. Сушкевич был обстоятельным мастером и академизировал свои задачи. Стиль режиссуры Сушкевича представлял собой сплав мхатовского психологизма, сострадательно-гуманных заповедей Сулержицкого и вахтанговской традиции оправдания игрового гротеска. Эти три истока в разных стечениях определяли до сих пор общие принципы искусства МХАТ-2.
Первой премьерой театра после ухода Чехова явился «Человек, который смеется» (1929), спектакль заостренных контрастов. Сушкевич ставил его вместе с авторами инсценировки Бромлей и Подгорным. Скульптор Андреев на этот раз оформил зрелище в стиле пышного барокко, но гротескно сместил пропорции. Психологизированный гротеск преобладал и в актерской игре. Он достигал своей разоблачительной цели особенно у Бирман — королевы Анны, с геометрической пластикой поз, с блудливыми белесыми глазами и глупым визгливым смехом, ничтожной в ее надменности, уродливой в ее шелках. Удачу Бирман ценил и помнил Горький752*. Одна из главных сцен, «Клуб безобразных», противопоставляла безнравственности лордов благородство Гуинплена — Берсенева. Социальный смысл гротескных приемов обнажался в сцене парламента, данной с прямотой памфлета. Уязвимой стороной спектакля 295 была утрата романтики Гюго. Контрасты из романтических превратились в экспрессионистские. Режиссерский гротеск романтику подавлял. Наивный финал — народное восстание под водительством Гуинплена — не мог возместить потерь. При всей изощренности формы спектакль звучал хрестоматийно.
В сущности, так же хрестоматиен, то есть замкнут в авторском тексте и не соотнесен с современностью, был спектакль Сушкевича «Тень освободителя» (1931), притом что драматург П. С. Сухотин весьма вольно монтировал отрывки из разных произведений Салтыкова-Щедрина. Развенчивалась идиллия освобождения крестьян, и для этого действие эпизодов из пореформенных книг Щедрина переносилось в дореформенную пору, получало другие мотивировки и связки. Постановщик искал некий экстракт щедринского сатирического стиля. В смене подвижных ширм — полосатых шлагбаумов и полицейских будок, в пестрой веренице персонажей-масок и персонажей-кукол проходила эпоха падения крепостного права. Искусство гротескной игры демонстрировали Готовцев — губернатор, Берсенев — Порфирий Головлев («Иудушка»), Бирман — домоправительница Улита. Щедринское жесткое сочувствие звучало в народных сценах: в эпизоде Миши и Вани (Дурасова и Гиацинтова), в интермедиях «игрушечного дела людишек». Кукольные интермедии, разыгранные живыми людьми, Сушкевич ставил с помощью С. В. Образцова, тогдашнего актера МХАТ-2. К финалу персонажи застывали в кукольных позах, и мастер кукол — в нем узнавался сам Щедрин — говорил о грядущем царстве настоящих людей-мастеровых.
Все основные признаки стиля Сушкевича напомнили о себе в постановке «Петра I» («На дыбе») А. Н. Толстого. Многое в облике спектакля (1930) восходило к былым временам МХАТ-2. Фантасмагоричный, туманный Петербург возникал «из топи блат». Пронзительно-зловещий гротеск характеризовал царевича Алексея — Берсенева и придворную камарилью. Трагически одинок был Петр, который до срока врубился в ствол истории и погибал, видя разброд вокруг, крах своего дела, тонущего в пошлости, пустоту и безучастность Екатерины I — Бромлей. В Петре, как его играл Готовцев, была сила, подточенная враждой окружающих и внутренней тоской; эпилептические припадки царя символизировали больную стихию самовластия. В отличие от последующих версий «Петра I» Толстого — Сушкевича, осуществленных уже на ленинградской сцене, здесь не было идеализации личности Петра и его отношений с народом, — народ тянулся к привычному старому, ему был недоступен прогрессивный смысл исторического поворота. И, как не раз случалось прежде, спектакль вызывал у бдительных критиков аналогии с современностью, на этот раз не предусмотренные театром. Страна переживала «год великого перелома». В этом смысле премьера действительно пришлась не 296 ко времени. Она свидетельствовала о трудностях перестройки МХАТ-2.
Между тем Сушкевич чувствовал современность. Это он показал, ставя пьесы И. К. Микитенко «Светите, звезды» (1930) и «Дело чести» (1932).
«Светите, звезды», пьеса о вузовской молодежи, шла в стремительных ритмах групповых мизансцен и массовок, в легких конструкциях В. В. Дмитриева. Привычный по тем временам облик советского молодежного спектакля, созданный с оглядкой на трамовскую сцену, был обогащен мастерством психологической характеристики. Азарин, Афонин и другие актеры, далекие от бездумного «бодрячества», давали образы в их сложности, в преодолении и внешних конфликтов, и конфликтов внутри собственной натуры.
Интерес к внутреннему конфликту, закономерный для МХАТ-2, проявился и в «Деле чести», где на первом плане была драма старого шахтера. Противясь новому, Гнат Орда бросал шахту, попадал в объятия прогульщиков и пропойц, но отшатывался от чуждой среды, медленно подымался на ноги. Минуя натуралистические подробности быта, Сушкевич укрупнял план психологической драмы. Чебан, играя историю падения и величия Гната Орды, создал монументальный, почвенный тип рабочего человека, с его конфликтами стихийности и сознательности, неподкупной совестью и борьбой за правду. Строгий колорит драмы нарушали радужные сцены финала, где изображалась, по словам Сушкевича, «симфония труда»753*, условно поэтизировалась «производственная тема». Художник И. И. Нивинский дал здесь эффектную комбинацию вертящихся колес, приводов и лампочек, композитор А. И. Хачатурян сопроводил феерию патетической музыкой. Оптимизм такого порядка возникал через голову основной драматической ситуации и ее заслонял. Погоня за тогдашней театральной модой спорила с подлинной новизной человеческой судьбы. Все же значительность этого спектакля для своего времени, как и постановки «Светите, звезды», была неоспорима.
Последней работой Сушкевича в МХАТ-2 была комедия Файко «Неблагодарная роль» (1932), где изображались московские похождения немецкой буржуазной журналистки Дорины Вейс, выдающей себя за коммунистку. Роль с корректным юмором играла Бромлей, но комедийные претензии автора не представляли актуального интереса в канун прихода гитлеровцев к власти. Для Сушкевича это был подступ к более содержательной встрече с пьесой Киршона «Суд». Встреча состоялась уже на сцене Ленинградского академического театра драмы, руководство которым Сушкевич принял в декабре 1932 года. МХАТ-2 ставил «Суд» уже без Сушкевича.
297 Из-за обострившихся разногласий с Берсеневым создатель «Сверчка на печи», этой «Чайки» Первой студии, покинул отчий кров. С ним ушла Бромлей. Перед тем, в 1931 году, перешел в реорганизованный театр «Семперантэ» Смышляев. Это был последний «геологический сдвиг» внутри МХАТ-2.
Театр наверстывал упущенное в современном репертуаре. Веской декларацией о перестройке и лучшим — за всю историю МХАТ-2 — его спектаклем о советских людях явился «Чудак» Афиногенова в постановке Берсенева и Чебана (1929). Здесь полемически пересматривалась привычная для «театра Михаила Чехова» тема бунтующего бессилия. Борьба молодого интеллигента Бориса Волгина с чинушами несла в себе энтузиазм деятельного мечтателя. Исполнитель этой роли А. М. Азарин, актер обаятельно жизнелюбивый, в 1925 году был специально приглашен Чеховым из Второй студии МХАТ на роль Санчо Пансы754*. Теперь, в «Чудаке», Азарин нес тему скорее донкихотскую. Скромный «Дон Кихот загряжского болота» привлекал пылом искателя и душевной тонкостью.
И в этом спектакле герой, которого играл Азарин, был не лишен примет идеалиста. И здесь критика равнодушия рождала порой колючие образы и сцены. Предзавкома Трощина — Бирман, недалекая, самодовольная, замотанная, с гротескной походкой, при всем бескорыстии общественницы выступала помехой на пути энтузиастов. Резко развенчивал Берсенев чистенького карьериста Игоря Горского. Затравленная шпаной, кончала с собой простоватая работница Сима Мармер — Гиацинтова. И все-таки спектакль, в противовес былым сострадательным мотивам, звал к действию и был полон веры в человека. Люди были сложны, совмещали слабости с дельными качествами, способны были оглянуться, прозреть, ибо при всех конфликтах объединяло их, по словам Афиногенова, чувство ответственности за строительство Советской страны. Спектакль проникал в диалектику характеров, психологические мотивировки делали убеждающим и прицельным заряд оптимизма. Дон Кихот одерживал победу. В искусство МХАТ-2 вошла утверждающая романтическая нота. Горячо принятый зрителями, «Чудак» выдержал свыше 500 представлений.
«Униженные и оскорбленные» (1932) Берсенев ставил вместе с Бирман. То был рискованный для МХАТ-2 опыт возврата к исходным этическим темам времен Первой студии, к тому, что довел до предельной законченности Чехов. Буря, вызванная уходом Чехова, уже улеглась, и МХАТ-2 решился на подобный опыт, чтобы провести его с новых позиций. В романе Достоевского, инсценированном Ю. В. Соболевым, театр выделил демократическую критику социальной несправедливости. 298 Если Чехов последовательно, почти маниакально стремился переадресовать подобную критику временам нэпа, то Берсенев и Бирман, напротив, заботились о колорите исторической эпохи, о достоверности ее конфликтов и нравов, поступаясь порой и философией Достоевского, и его «надрывной» проповедью. Достоевский был несколько выпрямлен в спектакле. Действие, по образцу мхатовского «Воскресения», вел рассказчик, литератор Иван Петрович, и Берсенев в этой роли намекал на портретное сходство с молодым, забитым нуждой Достоевским. Но в спектакль был введен еще и некий «человек с пледом», заговорщик, наглядно пояснявший связь Ивана Петровича с революционным подпольем; тут театр отступал от логики историзма. Достоевский «Униженных и оскорбленных» сходил за Достоевского «Бедных людей». Издержки полемики с Чеховым отдавали вульгарной социологией. Однако общая тяга к социальному анализу была правомерна и несла ценные результаты.
Прекрасной удачей Гиацинтовой оказалась роль Нелли. В. А. Громов описал ее почти безмолвные сцены в притоне у Бубновой: «Фигурка, сжимающаяся с каждым мгновением все больше и больше, расширенные от ужаса глаза, оторопь от грубой брани свидетельствовали об отчаянии и презрении к угрозам. Это было сильно и страшно»755*. Даже много лет спустя, в декабре 1955 года, А. А. Фадееву помнилась эта роль. Он писал Гиацинтовой: «Стоит мне закрыть глаза, и, как живой, встает в моей памяти Ваш образ в “Униженных и оскорбленных”»756*.
Рядом с акварельным психологическим образом Нелли — Гиацинтовой на сцене жили убедительные социально-типические характеры: от холеного князя Валковского — Сушкевича, с бархатным голосом и нечистыми глазами, до блестяще сыгранного В. А. Поповым загулявшего купчика Сизобрюхова. «Униженные и оскорбленные» вошли в ряд этапных «актерских» спектаклей МХАТ-2.
Успех «Чудака», а затем «Униженных и оскорбленных» повысил репутацию Берсенева-режиссера, — раньше Берсенев выступал лишь как помощник в постановках Сушкевича («В 1825 году», «Евграф, искатель приключений»). Признанный актер мхатовской психологической школы, Берсенев, однако, крупным режиссером заявил себя не сразу. Его ранние самостоятельные работы — «Генеральная репетиция» Ю. В. Соболева и В. А. Подгорного (1930), «Земля и небо» братьев Тур (1932) оказались проходными постановками текущего репертуара. Самобытнее раскрывался тогда режиссерский дар Серафимы Бирман, равноправной сопостановщицы «Униженных и оскорбленных».
299 На путях студийных исканий ядро вчерашней Первой студии — нынешнего МХАТ-2 сумело самоутвердиться как театр с живым, подвижно выразительным лицом. Как театр, почти не знавший случайных постановок. Театр, вырастивший первоклассных актеров и серьезных мастеров режиссуры. Театр Вахтангова и Чехова, Дикого и Сушкевича, Гиацинтовой и Бирман, Берсенева и Азарина… В пути его постигали утраты. Не все понесенные потери удавалось восполнить, не всех ушедших можно было заменить. Но театр не терял воли к творчеству, его труппа, его режиссура, его репертуар обновлялись. «Чудак» стал одной из побед, достигнутой тогда, когда коллектив работал без Вахтангова, без Чехова, без Дикого и без Сушкевича. На перевале от юности к зрелости театр одолел одну из крутых вершин своего восхождения. А там, за перевалом, его ожидали новые подъемы и новые горькие неожиданности.
Глава девятая
ТЕАТР ИМЕНИ ЕВГ. ВАХТАНГОВА
НАСЛЕДСТВО И НАСЛЕДНИКИ
Вахтангов завещал Третьей студии МХАТ щедрое наследство. «Принцесса Турандот» полнее всего выразила формулу вахтанговского стиля. Ансамбль актеров-современников, активный субъект театрального действия, направленно относясь к изображаемому объекту, открыто выдавал свое отношение и к изобразительным средствам. Иронически разоблачая ветхие каноны театральности, напоказ разрушал самые искренние штампы устаревших школ, и пафосно-романтической, и натуралистической, чтобы от деструкции тут же идти к новой конструкции. Разбирая кладку образа до исходных стройматериалов, пересоздавал, выстраивал образ наново, на сегодняшний лад. Вахтанговская ирония имела лирический подтекст, исполненный приятия жизни, вахтанговская «практика относительности» несла позитивную задачу: на сцене утверждалась личность сознательно творящего актера-современника — и тут уже дело шло по всей правде «системы» Станиславского. Недаром Станиславский считал Вахтангова своим вернейшим продолжателем. Процесс художественного творчества становился актуальной темой «Принцессы Турандот», творец-импровизатор — современным героем действия. Спектакль-эксперимент полемически заострял вопросы нового искусства, но найденная в нем формула была шире и оставляла воздух для многих неизвестных жизни, которые могли стать величинами известными в единственно возможной данности каждого следующего опыта.
300 Формула была оптимистична: атмосфера праздника воцарялась на вахтанговской сцене во все 1038 представлений «Турандот». Первые годы после смерти Вахтангова этот спектакль являлся наследством и в самом прямом, прозаическом смысле слова: им держалась, им жила осиротелая студия, пробуя собственные силы.
Третья студия МХАТ была сплочена вокруг творческих и этических идей своего основателя. Учитель оставил после себя коллектив единомышленников. Продолжали работать актеры первого вахтанговского призыва: Е. Г. Алексеева, А. К. Запорожец, Ц. Л. Мансурова, А. А. Орочко, В. А. Попова, А. И. Ремизова, Н. П. Русинова, М. Д. Синельникова, В. В. Балихин, О. Н. Басов, О. Ф. Глазунов, А. И. Горюнов, Ю. А. Завадский, Б. Е. Захава, В. В. Куза, В. И. Москвин, Р. Н. Симонов, И. М. Толчанов, Б. В. Щукин. В 1924 году сюда пришли М. С. Державин, В. Г. Кольцов, И. М. Рапопорт, в 1925 году — Е. Д. Понсова, А. М. Хмара и т. д.
Этот период своей жизни студия провела на началах дружеского сотворчества. Художественный совет возглавил Завадский. Но работа шла медленно. Уроки Вахтангова были у всех на слуху, применить их оказалось совсем непросто. В 1923 – 1924 годах дебютировали в режиссуре ближайшие ученики Вахтангова, актеры его спектаклей Захава, Завадский, Симонов. Не все ранние пробы схватывали суть вахтанговского метода.
Захава поставил комедию Островского «Правда — хорошо, а счастье лучше». Он подробно оговорил замысел с Вахтанговым за два месяца до его смерти. Главным героем Вахтангов снова видел актера-современника, проявляющего в игре отношение к славной школе «дома Островского» — на этот раз не иронично, как в «Турандот», а благодушно-восхищенно. В «Турандот», по Вахтангову, актеры представляли переживание. Теперь следовало переживать представление. Переживать добрые старые традиции корифеев Малого театра, очарованность крупным масштабом типов, сочными красками быта, неторопливой певучей речью, но откровенно выдавая самый момент представления. Об этом писал в 1926 году С. А. Марголин, один из ассистентов покойного мастера757*. Вахтангов принял эскизы И. М. Рабиновича. Вещь там имела повадку и нрав, была очеловечена. «Как пышная купчиха, взявшийся в бока буфет, широчайшее с руками на брюхе кресло и с человеческими ногами стол с самоваром», — описывал работу художника Э. Л. Миндлин758*.
301 Спектакль вышел в свет без этого метафорического убранства. Перед самой премьерой появились декорации С. П. Исакова: художник натуральнее схематизировал традиции Малого театра и тем нейтрализовал момент отношения к традициям. В режиссерской подаче образов отношение сдвинулось назад, к «Турандот». Традициями не восхищались — скорей весело потешались над ними. Множители «Турандот» не поменяли местами, а повторили. Перестановка множителей в искусстве произведение меняет. Барабошев — Щукин обладал кувшинным рылом и малиновыми щеками, весь ряд самодуров, до Грозного — Толчанова включительно, предстал в пестрых масках сатирической буффонады. Плоскими получились речевые характеристики. «Нарочитая округлость речи, чересчур резкое отчеканивание каждой гласной… неприятно резали слух», — писал Э. А. Старк. Задачи Вахтангова решались ученически. Только протестующие герои — Платон Зыбкий и Поликсена были сыграны с живой правдой чувств. По словам того же критика, «Москвин и Попова преталантливо провели свои роли: их дуэт на скамейке в 3-м акте — это очарование настоящего, неподдельно актерского искусства, такими прелестными деталями в пластике и тоне он пересыпан»759*.
Но, как сказано, Вахтангов хотел, чтобы очарование традиционного искусства несли все участники спектакля, смакуя собственную очарованность им. Этого не вышло. Разбивка персонажей на «людей» и «не людей» выдавала робкую оглядку на «Чудо святого Антония», спектакль других заданий. В итоге пропал главный вахтанговский герой — современный актер, так или иначе относящийся к изображаемому и к принятым на сей раз изобразительным средствам. После «Правды — хорошо…» часть критики усомнилась в исходном методе студии. «Вахтангов хорош, а Станиславский лучше», — гласил заголовок одной рецензии760*.
Проблема «относящегося» актера как субъекта сценического действия потерялась и в гоголевской «Женитьбе», поставленной Завадским. Режиссер-новичок дал парафраз «Свадьбы» Чехова, которая во второй вахтанговской редакции прошла фантасмагорией быта. Фантасмагория сгустилась: ученик уходил от учителя к временам, когда символисты развивали тему «Гоголь и черт». В «Женитьбе» Завадский пробовал выразить некую суммарную величину гоголевского трагического гротеска, сдвигающего и пересоздающего планы жизни. Над поступками персонажей — заторможенными у Подколесина, сомнамбулическими у Степана, машинально-оголтелыми у Кочкарева — одинаково 302 тяготел рок. Подколесин обитал в паутине, ее контуры высвечивали сквозь тюль на сером полотне декоративного фона. В невещественной глубине за тюлем сновали два двойника Кочкарева, так повторявшие его пластику, будто сами навязывали ее. Изредка двойники выбегали из-за тюлевых ширм на сцену, чтобы пододвинуть Кочкареву кресло, подать трость. Светотени падали на тюль, образуя зыбкую стелющуюся пелену, тема «петербургского кошмара» заявляла о себе в зловещей музыке двойников, которая обрывалась на полутакте столь же внезапно, как и возникала. Жутью отдавали даже приемы клоунады, введенные в спектакль-гиньоль. Лицом «относящимся» стал не актер, а только режиссер, суть отношения не касалась прямо вопросов жизни, серьезное спорило с молодечеством неофита.
Режиссерский дебют Завадского был сбивчив по замыслу и по ряду моментов воплощения (тягучий ритм, навязчивость световых эффектов и музыкальных вторжений в действие, неровность работы с актером). Все же П. И. Новицкий был прав лишь отчасти, когда назвал «Женитьбу» Завадского «антивахтанговским спектаклем»761*. Да, поиски дебютанта преследовали узкоэстетические цели, какими Вахтангов не ограничивался. Да, тяга к гротеску здесь лишалась заботы Вахтангова об оправданности гротеска. Но внутри этой эстетической сферы поиски имели и симптоматичный характер, так как броско очертили плацдарм многих театральных битв 1920-х годов. Драматургия Гоголя в особенности являла собой арену, на которой скрещивали шпаги представители самых разных (если не всех вообще) наличных театральных течений. Петербургская «гофманиана» Гоголя манила тогда и потом многих искателей — от Михаила Чехова до Мейерхольда, от фэксов до Сахновского. Конкретные находки Завадского, в том числе и световые проекции на тюль, и бессловесные двойники, проникли в экспериментальные спектакли МХАТ-2, ТИМа и др. Должно быть, это перспективное изобретательство Завадского и имел в виду П. А. Марков, когда замечал в связи с «Женитьбой», что «иные ошибки и неудачи значительнее громких побед»762*.
Впрочем, победы, пусть не слишком громкие, знала и тогда вахтанговская студия.
Наиболее успешным был третий режиссерский дебют. Симонов поставил «Льва Гурыча Синичкина» Д. Т. Ленского в новой обработке Н. Р. Эрдмана и декорациях Б. Р. Эрдмана. На материал давно всем знакомой пьесы об актерах теперь была опрокинута вахтанговская концепция актера как современного героя сценического действия. Свободная форма водевиля с пением 303 и танцами вполне это допускала. Прихотливый ритм действия, комедийная легкость игры, злободневные апарты в зал таили под собой серьезную защиту правды в искусстве. Этот положительный идеал направлял пародийные моменты, где осмеивались фальшивая чувствительность, риторика, приспособленчество.
В сцене репетиции пародировались дежурные штампы конструктивистского агитспектакля. Новейшие штампы оттеняла стародавняя рутина закулисного быта. Актеры в костюмах почти вековой давности принимались изображать современников зала, набрасывая на образ приметный нынешний штрих: один глубоко засовывал руки в карманы клетчатого реглана, другой перекидывал через плечо конец пестрого кашне, нахлобучивал кепку. Суетливый режиссер с продранными локтями и в необъятных галифе натаскивал героя-любовника на роль текстильщика. Парадоксальное обнажение приема «от обратного» сделало бы честь и Мейерхольду, спектакль которого «Д. Е.» походя задевала пародия. Над голой сценической конструкцией парил велосипед — примитивная эмблема театрального техницизма, четыре эксцентричные пары млели в фокстроте.
Дерзкие вылазки в театральную современность лишь оттеняли очарованность актеров доброй старой традицией. Спектакль Симонова давал то «переживание представления», какое Вахтангов предлагал Захаве искать в постановке Островского. Водевиль позволил вести это переживание в простоте душевной. Синичкин у Щукина был предприимчив, лукав и темпераментен до одержимости. Импровизационная стихия, низвергаясь с порогов веселости ли, скорби, пенилась в русле густых преувеличений, свойственных водевилю. Щукин сам выглядел тут наивным и патетическим чудаком-актером старого закала, потому что ласково поминал в своей игре школу славных предшественников. Но это последнее обстоятельство и уличало в нем вахтанговца. Та же восхищенность образом жеманной и своенравной Сурмиловой, способом игры, идущим от умилительно ветхих преданий театральности, освещала с виду обличительные планы подхода Орочко. Искренность актера в потоке водевильной условности была главной студийной целью, достигнутой здесь вполне.
На этот раз критика сошлась в приятии вахтанговской сущности спектакля. «Театральность, созданная Вахтанговым, торжествует в “Льве Гурыче Синичкине” едва ли не в большей мере, чем в “Принцессе Турандот”», — говорилось в одной из рецензий763*. Симонов верно применил уроки учителя, проявив самостоятельность и в пределах ученического повтора. После упрощенной «Правды — хорошо…», после сбивчивой «Женитьбы» 304 студия нуждалась в таком повторе, закреплявшем ее исходные позиции. Имелась и еще одна лично-студийная, тема в спектакле.
Как раз в промежутке между выпуском «Женитьбы» и «Синичкина» (1924) В. И. Немирович-Данченко, ожидавший приезда МХАТ из-за рубежа, предложил Третьей студии войти в состав метрополии. Он не обещал сохранить нажитый студией репертуар, даже постановки Вахтангова. Это вызвало замешательство среди студийцев, потом раскол. Немногочисленная группа во главе с Завадским, самым популярным тогда актером студии, руководителем ее художественного совета, вняла призыву и ушла в МХАТ. В том же 1924 году Завадский основал собственную студию, которая с 1927 года стала носить его имя. Преобладающее большинство вахтанговских учеников сохранило верность учителю и решило сберечь его спектакли. Третья студия отделилась от Художественного театра и с 1924 года называлась Государственной академической студией имени Евг. Вахтангова. Это имело декларативный творческий смысл. Шутка «Вахтангов хорош, а Станиславский лучше» вдруг прозвучала для студийцев всерьез. Вахтанговская концепция стиля оставалась им дорога. Но на время студийцы предположили: а не «лучше» ли для них Мейерхольд?
«Отпочковавшийся от системы МХАТ и его студий, молодой театр в настоящее время патронируется Мейерхольдом. Это и должно определить на будущее время художественную физиономию Студии имени Вахтангова. Да будет!» — торжественно писал Блюм в сентябре 1924 года764*.
Привлечь Мейерхольда в студию, ознакомить студийцев с его идеями и практикой собирался перед смертью Вахтангов. Теперь ученики с боязливым интересом исполнили волю учителя. Мейерхольд стал частым гостем в особняке вахтанговцев на Арбате, корректировал репетиции, тренировал актеров. Симонов потом рассказывал, как взволновал всех приход Мастера на прогон «Льва Гурыча Синичкина»: «А вдруг Всеволод Эмильевич обидится?» Ведь веселые уколы в адрес «Д. Е.» были там неспроста. Но Мастер сделал вид, что пародия его не касалась, хотя и смотрел на сцену подозрительно прищуренными глазами. Он принял спектакль, выстроил ряд динамичных мизансцен в развитие замысла, не обходя мест, где сам был задет. И Симонов признавался, что на прогонах «Синичкина» он перенимал у Мейерхольда «умение строить выразительную мизансцену. Находить не только внутреннее действие, но и уметь вылепить это действие в движении, жесте, в живописно-скульптурной компоновке мизансцен. Правда, этому учил нас и Вахтангов. Занятия с Мейерхольдом только закрепляли в моем 305 сознании необходимость точного нахождения формы для каждого спектакля»765*.
Искусству мизансцены, композиции многоголосных массовых эпизодов, перекличке ритмов Симонов учился, ставя под руководством Мейерхольда «Марион де Лорм» (1926). Задачей «Синичкина» была искренность самовысказывающегося актера в водевиле; здесь же задача была перенесена на почву романтической мелодрамы Гюго. Самым сильным моментом спектакля явилась массовая интермедия второго акта, где, изображая бродячих комедиантов XVII века, театр снова крупно выделял тему активного творчества актера. Отдавая этому эпизоду «одно из первых мест в ряду театральных достижений студии», С. С. Мокульский находил, что тут действительно повеяло Вахтанговым и техникой «Турандот»766*. Как раз Мейерхольд и подсказал пантомимную интермедию, и увлеченно работал над ней. Симонов живо воссоздал подробности репетиций на страницах сборника «Встречи с Мейерхольдом». Новый учитель не собирался ревизовать метод Вахтангова, а вел студийцев по избранной ими дороге. То была школа практического опыта.
Ближайшим сторонником Мейерхольда в вахтанговской студии стал Захава. В 1923 – 1925 годах он даже сыграл несколько ролей на премьерах ТИМа: Восмибратова в «Лесе», председателя французского парламента в «Д. Е.», капиталиста ван Кампердафа в «Учителе Бубусе». Поэтому становится ясным, что уже в «Правде — хорошо…» не случайным было воздействие мейерхольдовского театра социальной маски. Тогда Захава тяготел к нему подражательно. Но впоследствии режиссер, называя свой лучший спектакль, «Егор Булычов и другие» (1932), принесший вахтанговцам славу, мог по праву заявить: «Ни одна из моих режиссерских работ не испытала на себе столь очевидного влияния творчества Мейерхольда»767*.
Захава был ассистентом Мейерхольда на репетициях «Бориса Годунова» в вахтанговской студии. Он подробно рассказал о характере этих репетиций, о Щукине — Годунове, Москвине — Самозванце… Поиски многоэпизодной непрерывной структуры действия, идущей от шекспировского театра, отказ от декоративной архаики во имя подноготной правды характеров, непрямота соответствий слова и поступка в диалоге, обнажающая мысль и изгоняющая иллюстративность, отработка задач «темпизации» и т. д. — все это действительно сближало вахтанговское и мейерхольдовское в театре, а отчасти поясняло и сказанное Захавой о мейерхольдовском в «Булычове».
306 Только в таком плане, в плане конкретных художественных соприкосновений, и можно говорить о воздействии мастерства Мейерхольда на практику вахтанговцев, оставшихся без Вахтангова. Определить «художественную физиономию» студии в целом, так, как мечтал Блюм, Мейерхольду было не суждено. Репетиции «Бориса Годунова» оборвались сами собой. Не последней причиной была взаимная разочарованность режиссера и актеров. Даже первый мейерхольдовец среди вахтанговцев Захава признавал, что мало-помалу обнаруживалось «невольное внутреннее охлаждение к этой работе»768*. Мейерхольд помог студии стать на ноги, но пошла она своим путем. К концу 1925 года встречи прекратились. Вахтанговцев увлекли другие поиски. Уже явилась вестница перемен — «Виринея». Студия почувствовала самостоятельность.
А. Д. ПОПОВ У ВАХТАНГОВЦЕВ
«Виринею» ставил А. Д. Попов, коренным вахтанговцем не бывший. Воспитанник Художественного театра и актер его Первой студии, Попов там работал с Вахтанговым. После нескольких лет режиссерской и актерской деятельности в Костроме и Ярославле он пришел в Третью студию, приглашенный Завадским. Это случилось осенью 1923 года. Введенный на роли Антония в «Чудо святого Антония» и Тимура в «Принцессу Турандот», Попов практически осваивал навыки высшей вахтанговской школы. Через год он поставил «Театр Клары Газуль» Мериме («Рай и ад», «Африканская любовь», «Карета святых даров», «Женщина — дьявол»). Спектакль — по афише «Комедии Мериме» — оформили художник И. И. Нивинский и композитор Н. И. Сизов, соавторы вахтанговской «Турандот». Работа режиссера-пришельца оказалась одной из самых вахтанговских среди студийных постановок той поры. Здесь потешались, глумились, тонко ехидничали над властью всяческих предрассудков, от религиозных, сословных и до собственно театральных. Насмешка отдавала бодрым темпераментом и жизненной радостью актера-современника. Игра в театр дышала нынешним оптимизмом и свободной верой в будущее.
Задумывая спектакль, Попов хотел бросить игровой помост на обыкновенные бочки, чтоб обнажить и процесс игры, и его народную, площадную основу. Нивинский бочки убрал, но упрощенную конструкцию, единую для всех пьес, оставил. Здоровый демократический идеал пронизывал сценическое действие от начала до конца.
В комедии «Женщина — дьявол» монах-инквизитор фра Рафаель — Горюнов наскоро молился мадонне, изображенной на 307 щите, и, опрокинув щит, взбегал по нему к своей Мариките — Поповой.
Сцена исповеди в комедии «Рай и ад» проходила как поединок двух хитрецов: прекрасная и коварная донья Урака — Мансурова то состязалась с духовником Бартоломе — Толчановым в лицемерных благочестивых вздохах, то замирала в его сластолюбивых объятиях, движимая одной мыслью — отомстить неверному любовнику дону Пабло. В диалоге с доном Пабло движения доньи Ураки иногда подчеркнуто расходились со смыслом произносимых слов, создавая иронический действенный подтекст. Саркастическую трактовку образов мотивировала фрагментарная декоративная деталь: тюремная дверь, господствуя, определяла сокровенную суть слов и поступков.
В «Карете святых даров» Симонов играл облезлого, стариковски расслабленного, но кокетливого вице-короля Перу дона Андреса де Рибера, угодившего в силки, которые искусно расставила бестия-комедиантка Камилла Перичола — Ремизова. Актер сочетал маску буффона с повадкой грустного «белого клоуна», проделывая запросто, как должное, сногсшибательные выходки, непременно повторял трюк по всем законам комедийного воздействия и хранил при этом разочарованный, задумчивый вид. Эксцентрика глупца, возомнившего себя хитрецом, получала свою последовательную логику.
Актер-мастер снова выступал героем спектакля. В финалах, как это предусматривал Мериме, исполнители ролей (погибших персонажей в том числе) поясняли смысл показанного и игровую основу показа. Спектакль, «отлично сработанный режиссером», Авлов находил «достойным славного имени Студии»769*. Строился он, по словам Блюма, «весело, задорно и с попранием очень многих театральных “приличий”»770*. Блюм писал о необузданном «кощунстве» зрелища. Кощунство это захватывало не одни антиклерикальные мотивы драматургического содержания. Оно победительно гремело в содержании собственно театрального творчества, ниспровергая фальшь, утверждая свободу и подлинность актера-личности, актера-современника.
Встреча с «Виринеей» перенесла поиски подлинности в сферу современной жизни. Л. Н. Сейфуллина, превратившая свою повесть в пьесу с помощью В. П. Правдухина, знала деревенскую жизнь, разворошенную войной и революцией. Шла схватка старых и народившихся новых сил деревни, борьба стихийности и сознательности в стане бунтарей, и, как образное средоточие темы, стихийность преодолевалась в мятежной натуре Виринеи под воздействием Павла Суслова, первого большевика на вахтанговской сцене.
308 Многие ресурсы вахтанговской театральности были взяты На службу. Попов и исполнители еще не умели воспользоваться ими сполна на новом жизненном содержании. Грубоватая фактура и суровый колорит действия отвечали поискам правды, но говорили и о намеренном самоограничении художников. Критика писала о скромности режиссуры, подчас заподозривала и натурализм.
«Можно поставить все это так, что тебя как режиссера заметят…» — размышлял тогда Попов. Но можно было ставить и «серьезно, скупо, проникая в суть того, что совершается. Смысла этой новой, диктуемой деревенской жизнью театральности, пожалуй, не поймут, скажут: “старый МХТ”»771*. Попов избрал труднейший путь. Он выстраивал, углублял пьесу, не навязывая испытанных приемов игры в театр, а идя от мыслей Вахтангова о неповторимости театральной формы каждого данного спектакля, каждого данного содержания. Актер не противопоставлял себя герою, а был с ним заодно. Отношение к образу героя стало отношением единомышленника.
Открытие характеров было самым существенным открытием спектакля. Виринея — Алексеева, статная, с низковатым грудным голосом, с черными миндалинами глаз на строгом, почти иконописном лице, бросала злой вызов судьбе, насмешничала над богом и верой, над обычаями стариков, невесело и гордо неся зазорное клеймо «гулящей». Потом, когда сламывался прежний порядок жизни и приходило новое, олицетворенное для героини в суровом и душевном друге, солдате Павле, обнаруживались запасы деятельных сил в исстрадавшейся гордой бабе. Бунт Виринеи получал цель, открытую Павлом. Когда он уходил на гражданскую войну, простоволосая Виринея, откинув голову, припадала к нему в тоске, руки повисали плетьми. А оставшись, заступала на его место как заводила нового в деревне, душа сельской голытьбы. В судьбе героини отзывалась очистительная сила революции. Луначарский писал, что Виринея — Алексеева «является перед нами, в сущности, образцом чистоты и крепости, женщиной, вполне готовой для самого широкого, даже руководящего сотрудничества в революционном деле»772*.
Павел Суслов был другим значительным отражением нового в спектакле, в судьбах вахтанговской студии вообще. Щукин не без усилий сдирал с себя на репетициях маски Тартальи, Барабошева, Синичкина, навыки мягкого комизма, чтобы пробиться к теме, определившей содержание его творчества. Актер трижды заявлял об отказе от роли, а Попов рвал заявления, ломал неверие и добился в конце концов от Щукина волевых красок, скупой лирики, жесткости. Павел, сутуловатый, с тяжелыми 309 руками мужика и натруженной поступью солдата, нес в себе давно обдуманные решения. Прочно вписываясь в деревенский «пейзаж», он знал, как этот «пейзаж» пересоздавать, и вносил ток напряжения в суровую сценическую атмосферу. Сейфуллина писала о Щукине: «По сути образ Павла принадлежит не мне, а ему… настолько жил он целостной жизнью в образе Павла, настолько неотразимо убедительно было его, щукинское начало, породившее образ Павла»773*. Работа, поворотная для актера, отразила общую эволюцию вахтанговской студии: и для нее это был перевал на пути от накопления «мастерства» к искусству жесткой жизненной правды.
Поиски подлинности в который раз меняли структуру того подвижного единства, каким является вахтанговский стиль. Принципы «системы» Станиславского снова вышли там на определяющее место. Попову они были дороги принципиально, не говоря уже о том, что работали на задачу.
Театральность «Виринеи» не отрывалась от вахтанговской почвы, а вздымала новые пласты. Главная игровая площадка, построенная С. П. Исаковым, имела достоверную фактуру бревенчатого сруба, но предлагала условный срез одного лишь угла избы, открывая периферийные планы игры. Изба была приподнята на брусьях, которые сходили и за ребра фундамента-подпола, и за откровенно театральные подпорки. Это давало разные уровни планировки, позволяло строить массовые сцены по вертикальным уступам. Наконец, установка была универсальна: в бревенчатом углу шли сцены у Виринеи и Павла, у Савелия Магары, у Анисьи, выборы в Учредительное собрание… Менялись лишь фрагменты, реквизит.
Рождалась новая, отражавшая именно деревенский быт театральность. Присущие ей ритмы, интонации, атмосфера давали сквозное дыхание действию. Накапливались крупицы нового творческого метода, который затем проявит себя в «Шторме» Театра имени МГСПС, в «Любови Яровой» Малого театра, в «Барсуках» и «Разломе» на той же вахтанговской сцене, в «Бронепоезде» МХАТ…
Художественное новаторство скромного спектакля Попова, очевидное теперь, было понято не сразу. Нарком Н. А. Семашко писал: «Впервые мы видим на сцене доподлинную деревню в талантливом изображении; впервые театр становится лицом к деревне»774*. Речь шла о новизне жизненного материала. Но уже тогда стало ясно, что предшествовавшие опыты вахтанговцев без Вахтангова — лишь мастерские вариации учеников на темы, опробованные учителем. Попов в «Виринее» вернул вахтанговцев к Вахтангову по крупному счету, восстановил 310 в правах «волнение от сущности», позволил наконец сыграть «мятежный дух народа» и если не «взметнуть» в сдержанном по размаху спектакле, то уж во всяком случае подрулить к взлетной полосе.
Попов не принадлежал к режиссерам, преуспевающим в единоборстве с драматургом: побеждал, не преодолевая пьесу, а углубляя и обогащая ее жизненную суть. Это показали и «Виринея», и другие ближайшие работы режиссера на вахтанговской сцене. Они подтвердили современные возможности вахтанговской театральности. Иногда подлинность характеров граничила с узнаваемостью, а стиль определяли поэтическая метафоричность, гипербола, эксцентрический гротеск. В вопросах стиля Попов не расходился с актерами. Этими итогами завершилась студийная пора коллектива.
26 ноября 1926 года, через месяц после премьеры, студия была преобразована в Государственный театр имени Евг. Вахтангова. Было ему тогда отроду пять лет. Творческое самоопределение бывшей Третьей студии МХАТ закрепилось организационно, но зрелая форма театра не означала для вахтанговцев отказа от убеждений студийности. Еще раньше в театр превратилась и Первая студия. Но далеко разминулись студийные коллективы, когда-то шедшие вместе с Вахтанговым под знаменем МХАТ. Первая студия стала театром тогда, когда заботы исканий решился взять на себя один крупный художник, М. А. Чехов, слишком субъективный, из ряда вон выходящий, чтобы выразить волю содружества и сберечь заветы. Это вызвало раскол, бурный мятеж оппозиции, а затем отставку самого лидера. МХАТ-2 не сразу сумел восстановить коллективные основы творческой и организационной жизни.
А Театр имени Евг. Вахтангова, опустив на афише признак академической принадлежности, сохранил исходные принципы студийности. Здесь тоже имелись сильные актеры и режиссеры, но вождем оставался Вахтангов. Патронаж Мейерхольда окончился быстро, ничего существенно не изменив в исходных верованиях труппы. Театр держался сплоченным братством и долго еще исповедовал творческие, этические, организационные принципы студийной поры. Через две недели после того, как студия была провозглашена театром, П. Г. Антокольский, соратник Вахтангова и поэт, писал о своеобразии «школы, связанной своими первоначальными элементами с именем К. С. Станиславского и представляющей ответвление его системы на потребу современного театра. Эта школа наряду со спектаклями, сделанными Е. Б. Вахтанговым, является нашим единственным крепким достоянием, давшим нам право на жизнь все эти годы»775*.
311 Театр не знал персонального художественного руководства. Вопросы творчества решал художественный актив. Это вызывало косые взгляды других театров. Отводя нападки, Захава объяснял: «Художественный актив — это есть коллективная замена единоличного художественного руководителя», «орган художественного, идейного и этического руководства»776*. Захава уже тогда пропагандировал принципы Вахтангова на страницах печати. В 1927 году вышла первым изданием ценная книга Захавы «Вахтангов и его студия». Мемуарная и теоретическая в одно и то же время, она включала в себя творческие документы Вахтангова, тогда еще не опубликованные.
Пополняя труппу выпускниками собственной школы, театр обходился наличными режиссерскими силами. Его ведущими режиссерами оставались Попов, Захава и Симонов. Проходили и новые режиссерские дебюты, в основном групповые. В опытах совместных постановок на равных правах участвовали актеры Басов, Глазунов, Миронов, Орочко, Рапопорт, Щукин, а также поэт Антокольский. Сатирическим спектаклем «Женитьба Труадека» (1927) дебютировал Толчанов, недавний помощник Попова в «Виринее». Работа Толчанова содержала изобретательные находки в плане социально-бытового гротеска, эксцентрики характеров и мизансцен (дрессировка комитета «партии честных людей», игра Симонова в главной роли). Но крупным событием опыт не стал: объекты сатиры Жюля Ромена были слишком мало знакомы зрителям, чтобы оценить насмешку по достоинству, образы теряли в узнаваемости, действие — в доходчивости. Спектакль памятен больше тем, что в нем начал сотрудничать с вахтанговцами художник Н. П. Акимов. К тому времени уже вышли в свет томики Жюля Ромена в выразительном акимовском оформлении. Театр, естественно, захотел преобразовать графику художника-стилиста в живопись сцены, тем более что Акимов уже имел изрядный опыт работы в театрах Ленинграда. С тех пор вахтанговцы не расставались с Акимовым пять сезонов. Из двенадцати премьер 1927 – 1931 годов девять было оформлено им, вплоть до «Гамлета», этого вызывающего дебюта Акимова-режиссера. Своего рода живописно-конструктивной режиссурой была работа Акимова и в остальных спектаклях. Вместе они знаменовали высокий современный уровень театральной культуры вахтанговцев.
Культуру передового советского театра, идейную и творческую зрелость вахтанговцы продемонстрировали на европейском театральном фестивале в Париже (1928), куда их пригласил Фирмен Жемье. Они играли «Принцессу Турандот» и «Виринею», — первая принесла всеобщее признание, вторая расколола 312 зал «Одеона» на неистовых врагов и друзей. В связи с гастролями Луначарский писал, что ученики Вахтангова «продолжали его дело с величайшим успехом и в целом ряде спектаклей отразили нашу современность, став в первый ряд социальных театров нашего времени. В то же время, однако, они не пренебрегали приемами самого решительного, подчас виртуозного и даже шаржирующего стилизаторства, не отказались от совершенно своеобразной трактовки театра прежних эпох, придавая ему современную остроту, и т. д. Молодой Театр имени Вахтангова имеет огромный диапазон и может поэтому в значительной мере являться характерным представителем нашего театра вообще»777*. Луначарский справедливо оценил достигнутое. Говоря о «целом ряде спектаклей», отразивших современность, он, конечно, имел в виду и созданные к 1928 году, вслед за «Виринеей», спектакли «Барсуки» и «Разлом», веско подкреплявшие сказанное им.
ОБРАЗЫ НОВОГО
Ход вахтанговского театра от «Виринеи» к «Барсукам» (1927) был сложен, но воспроизводил как бы в перевернутом виде гораздо более сложную эволюцию Художественного театра. МХАТ, высказываясь о гражданской войне сперва косвенно, в «Каине» или «Пугачевщине», а под конец прямее — в «Днях Турбиных», «Бронепоезде», от трагического неприятия братоубийства и сочувствия жертвам переходил на сторону победивших большевиков. Для вахтанговцев уже в их первом спектакле о революции, в «Виринее», правда большевика Павла Суслова была непреложной. Тема братоубийства и не возникала. Драматизм определяла борьба стихийности и сознательности среди идущих к революции. В «Барсуках» полюсы борьбы олицетворяли… братья.
Братьями были пламенно-безрассудный Семен, вожак лесной вольницы «зеленых», и прозаично-трезвый большевик Павел, по подпольной кличке «товарищ Антон», прошедший городскую рабочую закалку, сбитый из камня. Третьим важным персонажем был «барсук» Егор Брыкин, «некий человек», как характеризовал его автор пьесы Л. М. Леонов, то есть живущий для себя попросту, накопитель и небокоптитель, лавирующий, а потом гибнущий в борьбе, которой сам не ведет. Брыкин был главным в пьесе Леонова, написанной по мотивам одноименного романа. Примечательно, что именно театр предложил автору вынести на первый план судьбы двух братьев и, как писал Леонову режиссер Захава, «сгустить атмосферу войны», углубить общие 313 планы борьбы «на предмет выявления “большевистской правды”», Уже из этого можно заключить, что тема двух братьев не должна была изменить маршрут вахтанговского спектакля. После премьеры Леонов признал: «Психологический акцент романа при переносе в спектакль превратился в социальный»778*. У вахтанговцев имелась своя позиция и опыт «Виринеи». Это позволило по-новому подойти к изведанной теме «брат встает на брата» и повернуть ее к четким художественным выводам.
После всех переделок пьеса Леонова выглядела на сцене фрагментарной. Ее структура отразилась и на декорационной установке Исакова, фрагментарной уже намеренно, сменявшей подробности быта внутри схематичного конструктивного каркаса. Между тем спектакль обозначил новый подъем вахтанговского искусства самовыражения. Если МХАТ тогда был по преимуществу театр-психолог, театр-аналитик, а МХАТ-2 — театр-правдоискатель, то вахтанговский коллектив прежде всего мог называться театром «темперамента от сущности», театром-стилистом. Спектакль был целен в сумме слагаемых, в расстановке социальных сил, в системе образных обобщений, и достигалось это собственно театральными средствами. Театр наслаждался национальным колоритом характеров и речи Леонова, передавал густой аромат земли, деревенской жизни, напряженность воль, убеждений, страстей. Он противопоставлял братьев психологически и социально, но, проникая внутрь обеих натур, не дробил их, не искал в каждой каиново и авелево, а находил крупный план, цельный итог.
Леонов замечал о Щукине — «товарище Антоне», что врезался в память именно результат: «У Щукина не было демонстрации каких-то отдельных качеств нового человека. Перед нами сразу был человек во весь его рост». Щукин заявил себя актером вахтанговской сути. «Была предельная серьезность вживания в мысли, в нервы, в мозг Антона. В чем это сказывалось? Во всем. Я помню, — продолжал драматург, — громовую негромкость его голоса. Человек говорит тише всех, а его слышнее всех…»779* Коренастый воитель правды, в фуражке с красной звездой и солдатских сапогах, с усталыми неторопливыми жестами и пронизывающим взглядом чуть скошенных глаз был неуступчиво жесток к дикой, разгульной вольнице, к лесному зверью — «барсукам», обернувшимся «зелеными», потому что, только обуздав стихию, можно было пробудить в ней человеческое.
Стихия расцветала на сцене многокрасочно и буйно. Театр не притушил хмельного соцветия леоновской палитры, изображая 314 «зеленых» и их атамана Семена. Н. Г. Гладков увидел в Семене и соколиную стать, и удаль, и одухотворенный порыв к зыбкой, неосязательной правде. Это был такой же цельный образ, только данный не со скупым лаконизмом, как у Щукина, а на пределе выразительности и темперамента. В конце концов и Семен был покорителем стихии — но как ее ставленник, качающийся на гребне ее волны. И унылость высоко поэтического плана была в этом герое, когда вольница покидала своего вожака, когда природа звала мужиков, стосковавшихся по земле, домой, к крестьянским работам, а он с повинной, но непокорной головой, расхристанный и босый стоял вполоборота перед братом-победителем, впившимся обеими руками в край стола.
Луначарского восхитила художественная объективность спектакля. «Я считаю спектакль превосходным, я считаю его первоклассным, — заявлял он после премьеры. — Я полагаю, что по сравнению, например, с “Любовью Яровой” это есть шаг вперед. Спектакль увлекает своей правдивостью, героизмом, высоким и трагическим напряжением». И почти теми же словами, какими позже характеризовал Леонов игру Щукина, писал обо всех участниках действия: «Здесь я в первый раз почувствовал, как настоящая советская революция начала проникать в сердце, в нервы, в кости актера»780*.
Та «правда внутреннего чувства», какой требовал Вахтангов, определяла художественную природу спектакля. И если не все критики писали о «Барсуках» так же восторженно, как Луначарский, а находили более сдержанные оценки, объяснялось это тем, что путь к народности искусства труден, а леоновский подробный психологизм и вахтанговская театральность едва уживались в пределах сценического единства. Вахтанговское теснило и побеждало. Леонов не стал драматургом этого театра: даже в годы войны здесь не играли «Нашествия». Но еще «Виринея» показала, что и призыв Вахтангова «взметнуть» не расшифруешь на сцене буквально. «Барсуки» это подтвердили. Емкие образы «Виринеи» и «Барсуков» отразили живые и подвижные соотношения борьбы. От Вахтангова шла не психологическая дробность, а поэтическая цельность образа. Так можно было теперь «взметнуть». Только так. Но и этого было достаточно. То, что условлено здесь подразумевать под маршрутом вахтанговского «Бронепоезда» (МХАТ в то время еще готовил к сдаче свой знаменитый спектакль), было последовательно по прокладке станций и охвату территорий.
А когда мхатовский «Бронепоезд» появился, одновременно с ним, к десятилетию Октября, вахтанговцы выпустили «Разлом». Утверждающая тема мхатовского спектакля вырастала из анализа трагических противоречий жизни, вздыбленной революцией. 315 Там конфликты заглядывали внутрь характеров, психологическое подчас спорило с эпическим. Все вместе определяло путь к сложному. Вахтанговцы продолжали поиски цельного. В облике их спектакля, в характерах героев, в равнодействующей стиля было, так сказать, больше брони, чем в «Бронепоезде» МХАТ. Действительно, оптимизм нового вахтанговского спектакля не опирался на почву лирики. Напротив, Попов и Акимов сбивали все лирические намеки Лавренева, чтобы укрупнить социальные характеры, фон, образ спектакля в целом. Из текста ушла линия отношений матросского вожака Артема Годуна и Татьяны, дочери капитана Берсенева. Политическая основа драмы становилась личным делом каждого.
То там, то здесь в монолитной броневой обшивке сцены (занавеса не было) раздвигались «окна»: большой круглый иллюминатор — увеличивающее стекло публицистики; или квадратные, ромбовидные, диагональные сечения, обрамленные клепкой. Они выхватывали событие из потока, подобно крупному плану кино, и уходили в «диафрагму». Косой срез комнаты у Берсенева. Стычка в матросском кубрике. Диалог-заговор. Диалог-перепалка… Принципиальный отказ от павильона позволил связать единством условности эпизоды на крейсере и на берегу, чередовать выразительно-резкие наклонные ракурсы, регламентировать ритмы и пластику актеров, вписывавшихся в строгую композицию кадра. Раскадровка, регулируя поле обзора, расширяя или сужая его, также дозировала соотношения личного и социального, концентрировала внимание на главном. Лишь дважды возникал общий план и зеркало сцены обнажалось совсем, выделяя кульминации борьбы на палубе «Зари».
Выразительный лаконизм особенно отозвался в игре Щукина — капитана Берсенева, которому честь русского интеллигента и дворянина, долг командира повелевали остаться с народом, разделить его судьбу, взять его сторону. Щукин медленно вел героя к решению, не забегая в результат, но и не петляя в психологических возвратах. В раскадровке эпизодов у Щукина, как писал Х. Н. Херсонский, играли «глаза, поворот головы, молчание, короткое слово, неподвижность, незаконченный жест, намек на жест»781*. То, что психологическая деталь подавалась крупным планом, было не случайно в образности спектакля. Деталь проходила как принадлежность целого, отражала всеобщее.
В центр выдвинулись массовые сцены на корабле. Там ликовала, бушевала в разломе, в схватке со старорежимными шкурами многоликая матросская вольница и победно подымала в финале красный флаг с золотыми цифрами 1917 – 1927; с эмблемой Октябрьского десятилетия на сцену вторгалась условность 316 сегодняшнего агитспектакля. Притом собирательный образ массы был живым и многоликим. В эпизодах на корабле действовали первоклассные актеры труппы — Балихин, Горюнов, Державин, Журавлев, Захава, Кольцов и т. д. Только в связях с массой вырастал ее вожак Годун — Куза, молодой, ухватистый, улыбчивый. Сравнительно со своими предшественниками в «Шторме» и «Любови Яровой», Годун был сознательней, но и суше у Кузы. Театральная маска остепенившегося «братишки» половинчато обновляла навыки вахтанговской игры. В Ленинградском БДТ Годун — Монахов выглядел старше, но органичнее, хотя планы исторического разлома среды давались открытее, кое в чем элементарнее. Матросская стихия бурлила и взметалась в сложнейших темпоритмах тбилисского спектакля Сандро Ахметели, в игре выдающегося актера Ушанги Чхеидзе — Годуна; равной эмоциональной силы вахтанговцы опять-таки не достигали. Зато они убеждали строгой цельностью, смелыми находками в сфере театральности. Самостоятельное содержание их спектакля углубляло и корректировало сюжет пьесы, а рожденная этим содержанием сценическая форма активизировала традиционную драматургическую структуру, смело влияла на атмосферу, тональность, динамику действия.
Пьеса-клавир стала разработанной оркестровой партитурой. Театр инструментовал «Разлом» на свой лад, в известных пределах следуя за таким отношением к драматургии, какое было и в «Принцессе Турандот», и в «Льве Гурыче Синичкине». Здесь он оставался верен тексту, но почти композиторски группировал звучности, монтировал зрелищные планы по принципу контрапункта. Это не был «монтаж аттракционов» Эйзенштейна, утверждающий предельную независимость сцены от драмы, или мейерхольдовская разбивка на эпизоды, взрывающая «закрытую» драматургическую структуру и «открывающая» ее. Это был именно вахтанговский способ активизации готовой пьесы посредством театрального отношения к ней, закономерный после инсценировок Сейфуллиной, Леонова.
«Заговор чувств» (1929) завершил поиски большого этапа. Ю. К. Олеша вел поэтически напряженный спор с самим собой о месте личности в новом, социалистическом обществе. Художник показывал неизбежный крах индивидуализма. Заговор старых чувств, таких, как зависть, ревность, корыстолюбие, был обречен, и они бессильно бунтовали на задворках нового быта. Многозначные образы представляли собой «настоящий театр метафор», говоря словами Олеши. Вахтанговскому театру крупный план пьесы, ее философская тема, ее образность пришлись по плечу. Не было серьезных разноречий с автором — по поводу содержания или художественной формы. Не пришлось поступаться иными знаками вахтанговской театральности, как в «Виринее», отчасти в «Барсуках». Поэтика театра и поэтика драмы совпали в спектакле-дискуссии о современности. Попов с помощью 317 Акимова синтезировал найденное прежде. Недаром Луначарский писал: «Я считаю такие спектакли, как “Виринея”, “Барсуки”, незабываемыми… “Заговор чувств” подымается до лучших произведений творчества Вахтангова и своеобразно соединяет их в себе»782*.
В поэтическом мире Олеши театр привлекла не столько тонкость, сколько обобщенность. Об этом драматург не жалел. «Слишком большая тонкость слова не помогает, а мешает пьесе. Я убедился в этом на спектакле “Заговор чувств”», — признавал он позже783*. На сцене контрасты были генерализованы. Просторный кабинет Андрея Бабичева, с лесенкой на крышу, где герой делал физзарядку, со светлыми окнами, открывающими легкие несущие плоскости железобетонной архитектуры в манере Ле Корбюзье, — этот рационально устроенный быт будущего противостоял чаду и склокам коммунальной кухни или монументальной кровати вдовы Прокопович, где вынашивал свой фантастический заговор Иван Бабичев, «король пошляков». Снова ситуация окрашивалась планами чисто вахтанговского отношения к ней. Вслед за Олешей театр иронически воссоздавал условность ситуации, характеров, среды. Но в разных случаях ирония выявлялась по-разному.
Театр не без улыбки изображал утопический новый быт, преувеличенно светлый, утилитарный. Глазунов, играя Андрея Бабичева, нет-нет да подтрунивал над своим героем, планомерно изобретающим удивительный сорт колбасы как программу-минимум и насаждающим сеть фабрик-кухонь «Четвертак» как программу-максимум. Этот «Четвертак» и эта колбаса были, конечно, эмблемами делячества, а их творец — носителем «безбожества, безвдохновенья». Как раз над тем и посмеивался герой Глазунова, он мог позволить себе такую усмешку «про себя», потому что прочно, обеими ногами, стоял на земле. Алексеева показывала в Вале узковатую прямолинейность юности. Видавшего виды, всепонимающего старика Шапиро, друга Андрея, Щукин играл немного чудаковатым. Но такие краски только усиливали — в приемах отношения к образу — конечную поэтизацию людей нового мира, оттеняли борьбу за пафос, которую вел театр в своем спектакле. «Биологически прекрасными» назвал этих героев С. С. Мокульский784*.
Иначе подавался мир уходящий. Кухонные дрязги, чад примусов, нечистота становились наглядно вещественными оттого, что сцену закрывала тонкая, почти невидимая металлическая сетка с нанесенными на нее пятнами плесени. Такая вещественность была реализацией метафорического стиля и несла в себе черты гофманианы. Здесь впервые являлся вождь заговора 318 чувств Иван Бабичев — Горюнов, в засаленном котелке, с эмблемой обывательщины — неразлучной оранжевой подушкой без наволочки. Горюнов развенчивал Ивана, брезгливо любуясь им, его позой мещанского пророка, его надсадным витийством. Разоблачался Иван изнутри и извне, отношением актера и отношением авторов спектакля. В сцене именин гофманиана призрачного быта наплывала на рампу крупным планом: овальный пиршественный стол, уставленный яствами, парил в воздухе на фоне черного бархата, поворачивался к полу под прямым углом, медленно опускался в глубину и тогда из-за него вырастали гротескные фигуры «тайной вечери». Прием, идущий от динамики кино, получил после «Разлома» метафорическую разработку в пространстве. Так подготавливалось отношение к центральной сцене Ивана Бабичева, который пророчествовал за этим столом в сонме одуревших мещан, — отношение к фантасмагории.
Между Андреем и Иваном, между идиллией и фантасмагорией быта метался молодой индивидуалист Николай Кавалеров. Москвин играл его бледным неврастеником. Бессильная тяга к Вале, зависть к Андрею, которого Валя предпочла, весь иссушающий комплекс неполноценности выражался в причудливом сне Кавалерова. Герой тяжко ворочался на ложе мадам Прокопович, гиперболизированном, занимающем все пространство сцены. Райские яблоки на обоях начинали кружиться, рябить красными и черными точками, Андрей проникал сквозь эту сыпь обывательщины, закованный в железные латы, Валя витала в воздухе, ускользая от летящего за ней вслед Кавалерова… Философская тема спектакля — о бессилии праздной индивидуалистической мечты и силе нового — выражала себя в сценических иносказаниях, столь близких «театру метафор» Юрия Олеши.
Утверждающая тема вырастала в условных поэтических образах, открывая заложенные там ресурсы оптимизма. И хотя финальная сцена на стадионе вышла скорее иллюстративной, чем метафоричной, она ставила ясную точку в развитии системы образов. Луначарский по праву назвал «Заговор чувств» радостным спектаклем, имея в виду и содержание действия, и специфику вахтанговской игры.
«Заговор чувств» был последней значительной работой А. Д. Попова в Театре имени Евг. Вахтангова. Следующий спектакль, «Авангард» (1930), не стал в ряд с предшествующими. Новую, колхозную деревню и автор пьесы В. П. Катаев, и театр знали еще недостаточно, изображали схематично. Вскоре после премьеры Попов ушел в Театр Революции — ставить «Поэму о топоре» Н. Ф. Погодина. Он прервал начатую было работу над первой погодинской пьесой «Темп» — спектакль осуществила к ноябрьским дням 1930 года бригада вахтанговцев: Басов, Миронов, Орочко, Щукин во главе с Глазуновым 319 и художником Исаковым. Уроки «Авангарда» были учтены. Очерковая подлинность драматургического материала звала театр пристальнее вглядеться в жизнь, искать новые, ей отвечающие выразительные средства.
НАКАНУНЕ «БУЛЫЧОВА»
Густо населенный «сценический очерк» Погодина «Темп» (свою статью о пьесе драматург назвал: «Несколько слов о сценическом очерке») не имел округло «выстроенного» сюжета, ибо строилась еще и сама изображаемая жизнь. Но наброски сюжетных ситуаций, данные пунктиром, вне последовательной сцепки, как никакая каноническая форма драмы схватывали новое в этой жизни, новое в характерах, ею создаваемых и ее пересоздающих.
«Темп» стал таким же этапом на путях достоверности, как прежде «Виринея». Опять вахтанговская театральность обнаружила неизведанные возможности. Через год после премьеры Захава вспоминал: «На сцене Вахтанговского театра работается “Темп” Погодина.
— Дайте сущность, сущность, мысль, темперамент от сущности, — слышится непрерывно из-за режиссерского столика.
Режиссеру О. Ф. Глазунову не важно, чтобы актеры “переживали”, ему даже не важно, чтобы эти краски были цветистыми, яркими, ему нужны верные краски от сущности, а сущность в том, что темная, малосознательная масса строителей-сезонников начинает понимать (мысль!), что такое социалистическое строительство. Это не просто психология, это психоидеология…»785*
Лица и группы — кадровые рабочие, сезонники из крестьян — выплескивались на площадку для игры и снова поглощались массой. Вахтанговцам была важна такая массовидность героики; цельность образной системы оправдывала дробную композицию сценического очерка. Текучие эпизоды, мелькая, вдруг высвечивались в увеличении, как в проекционных окнах «Разлома», только на открытом фоне возносящихся строительных лесов.
Крупные планы, проходя на этом общем фоне, и здесь отражали не только личные судьбы. Неутомимый начальник стройки Болдырев — Толчанов, простоватый, импульсивный рационализатор Максимка — Москвин, показанные с доброй улыбкой, убеждали не исключительностью, а похожестью на многих подобных: они принадлежали времени и тем именно были интересны. Фрагментами одного из таких крупных 320 планов вторгалась в общую картину и углубляла ее судьба бригады сезонников. В лихорадочном темпе строительства костромские мужики, тугодумы и увальни, проходили рабочую закалку. Кряжистый бородач Ермолай Лаптев, сыгранный Щукиным, в фартуке и кепчонке с пуговкой, косноязычный и честный, злой на работу, шагал по ступенькам сознания, распрямлялся, вырастал из наивного и смешного полудикаря в хозяина своего дела, становился фигурой народно-поэтической.
Подвижные выгородки сменялись на фоне строительных лесов: «камерные» диалоги вдвигались в общий ряд событий. Преобладали же динамичные массовки, вертикальные групповые мизансцены, выражающие натиск социалистического созидания. В их потоке складывался образ стремительного темпа, подымающего людей.
Сцена не переставала быть игровой площадкой из-за того, что фактура стройки выглядела почти натурально. Театр по-прежнему держал в уме заповедь Вахтангова: «И в театре и в жизни чувство — одно, а средства или способы подать это чувство — разные»786*. Материал, мысль, «сущность» пьесы всякий раз подсказывали границу таких различий. Ведь и броневой заслон в «Разломе» не имитировал «четвертую стену», а, напротив, всячески подрывал подобную иллюзию (так же как сетка с пятнами плесени в «Заговоре чувств»). Вахтанговский театр постигал современность собственными средствами, с градациями патетического, иронического, юмористического отношения к образам и с почти полным отказом от лирического самораскрытия человека на сцене. У Вахтангова лирика не существовала без ее спутницы — иронии. Там, где вахтанговцы считали иронию неуместной, они обходились и без лирики.
В этом была родовая черта вахтанговского стиля. Театр вы работал свои мужественные интонации, свою меру объективности, свое «отношение». Его эстетический кодекс подразумевал, что лирику «без спутников и выпускать рискованно». Интимное нередко вызывало усмешку. Интимным мог быть не персонаж, а актер, когда доверительно нес в зал свое отношение к образу. Но и он мог позволить себе такую интимность потому, что одновременно был главным носителем иронии.
Объективность была чаемой установкой. Но порой вместо нее получалась стилизация. Ирония без лирики, вообще без отчетливой позитивной задачи.
Самым позитивным вахтанговским режиссером 1920-х годов был Попов. Он создал ценные спектакли утверждающего значения. В «Виринее», при наличии ударных лирических мест, не было лирического восприятия жизни в целом как творческого подхода. В «Разломе» Попов изгнал лирику напрочь. 321 «Зойкина квартира», «Заговор чувств» опять сопрягали ее с иронией, с гротеском. Все зависело от содержания, от жанровой определенности.
Счастливо сочетались ирония и лирика в «Льве Гурыче Синичкине» у Симонова, но дальше баланс опять менялся в зависимости от содержательной цели. Антибуржуазная пьеса Бена Хекта и Чарльза Мак-Артура «Сенсация» в обработке Замятина и постановке Симонова (1930) лирики не предполагала, зато и ирония оказалась всего лишь игровым приемом легкой, ажурной комедийности.
В трагедии Шиллера «Коварство и любовь» (1930) режиссура — Антокольский, Басов и Захава — обличала «коварство» как современное социальное зло и с этой целью ввела добавочные фигуры гротескного фона; «любовь» же отступила в тень. Серебряная рама портала, охватывая зрелище, выдавала стилизаторский подход.
Оформлял «Коварство и любовь», как и «Сенсацию», Акимов, художник, в чьем творчестве ирония теснила намеки на лирику. В 1932 году Акимов дебютировал на вахтанговской сцене как постановщик: он показал «Гамлета». В помощь ему была придана бригада сотрудников: ответственный режиссер Захава, режиссеры Антокольский, Рапопорт, Симонов, Щукин. Спектакль, плод совместных усилий коллектива, довел до nec plus ultra стилизаторские тенденции некоторых предшествовавших работ. Вс. Вишневский писал, что в «Гамлете» Акимов «прошел мысленно через серию вахтанговских постановок. Нетрудно увидеть линию иронии»787*. Ирония снимала лирику, трагедию, философию. Ирония обнажала интригу, повернутую комедийным ключом.
Спектакль полемически отрицал традиции «русского Гамлета». Трактовку М. А. Чехова он попросту осмеял. Вместо аскетичного искателя правды, каким был Гамлет у Чехова, вахтанговский Гамлет, полнокровный весельчак, расчетливо и цинично подбирался к отцовскому престолу, мало в чем уступая захватившему этот престол томному комику Клавдию. Гамлет — Горюнов и Клавдий — Симонов ярились, сидя в креслах, и, как петухи, взлетали на воздух — так экспонировались образы в начале спектакля. Иронические метафоры вахтанговского театра напоминали о себе поминутно. В сцене «Мышеловки» Клавдий подымался по лестнице, разодетый, пажи несли за ним двенадцатиметровый алый шлейф. Убегал Клавдий стремглав, его уже не было видно, а по ступенькам еще змеился и хлестал шлейф, как струя пролитой крови. В одной из сцен Клавдий позировал портретисту, бравый, величавый. Сеанс кончался, и Клавдий отделялся от парадной оболочки: сам по себе был 322 тщедушный Клавдий, и сам по себе — пышный костюм, из-за которого он позировал.
Шекспир в спектакле снижался. Образность сцены расходилась с идеями трагедии. «Гамлет» Акимова нес в себе издержки вахтанговского стиля. Поиски, в известной мере характерные для тогдашнего этапа развития вахтанговцев, разбивались о Шекспира, подавленные экстравагантностью зрелища.
Спектакль иначе, нежели примыкающие работы театра, уходил от трагедийности с помощью иронического «отношения». Неповторимость формы каждого данного спектакля, цельность образа и системы образов при четком отношении к ним, развертывание метафор и т. п. — все это в принципе могло бы наметить перекличку вахтанговской системы с системой советского эпического театра. Но тогда не было ясности в этих вопросах у самих участников процесса. Вишневский отверг акимовского «Гамлета» с порога. Мейерхольд, давно помышлявший о своем «Гамлете», утверждал, что «акимовщина» является «величайшей болезнью современного театра», а «Гамлет» — это «очень плохо понятый Мейерхольд»788*. Осуждающая оценка имела сложный смысл. Пусть плохо понятый, но все-таки Мейерхольд, все-таки эпический театр брезжил в эклектике акимовского «Гамлета». Хорошо ли понятым Мейерхольдом был тогда и сам Мейерхольд? В 1930 году первый брехтовский спектакль советской сцены, «Оперу нищих» («Трехгрошовую оперу»), поставил не он, а Таиров. Таирову же предстояло в ближайшие годы поставить «Оптимистическую трагедию» Вишневского — вершину советской эпической драмы.
Моменты эпического театра в «Гамлете», рожденные полемикой, выразились внешне и потонули в стилизаторских изысках. Все же это был не собственно акимовский, но вахтанговский опыт. Театр не был захвачен им врасплох. Недаром в «Разломе» изгонялась лирика, недаром постановщик «Темпа» не настаивал на «переживании». Недаром Захава, ответственный режиссер при Акимове, следом обратится к «Егору Булычову» Горького и сошлется при этом на воздействие школы Мейерхольда.
Подвижные слагаемые вахтанговского сценического стиля в одном случае могли привести к крайностям стилизации. Так возник «Гамлет». Они могли в другом случае дать образцы жизненной объективности. Так подготавливалась встреча с Горьким.
В конечном же счете прав оставался Луначарский: в 1932 году он отнес Театр имени Евг. Вахтангова к наиболее зрелым «чисто революционным театрам»789* современности.
323 ПЕРВЫЕ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ…
(Вместо заключения)
За полтора десятка лет поисков и борьбы молодой советский театр накопил немало духовных ценностей.
1920-е годы иногда называют «золотым веком» советской сцены. Чего стоили находки хотя бы 1922 года, когда К. С. Станиславский выпустил «Ревизора», Е. Б. Вахтангов — «Принцессу Турандот», В. Э. Мейерхольд — «Великодушного рогоносца», А. Я. Таиров — «Федру» и «Жирофле-Жирофля». Успехи первых послевоенных лет (1921 – 1925) были одержаны на территории переосмысленной классики, изредка — в новом переводном, но тоже переосмысленном репертуаре. Из пьес советских авторов наиболее значительной оказалась тогда «Пугачевщина» К. А. Тренева, которую под руководством В. И. Немировича-Данченко показал МХАТ.
Определительная черта последующей поры (1925 – 1932) — вереница крупных спектаклей о революционном прошлом и настоящем страны. Складывался обширный новый репертуар. Заслуги драматургов и актеров разделяла режиссура, подчас отводившая себе роль активного соавторства. Уже к первому десятилетию Октября академические театры, уверенно состязаясь в свободном творческом соревновании с театрами «левого фронта» (ГосТИМ, Театр Революции, Театр имени МГСПС и другие), могли предъявить изрядные позитивы. Вслед за «Пугачевщиной» мхатовец И. Я. Судаков поставил под наблюдением К. С. Станиславского «Дни Турбиных» и «Бронепоезд 14-69», А. Д. Попов у вахтанговцев — «Виринею» и «Разлом», И. С. Платон и Л. М. Прозоровский в Малом театре — «Любовь Яровую». Самостоятельными путями шел к сходным результатам Н. В. Петров, ставивший в Ленинградской Акдраме «Конец Криворыльска» и «Бронепоезд 14-69», а с ним и другие передовые режиссеры тех лет. Разные творческие «гнезда» советского театра, разные актерские школы — в лице основателей и преемников — отражали новое содержание жизни, постигали характеры современников. Предстояли дальнейшие накопления качества. Общность задач не требовала однотипного подхода. Воцарилась эпоха щедрого художественного многообразия.
В конце 1920 – начале 1930-х годов основные, уже традиционные «гнезда» и школы продолжали развиваться, обогащая собственную самобытность в сфере стилевых, жанровых и тому подобных категорий творчества и в то же время сообща уточняя родовые черты ведущего творческого метода советского театра. Мастера разных поколений и художественных ориентации переходили теперь на прочные советские рельсы (еще раз вспомним эти слова А. В. Луначарского). Переход 324 продолжался и закреплялся. Говоря языком эпохи, из «попутчиков» революции они превращались в ее союзников, больше того — в заинтересованных и убежденных деятелей советской культуры. Сходные сдвиги совершались среди драматургов, в гуще актерской громады. Благодаря этому и появились первые ласточки советской классики. Классика советского театра рождалась, когда спектакли отражали революционную современность и с тех же высот заново постигали наследие.
Обновлялся старый театр, обретали зрелость его недавние начинания. Формы мхатовской студийности испытывали плодотворный кризис. Бывшие Первая и Третья студии МХАТ, отделившись от метрополии, провозгласили себя самостоятельными театрами с собственной программой — МХАТ-2 и Театром имени Евг. Вахтангова. Бывшая Вторая студия еще раньше растворилась в составе МХАТ. Четвертая студия, дольше других сохранив формы студийной выучки, дальше всех отстояла от исходных принципов МХАТ. Претерпев ряд сложных превращений, она к концу периода существовала как Театр Красной Пресни, а руководил ею недавний мейерхольдовский актер, в будущем крупный советский режиссер Н. П. Охлопков. Процесс самоопределения, таким образом, протекал различно, но всюду был по-своему обусловлен временем.
Отпочковались бывшие мхатовские студии — зазеленели новые побеги, набежала новая волна студийности. В Москве она подняла на командные режиссерские посты питомцев тех самых мхатовских студий, о которых только что говорилось. Открылись студия Ю. А. Завадского, студия Р. Н. Симонова. В недрах мастерских Ленинградского техникума сценических искусств родились новые театры студийного типа: Театр актерского мастерства (ТАМ) во главе с Л. С. Вивьеном и Молодой театр С. Э. Радлова и В. Н. Соловьева, преобразованный затем в Театр-студию под руководством С. Э. Радлова. Рост студий подтвердил зрелость мастеров второго призыва; в предшествовавшую пору они делали лишь ранние пробы.
Искусство крепло, выверяя свою идейную прочность, гражданский темперамент и творческую боеспособность. Художники, воспитанные в разных навыках и манерах, шли к общей цели своими путями, оставаясь самими собой, порой ожесточенно споря, признавая только свой путь правильным и единственно возможным.
Вместе с тем это был период борьбы разных литературных, музыкальных, живописных и им подобных организаций, объединений, федераций, группировок и групп за монопольное право творить искусство и судить о нем, изрекая истину в последней инстанции.
В Постановлении ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных организаций», принятом 23 апреля 1932 года, указывалось, что рамки существовавших тогда пролетарских 325 литературно-художественных организации становились уже узкими и сдерживали размах художественного творчества. «Это обстоятельство, — говорилось далее, — создает опасность превращения этих организаций из средства наибольшей мобилизации советских писателей и художников вокруг задач социалистического строительства в средство культивирования кружковой замкнутости, отрыва от политических задач современности и от значительных групп писателей и художников, сочувствующих социалистическому строительству.
Отсюда необходимость соответствующей перестройки литературно-художественных организаций и расширения базы их работы»790*.
Отныне РАПП и аналогичные ассоциации музыкантов, художников и др., а с ними и все вообще группы, исторически закономерные на более ранних порах, прекращали свою деятельность. Взамен создавались единые творческие союзы по родам художественной работы.
Глубоко заблуждались те, кто полагал, будто ликвидация групповых объединений влекла за собой и конец творческих течений, школ, художественных пристрастий и вкусов. В русле социалистического реализма хватало места правдивым и искренним поискам, действительно творческим экспериментам. Ближайшие отклики театров на перестройку организационной жизни это наглядно показали — такими значительными и разными прошли премьеры 1932 – 1933 годов, хотя бы одни лишь горьковские премьеры: «Егор Булычов и другие» Б. Е. Захавы у вахтанговцев, «Враги» Б. М. Сушкевича в Ленинградской Госдраме, «В людях» М. Н. Кедрова на сцене МХАТ, «Мать» Н. П. Охлопкова и П. В. Цетнеровича в Театре Красной Пресни, а с ними — «Вступление» В. Э. Мейерхольда в ГосТИМе, «Мой друг» А. Д. Попова в Театре Революции, тот же «Мой друг» К. К. Тверского в Ленинградском Большом драматическом — вплоть до «Оптимистической трагедии», поставленной А. Я. Таировым в Камерном театре.
С этими спектаклями начался новый содержательный период театральной жизни. Находки закреплялись. Сейчас это общепринятые, самоочевидные истины. Тогда они пробивались с трудом, как увлекающие тенденции. Далеко не сразу тенденция обращается в традицию. Но и традиция подвижна. Она проходит путь наследования, преодоления, преемственности. Открывшиеся перспективы по-разному осуществлялись.
Потом не было поводов разочароваться в смелых опытах старых театров, в достигнутом стилевом многообразии. Напротив, установленными тогда принципами и наработанными навыками искусство последующих лет могло гордиться. Не без 326 новых, собственных трудностей и перекосов нажитое сберегалось, развертывалось, обновлялось дальше.
Будущему принадлежало одно из открытий начальной поры — обнаружилась определяющая роль нового зрителя, этого «главного режиссера» многих зрелищ. В процессе восприятия зал властно направлял, корректировал на свой лад течение спектакля.
Мастера академической сцены успели убедиться, что, приблизившись к реальному содержанию жизни, они могут не уступать молодым экспериментаторам в выработке стиля, отвечающего эпохе. Практикой творчества они отбили атаки «слева» и сами пошли на уверенный обгон. Побеждать недоброжелателей делом, работой, художественными результатами — тоже одна из убедительных традиций театра.
Само понятие академического теряло былую сопряженность с чем-то олимпийски недвижным, музейным, охранительным.
Оно все больше означало высокую степень мастерства в показе жизни, в трактовке ее забот. Новое искусство — это искусство быть актуальным, прочным, долговременным.
Академическая сцена уже к десятилетию Октября дала крупные спектакли, которые положили начало ее театральной классике. И это тоже была добрая традиция, обращенная в завтра. Академические театры взяли на себя роль орудий главного калибра в наступательных действиях искусства, видя в том свой долг и призвание.
Как и многие другие театры, «аки» умели различать во всеобщем свое и говорить с залом «по личным вопросам об общем быте» (Маяковский). В спектаклях, особенно театру дорогих, или в отдельных тематических линиях спектаклей преломлялись автобиографические для него мотивы, заявляла о себе его позиция и его судьба, выплескивалось в зал творческое самосознание коллектива. Этот второй, сокровенный план лирического самораскрытия прочерчивался пунктиром и на дальнейших стадиях пути академических театров.
Классики советской сцены завещали наследникам и ученикам созданные в 1920-х годах спектакли и роли, и написанные ими статьи и книги, и прозвучавшие тогда речи-признания. Книги переиздаются. Их жадно изучают в наши годы как надежное «пособие для времени», — здесь опять к месту придутся слова Маяковского. Изучают, чтобы ближе проникнуть к воплощениям сцены. Ибо великие мастера 1920-х годов запечатлели в работах богатство стилей, из которых поныне слагается движущееся многообразие советского театра — это непременное условие развития.
Проходят сезоны, сменяются поколения, подтверждая простую истину театра: современником своих дней он бывает лишь в современно истолкованной пьесе, все равно, новой или классической. Достигнуть этого по-прежнему трудно. Но, 327 как сказано, только теперь истина выглядит самоочевидной: когда настал Октябрь, ведь и она утверждалась в бурных поисках, в жаркой борьбе.
Воспринимать токи времени, заинтересованно вмешиваться в жизнь — это ли не главная академическая традиция, которую заложили старейшие театры страны в первые пятнадцать лет советской эпохи?..
328 УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н
О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
А. Б. — см. Букарев А. Ф.
А. Д. — см. Дорохов А. А.
А. П. — см. Пиотровский А. И.
Аверкиев Дмитрий Васильевич (1836 – 1905), драматург — 197
Авлов (Шперлинг) Григорий Александрович (1885 – 1960), режиссер, критик — 160, 166, 170, 183, 187, 204, 307
Адашевский Константин Игнатьевич (р. 1897), актер — 57, 198, 216, 222
Адонц Гайк Георгиевич, журналист — 155
Адуев (Рабинович) Николай Альфредович (1895 – 1950), поэт — 289
Азанчевский Серафим Васильевич (1898 – 1937), актер — 198, 222, 229, 287
Азарин (Мессерер) Азарий Михайлович (1897 – 1937), актер — 290, 293, 296, 297, 299
Айдаров (Вишневский) Сергей Васильевич (1867 – 1938), актер — 61, 74, 81 – 83
Айзман Давид Яковлевич (1869 – 1922), писатель — 45 – 47
Айхенвальд Юрий Александрович (р. 1928), театровед, переводчик — 137, 150
Акимов Николай Павлович (1901 – 1968), художник, режиссер — 175, 179, 186, 190, 198, 201, 203, 219, 226, 228, 311, 315, 317, 321, 322
Александров Николай Григорьевич (1870 – 1930), актер — 125
Александровский Владимир Васильевич (1868 – 1920), актер — 74
Алексеева Елизавета Георгиевна (1901 – 1972), актриса — 173, 300, 308, 317
Алперс Борис Владимирович (1894 – 1974), театровед — 155, 164
Альтшуллер Анатолий Яковлевич (р. 1922), театровед — 38, 55
Алянский Юрий Лазаревич (р. 1921), писатель — 173
Амаглобели Сергей Иванович (1899 – 1946), деятель театра, драматург — 223, 273
Амчер (псевд.) — 90
Андреев Б. — см. Башинский Б. П.
Андреев Василий Михайлович (1900 – 1911), писатель — 176
Андреев Леонид Николаевич (1871 – 1911), писатель — 29, 40, 53, 61, 181, 282
Андреев Николай Андреевич (1873 – 1932), скульптор, художник — 106, 108, 290, 294
Андреева (Юрковская) Мария Федоровна (1868 – 1953), актриса, деятель культуры — 257, 288
Андровская (Шульц) Ольга Николаевна (1898 – 1975), актриса — 230, 256
Анисимов Иван Иванович (1899 – 1966), литературовед — 134, 135
Анненков (Кокин) Николай Александрович (р. 1899), актер — 141
Анненков Юрий Павлович (1890 – 1974), художник — 117
Ан—ский (Рапопорт Семен Акимович, 1863 – 1920), писатель — 114
Антокольский Павел Григорьевич (1896 – 1978), поэт — 112, 126, 310, 311, 321
Аполлонская — см. Стравинская И. А.
Аполлонский Роман Борисович (1865 – 1928), актер — 28, 31, 33, 47, 55, 59, 60, 80, 158, 170, 193, 196
Апушкин Яков Владимирович (р. 1899), драматург — 164
Арапов Анатолий Афанасьевич (1876 – 1949), художник — 102, 147, 150, 152
Арбатов (Архипов) Николай Николаевич (1869 – 1926), режиссер — 60, 154
Арго (Гольденберг Абрам Маркович, 1897 – 1968), поэт — 289
Ардов (Зильберман) Виктор Ефимович (1900 – 1976), писатель — 177
Аристофан (ок. 445 – 385 до н. э.) — 165, 166
Арнс (Аронсон) Лев Адольфович (р. 1897), журналист — 57, 58
Асеев Николай Николаевич (1889 – 1963), поэт — 255
Афиногенов Александр Николаевич (1904 – 1941), драматург — 153, 198, 203, 208, 214 – 218, 222, 272 – 277, 297
Афонин Борис Макарович (1888 – 1955), актер — 282, 296
Ахметели Александр Васильевич (1886 – 1937), грузинский режиссер — 316
Ашмарин (Ахрамович) Витольд Францевич (1832 – 1930), критик — 76, 77
Б. Б. — 272
Б-в С. А. — 13
Бабель Исаак Эммануилович (1894 – 1941), писатель — 292
Бабочкин Борис Андреевич (1904 – 1975), актер, режиссер — 198, 222, 223
Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788 – 1824) — 22, 103, 104, 106, 114, 157
Бакланова Ольга Владимировна (р. 1893), актриса — 99
Балихин Владимир Васильевич (1899 – 1953), актер — 300, 316
Балтрушайтис Юргис Казимирович (1873 – 1944), поэт — 100
Барабанов Николай Сергеевич (1890 – 1970), актер — 39
Барбюс Анри (1873 – 1935), французские писатель — 145
Басов Осип Николаевич (1892 – 1934), актер — 123, 300, 311, 318, 321
Баталов Николай Петрович (1899 – 1937), актер — 103, 230, 237, 238, 248, 256, 257, 262
Батюшков Федор Дмитриевич (1857 — 329 1920), литературовед — 19, 23, 30, 32 – 36
Бачелис Татьяна Израилевна (р. 1918), театровед, киновед — 130
Башинский Борис Петрович (? — 1931), драматург, критик — 187
Бебутов Валерий Михайлович (1885 – 1961), режиссер — 119, 174
Безыменский Александр Ильич (1898 – 1973), поэт — 199, 245
Белевцева Наталия Алексеевна (1895 – 1974), актриса — 133, 134, 133, 152
Белоусова Анна Григорьевна (р. 1908), актриса — 198, 222
Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич, 1880 – 1934), писатель — 171, 238, 289
Бендина Вера Дмитриевна (1900 – 1974), актриса — 218, 269, 270
Бешовин Борис Ильич (1863 – 1929), критик — 47
Бенуа Александр Николаевич (1870 – 1960), художник, режиссер — 97, 154, 156, 162
Березарк (Рысс) Илья Борисович (1897 – 1981), критик — 276
Березов Петр Александрович (1906 – 1976), актер — 201
Беренштам Владимир Вильямович (1870 – 1931), адвокат — 170
Берсенев Николай Яковлевич (1893 – 1965), актер, режиссер — 173, 175
Берляндт Константин Николаевич (? — 1932), актер — 58
Берсенев (Павлищев) Иван Николаевич (1889 – 1951), актер, режиссер — 282 – 284, 291 – 295, 297 – 299
Бескин Эммануил Мартынович (1877 – 1940), критик — 113, 144 – 146, 150, 213
Бетховен Людвиг ван (1770 – 1827) — 61
Бибиков Борис Владимирович (р. 1900), актер, режиссер — 292
Билль-Белоцерковский Владимир Наумович (1884 – 1970), драматург — 141, 180, 187, 188, 195, 213, 245
Бирман Серафима Германовна (1890 – 1976), актриса, режиссер — 119, 281, 282, 237, 289, 292 – 299
Блок Александр Александрович (1880 – 1921) — 55, 99 – 103, 113
Блюм Владимир Иванович (1877 – 1941), критик — 87, 94, 106, 107, 113, 137, 144, 231, 232, 243, 245, 251, 289, 304, 306, 307
Блюм Оскар Вениаминович (1887 – ?), критик, режиссер — 238
Блюменфельд Виктор Михайлович, критик — 303
Бобышов Михаил Павлович (1885 – 1964), художник — 53, 55
Богданов Федор Платонович (1885 – 1943), актер — 185, 210, 222
Боклевский Петр Михайлович (1816 – 1897), художник — 259
Болеславский (Стржезницкий) Ричард Валентинович (1887 – 1937), актер, режиссер — 112, 281
Бомарше (Карон Пьер-Огюстен, 1732 – 1799) — 17, 22, 40, 49, 87, 256
Бомбчинский Иван Петрович (1899 – 1980), актер — 198
Борисов Александр Федорович (1905 – 1982), актер — 179, 180, 191, 198, 205, 216, 217, 222
Борисоглебский Аркадий Николаевич (1886 – 1967), актер, режиссер — 12
Бороздин Владимир Александрович (1868 – 1932), актер — 49, 54, 58, 60, 205, 216, 222
Брайант Луша (1890 – 1936), американская писательница — 281
Бракко Роберто (1861 – 1943), итальянский драматург — 35
Брехт Бертольт (1898 – 1956) — 130, 254, 322
Бродская Галина Юрьевна (р. 1939), театровед — 10
Бромлей Надежда Николаевна (1889 – 1966), актриса, режиссер — 281, 283, 294 – 297
Бубнов Андрей Сергеевич (1883 – 1940), советский государственный и партийный деятель — 196
Букарев Александр Федорович, журналист — 102
Булгаков Михаил Афанасьевич (1891 – 1940), писатель — 105, 130, 146, 153, 193, 232, 240, 242 – 245, 258, 260, 268, 271
Бунин Иван Алексеевич (1870 – 1953) — 95, 96, 103
Бутова Надежда Сергеевна (1878 – 1921), актриса — 100
В. Б. — см. Блюменфельд В. Б.
В. К. — 159
В. Л. — см. Львов В. Е.
В. Т. — см. Тихонович В. В.
В. Ф. Ф. — см. Федоров В. Ф.
В. Э. — см. Эрманс В. К.
Вальяно Николай Константинович (1903 – 1980), актер — 198, 222
Ванин (Иванов) Василий Васильевич (1898 – 1951), актер — 143
Варламов Константин Александрович (1848 – 1915), актер — 181
Васенин (Васильев) Александр Викторович (1874 – 1944), актер — 61, 152
Василевский Лев Маркович (1876 – 1935), писатель — 33
Васильева Надежда Сергеевна (1852 – 1920), актриса — 28, 33, 48, 49, 59
Вахтангов Евгений Богратионович (1883 – 1922) — 45, 99, 104, 109 – 130, 181, 280 – 282, 285, 294, 299 – 324
Вега Карпьо Лопе Феликс де (1562 – 1635) — 75, 81
Ведринская Мария Андреевна (1877 – 1947), актриса — 28, 31, 33, 46, 49, 60
Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861 – 3928), писательница — 140
Вербицкий Всеволод Алексеевич (1896 – 1951), актер — 243
Верхарн Эмиль (1855 – 1916), бельгийский поэт — 79
Верховский Никита Юрьевич (1903 – 1954), критик — 26, 172
Вершилов Борис Ильич (1893 – 1957), режиссер — 113
Веснин Александр Александрович (1883 – 1959), архитектор, художник — 86, 87
Вивьен Леонид Сергеевич (1887 – 1966), актер, режиссер — 28, 30, 32, 33, 38, 46, 50, 51, 54, 55, 57, 60, 158 – 164, 170 – 173, 178, 181, 182, 184, 193, 198 – 200, 205 – 207, 222, 324
Вивьен Марина Леонидовна (р. 1925), деятель театра — 10
Вильдс Николай Николаевич (? — 1918), критик — 18, 64, 76, 110
Виноградская Ирина Николаевна (р. 1920), театровед — 108, 230, 240
Витвицкая Божена Иосифовна (? — 1923), критик — 40, 44
Вишневский (Вишневецкий) Александр Леонидович (1861 – 1943), актер — 230, 240
Вишневский Всеволод Витальевич (1900 – 1951), драматург — 199, 223, 225, 270, 273, 321, 322
Владимиров (Верле) Владимир Константинович (1886 – 1953), деятель театра — 133, 146, 153, 244
Войницкий Ив. (псевд.) — 62, 71
Волин (Шмерлинг) Владимир Григорьевич, критик — 64, 66, 77
330 Волков Борис Иванович (1900 – 1970), художник — 213
Волков (Зимнюков) Леонид Андреевич (1893 – 1976), актер, режиссер — 112, 288, 291
Волков Николай Алексеевич (р. 1907), актер — 226, 227
Волков Николай Дмитриевич (1894 – 1965), критик, драматург — 92, 94, 180, 237, 248, 256
Волконский (Муравьев) Николай Осипович (1890 – 1948), режиссер — 75, 86, 135 – 137, 148 – 150, 152, 153
Волькенштейн Владимир Михайлович (1883 – 1974), драматург — 97
Вольский Михаил Иванович (1889 – 1949), актер — 169, 204, 213
Вольф-Израэль Евгения Михайловна (1895 – 1975), актриса — 155, 156, 158, 161, 202, 222, 227
Воронов Владимир Иванович (р. 1890), актер — 192, 199, 222
Воскресенский Сергей Александрович, журналист — 186
Газенклевер Вальтер (1890 – 1940), немецкий драматург — 201, 203, 225
Гайдаров Владимир Георгиевич (1893 – 1976), актер — 97, 98, 105
Галкин Алексей Владимирович, советский государственный деятель — 16
Гарлин Василий Адольфович (Гавеман Вильгельм, 1877 – 1941), актер — 171
Гвоздев Алексей Александрович (1887 – 1939), театровед — 163, 183, 189, 190, 201 – 203, 205, 208, 215, 216, 226 – 228
Ге Григорий Григорьевич (1867 – 1942), актер, драматург — 28, 30, 31, 33, 34, 36 – 38, 48, 49, 53, 58, 60, 154, 155, 158, 169, 193, 196
Гейне Генрих (1797 – 1856) — 242
Гейрот Александр Александрович (1882 – 1947), актер — 282, 283, 293
Германова (Красовская) Мария Николаевна (1884 – 1940), актриса — 100, 101
Геронский (Янов) Геннадий Исаевич (р. 1900), критик — 134
Гете Иоганн Вольфганг (1749 – 1832) — 56, 292
Гзовская Ольга Владимировна (1889 – 1962), актриса — 64, 67, 68, 72
Гиацинтова Софья Владимировна (1895 – 1982), актриса, режиссер — 281, 295, 297 – 299
Глаголь Сергей (Голоушев Сергей Сергеевич, 1855 – 1920), критик — 73
Гладков Александр Константинович (1912 – 1976), писатель — 150
Гладков Николай Георгиевич (1895 – 1967), актер — 314
Глазунов (Глазниск) Освальд Фердинандович (1891 – 1947), актер, режиссер — 126, 300, 311, 317 – 319
Глебов (Котельников) Анатолий Глебович (1899 – 1964), драматург — 136, 268, 269, 271
Глебова Тамара Андреевна (1894 – 1942), актриса — 222
Глинка Михаил Иванович (1804 – 1857) — 191
Глумов Александр Николаевич (1901 – 1976), актер, чтец — 133, 137
Гнедич Петр Петрович (1855 – 1925), писатель, деятель театра — 17, 47, 73, 74
Гоголева Елена Николаевна (р. 1900), актриса — 83, 91, 134, 138, 152
Гоголь Николай Васильевич (1809 – 1852) — 40, 44, 130, 131, 177, 258 – 260, 285, 292, 301, 302
Гойя Франциско Хосе де (1746 – 1828), испанский художник — 114
Головин Александр Яковлевич (1863 – 1930), художник — 43, 256, 258
Головин Сергей Аркадьевич (1879 – 1941), актер — 61, 69 – 71, 74, 83, 87, 90, 149, 152
Гольдони Карло (1707 – 1793) — 125
Горев Яков Лазаревич (1894 – 1971), драматург — 223 – 225, 273
Горин-Горяинов Борис Анатольевич (1883 – 1944), актер — 22, 28, 31, 49, 58, 60, 154, 155, 157, 158, 161, 163, 164, 170, 180, 183, 192, 199, 204, 207, 225, 227, 228
Городецкий Сергей Митрофанович (1884 – 1967), поэт — 150, 236
Горчаков Николай Михайлович (1898 – 1958), режиссер — 127, 230
Горький М. (Пешков Алексей Максимович, 1868 – 1936) — 17, 22, 40 – 42, 50 – 55, 86 – 90, 96, 98, 114, 134, 248, 250, 257, 265, 288, 294, 322, 325
Горюнов (Бендель) Анатолий Иосифович (1902 – 1951), актер — 300, 306, 316, 318, 321
Готовцев Владимир Васильевич (1885 – 1976), актер — 282, 288, 290, 295
Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776 – 1822) — 130, 259, 302, 317, 318
Гофмансталь Гуго фон (1874 – 1929), австрийский писатель — 75
Гоцци Карло (1720 – 1806) — 121 – 123, 129
Грановская Елена Маврикиевна (1877 – 1968), актриса — 197
Грановский (Азарх) Алексей Михайлович (1890 – 1937), режиссер — 39
Грегори Изабелла Августа (1852 – 1932), ирландская писательница — 112
Гремиславский Иван Яковлевич (1886 – 1954), художник-декоратор — 102
Грибов Алексей Николаевич (1902 – 1977), актер — 230
Грибоедов Александр Сергеевич (1795 – 1829) — 18, 40, 148 – 150, 292
Грибунин Владимир Федорович (1873 – 1933), актер — 230, 231, 253, 262
Грибунина Александра Федоровна (1866 – 1942), актриса — 161, 222
Григорьев-Истомин Николай Алексеевич (1872 – 1937), актер, драматург — 36
Гриневская Изабелла Аркадьевна (1864 – 1944), писательница — 41
Грипич Алексей Львович (р. 1891), режиссер — 186
Громов Виктор Алексеевич (1899 – 1975), актер, режиссер — 288, 293, 298
Грузинский Александр Павлович (1899 – 1968), актер — 141
Гутман Давид Григорьевич (1884 – 1946), режиссер — 289
Гюго Виктор-Мари (1802 – 1885) — 138, 194, 295, 335
Д. — 202
Давыдов Владимир Николаевич (Горелов Иван Николаевич, 1849 – 1925), актер — 17, 18, 20, 28, 33, 36, 38, 39, 56, 60, 132 – 134, 182, 183
Дальцев (Гузик) Зиновий Григорьевич (1884 – 1963), деятель театра — 139
Данилов Сергей Сергеевич (1901 – 1959), театровед — 220
Д’Аннунцио Габриеле (1863 – 1938), итальянский писатель — 122
Дарский (Псаров) Михаил Егорович (1865 – 1930), актер — 28, 158, 193, 197
Дв. — см. Двинский М.
Двинский Мартын (Берман Михаил Мартынович), журналист — 22, 49, 59, 162
Дейкун Лидия Ивановна (1889 – 1980), актриса — 281
331 Дейч Александр Иосифович (1893 – 1972), писатель — 225
Демидова Татьяна Алексеевна (р. 1938), библиограф — 10
Державин Константин Николаевич (1903 – 1956), театровед — 209, 224
Державин Михаил Степанович (1903 – 1951), актер — 300
Десницкий Василий Алексеевич (1878 – 1958), литературовед — 88
Джером Джером Клапка (1859 – 1927) — 36
Дикий Алексей Денисович (1889 – 1955), актер, режиссер — 219, 282, 283, 286 – 239, 291, 292, 294, 299
Диккенс Чарлз (1812 – 1870) — 281, 283, 285
Дмитриев Владимир Владимирович (1900 – 1948), художник — 152, 162, 258, 200, 266, 296
Дмитриев Юрий Арсеньевич (р. 1911), театровед — 142
Добронравов Борис Георгиевич (1896 – 1949), актер — 218, 230, 241, 254, 269, 270, 276, 277
Добужинский Мстислав Валерианович (1875 – 1957), художник — 17, 92, 93, 97, 102
Долинов Анатолий Иванович (1869 – 1945) режиссер — 17, 29, 35, 49
Доль (Тигер Дмитрий Николаевич, 1883 – 1944), писатель — 44
Домашева Мария Петровна (1875 – 1952), актриса — 28, 49, 50, 60, 153, 205, 227
Дорохов (Држевецкий) Алексей Алексеевич (1902 – 1981), журналист — 196, 225
Достоевский Федор Михайлович (1821 – 1881) — 40, 96 – 98, 130, 260, 262, 264, 265, 285, 298
Дрейден Симон Давидович (р. 1905) театровед — 16, 96, 97, 168, 175, 188, 192, 193, 203
Дубков В., рабкор — 150
Дудников Дмитрий Михайлович (1895 – 1964), актер — 198
Дурасова Мария Александровна (1891 – 1974), актриса — 282, 295
Евреинов Николай Николаевич (1879 – 1953), драматург, режиссер — 115, 116, 226
Еврипид (480 – 406 до н. э.) — 40
—еев — 178
Ежкина (Попова) Александра Александровна (1908 – 1974), актриса — 222
Еланская Клавдия Николаевна (1898 – 1972), актриса — 230, 254, 266
Ермилов Владимир Владимирович (1904 – 1965), критик — 199, 245, 271
Ермолова Мария Николаевна (1853 – 1928), актриса — 18 – 20, 22, 61 – 64, 73, 77, 85
Ершов Владимир Львович (1896 – 1964), актер — 107, 266, 267
Есипович Анна Петровна (1881 – 1970), актриса — 219
Железнова Нина Михайловна (1899 – 1972), актриса — 39, 197
Жемье Фирмен (1869 – 1933), французский режиссер — 311
Жихарева Елизавета Тимофеевна (1875 – 1967), актриса — 72
Жуковский Борис Елисеевич (1900 – 1963), актер — 191, 199, 205, 227
Журавлев Дмитрий Николаевич (р. 1900), актер, чтец — 316
Журавленко Павел Максимович (1887 – 1948), оперный певец — 192
Завадский Юрий Александрович (1894 – 1977), актер, режиссер — 122, 126, 127, 230, 237, 238, 256, 300 – 302, 304, 306, 324
Загаров (фон Фессинг) Александр Леонидович (1877 – 1941), актер, режиссер — 29, 181
Загорский Михаил Борисович (1885 – 1951), критик — 78, 79, 94, 106, 173, 254, 258, 261, 262, 281, 287
Зайцев Петр Никанорович (1889 – 1971), писатель — 293
Замятин Евгений Иванович (1884 – 1937) писатель — 167, 287, 321
Запорожец Анна Кузьминична (1891 – 1942), актриса — 300
Захава Борис Евгеньевич (1896 – 1976), актер, режиссер — 110, 111, 117, 118, 123, 126, 127, 300, 303, 305, 306, 311, 312, 316, 319, 321, 322, 325
Зельцер Иоганн Моисеевич (1905 – 1941), драматург — 223, 273
Зилоти Александр Ильич (1863 – 1945), дирижер — 33
Зингерман Борис Исаакович (р. 1928), театровед — 258
Зиновьев Алексей Тихонович (1896 – 1959), драматург — 225
Зограф Николай Георгиевич (1909 – 1968), театровед — 118
Золя Эмиль (1840 – 1902) — 62
Зон Игнатий Сергеевич, владелец театра в Москве — 15
Зонне (Зонненштейн) Исай Соломонович (1898 – 1953), актер, режиссер — 198, 200
Зонов Аркадий Павлович (1875 – 1922), режиссер — 43
Зражевский Александр Иванович (1886 – 1950), актер — 158, 184, 196
Зуева Анастасия Платоновна (р. 1896), актриса — 230, 260
Ибсен Генрик (1828 – 1906) — 29, 40, 110, 262
Иванов Всеволод Вячеславович (1895 – 1963), писатель — 105, 153, 190, 193, 245, 246, 250 – 252, 260 – 262, 269
Иванова Вера Викторовна (р. 1921), театровед — 208, 217
Игнатов Василий Васильевич (1884 – 1938), актер — 13
Ильинский Игорь Владимирович (р. 1901), актер, режиссер — 175, 178, 180, 235, 282 – 284
Инбер Вера Михайловна (1890 – 1972), писательница — 290
Исаков Сергей Петрович (1900 – 1967), художник — 301, 309, 313, 319
К. — 67
К. — см. Крыжицкий Г. К.
К. Караваев — см. Тверской К. К.
К. Т. — см. Тверской К. К.
К. Ф. — см. Бескин Э. М.
Каверин Федор Николаевич (1897 – 1957), режиссер — 75, 77, 79, 82, 85, 93, 94, 133
Казико Ольга Георгиевна (1900 – 1963), актриса — 197, 198
Калло Жак (1592 – 1635), французский график — 114
Калугин Игорь Дмитриевич (1894 – ?), актер, драматург — 170
Калужский Евгений Васильевич (1898 – 1966), актер, режиссер — 113
Кальдерон де ла Барка Педро (1600 – 1681) — 29, 40
Каляев Иван Платонович (1877 – 1905), революционер, эсер — 170
332 Каменский Василий Васильевич (1884 – 1961), писатель — 173 – 178
Кардовский Дмитрий Николаевич (1866 – 1943), художник — 236, 282
Карпов Евтихий Павлович (1857 – 1926) драматург, режиссер — 14, 23, 29, 30, 33, 35 – 37, 39, 48, 50, 52, 53, 59, 60, 153, 154, 159, 163, 164, 182
Карташова Лидия Павловна (1881 – ?), актриса — 205, 222
Карякина Елена Петровна (1902 – 1979), актриса — 200, 204, 222, 225, 227, 228
Катаев Валентин Петрович (р. 1897), писатель — 252, 318
Качалов (Шверубович) Василий Иванович (1875 – 1948), актер — 20, 21, 102, 125, 131, 175, 191, 230, 237 – 240, 247, 249 – 252, 261, 262, 265 – 267
Кедров Михаил Николаевич (1893 – 1972), актер, режиссер — 230, 249, 260, 269, 270, 325
Керженцев (Лебедев) Платон Михайлович (1881 – 1940), советский государственный и партийный деятель — 13, 11
Кириленко Ксения Николаевна (р. 1922), театровед — 10
Киров Сергей Миронович (1886 – 1931) — 212
Киршон Владимир Михайлович (1902 – 1938), драматург — 195, 198, 203, 204, 217, 218, 269 – 272, 296
Киселев Вадим Владимирович (р. 1937), театровед — 10
Киселев Валентин Георгиевич (1903 – 1950), актер — 198, 204, 225
Климов Михаил Михайлович (1880 – 1942), актер — 61, 72, 83, 86, 87, 133, 139, 148, 152
Ключарев Виктор Павлович (1898 – 1957), актер — 282, 292
Кнебель Мария Иосифовна (р. 1898), актриса, режиссер — 230, 264, 265, 267, 284
Книппер Чехова Ольга Леонардовна (1868 – 1959), актриса — 131, 230, 234, 263 – 265, 274, 275
Кноблаук Эдвард (1874 – 1945), английский драматург — 157
Князевская Татьяна Борисовна (р. 1924), театровед — 23, 79, 93
Ковалевский Б., критик — 51
Коваленская Нина Григорьевна (1888 – ?), актриса — 28, 30, 31, 33, 39
Ковров (Кувшинов) Георгий Иванович (1891 – 1961), актер — 143
Коган Петр Семенович (1872 – 1932), литературовед — 103
Кожевник (псевд.) — 232
Кожич Владимир Платонович (1896 – 1955), режиссер — 196
Козаков Михаил Эммануилович (1897 – 1954), писатель — 200
Кольцов (Кутаков) Виктор Григорьевич (1898 – 1978), актер — 300, 316
Комиссаржевская Вера Федоровна (1864 – 1910), актриса — 43, 58, 109, 136, 155
Комиссаржевский Федор Федорович (1882 – 1954), режиссер — 86, 121, 136
Константинов В. — см. Эрманс В. К.
Коонен Алиса Георгиевна (1889 – 1974), актриса — 67
Корвин-Круковский Юрий Васильевич (1862 – 1935), актер — 28, 33, 60, 158, 170, 193, 197
Корнакова Екатерина Ивановна (1896 – 1956), актриса — 282, 293
Корчагина-Александровская Екатерина Павловна (1874 – 1951), актриса — 28, 44, 48, 52 – 55, 60, 157, 158, 160, 161, 169 – 171, 174, 175, 179, 180, 182, 200, 202, 205, 215, 220 – 224, 229, 274
Корш Федор Адамович (1852 – 1923), владелец театра в Москве — 164, 231
Костромской (Чалеев) Николай (Пил) Феодосиевич (1874 – 1938), актер — 81, 83, 87
Котлубай Ксения Ивановна (1890 – 1931), актриса, режиссер — 122, 263
Красный А. (псевд.) — 134
Криницкий Марк (Самыгин Михаил Владимирович, 1874 – 1952), писатель — 128, 129
Крупская Надежда Константиновна (1869 – 1939) — 281
Крути Исаак Аронович (1890 – 1955), критик — 148, 221, 223, 228, 272, 275, 277
Крыжицкий Георгий Константинович (1895 – 1975), режиссер, критик — 301
Крымов Николай Петрович (1884 – 1958), художник — 254
Крэг Эдвард Гордон (1872 – 1966), английский режиссер — 58
Кубацкий Виктор Львович (1891 – 1970), виолончелист — 16
Кугель Александр Рафаилович (1864 – 1928), критик — 31, 129, 236, 238
Кудрявцев Иван Матвеевич (1900 – 1924), актер — 125
Кудрявцев Иван Михайлович (1898 – 1966), актер — 230, 241, 243, 248, 262
Кудряшева Наталия Владимировна (р. 1946), театровед — 10
Куза Василий Васильевич (1902 – 1941), актер — 300, 316
Кузмин Михаил Алексеевич (1875 – 1936), писатель — 49
Кузнецов Евгений Михайлович (1900 – 1958), театровед — 16, 57, 164, 176
Кузнецов Степан Леонидович (1879 – 1932), актер — 135, 138, 143, 144, 147, 148
Кузько Петр Авдеевич (1884 – 1968), критик — 90
Купер Эмиль Альбертович (1877 – 1961), дирижер — 16
Кустодиев Борис Михайлович (1878 – 1927), художник — 160, 171, 287
Л. В. — 177
Л. Л. — 87
Лабиш Эжен (1815 – 1888), французский драматург — 198, 227
Лавренев Борис Андреевич (1891 – 1959), писатель — 153, 193, 200, 315
Лаврентьев Андрей Николаевич (1882 – 1935), актер, режиссер — 29, 31, 33 – 35, 38, 48, 181
Лавров Юрий Сергеевич (1905 – 1980), актер — 198, 222
Лебедев Владимир Федорович (1870 – 1952), актер — 61, 81, 82, 87
Левин Моисей Зеликович (1895 – 1946), художник — 159, 160, 174, 183, 184, 192
Левшина Анастасия Александровна (1870 – 1958), актриса — 61
Лейкин Наум Борисович (р. 1922), критик — 297
Ле Корбюзье (Жаннере Шарль-Эдуард, 1887 – 1965), французский архитектор — 317
Ленин Владимир Ильич (1870 – 1924) — 9, 12, 14 – 16, 35, 95, 96, 248, 250, 281
Ленин (Игнатюк) Михаил Францевич (1880 – 1951), актер — 61, 69, 72 – 74, 133, 134, 136, 137
Ленский (Вервициотти) Александр Павлович 333 (1847 – 1908), актер, режиссер — 61, 62, 65
Ленский (Воробьев) Дмитрий Тимофеевич (1805 – 1860), драматург — 302
Леонардо да Винчи (1452 – 1519) — 114
Леонидов (Вольфензон) Леонид Миронович (1873 – 1941), актер — 103 – 107, 218, 230, 231, 233 – 235, 237, 240, 257, 258, 260, 273, 274, 276, 277
Леонидов (Шиманский) Олег Леонидович (1893 – 1951), драматург — 104, 115
Леонов Леонид Максимович (р. 1899), писатель — 237, 252, 312 – 314, 316
Лепковский Евгений Аркадьевич (1863 – 1939), актер, режиссер — 64, 70, 72
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814 – 1841) — 29, 41, 170
Лернер Николай Никитич (1884 – 1946), драматург — 140
Лернер Николай Осипович (1877 – 1934), литературовед — 174
Лерский (Герцак) Иван Владиславович (1873 – 1927), актер — 28, 33, 46, 60, 156, 158, 161, 170, 196
Лесков Николай Семенович (1831 – 1895) — 283, 286 – 289
Лесная (Шперлинг) Лидия Валентиновна (р. 1889), писательница — 176
Лешков Павел Иванович (1884 – 1944), актер — 28, 31, 33, 34, 36, 45, 49 – 53, 59, 60, 155, 158, 205, 215, 222
Лешковская Елена Константиновна (1864 – 1925), актриса — 61, 70, 73, 83, 87, 133, 134
Либаков Михаил Вадимович (1889 – 1953), художник — 286
Либединский Юрий Николаевич (1898 – 1959), писатель — 195, 198, 205, 206, 223
Ливанов Борис Николаевич (1904 – 1972), актер — 218, 230, 237, 238, 258, 262, 275 – 277
Лилина (Алексеева) Мария Петровна (1866 – 1943), актриса — 20, 230, 263 – 265
Литовский Осаф Семенович (1892 – 1971), критик — 274, 277
Литовцева (Левестамм) Нина Николаевна (1878 – 1956), актриса, режиссер — 236, 246, 269
Лозинский Михаил Леонидович (1886 – 1955), поэт, переводчик — 226
Лондон Джек (Гриффит Джон, 1876 – 1916) — 167, 282
Лопухов Федор Васильевич (1886 – 1973), балетмейстер — 227
Лужский (Калужский) Василий Васильевич (1869 – 1931), актер, режиссер — 96, 230, 233 – 235, 263
Луначарский Анатолий Васильевич (1875 – 1933) — 11 – 17, 19, 22 – 25, 32 – 40, 47, 48, 55 – 58, 60, 61, 63, 66, 69 – 71, 79, 80, 83, 88, 91 – 95, 132, 136, 137, 139, 140, 144, 145, 149, 151, 169, 181, 183, 196, 225, 231, 238, 239, 244, 248, 249, 255, 266, 267, 270, 286, 287, 291, 292, 308, 312, 314, 317, 318, 322, 323
Лурье (Делурье) Жюль-Жозеф-Габриэль де (1792 – 1869), французский драматург — 132
Львов Владимир Евгеньевич (р. 1904), публицист — 172
Львова Вера Константиновна (р. 1898), актриса — 125
Любимов-Ланской (Гелибтер) Евсей Осипович (1883 – 1943), актер, режиссер — 213
Любинский Захар Исаакович (1887 – 1943), директор ленинградских государственных театров в 1928 – 1930 гг. — 196
Любош (Любошиц) Александр Семенович (1880 – 1954), актер — 46, 51, 53, 54, 60
Люлли Жан-Батист (1632 – 1687), французский композитор — 226
М. М. — см. Моргенштерн М. М.
М. Э. — см. Эйхенгольц М. Д.
Мазинг Борис Владимирович (1898 – 1942), критик — 179, 182, 184
Майская (Майзель) Татьяна Александровна (1886 – 1940), драматург — 45, 46
Мак-Артур Чарлз (1897 – 1956), американский драматург — 224, 321
Максимов (Самусь) Владимир Васильевич (1880 – 1937), актер — 64, 72
Малиновская Елена Константиновна (1875 – 1942), деятель театра — 17, 70
Малюгин Леонид Антонович (1909 – 1968), критик, драматург — 183, 264
Малютин (Итин) Яков Осипович (1886 – 1964), актер — 28, 49, 51, 54, 57, 60, 158, 159, 170, 174, 178, 181, 183, 193, 200, 202, 205, 222, 229, 234
Мансурова (Воллерштейн) Цецилия Львовна (1897 – 1976), актриса — 124, 300, 307
Марголин Самуил Акимович (1893 – 1953) критик — 129, 239, 240, 242, 300
Марджанов Константин Александрович (Марджанишвили Котэ, 1872 – 1933), режиссер — 195
Марков Павел Александрович (1897 – 1980), критик — 22, 89, 113, 116, 130, 135, 137 – 139, 147, 148, 150 – 152, 166, 167, 230, 231, 233, 234, 236, 242, 244, 253, 256, 257, 268 – 270, 275, 277, 289, 291, 302
Маркс Карл (1818 – 1883) — 239
Мартине Марсель (1877 – 1944), французский поэт — 181
Мартинсон Сергей Александрович (р. 1899), актер — 159
Мартынов Александр Евстафьевич (1816 – 1860), актер — 285
Массалитинова Варвара Осиповна (1878 – 1945), актриса — 61, 63, 133, 135, 147, 148, 152
Маширов Алексей Иванович (1884 – 1943), поэт, деятель театра — 200
Маяковский Владимир Владимирович (1893 – 1930) — 43, 104, 124, 192, 193, 214, 244, 289, 326
Медведева Елена Михайловна (р. 1902), актриса — 172
Мейер Владимир Эдуардович (1901 – 1940), актер — 149
Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874 – 1940) — 21, 29, 33 – 35, 33, 40, 43, 48, 58, 62 – 64, 86, 98, 104, 106, 109, 119 – 122, 130, 131, 136, 144 – 147, 149, 154, 156, 161, 167, 179 – 181, 184, 195, 201, 228, 229, 243, 244, 254, 255, 259, 282, 288, 291, 302 – 306, 310, 316, 322, 323, 325
Меньшутин Николай Александрович (1899 – 1951), художник — 145
Мервольф Рудольф Иванович (1887 – 1942), композитор — 43, 44
Мериме Проспер (1803 – 1870) — 140, 306, 307
Мессерер Елизавета Михайловна (р. 1906), театровед — 297
Метерлинк Морис (1862 – 1949), бельгийский писатель — 111, 115
Мешков Василий Никитич (1867 – 1946), художник — 170
Микитенко Иван Кондратьевич (1897 – 1937), драматург — 224, 296
Миклашевский Константин Михайлович (1886 – 1944), актер, режиссер — 121, 123, 129
334 Миндлин Эмилий Львович (1900 – 1981) писатель — 300
Мирбо Октав (1848 – 1917), французский писатель — 112
Миронов Константин Яковлевич (1898 – 1941), актер — 311, 318
Миронова Валентина Михайловна (р. 1930), театровед — 10
Митрофанова Полина Тимофеевна (р. 1905), актриса — 173, 188, 215, 222
Михаилов Павел Петрович (1890 – 1980) журналист — 62
Мичурина-Самойлова Вера Аркадьевна (1866 – 1948), актриса — 28, 37 – 39, 46, 48, 60, 80, 158, 169, 170, 196, 229
Моисси Сандро (Александр) (1880 – 1935), немецкий актер — 144
Мокин Александр Фортунатович (1891 – 1939), режиссер — 193
Мокульский Стефан Стефанович (1896 – 1960), театровед — 20, 155 – 157, 160, 165, 166, 170, 173, 175, 176, 179, 199, 202, 203, 207, 218, 251, 277, 278, 305, 317
Мольер (Поклен Жан-Батист, 1622 – 1673) — 29, 40, 81, 82, 156, 157, 226 – 228
Монахов Николай Федорович (1875 – 1936) актер — 125, 316
Мопассан Ги де (1850 – 1893) — 112
Моргенштерн Мануил Матвеевич, деятель театра — 237
Морес Евгения Николаевна (р. 1904), актриса — 276
Москвин Владимир Иванович (1902 – 1958), актер — 300, 301, 305, 318, 319
Москвин Иван Михайлович (1874 – 1946), актер — 19 – 21, 86, 97, 131, 230, 231, 234, 235, 253, 260, 285
Мочалов Павел Степанович (1800 – 1848), актер — 61, 132
Моэм Уильям Сомерсет (1874 – 1965), английский писатель — 157, 158
Музалевский Георгий Васильевич (1892 – 1942), актер — 292
Музиль Николай Николаевич (1874 – 1930), актер — 61
Муравьев Михаил Петрович (1884 – 1927), актер, режиссер — 32, 33
Мчеделов (Мчедлишвили) Вахтанг Леванович (1884 – 1924), режиссер — 230
Н. — см. Никонов Б. П.
Надеждин Степан Николаевич (1878 – 1934), актер, режиссер — 197, 198
Найденова Елизавета Ивановна (1876 – 1951), актриса — 61, 77, 90, 91
Нароков (Якубов) Михаил Семенович (1879 – 1958), актер, режиссер — 83, 134, 140, 148, 152
Незлобин (Алябьев) Константин Николаевич (1857 – 1930), режиссер — 45, 103, 121, 122, 280
Нелидов Анатолий Павлович (1879 – 1949), актер — 155, 159, 171, 198, 228
Немирова-Ральф Анастасия Антоновна (1849 – 1929), актриса — 52
Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858 – 1943) — 15, 16, 19 – 21, 97 – 101, 103, 107, 121, 128, 130, 166, 230, 233, 234, 260 – 269, 271 – 273, 275, 281, 304, 323
Нивинский Игнатий Игнатьевич (1880 – 1933), художник — 115, 124, 135, 296, 306
Никельберг Михаил Лазаревич (р. 1907), актер — 188, 198
Никитин Николай Николаевич (1895 – 1963), писатель — 26, 223, 274
Никонов Борис Павлович (1873 – 1950), писатель — 40
Никулин (Ольконицкий) Лев Вениаминович (1891 – 1967), писатель — 282
Никулина Надежда Алексеевна (1845 – 1923), актриса — 20
Нобиле Умберто (1885 – 1978), итальянский исследователь Арктики — 200
Новинский (Голузевский) Александр Федорович (1859 – 1919), актер — 28, 33, 38, 59
Новицкий Павел Иванович (1888 – 1971), театровед — 233, 259, 268, 271, 302
Новомирский Я. И., профсоюзный работник — 15
Норкуте Эйба Каэтановна (р. 1935), театровед — 10
Нусинов Исаак Маркович (1889 – 1950), литературовед — 272
О. Б. — см. Блюм О. В.
Образцов Сергей Владимирович (р. 1901), актер, режиссер театра кукол — 295
Овэс Любовь Соломоновна (р. 1953), театровед — 10
Окамото Кидо (Кэйдзи, 1872 – 1939), японский драматург — 197
Олеша Юрий Карлович (1899 – 1960), писатель — 153, 316 – 318
Ольховский Виктор Родионович (1895 – 1935), актер — 139
Оранский (Гершов) Виктор Александрович (1899 – 1953), композитор — 239
Орбелов Аркадий Николаевич (1888 – 1935), актер, режиссер — 172
Орджоникидзе Серго (Григорий Константинович) (1886 – 1936) — 212
Орлинский Александр Робертович, деятель театра — 244
Орлов Василий Александрович (1896 – 1974), актер — 230, 254
Орочко Анна Алексеевна (1898 – 1965), актриса — 123, 124, 300, 303, 311, 318
Освецимский Владимир Иванович (1886 – 1955), актер — 87, 91
Осинский Н. (Оболенский Валериан Валерианович, 1887 – 1938), публицист — 140
Осовцов Семен Моисеевич (р. 1917), театровед, литературовед — 10
Островский Александр Николаевич (1823 – 1886) — 17, 20, 29, 32, 36, 40, 43, 49, 50, 54, 55, 61, 63, 132 – 135, 138, 145, 146, 153, 159, 161, 163, 164, 176, 182, 252 – 255, 300, 303
Остужев (Пожаров) Александр Алексеевич (1874 – 1953), актер — 16, 61, 67, 71, 77, 83, 86, 133, 134, 137, 149 – 152
Оттен (Поташинский) Николай Давыдович (р. 1907), писатель — 275, 276
Охлопков Николай Павлович (1900 – 1967), актер, режиссер — 324, 325
П. М. — см. Марков П. А.
Павлычева Антонина Павловна (1900 – 1977), актриса — 172
Пальерон Эдуард-Жюль-Анри (1834 – 1899), французский драматург — 157
Пантелеев Александр Петрович (1872 – 1950), актер, кинорежиссер — 28, 42, 53
Панчин Петр Семенович (1861 – 1921), режиссер — 29, 38, 42, 52, 60
Пашенная Вера Николаевна (1887 – 1962), актриса — 18, 61, 64, 68, 84, 86, 89, 90, 133, 134, 139, 143, 144, 146, 147, 152
Пашковский Донат (Николай) Христофорович (1879 – 1934), актер — 16, 33, 36 – 40, 47, 58, 59, 155, 169, 197
Паялин И., рабкор — 192
Певцов Илларион Николаевич (1879 – 1934), актер — 158, 159, 161, 168, 169, 335 175, 186 – 189, 191, 194, 109, 205, 210, 219, 221 – 224, 229, 273, 274, 282, 283
Петербургский — см. Адонц Г. Г.
Петров Н., журналист — 79
Петров Николай Васильевич (1890 – 1964) актер, режиссер — 29, 52, 55 – 58, 129, 154, 168, 178, 180 – 182, 184 – 191, 193 – 195, 197 – 209, 211 – 221, 224 – 226, 228, 229, 323
Петров Сергей Иванович (1881 – 1936), художник — 84
Печковский Николай Константинович (1896 – 1966), оперный певец — 183
Пикель Ричард Витольдович (1896 – 1936), критик — 262
Пиотровский Адриан Иванович (1898 – 1938), деятель театра и кино — 26, 165, 175, 177, 185, 186, 197, 207, 228, 271
Пир — см Никулин Л. В.
Плавт Тит Макций (ок. 251 – 184 до н. э.) — 165
Платон Иван Степанович (1870 – 1935), режиссер — 64, 67, 69 – 71, 73, 74, 87, 91 – 94, 132 – 134, 137, 139, 140, 142, 150, 153, 323
Победоносцев Константин Петрович (1827 – 1907), обер-прокурор синода — 171, 287, 290
Погодин (Стукалов) Николай Федорович (1900 – 1952), драматург — 199, 318, 319
Подгорный Владимир Афанасьевич (1887 – 1944), актер — 224, 282, 294, 208
Подгорный Николай Афанасьевич (1879 – 1947), актер — 237
Покровский Михаил Николаевич (1868 – 1932), историк — 177
Полонский Витольд Альфонсович (1879 – 1918), актер — 72
Полонский (Гусин) Вячеслав Павлович (1886 – 1932), критик — 44
Полякова Елена Ивановна (р. 1926), театровед — 104, 105, 247, 249, 250
Понсова Елена Дмитриевна (1907 – 1966), актриса — 300
Попов Алексей Дмитриевич (1892 – 1961), актер, режиссер — 110, 173, 285, 306, 308 – 311, 315, 316, 318, 320, 323, 325
Попов Владимир Александрович (1889 – 1968), актер — 99, 282, 288, 298
Попова Варвара Александровна (р. 1899), актриса — 300, 301, 307
Потоцкая Мария Александровна (1861 – 1938), актриса — 28, 33, 48, 60, 158, 196
Правдин Осип Андреевич (Трейлебен Оскар Августович, 1846 – 1921), актер — 61, 64, 69 – 71, 73, 81 – 83, 86
Правдухин Валериан Павлович (1892 – 1939), писатель — 172, 180, 307
Прозоровский (Ременников) Лев Михайлович (1880 – 1454), актер, режиссер — 137 – 142, 144, 147, 323
Прудкин Марк Исаакович (р. 1898), актер — 230, 237, 240, 242, 245, 276, 277
Пушкин Александр Сергеевич (1799 – 1837) — 22, 41, 97, 99, 100, 102, 107, 120, 292
Пыжова Ольга Ивановна (1894 – 1972), актриса — 291
Р — см. Розенберг И. С.
Рабинович Исаак Моисеевич (1894 – 1961), художник — 148, 261, 300
Радаков Алексей Александрович (1879 – 1942) художник — 282
Радлов Сергей Эрнестович (1892 – 1958), режиссер — 154, 162 – 169, 182, 197, 324
Раевский Иосиф Моисеевич (1900 – 1972), актер, режиссер — 265
Ракитин (Ионин) Юрий Львович, актер, режиссер — 29, 48, 181
Рапопорт Иосиф Матвеевич (1901 – 1970), актер, режиссер — 300, 311, 321
Раппапорт Виктор Романович (1889 – 1943), режиссер — 154, 155, 158, 179, 182, 193
Рафалович Василий Евгеньевич (р. 1900), деятель театра — 223, 274
Рашевская Наталия Сергеевна (1893 – 1962), актриса, режиссер — 52, 158, 186, 199, 222, 223, 228
Рейнгардт (Гольдман) Макс (1873 – 1943), немецкий режиссер — 39, 58, 121, 158
Ремизова Александра Исааковна (р. 1905), актриса, режиссер — 300, 307
Ржанов Анатолий Иванович (1894 – 1953), актер — 149
Рид Джон (1887 – 1920), американский журналист — 176, 281
Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844 – 1908) — 79
Родиан Ю., литератор — 293
Родина Татьяна Михайловна (р. 1924), театровед — 101
Розенберг Исай Самойлович (? — 1920), журналист — 37, 44, 59
Розенель Наталия Александровна (1902 – 1962), актриса — 140
Романов Михаил Федорович (1896 – 1963), актер — 158, 174, 184, 193, 198, 202, 205, 216, 222, 225, 227, 229
Ромашов Борис Сергеевич (1895 – 1958), драматург — 132, 134, 140, 147, 148, 180, 185, 195, 199, 200, 232
Ромен Жюль (Фаригуль Луи, 1885 – 1972), французский писатель — 311
Ромм Григорий Матвеевич, литератор — 53, 54
Россов (Пашутин) Николай Петрович (1864 – 1945), актер — 74
Россовский Николай Андреевич (? — 1919), критик — 31, 50
Ростан Эдмон (1868 – 1918), французский драматург — 122
Ростова (Варварина) Наталия Владимировна (1880 – 1943), актриса — 28, 33, 53, 54, 192, 205
Ростовцев (Эршлер) Михаил Антонович (1872 – 1948), актер оперетты — 157, 192
Ростоцкий Болеслав Иосифович (1912 – 1981), театровед — 121
Рощина-Инсарова (Пашенная) Екатерина Николаевна (1883 – 1970) актриса — 28, 33, 36, 39
Рудник Лев Сергеевич (р. 1906), режиссер — 198
Рудницкий Константин Лазаревич (р. 1920), театровед — 10, 120, 121
Русинова Нина Павловна (р. 1895), актриса — 300
Рыбаков Николай Хрисанфович (1811 – 1876), актер — 62
Рыбников Николай Николаевич (1879 – 1956), актер — 151, 152
Рыжей Петр Львович (1908 – 1978), писатель — 224, 298
Рыжов Иван Андреевич (1866 – 1932), актер — 61, 70, 91
Рыжова Варвара Николаевна (1871 – 1963), актриса — 61, 63, 83, 91, 133, 142, 147, 148, 152
Рыклин Григорий Ефимович (1894 – 1975), писатель — 140
Рыков Александр Викторович (1892 – 1966), художник — 206
Рында-Алексеев Борис Кирович (? — 1934), драматург — 134
Рышков Виктор Александрович (1862 – 1924), драматург — 36
С. М. — см. Мокульский С. С.
Сабуров Симон Федорович (1868 – 1929), актер, драматург — 157
336 Савина Мария Гавриловна (1854 – 1915), актриса — 181
Савостьянов Алексеи Владимирович (р. 1909), актер — 198, 226
Садко — см. Блюм В. И.
Садовская Ольга Осиповна (1849 – 1919) актриса — 61 – 63, 86, 89, 91
Садовский (Ермилов) Пров Михайлович (1818 – 1872), актер — 19, 61, 63
Садовский Пров Михайлович (1874 – 1947) актер — 16, 61 – 64, 70, 71, 74, 76, 77, 88, 91 – 93, 133, 134, 136, 137, 143, 144, 146, 148, 150
Сазонов М., журналист — 45
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826 – 1889) — 97, 159, 160, 231, 232, 295
Самарин Иван Васильевич (1817 – 1885), актер, драматург — 75
Самойлов Павел Васильевич (1866 – 1931), актер — 158, 159, 169, 197
Санин (Шенберг) Александр Акимович (1869 – 1956), режиссер — 30, 74 – 85, 93, 94, 138
Сапунов Николай Николаевич (1880 – 1912), художник — 121
Сахновский Василий Григорьевич (1886 – 1945), режиссер — 136, 231, 258, 260, 261, 263, 302
Сац Илья Александрович (1875 – 1912), композитор — 239
Сашин-Никольский Александр Иванович (1894 – 1967), актер — 141, 142, 152
Свидерский Алексей Иванович (1878 – 1933), начальник Главискусства в 1928 – 1929 гг. — 27, 196
Сейфуллина Лидия Николаевна (1889 – 1954), писательница — 172, 180, 307, 309, 316
Селевк (псевд.) — 44
Сельвинский Илья Львович (1899 – 1968), поэт, драматург — 199 – 201
Семашко Николай Александрович (1874 – 1943), советский государственный и партийный деятель — 309
Семенов Сергей Александрович (1893 – 1949), писатель — 177
Серебряков Леонид Петрович (1888 – 1937), советский государственный деятель — 16
Сизов Николай Иванович (1886 – 1962), композитор — 123, 306
Симов Виктор Андреевич (1858 – 1935), художник — 236, 247, 259, 269
Симонов Николай Константинович (1901 – 1973), актер — 158, 183, 184, 186, 187, 189 – 191, 197, 200, 205, 207, 210, 225
Симонов Рубен Николаевич (1899 – 1968), актер, режиссер — 120, 124, 129, 301, 302 – 405, 307, 311, 331, 324
Синг Джон (1871 – 1909), ирландский драматург — 137, 175, 282
Синельникова Мария Давыдовна (р. 1899), актриса — 126, 300
Синицын Владимир Андреевич (1893 – 1930), актер — 237, 258, 264
Скопина Людмила Александровна (р. 1903), актриса — 198, 222
Скриб Эжен (1791 – 1861), французский драматург — 29
Скрипиль Михаил Осипович (1892 – 1957), искусствовед — 171
Слонимский Александр Леонидович (1881 – 1964), литературовед — 161, 167
Смирнов Александр Александрович (1883 – 1962), литературовед — 163
Смирнов Павел Яковлевич, деятель театра в Петрозаводске — 52
Смирнова Надежда Александровна (1873 – 1951), актриса — 61, 67, 70, 81, 92 – 94
Смирнова Ольга Васильевна (р. 1909), актриса — 222
Смирнова Эльвира Павловна (р. 1939), театровед — 10
Смолин Дмитрий Петрович (1891 – 1955) драматург — 138 – 140, 180, 197
Смолич Николай Васильевич (1888 – 1968), актер, режиссер — 28, 33, 38, 48, 49, 58 – 60, 155, 169, 182, 192
Смышляев Валентин Сергеевич (1891 – 1936), актер, режиссер — 108, 109, 119, 239, 282, 286, 297
Соболев Юрий Васильевич (1887 – 1940), критик, драматург — 74, 82, 99, 109, 119, 136, 224, 231, 234, 237, 238, 253, 254, 281, 297, 298
Соваж Тома-Мари-Франсуа (1794 – 1877), французский драматург — 132
Соков Алексей Осипович (1878 – 1935), бутафор — 33, 59
Соколов Александр Васильевич (р. 1906), актер, режиссер — 219
Соколов Петр Иванович (1892 – 1938), художник — 199
Соколова Вера Сергеевна (1896 – 1942), актриса — 230, 241 – 243
Соколовская Нина (Антонина) Александровна (1867 – 1952), актриса — 274
Соловьев Владимир Николаевич (1887 – 1941), режиссер — 122, 159, 198, 200 – 202, 225 – 227, 324
Соловьев Георгий Иванович (1904 – 1966), актер — 185, 198, 225
Соловьев Николай Яковлевич (1845 – 1898), драматург — 138
Соловьева Вера Васильевна (р. 1892), актриса — 282
Софокл (ок. 497 – 406 до н. э.) — 157, 196
Спасский Сергей Дмитриевич (1898 – 1956), писатель — 156
Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич (1863 – 1938) — 15, 16, 19 – 21, 67, 96 – 98, 101 – 111, 113, 115, 116, 119 – 121, 127, 128, 130, 131, 175, 176, 217, 229 – 232, 236, 237, 239, 240, 244, 246, 247, 252 – 261, 263 – 269, 271, 275, 277 – 281, 209, 301, 304, 309, 310, 323
Станицын (Гезе) Виктор Яковлевич (1897 – 1976), актер — 231, 243, 230
Старк Эдуард Александрович (1874 – 1942), критик — 80, 153, 154, 163, 301
Степанов Александр Федорович (р. 1891), художник — 233
Степанова Ангелина Иосифовна (р. 1905), актриса — 230
Стравинская (по мужу Аполлонская) Инна Александровна (1876 – 1970), актриса, режиссер — 29, 46, 47
Стравинский Игорь Федорович (1882 – 1971), композитор — 233
Стрельников (Мезенкампф) Николай Михайлович (1888 – 1939), композитор — 177
Стрешнева Вера Родионовна (1887 – 1957), актриса — 204
Стриндберг Юхан Август (1849 – 1912), шведский писатель — 115 – 117
Строева Марианна Николаевна (р. 1917), театровед — 102, 131, 237, 238, 258, 260, 275
Студенцов Евгений Павлович (1890 – 1943), актер — 28, 30, 31, 34, 39, 49, 156, 193, 197
Суворин Алексей Сергеевич (1834 – 1912), журналист, деятель театра — 157
Судаков Илья Яковлевич (1890 – 1969), актер, режиссер — 141, 218, 230, 240, 241, 243, 244, 246, 252, 253, 257, 260, 261, 265, 269, 270, 273, 277, 323
337 Судрабкалин Ян (Арвид Карлович) (1894 – 1975), латышский поэт — 293
Судьбинин (Караванов) Иван Иванович (1866 – 1919), актер — 28, 33, 36, 38, 43, 59
Сукова Татьяна Викторовна (1899 – 1968), актриса, режиссер — 198, 222
Сулержицкий Леопольд Антонович (1872 – 1916), деятель театра — 98, 109, 280, 281, 294
Сумбатов — см. Южин А. И.
Сургучев Илья Дмитриевич (1881 – 1956), драматург — 97
Суслович Рафаил Рафаилович (1907 – 1975), режиссер — 162
Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817 – 1903), драматург — 29, 40, 55, 136, 289, 292
Сухотин Павел Сергеевич (1884 – 1935), писатель — 295
Сушкевич Борис Михайлович (1887 – 1946), актер, режиссер — 110, 112, 115, 229, 281 – 283, 290, 292, 294 – 299, 325
Тагор Рабиндранат (1861 – 1941), индийский писатель — 99 – 101
Таиров (Корнблит) Александр Яковлевич (1885 – 1950) — 15, 106, 107, 115, 145, 206, 219, 322, 323, 325
Тальников (Шпитальников) Давид Лазаревич (1882 – 1961), критик — 253, 293
Тарасова Алла Константиновна (1898 – 1973), актриса — 218, 230, 257, 269, 270, 276, 277
Тарханов (Москвин) Михаил Михайлович (1877 – 1948), актер, режиссер — 230, 252, 253, 260
Татаринов Владимир Николаевич (1879 – 1966), режиссер — 286, 289, 293
Тверской (Кузьмин-Караваев) Константин Константинович (1890 – 1944), режиссер — 46, 155, 157, 161, 162, 174, 181, 186, 197, 236, 325
Теляковский Владимир Аркадьевич (1861 – 1924), директор императорских театров в 1901 – 1917 гг. — 49
Терентьев Игорь Герасимович (1891 – 1941), режиссер — 175 – 178, 180
Тиме Елизавета Ивановна (1884 – 1968), актриса — 28, 33, 34, 39, 49, 54, 60, 80, 155, 156, 158, 171, 173 – 175, 210, 211
Типот (Гинзбург) Виктор Яковлевич (1893 – 1960), драматург — 289
Тираспольская Надежда Львовна (1867 – 1962), актриса — 196
Тирсо де Молина (Тельес Габриэль, ок. 1583 – 1648), испанский драматург — 40
Тихонович Валентин Владимирович (1880 – 1951), режиссер — 14
Товстоногов Георгий Александрович (р. 1915), режиссер — 241, 242
Толлер Эрнст (1893 – 1939), немецкий драматург — 162, 163
Толмачев Дмитрий Георгиевич (1904 – 1980), писатель — 182
Толстой Алексей Константинович (1817 – 1875) — 22, 29, 30, 40, 41, 74 – 77, 293
Толстой Алексей Николаевич (1882 – 1945) — 29, 98, 181, 201 – 203, 282, 295
Толстой Лев Николаевич (1828 – 1910) — 29, 40, 43 – 45, 55, 86, 96, 113, 177, 260, 265 – 267
Толубеев Юрий Владимирович (1906 – 1979), актер — 213, 214
Толчанов (Толчан) Иосиф Моисеевич (1891 – 1981), актер — 126, 300, 301, 307, 311, 319
Топорков Василий Осипович (1889 – 1970), актер — 231, 259, 260
Трабский Анатолий Яковлевич (р. 1923), театровед — 10, 139
Тренев Константин Андреевич (1876 – 1945), писатель — 105, 138, 141 – 147, 175, 177 – 179, 232, 234, 235, 242, 323
Треплев А. (Смирнов Александр Александрович, 1864 – 1943), писатель — 88
Тубельский Леонид Давидович (1905 – 1961), писатель — 224, 298
Тугендхольд Яков Александрович (1882 – 1928), искусствовед — 287
Тур, братья — см. Тубельский Л. Д. и Рыжей П. Л.
Тургенев Иван Сергеевич (1818 – 1883) — 40, 287
Туркельтауб Исаак Самойлович, критик — 261, 262
Турчанинова Евдокия Дмитриевна (1870 – 1963), актриса — 61, 83, 133, 147, 152
Уайльд Оскар (1854 – 1900), английский писатель — 40, 67, 68
Ульянов Николай Павлович (1875 – 1949), художник — 81
Уралов (Коньков) Илья Матвеевич (1872 – 1920), актер — 28, 33, 38, 41, 43 – 45, 48, 50, 59
Усачев Александр Артемьевич (1863 – 1937), актер — 28, 60, 205, 222
Успенский Глеб Иванович (1843 – 1902), писатель — 152
Уэллс Герберт Джордж (1866 – 1946) — 173
Фадеев Александр Александрович (1901 – 1956), писатель — 151, 198, 298
Файко Алексей Михайлович (1893 – 1978), драматург — 292, 296
Февральский (Якоби) Александр Вильямович (р. 1901), театровед — 244
Федотова Гликерия Николаевна (1846 – 1925), актриса — 20, 61, 63
Филиппов Владимир Александрович (1889 – 1965), театровед — 63, 83, 235, 253
Филипповская Антонина Владимировна (1901 – 1942), актриса — 198
Фонвизин Денис Иванович (1745 – 1792) — 40, 55, 135
Фореггер фон Грейфентурн Николай Михайлович (1892 – 1939), режиссер — 43
Форш Ольга Дмитриевна (1873 – 1961), писательница — 199, 200
Фрейдкина Любовь Марковна (р. 1910), театровед — 97, 263
Фурманов Дмитрий Андреевич (1891 – 1926), писатель — 195, 198
Фэрбенкс (Ульман) Дуглас Элтон Томас (1883 – 1939), американский киноактер — 178
Х. Х. — 174
Х. Х. — см. Херсонский Х. Н.
Халиф Виктория Альбертовна (р. 1938), театровед — 113
Хачатурян Арам Ильич (1903 – 1978), композитор — 296
Хект Бен (1894 – 1964), американский драматург — 224, 321
Херсонский Хрисанф Николаевич (1897 – 1968), критик — 112, 234, 236, 315
Хмара Александр Михайлович (р. 1892), актер — 300
Хмара Григорий Михайлович (1882 – 1968), актер — 99
Хмелев Николай Павлович (1901 – 1945), актер, режиссер — 218, 230, 233, 241, 338 243, 247, 249, 250, 252, 254, 263, 264, 269, 270, 290
Хованский (Улупов) Александр Панкратьевич (1890 – 1962), актер — 169
Ходасевич Валентина Михайловна (1894 – 1970), художница — 158, 168, 196
Ходотов Николай Николаевич (1878 – 1932), актер — 30, 158, 193, 194, 197, 210
Хохлов Константин Павлович (1885 – 1956), актер, режиссер — 161, 174, 178, 181 – 184, 198
Худолеев Иван Николаевич (1869 – 1932), актер, режиссер — 72
Царев Михаил Иванович (р. 1903), актер — 198, 222, 229
Ценовский Антон Антонович (1862 – 1930), критик — 245
Цетнерович Павел Владиславович (1894 – 1963), режиссер — 325
Цибульский Марк Ильич, актер — 292
Цимбал Сергей Львович (1907 – 1978), критик, театровед — 158, 159, 175, 179, 184, 187, 181, 210, 211, 221, 224, 225, 278
Чайковский Петр Ильич (1840 – 1893) — 192
Чаплин Чарлз Спенсер (1889 – 1977) — 285
Чебан (Чебанов) Александр Иванович (1886 – 1954), актер, режиссер — 110, 282, 286, 289, 293, 296, 297
Честноков Владимир Иванович (1904 – 1968), актер — 198, 222
Чехов Антон Павлович (1860 – 1904) — 19, 29, 40, 45, 54, 55, 96, 115, 117, 118, 147, 240, 242, 243, 250, 261, 301
Чехов Михаил Александрович (1891 – 1955), актер — 20, 21, 99, 109, 113, 115 – 118, 131, 171, 281, 283 – 287, 289 – 294, 297 – 299, 302, 310, 321
Чижевская Александра Александровна (1873 – 1925), актриса — 28, 50, 51, 60
Чижевский Дмитрий Федотович (1885 – 1961), драматург — 140
Чинизелли Сципионе, владелец цирка в Петербурге — 39
Чуваков Вадим Николаевич (р. 1931), литературовед — 10
Чупятов Леонид Терентьевич (1890 – 1942), художник — 247, 269
Чхеидзе Ушанги Викторович (1898 – 1953), грузинский актер — 316
Шаляпин Федор Иванович (1873 – 1938) — 13, 16, 41, 282
Шаповаленко Николай Николаевич (1887 – 1957), драматург — 140, 171
Шаповаленко (Болотников) Николай Петрович (1860 – 1923), актер — 28, 49 – 51, 53, 54, 58, 60
Шапорин Юрий Александрович (1887 – 1966), композитор — 58, 193, 201, 211, 226
Шахалов Александр Эмильевич (1880 – 1935), актер — 286, 287
Шаховской Александр Александрович (1777 – 1846), драматург — 197
Шверубович Вадим Васильевич (1901 – 1981), деятель театра — 125
Шевченко Фаина Васильевна (1893 – 1971), актриса — 231, 254
Шекспир Уильям (1564 – 1616) — 22, 29, 40, 75, 77, 78, 83, 109, 125, 131 – 133, 136 – 138, 155, 157, 166 – 168, 198, 257, 258, 282, 286, 287, 292, 305, 321, 322
Шиллер Фридрих (1759 – 1805) — 17, 22, 39, 40, 49, 93, 121 – 124, 133, 136 – 138, 150, 151, 195, 292, 321
Шимлювский Виктор Владиславович (1890 – 1954), актер, режиссер — 164, 176
Шифрин Ниссон Абрамович (1892 – 1961), художник — 270
Шишков Вячеслав Яковлевич (1873 – 1945) писатель — 42, 55, 169
Шницлер Артур (1862 – 1931), австрийский писатель — 282
Шоу Джордж Бернард (1856 – 1950) — 155
Штейн Александр Петрович (р. 1906) драматург — 223 – 225, 274
Штукен Эдуард (1865 – 1936), немецкий драматург — 58, 183
Шумский (Чесноков) Сергей Васильевич (1820 – 1878), актер — 62
Шухмина Вера Алексеевна (1883 – 1925), актриса — 61, 81, 87
Щеглов Дмитрий Алексеевич (1898 – 1963), драматург — 37
Щепкин Михаил Семенович (1788 – 1863), актер — 19, 61 – 63, 69, 72, 76, 86, 132 – 134, 140, 145
Щепкина Александра Львовна (1880 – ?), актриса — 72
Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874 – 1952), писательница — 29, 32
Щукин Борис Васильевич (1894 – 1939), актер — 125, 126, 300, 301, 303, 305, 308, 309, 311, 313 – 315, 317, 318, 320, 321
Щуко Владимир Алексеевич (1878 – 1939), архитектор, художник — 155
Эггерт Константин Владимирович (1883 – 1955), актер, режиссер — 140
Эйзенштейн Сергеи Михайлович (1898 – 1948) — 134, 282, 288, 316
Эйхенбаум Борис Михайлович (1886 – 1959), литературовед — 283
Эйхенгольц Марк Давыдович (1889 – 1953), литературовед — 84
Экскузович Иван Васильевич (1882 – 1942), деятель театра — 11, 16, 27, 59, 196
Эльсберг Ж. (Яков Ефимович) (1901 – 1976), литературовед — 243, 252
Энгельс Фридрих (1820 – 1895) — 239
Эрдман Борис Робертович (1899 – 1960), художник — 302
Эрдман Николай Робертович (1902 – 1970), драматург — 130, 179, 302
Эренберг Владимир Владимирович (р. 1906), актер, режиссер — 198, 205, 222
Эрманс Виктор Константинович (1888 – 1958), критик — 73, 81, 82, 89 – 91, 128
Эрэс (псевд.) — 101
Эр Эс — см. Суслович Р. Р.
Эфрос Николай Ефимович (1867 – 1923), критик — 81, 82
Южаков Николай Любимович (1888 – 1956), актер — 46
Южин (Сумбатов, Сумбаташвили) Александр Иванович (1857 – 1927), актер, драматург — 14, 16 – 23, 29, 32, 35, 61, 64 – 66, 68 – 71, 76, 77, 79, 83 – 85, 88, 92, 93, 132 – 134, 138, 149
Юон Константин Федорович (1875 – 1958), художник — 81, 89, 133
Юренева Вера Леонидовна (1876 – 1962), актриса — 163, 164
Юрьев Юрий Михайлович (1872 – 1948), актер — 20, 23, 28, 33, 35, 36, 38, 39, 60, 66, 80, 148, 154, 155, 157, 158, 161, 162, 164, 167 – 170, 173, 175, 178, 180, 183, 184, 193 – 197, 229
Юрьин (Вентцель) Юрий Николаевич (1891 – 1927), драматург — 137, 140
339 Юфит Анатолий Зиновьевич (1925 – 1978), театровед — 11, 14
Я. А. — см. Апушкин Я. В.
Яблочкина Александра Александровна (1866 – 1964), актриса — 14, 61, 63, 64, 70, 83, 86, 93, 133, 134, 281
Яковлев Кондрат Николаевич (1864 – 1928), актер — 28, 50, 53, 54, 60, 157, 158, 196
Яковлев Николай Капитонович (1869 – 1950), актер — 22, 61, 70, 74, 81 – 83, 87, 91, 133
Янкевский Александр Иванович (1902 – 1978), актер — 198
Янковский (Хисин) Моисей Осипович (1898 – 1972), театровед — 202, 210, 223
Янковский Евгений Григорьевич (1889 – 1950), драматург — 209, 213, 214
Янцат Валентин Иванович (1905 – 1967), актер — 198
Яншин Михаил Михайлович (1902 – 1976), актер, режиссер — 230, 242, 243
340 УКАЗАТЕЛЬ РЕПЕРТУАРА
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н
О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
«А что, если?..» В. В. Маяковского — 43
«Авангард» В. П. Катаева — 318, 319
«Авантюрист» («Принц Себастиан») С. Моэма — 157
«Антоний и Клеопатра» У. Шекспира — 155
«Аракчеевщина» И. С. Платона — 140
«Баня» В. В. Маяковского — 289
«Барсуки» Л. М. Леонова — 309, 312 – 314, 316, 317
«Бархат и лохмотья» Э. Штукена и А. В. Луначарского — 58, 182, 183, 205
«Бег» М. А. Булгакова — 193, 258
«Бедность не порок» А. Н. Островского — 134
«Бея вины виноватые» А. Н. Островского — 60, 63, 64
«Бесприданница» А. Н. Островского — 36, 54
«Бешеные деньги» А. Н. Островского — 63, 64, 71
«Благочестивая Марта» Тирсо де Молины — 40
«Близнецы» Плавта — 165
«Блокада» В. В. Иванова — 252, 260 – 263, 274, 279
«Блоха» Е. И. Замятина по Н. С. Лескову — 286 – 289, 291
«Богатые невесты» А. Н. Островского — 29
«Борис Годунов» А. С. Пушкина — 305, 306
«Брат наркома» И. Н. Лернера — 140
«Братья Карамазовы» по Ф. М. Достоевскому — 267
«Бронепоезд 14-69» В. В. Иванова — 26, 105, 153, 190 – 193, 208, 218, 232, 245 – 252, 258, 261, 269, 279, 309, 312, 314, 315, 323
«В гавани» («Порт») по Г. де Мопассану — 112
«В людях» по М. Горькому — 325
«В 1825 году» Н. А. Венкстерн — 298
«В царстве скуки» Э. Пальерона — 157
«Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка — 163, 323
«Венецианский купец» У. Шекспира — 29, 40
«Весна священная» И. Ф. Стравинского — 233
«Ветер с поля» по «Виринее» Л. Н. Сейфуллиной — 172
«Вильгельм Телль» Ф. Шиллера — 22, 41
«Виринея» Л. Н. Сейфуллиной и В. П. Правдухина — 171 – 173, 180, 205, 210, 250, 306 – 314, 317, 319, 320, 323
«Вишневый сад» А. П. Чехова — 29, 40
«Волки и овцы» А. Н. Островского — 36, 63, 160, 161, 194
«Волчьи души» Дж. Лондона — 167
«Вор» О. Мирбо — 112
«Воскресение» по Л. Н. Толстому — 260, 265 – 267, 280, 298
«Вступление» Ю. П. Германа — 327
«Высоты» Ю. Н. Либединского — 195, 205 – 208, 217, 219
«Гадибук» С. Ан—ского (С. А. Рапопорта) — 114, 115, 121, 129
«Гамлет» У. Шекспира — 58, 97, 99, 228, 239, 286, 287, 290, 291, 311, 321, 322
«Генеральная репетиция» — см. «1905 год»
«Георгий Гапон» Н. Н. Шаповаленко — 171
«Герой» Дж Синга — 137, 175, 282
«Гибель “Надежды”» Г. Хейерманса — 281
«Горе от ума» А. С. Грибоедова — 17, 20, 40, 67, 75, 83, 86, 133, 148, 119, 152, 158, 175, 182 – 184, 194, 228
«Горькая судьбина» А. Ф. Писемского — 54
«Горячее сердце» А. Н. Островского — 218, 252 – 255, 271, 279
«Грех да беда на кого не живет» А. Н. Островского — 32
«Гроза» А. Н. Островского — 29, 54
«Д. Е.» («Даешь Европу!») М. Г. Подгаецкого — 303, 305
«Дама с камелиями» А. Дюма сына — 36
«Двадцать пятое» В. В Маяковского — 192
«Двенадцатая ночь» У. Шекспира — 109 – 111, 114, 198, 280, 281, 283, 285
«Декабрист» П. П. Гнедича — 17, 48, 73, 74
«Делец» В. Газенклевера — 201 – 203, 219
«Дело» А. В. Сухово-Кобылина — 136, 289 – 292
«Дело чести» И. К. Микитенко — 296
«Дети Ванюшина» С. А. Найденова — 54
«Дети солнца» М. Горького — 54
«Джон Рид» И. Г. Терентьева — 176
«Диктатура» И. К. Микитенко — 224
«Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» А. Н. Островского — 20
«Дни Турбиных» М. А. Булгакова — 105, 146, 153, 218, 232, 236, 240 – 245, 251, 252, 258, 262, 269, 271, 279, 312, 323
«Дон Жуан» Мольера — 156, 195, 229
«Дон Карлос» Ф. Шиллера — 39, 195
«Доходное место» А. Н. Островского — 67, 86, 135, 138, 182
«Дочь моря» Г. Ибсена — 29, 40
«Дядюшкин сон» по Ф. М. Достоевскому — 260, 263 – 267, 280, 290
341 «Евгений Онегин» П. И. Чайковского — 192
«Евграф, искатель приключений» А. М. Файко — 292, 298
«Его величество Трифон» Д. Ф. Чижевского — 110
«Егор Булычов и другие» М. Горького — 305, 319, 322, 325
«Екатерина Ивановна» Л. Н. Андреева — 60
«Железная стена» Б. К. Рынды-Алексеева — 134, 135, 140
«Жена» К. А. Тренева — 147
«Женитьба» Н. В. Гоголя — 40, 54, 60, 301 – 304
«Женитьба Белугина» А. Н. Островского и И. Я. Соловьева — 138
«Женитьба Труадека» Ж. Ромена — 311
«Женитьба Фигаро» Бомарше — 40, 49, 87, 252, 256, 257, 279
«Живой труп» Л. Н. Толстого — 29, 266
«Жирофле-Жирофля» Ш. Лекока — 323
«Загмук» А. Г. Глебова — 136, 141
«Заговор Фиеско в Генуе» Ф. Шиллера — 22, 49, 60, 124, 136, 137
«Заговор чувств» Ю. К. Олеши — 153, 316 – 318, 320, 321
«Закат» И. Э. Бабеля — 292, 293
«Зеленый попугай» А. Шницлера — 282
«Земля дыбом» С. М. Третьякова по М. Мартине — 181
«Земля и небо» бр. Тур — 298
«Зори» Э. Верхарна — 58, 79, 111, 285
«И свет во тьме светит» Л. Н. Толстого — 45
«Иван Каляев» И. Д. Калугина и В. В. Беренштама — 170, 171
«Иван Козырь и Татьяна Русских» Д. П. Смолина — 138, 139, 141, 145, 180, 197
«Идеальный муж» О. Уайльда — 158
«Идиот» по Ф. М. Достоевскому — 40, 194
«Изгнание блудного беса» А. Н. Толстого — 181, 182
«Ипполит» Еврипида — 40
«Каин» Дж. Байрона — 22, 103 – 108, 114, 131, 142, 232, 235, 239, 285, 312
«Каменный гость» А. С. Пушкина — 99
«Канцлер и слесарь» А. В. Луначарского — 58, 169, 170
«Клота Кудеяри» Я. Л. Горева и А. П. Штейна — 224
«Каширская старина» Д. В. Аверкиева — 197
«Квадратура круга» В. П. Катаева — 252
«Клоп» В. В. Маяковского — 289
«Коварство и любовь» Ф. Шиллера — 36, 60, 158, 321
«Когда взойдет месяц» И. Грегори — 112
«Когда спящий проснется» М. Б. Загорского — 173
«Командарм 2» И. Л. Сельвинского — 200, 201
«Комедия ошибок» У. Шекспира — 136
«Конец Криворыльска» Б. С. Ромашова — 26, 180, 185 – 187, 192, 199, 205, 208, 323
«Король Лир» У. Шекспира — 283
«Король темного чертога» Р. Тагора — 109 – 101
«Красный мак» Р. М. Глиэра — 289
«Кукушкины слезы» А. Н. Толстого — 29
«Лев Гурыч Синичкин» Д. Т. Ленского — 302 – 305, 316, 321
«Лево руля» В. Н. Билль Белоцерковского — 141
«Леди Фредерик» С. Моэма — 157
«Лес» А. Н. Островского — 49, 75, 83, 147, 161, 196, 255, 305
«Ливень» по С. Моэму — 158, 183
«Лизистрата» Аристофана — 165, 166, 274
«Луна парк» Н. М. Стрельникова — 177
«Луна слева» В. Н. Билль Белоцерковского — 141
«Любовь — книга золотая» А. Н. Толстого — 282
«Любовь под вязами» Ю. О’Нила — 145
«Любовь Яровая» К. А. Тренева — 25, 26, 138, 141 – 147, 153, 244, 250, 262, 309, 314, 316, 323
«Мандат» Н. Р. Эрдмана — 130, 179, 180
«Марион де Лорм» В. Гюго — 305
«Мария Стюарт» Ф. Шиллера — 93, 94, 133, 138
«Маскарад» М. Ю. Лермонтова — 40, 154, 158, 193, 195, 196, 229
«Матрос» Т. Соважа и Ж. де Лурье — 132, 133
«Мать» по М. Горькому — 325
«Медвежья свадьба» А. В. Луначарского по П. Мериме — 140
«Мексиканец» по Дж. Лондону — 282
«Мертвые души» М. А. Булгакова по Н. В. Гоголю — 258 – 261
«Мещане» М. Горького — 40, 50 – 52, 55
«Мещанин во дворянстве» Мольера — 156, 157, 162
«Милые призраки» Л. Н. Андреева — 29
«Мисс Гобс» Дж.-К. Джерома — 36
«Мистерия буфф» В. В. Маяковского — 26, 43, 104
«Мой друг» Н. Ф. Погодина — 325
«Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина — 120
«Мужичок» В. Я. Шишкова — 42, 55, 169
«Мятеж» по Д. А. Фурманову — 195, 198
«На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — 20, 36, 60, 134, 288
«На дне» М. Горького — 39, 40, 52, 55, 96
«Над землей» Т. А. Майской — 45 – 47, 52
«Наталья Тарпова» С. А. Семенова — 177, 206, 219
«Нашествие» Л. М. Леонова — 314
«Нашествие Наполеона» В. Газенклевера — 225
«Не было ни гроша, да вдруг алтын» А. Н. Островского — 182
«Не все коту масленица» А. Н. Островского — 54
«Неблагодарная роль» А. М. Файко — 296
«Невольницы» А. Н. Островского — 29
«Недоросль» Д. И. Фонвизина — 40, 60, 86, 135
«Незрелый плод» Р. Бракко — 36
«Нефть» Я. Л. Горева, бр. Тур и А. П. Штейна — 224
«Нечаянная доблесть» Ю. Н. Юрьина — 137, 139, 140
«Николай I и декабристы» А. Р. Кугеля и К. К. Тверского — 236 – 238
«Ночной туман» А. И. Сумбатова — 17, 29, 32, 138
«Ночь» М. Мартине — 181
342 «Общество почетных звонарей» Е. И. Замятина — 167
«Обыватели» В. А. Рышкова — 36
«Огненный мост» Б. С. Ромашова — 147, 195, 199, 262
«Ода Набунаго» К. Окамото — 197
«Озеро Люль» А. М. Файко — 288
«Оливер Кромвель» А. В. Луначарского — 91 – 95
«Опера нищих» («Трехгрошовая опера») Б. Брехта и К. Вайля — 322
«Оптимистическая трагедия» В. В. Вишневского — 322, 325
«Осенние скрипки» И. Д. Сургучева — 97
«Отелло» У. Шекспира — 39, 132, 151, 157, 167 – 169, 194, 195, 257, 258
«От ней все качества» Л. Н. Толстого — 45
«Павел I» Д. С. Мережковского — 194, 282
«Парижские нищие» Э. Бризбара и Э. Ню — 55
«Петербург» А. Белого — 171, 238, 289 – 291
«Петр I» («На дыбе») А. Н. Толстого — 295
«Петр Хлебник» Л. Н. Толстого — 43 – 45, 47, 52
«Пир во время чумы» А. С. Пушкина — 22, 99, 118
«Плоды просвещения» Л. Н. Толстого — 63
«Полубарские затеи» А. А. Шаховского — 197
«Посадник» А. К. Толстого — 22, 74 – 81, 83, 85, 87, 152
«Последняя жертва» А. Н. Островского — 60
«Поэма о топоре» Н. Ф. Погодина — 318
«Правда — хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского — 300, 301, 303, 305
«Праздник мира» Г. Гауптмана — 280
«Преступление и наказание» по Ф. М. Достоевскому — 40
«Принцесса Турандот» К. Гоцци — 121 – 131, 136, 286, 287, 289, 209 – 301, 303, 305, 306, 311, 316, 323
«Принцесса Турандот» Ф. Шиллера — 121 – 123, 176
«Причальная мачта» О. Д. Форш — 200, 207, 208
«Провинциалка» И. С. Тургенева — 20, 60
«Проделки Скапена» Мольера — 81, 82
«Прометей» Эсхила — 239
«Профессор Сторицын» Л. Н. Андреева — 29, 60
«Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова — 79
«Пугачевщина» К. А. Тренева — 105, 142, 175 – 180, 184, 221, 232 – 236, 238, 239, 279, 312, 323
«Пушкин и Дантес» В. В. Каменского — 173 – 175, 182, 183
«Раджа» Р. Тагора — 100
«Разбег» по В. П. Ставскому — 270
«Разбойники» Ф. Шиллера — 150 – 152
«Разлом» Б. А. Лавренева — 26, 153, 250, 309, 312, 314 – 316, 318 – 320, 322, 323
«Растеряева улица» М. С. Нарокова по Г. И. Успенскому — 152
«Расточитель» Н. С. Лескова — 283, 284
«Растратчики» В. П. Катаева — 252
«Ревизор» Н. В. Гоголя — 20, 40, 60, 67, 86, 87, 131, 133, 144, 145, 158, 177, 197, 259, 284, 323
«Реймский собор» Г. Г. Ге — 37
«Рельсы гудят» В. М. Киршона — 195, 203 – 206, 208
«Ричард III» У. Шекспира — 20, 22, 75, 83 – 87, 94, 133, 142
«Роза и крест» А. А. Блока — 99, 101 – 103
«Росмерсхольм» Г. Ибсена — 110, 111, 280
«Рычи, Китай!» С. М. Третьякова — 255
«Самое главное» Н. Н. Евреинова — 226
«Сарданапал» Дж. Байрона — 157
«Свадьба» А. П. Чехова — 117, 118, 121, 301
«Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина — 29, 36, 60, 133, 136, 158, 195, 196
«Сверчок на печи» по Ч. Диккенсу — 281, 285, 297
«Светит да не греет» А. Н. Островского — 60
«Светите, звезды» И. К. Микитенко — 224, 296
«Светлый бог» Д. Я. Айзмана — 46, 47
«Свои люди — сочтемся» А. Н. Островского — 163
«Святая Иоанна» Б. Шоу — 155, 156
«Севильский цирюльник» Бомарше — 49
«Село Степанчиково» по Ф. М. Достоевскому — 97, 98
«Семь жен Иоанна Грозного» Д. П. Смолина — 140
«Семь лет без взаимности» Н. А. Адуева, Арго, Д. Г. Гутмана, В. Я. Типота — 289
«Сенсация» Б. Хекта и Ч. Мак-Артура — 224, 225, 321
«Сердце не камень» А. Н. Островского — 133
«Сестры Кедровы» Н. А. Григорьева-Истомина — 36, 41
«Синяя птица» М. Метерлинка — 105
«Сказка об Иване-дураке и его братьях» по Л. Н. Толстому — 45, 113
«Слуга двух господ» К. Гольдони — 125
«Смена героев» Б. С. Ромашова — 148
«Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого — 22, 29 – 32, 40, 75, 241
«Смерть Пазухина» М. Е. Салтыкова-Щедрина — 97, 159, 160, 231, 232
«Смерть Петра I» Н. Н. Шаповаленко — 140
«Смерть Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина — 29, 32
«Снегурочка» А. Н. Островского — 133, 176
«Собака садовника» («Собака на сене») Лопе де Веги — 75, 81, 82
«Собор Парижской богоматери» по В. Гюго — 138
«Соломенная шляпка» Э. Лабиша — 198, 227
«Сорочинская ярмарка» М. П. Мусоргского — 78
«Стакан воды» Э. Скриба — 29
«Старик» М. Горького — 52, 86 – 91, 134
«Старый закал» А. И. Сумбатова — 17
«Стойкий принц» П. Кальдерона — 40
«Сто лет Малого театра» И. С. Платона — 132
«Страх» А. Н. Афиногенова — 153, 208, 209, 214, 217 – 225, 270, 272 – 277, 279
«Суд» В. М. Киршона — 296
343 «Тартюф» Мольера — 226 – 228
«Театр Клары Газуль» П. Мериме — 306, 307
«Темп» Н. Ф. Погодина — 318 – 320, 322
«Тень освободителя» П. С. Сухотина по М. Е. Салтыкову-Щедрину — 295
«Тот, кто получает пощечины» Л. Н. Андреева — 60
«Тридцать три обморока», вечер водевилей А. П. Чехова — 147
«Трудовой хлеб» А. Н. Островского — 64
«1905 год» Ю. В. Соболева и В. А. Подгорного — 224, 298
«Узелок» И. Г. Терентьева — 176, 177
«Укрощение строптивой» У. Шекспира — 40, 282, 283
«Униженные и оскорбленные» по Ф. М. Достоевскому — 297, 298
«Унтиловск» Л. М. Леонова — 237, 252
«Учитель Бубус» А. М. Файко — 305
«Фавн» Э. Кноблаука — 157, 158
«Фауст и город» А. В. Луначарского — 55 – 58, 169, 181, 209
«Федра» Ж. Расина — 323
«Федька есаул» Б. С. Ромашова — 147
«Флавия Тессини» Т. Л. Щепкиной-Куперник — 29, 32
«Флорентийская трагедия» О. Уайльда — 40, 68
«Фокстрот» В. М. Андреева — 176
«Флор Севастьянов» Ю. Родиана и П. Н. Зайцева — 293
«Хирургия» по А. П. Чехову — 55
«Хлеб» В. М. Киршона — 218, 269 – 274, 279
«Холопы» П. П. Гнедича — 47
«Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстою — 20, 40, 60, 98, 175
«Царь Эдип» Софокла — 39, 58, 167, 182, 183, 196
«Цезарь и Клеопатра» Б. Шоу — 155
«Чайка» А. П. Чехова — 297
«Человек, который смеется» по В. Гюго — 294
«Человек с портфелем» А. М. Файко — 219
«Чудак» А. Н. Афиногенова — 153, 208, 214 – 218, 297 – 299
«Чудо святого Антония» М. Метерлинка — 111, 112, 114, 115, 117, 118, 121, 301, 306
«Шахтер» («Голос недр») В. Н. Билль-Белоцерковского — 187, 189, 195, 208, 213
«Штиль» В. Н. Билль-Белоцерковского — 180, 187, 188, 205, 208
«Шторм» В. Н. Билль-Белоцерковского — 26, 141, 143, 187, 250, 309, 316
«Штурм Перекопа» Ю. А. Шапорина — 193
«Шут Тантрис» Э. Хардта — 60
«Шутники» А. Н. Островского — 60
«Электра» Г. Гофмансталя — 75
«Эрик XIV» А. Стриндберга — 115 – 118, 121, 280, 281
«Эуген Несчастный» Э. Толлера — 162 – 164
«Юбилей» А. П. Чехова — 118
«Юлий Цезарь» У. Шекспира — 133, 137
«Яд» А. В. Луначарского — 58, 184, 185
«Ярость» Е. Г. Яновского — 209 – 214, 218, 224, 225
«Ясный лог» К. А. Тренева — 147
ПОСТРАНИЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
1* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 178.
2* Советский театр. Документы и материалы. Русский советский театр. 1917 – 1921. Под ред. А. З. Юфита. Л., 1968, с. 65.
3* Луначарский А. Три встречи. Из воспоминаний об ушедших. — Огонек, 1927, № 40, 2 окт., с. 4.
4* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 37, с. 191, 196.
5* Б—в С. А. Из народа, но не для народа. — Известия, 1918, № 148, 17 июля, с. 5.
6* Игнатов В Театральный Октябрь и Шаляпин. — Вестник театра, 1920, № 74, 20 нояб., с. 11.
7* Резолюция о театре. — Известия, 1919, № 204, 20 сент., с. 6.
8* Керженцев В. Очередь за Москвой. (О национализации театров). — Известия, 1918, № 235, 27 окт., с. 2.
9* В. Т. Малый или Художественный? — Вестник театра, 1920, № 61, 20 – 25 апр., с. 5.
10* Совещание о национализации театров. — Там же, 1919, № 2, 6 – 7 февр., с. 7.
11* Ленин. Революция. Театр. Документы и воспоминания. Под ред. А. З. Юфита. Л., 1970, с. 199.
12* Луначарский А. К вопросу о национализации театров — Вестник театра, 1919, № 18, 4 – 8 апр., с. 3.
13* Ленинский сборник. XXIV. М., 1933, с. 162.
14* См.: Страничка из истории борьбы академических театров за свое существование (в период 1917 – 1922 гг.). — Еженедельник петрогр. гос. акад. театров, 1922, № 8, 5 нояб., с. 55 – 56. Авторство И. В. Экскузовича установил Е. М. Кузнецов.
15* См.: Дрейден С. В зрительном зале — Владимир Ильич. 2-е изд. Кн. 2. М., 1980, с. 491.
16* Хроника. — Правда, 1919, № 274, 6 дек., с. 4.
17* Театр и музыка. — Наша речь, 1918, № 2, 17 нояб., с. 5.
18* См.: Вильде Н. Малый театр. — Рампа и жизнь, 1917, № 35, 10 сент., с 8.
19* Александр Иванович Южин-Сумбатов. Записи, статьи, письма. 2-е изд. М., 1951, с. 169 – 170.
20* См.: Чествование А. И. Южина. — Театральный курьер, 1918, № 11, 29 сент., с. 2 – 3.
21* См.: Чествование А. И. Южина. — Красная газ., 1922, № 212, 20 сент., с. 6.
22* Москва. — Театральная газ., 1917, № 38, 24 сент., с. 4.
23* Резолюции. — Рампа и жизнь, 1917, № 44 – 46, 19 нояб., с. 6.
24* К юбилею А. И. Южина. — Еженедельник петрогр. гос. акад. театров, 1922, № 4, 8 окт., с. 52.
25* См.: Обмен артистами. (Москвичи в Акдраме). — Красная газ., веч. вып., 1924, № 252, 4 нояб., с. 4.
26* Мокульский С. Смычка МХАТа с Акдрамой. — Жизнь искусства, 1925, № 16, 21 апр., с. 15.
27* См.: Кризис академических театров. — Известия, 1922, № 263, 21 нояб., с. 5.
28* См.: Вл. И. Немирович-Данченко о Художественном, Большом и Малом театрах. — Театральная Москва, 1921, № 2, 1 – 3 нояб., с. 3 – 4.
29* Южин А. Вынужденное возражение. — Театральное обозрение, 1921, № 1, 15 – 17 нояб., с. 6.
30* Марков П. А. О театре. В 4-х т. М., 1974, т. 1, с. 449.
31* Двинский. Зигзаги. — Вестник общественно-политической жизни, искусства, театра и литературы, 1918, № 7, 25 сент., с. 5.
32* Луначарский А. Три встречи. Из воспоминаний об ушедших. — Огонек, 1927, № 40, 2 окт., с. 4.
33* См.: Спектакль, посвященный творчеству Л. В. Луначарского. — Известия, 1926, № 91, 21 апр., с. 5.
34* Цит. по кн.: Князевская Т. Южин-Сумбатов и советский театр. М., 1966, с. 189.
35* См.: О государственных академических театрах. — Известия, 1925, № 164, 21 июля, с. 7.
36* Совнарком об актеатрах. — Красная газ., веч. вып., 1925, № 207, 25 авг., с. 4.
37* Что такое академические театры. (Постановление театральной подсекции научно-художественной секции ГУСа). — Известия, 1925, № 194, 27 авг., с. 7.
38* Театральная политика. Из беседы с наркомом по просвещению А. В. Луначарским о том, что следует принять к сведению и руководству — Рабочий и театр, 1925, № 38, 22 сент., с. 8.
39* Театральная политика. Из беседы с наркомом по просвещению А. В. Луначарским о том, что следует принять к сведению и руководству. — Рабочий театр, 1925, № 38, 22 сент., с. 8.
40* См.: Тяжелое обвинение. — Жизнь искусства, 1925, № 40, 6 окт., с. 1 – 2.
41* См.: Пути академического искусства. (Из доклада А. В. Луначарского в театре Акдрамы 19 сентября с. г.). — Там же, № 39, 29 сент., с. 1 – 2.
42* Никитин Н. Открытое письмо Большому драматическому театру. — Красная газ., веч. вып., 1925, № 88, 15 апр., с. 4.
43* Верховский Н. Нужно ли? Большой драм, театр и ак. театры. — Ленингр. правда, 1925, № 88, 17 апр., с. 7.
44* Большой драматический театр. — Жизнь искусства, 1925, № 16, 21 апр., с. 23.
45* Дневник театра, — Веч. Москва, 1928, № 166, 19 июля, с. 3.
46* Нет больше «аков». — Там же, № 186, 14 авг., с. 3.
47* Вас[илевск]ий Л. Александринский театр. — Речь, 1906, № 251, 24 дек., с. 4.
48* Ходотов Н. Письмо в общее собр. труппы Александринск. театра. — Театр и искусство, 1917, № 42, 15 окт., с. 729.
49* За кулисами Александринки. — Петрогр. листок, 1917, № 232, 27 сент., с. 4.
50* Россовский Н. Театральное междуцарствие. — Петрогр. листок, 1917, № 241, 7 окт., с. 4.
51* См.: Снимать ли «Смерть Грозного». — Там же, № 245, 12 окт., с. 4.
52* Горин-Горяинов Б. А. Актеры. (Из воспоминаний). Л.; М., 1947, с. 137.
53* Homo novus. Заметки. — Театр и искусство, 1917, № 42, 15 окт., с. 733.
54* Вивьен Л. В Александринском театре накануне революции. — Звезда, 1957, № 1, с. 185.
55* События и театры. — Театр и искусство, 1917, № 44 – 46, 12 нояб., с. 763.
56* Муравьев М. Сохраните театры. — Театр и искусство, 1917, № 44 – 46, 12 нояб., с. 764.
57* Хроника. — Обозрение театров, 1917, № 3604, 12 дек., с. 5.
58* Театральная летопись. — Новая вечерняя почта, 1917, № 1, 11 нояб., с. 4.
59* См.: Театральная хроника. — Ночь, 1917, № 1, 22 нояб., с. 7.
60* Сцена и эстрада. — Вечерний час, 1917, № 5, 2 дек., с. 4.
61* См.: Сцена и эстрада. — Там же, № 19, 19 дек., с. 4.
62* См.: Около захвата Александринского театра. — Петрогр. голос, 1917, № 10, 10 дек., с. 4.
63* См.: Артисты о Луначарском. — Вечерний час, 1917, № 12, 11 дек., с. 4.
64* См.: Сцена. — Вечерний звон, 1917, № 5, 11 дек., с. 4.
65* См.: Приказ по ведомству Государственных театров. — Известия, 1917, № 250, 13 дек., с. 8.
66* См.: Луначарский. К инциденту в Александринском театре. — Там же, № 249, 12 дек., с. 8.
67* Верховный комитет по управлению государственными театрами. — Пегрогр. голос, 1917, № 18, 20 дек., с. 4.
68* См.: Сцена и эстрада. — Вечерний час, 1917, № 15, 14 дек., с. 4; № 17, 16 дек., с. 4.
69* См.: В Верховном комитете. — Там же, № 20, 20 дек., с. 4.
70* См.: Александринцы переселяются. — Вечерний час, 1917, № 18, 18 дек., с. 4.
71* Театральный курьер. — Петрогр. голос, 1917, № 19, 21 дек., с. 4.
72* В Государственных театрах. — Наш век, 1918, № 10, 16 янв., с. 4.
73* Р. Е. П. Карпов подал в отставку. (Беседа с Е. П. Карповым). — Новая петрогр. газ., 1918, № 10, 16 янв., с. 4.
74* Странное отношение. — Новая петрогр. газ., 1918, № 26, 17 февр., с. 4.
75* Ге Г. Актерская трибуна. — Вестник общественно-политической жизни, искусства, театра и литературы, 1918, № 1, 18 сент., с. 2.
76* Щеглов Дм. У истоков. — В кн.: У истоков. М., 1960, с. 36 – 37.
77* См.: Ликвидация конфликта в театрах. — Новый вечерний час, 1918, № 11, 18 янв., с. 4.
78* Цит. по: Альтшуллер А. Я. К истории Академического театра драмы имени А. С. Пушкина в первые годы Советской власти. — Учен. зап. ГосНИИ театра и музыки. Л., 1958, т. 1, с. 37 – 38.
79* Мичурина-Самойлова В. А. Шестьдесят лет в искусстве. Л.; М., 1946, с. 95.
80* См.: Театр и музыка. — Наш век, 1918, № 14, 20 янв., с. 4.
81* Юрьев Ю. М. Записки. Л.; М., 1963, т. 2, с. 242.
82* См.: Обращение В. Н. Давыдова к А. В. Луначарскому. — Вестник театра, 1920, № 63, 4 – 9 мая, с. 12.
83* Приезд В. Н. Давыдова. — Петрогр. правда, 1920, № 132, 18 июня, с. 4.
84* Встреча В. Н. Давыдова. — Изв. Петрогр. Совета, 1920, № 140, 28 июня, с. 2.
85* См.: Хроника. — Жизнь искусства, 1920, № 640 – 642, 24 – 25 дек., с. 2.
86* Н. Театр в 1917 году. — Обозрение театров, 1918, № 3636, 16 янв., с. 5.
87* Музыка и зрелища. — Новая жизнь, 1918, № 27, 17 февр., с. 4.
88* Витвицкая Б. Пролетарии в театре. Первый народный спектакль «Ревизор» в Александринке. — Петрогр. эхо, 1918, № 26, 19 февр., с. 4.
89* Маленькая хроника. — Театр и искусство, 1917, № 47, 19 нояб., с. 791.
90* Гриневская И. Петроград. — Рампа и жизнь, 1918, № 14, 7 апр., с. 13.
91* Передвижной деревенский театр. — Студия, 1912, № 36 – 37, 23 июня, с. 21.
92* Селевк. «Петр Хлебник». — Страна, 1918, № 11, 10 апр., с. 4.
93* Витвицкая Б. «Петр Хлебник». Легенда Л. Толстого (Александринский театр). — Петрогр. эхо, 1918, № 46, 9 апр., с. 4.
94* См.: Доль. «Петр Хлебник» Л. Толстого в Александринском театре. — Новая петрогр. газ., 1918, № 68, 10 апр., с. 4.
95* Полонский В. «Петр Хлебник» — легенда Льва Толстого. — Новая жизнь, 1918, № 63, 10 апр., с. 4.
96* Р[озенбер]г. В чем причина неудачи «Петра Хлебника»? (Беседа с артистом Александринского театра г. Ураловым). — Новая петрогр. газ., 1918, № 73, 16 апр., с. 4.
97* Сазонов М. Александринский театр. «Петр Хлебник», легенда Л. Н. Толстого. — Новые ведомости, 1918, № 42, 9 апр., с. 8.
98* Айзман Д. Успех и провал. — Бирюч петрогр. гос. театров, 1918, № 6, 8 – 15 дек., с. 48.
99* Майская Т. «Над землей». — Бирюч петрогр. гос. театров, 1918, № 1, 1 – 8 нояб., с. 28.
100* Тв[ерск]ой К. Михайловский театр. «Над землей», драма в 4 действиях Т. А. Майской. — Жизнь искусства, 1918, № 10, 11 нояб., с. 4.
101* Михайловский театр. Над землей. — Красная газ., веч. вып., 1919, № 48, 1 марта, с. 2.
102* Бентовин Б. Петербургские письма. — Театр, 1922, № 6, 7 нояб., с. 207 – 208.
103* Речь комиссара по народн. просвещению А. В. Луначарского, произнесенная на открытии Школы русской драмы 19 окт. 1918 г. — Бирюч петрогр. гос. театров, 1918, № 1, 1 – 8 нояб., с. 41.
104* См.: Луначарский А. Хороший спектакль. — Петрогр. правда, 1918, № 236, 27 окт., с. 3.
105* Новые режиссеры. — Жизнь искусства, 1918, № 11, 12 нояб., с. 4.
106* См.: Хроника. — Обозрение театров, 1918, № 3660, 22 февр., с. 6; № 3664, 26 февр., с. 6.
107* Двинский. «Заговор Фиеско» в Александринском театре. — Изв. Петрогр. Совета, 1920, № 113, 26 мая, с. 2.
108* Кузмин М. Условности. Статьи об искусстве. Пг., 1923, с. 83.
109* Теляковский В. А. Воспоминания. Л.; М., 1965, с. 239.
110* Пьесы Островского делают лучшие сборы. — Жизнь искусства, 1919, № 59, 15 янв., с. 3.
111* Спектакль Литературного фонда. — Петрогр. листок, 1917, № 83, 7 апр., с. 4.
112* Ковалевский Б. Михайловский театр. «Мещане» М. Горького. — Речь, 1917, № 82, 9 апр., с. 7.
113* Россовский Н. Михайловский театр. — Петрогр. листок, 1917, № 85, 9 апр., с. 4.
114* N. Александринский театр («Мещане» М. Горького). — Жизнь искусства, 1919, № 107, 29 марта, с. 1.
115* См.: Смирнов П. Я. Страницы прошлого. (Из воспоминаний о Петрозаводском театре). — На рубеже, 1948, № 10, с. 58.
116* «На дне» в Александринке. — Вестник театра, 1919, № 40, 4 – 9 нояб., с. 12.
117* Ромм Г. «На дне» (Александринский театр). — Жизнь искусства, 1919, № 270, 17 окт., с. 1.
118* См.: Звезда, 1946, № 5 – 6, с. 178.
119* Ромм Г. «Дети солнца» (Павловский театр). — Жизнь искусства, 1919, № 210, 8 авг., с. 1.
120* Цит. по: Альтшуллер А. Я. К истории Академического театра драмы имени А. С. Пушкина в первые годы Советской власти. — Учен. зап. ГосНИИ театра и музыки, т. 1, с. 58.
121* Из недавнего прошлого. — Красная газ., веч. вып., 1923, № 245, 13 окт., с. 3.
122* См.: Блок А. Собр. соч. В 8-ми т. М.; Л., 1963, т. 8, с. 331.
123* Цит. по кн.: Петров Н. 50 и 500. М., 1960, с. 233.
124* Луначарский А. Избранные драмы. М., 1935, с. 107.
125* Правда жизни. — Театральная жизнь, 1977, № 12, с. 6.
126* Кузнецов Е. Фауст и город (Александринский театр). — Жизнь искусства, 1920, № 607, 12 нояб., с. 2.
127* Арнс Л. «Фауст и город» (бывш. Александринский театр). — Изв. Петрогр. Совета, 1920, № 252, 10 нояб., с. 2.
128* См.: Канцлер и слесарь. — Петрогр. правда, 1920, № 248, 4 нояб., с. 2; Хроника. — Жизнь искусства, 1920, № 605, 10 нояб., с. 1.
129* Двинский. Зигзаги. — Вестник общественно-политической жизни, искусства, театра и литературы, 1918, № 7, 25 сент., с. 5.
130* Розенберг И. С. Тяжелый сезон. — Бирюч пегрогр. гос. театров, 1919, июль — авг., с. 173.
131* Луначарский А. В. На советские рельсы. — Нева, 1965, № 11, с. 185.
132* См.: Луначарский А. В. Собр. соч. В 8-ми т. М., 1964, т. 3, с. 87.
133* Михайлов П. Широкий путь. — Рампа и жизнь, 1918, № 23 марта, с. 5.
134* Войницкий Ив. Умирающая традиция. — Вечерняя жизнь, № 16, 9 апр., с. 4.
135* Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы. Ч. 2. М., 1968, с. 22.
136* Филиппов В. А. Отечественная классика на русской сцене после Октябрьской революции. — Театральный альманах. Кн. 2. М., 1946, с. 128.
137* Волин В. Малый театр. «Без вины виноватые». — Театральный курьер, 1918, № 26, 17 окт., с. 3.
138* См.: Вильде Н. Наивная безнравственность. (По поводу возобновления «Бешеных денег»). — Рампа и жизнь, 1918, № 2 – 3, янв., с. 7 – 8.
139* Пашенная В. Искусство актрисы. М., 1954, с. 106.
140* Южин А. И. Новый зритель. — Театральный курьер, 1918, № 49, 26 – 28 нояб., с. 5.
141* Луначарский А. В. Собр. соч., т. 3, с. 131.
142* Волин В. Что нужно Малому театру. — Театральная газ., 1918, № 4, 21 янв., с. 12.
143* N. Театр в 1917 году. — Новости сезона, 1918, № 3464, 1 – 2 янв., с. 3.
144* Смирнова Н. А. Воспоминания. М., 1947, с. 296.
145* К. Две Саломеи. (Гзовская и Коонен). — Новости сезона, 1918, № 3466, 12 – 13 янв., с. 4.
146* Там же, с. 3.
147* Смирнова Н. А. Воспоминания, с. 294.
148* Пашенная В. Искусство актрисы, с. 114.
149* Советский театр. Документы и материалы. Русский советский театр. 1917 – 1921, с. 110.
150* Там же, с. 104.
151* Там же.
152* Конституция Малого театра. — Новости сезона, 1918, № 3478, 21 – 23 марта, с. 7.
153* Временное положение Государственного Московского Малого театра. — Вестник канцелярии уполномоченного по Государственному Московскому Малому театру, 1918, № 6, приложение, с. 1.
154* См.: Разочарование в автономии. — Новости сезона, 1918, № 3503, 31 июля – 3 авг., с. 2 – 3.
155* Советский театр. Документы и материалы. Русский советский театр. 1917 – 1921, с. 39.
156* Войницкий Ив. Умирающая традиция. — Вечерняя жизнь, 1918, № 16, 9 апр., с. 4.
157* О. А. Правдин. — Там же, № 24, 18 апр., с. 2.
158* Страшен сон, да милостив бог. — Новости сезона, 1918, № 3479, 26 – 27 марта, с. 3.
159* S. К сокращениям в Малом театре. — Там же, № 3492, 28 – 29 мая, с. 3.
160* Хроника. — Новости сезона, 1918, № 3468, 21 – 22 янв., с. 3.
161* Глаголь Сергей. «Декабрист» Гнедича (Малый театр). — Утро России, 1918, № 53, 4 апр., с. 4.
162* Эрманс В. «Декабрист» (Малый театр). — Новости сезона, 1918, № 3481, 4 – 6 апр., с. 3.
163* Соболев Ю. Премьера Мал[ого] театра. — Вечерняя жизнь, № 11, 13 апр., с. 4.
164* См.: Россов Н. Очень кстати. — Рампа и жизнь, 1918, № 16, 21 апр., с 6 – 7.
165* Каверин Ф. Н. Воспоминания и театральные рассказы. М., 1964., с. 142.
166* Ашмарин В. «Посадник». — Известия, 1918, № 231, 23 окт., с. 5.
167* Вильде Н. «Посадник» (Малый театр). — Новости сезона, 1918, № 3515, 24 – 26 окт., с. 3.
168* Волин В. Малый театр. «Посадник». — Театральный курьер, 1918, № 32, 24 окт., с. 4.
169* Каверин Ф. Н. Воспоминания и театральные рассказы, с. 152 – 153.
170* Загорский М. Народ в «Посаднике». — Театральный курьер, 1918. № 33, 25 окт., с. 2.
171* Каверин Ф. Н. Воспоминания и театральные рассказы, с. 147.
172* Петров Н. Театр в Октябрьские торжества. Большой театр. — Театральный курьер, 1918, № 45, 12 – 14 нояб., с. 2.
173* Цит. по кн.: Князевская Т. Южин-Сумбатов и советский театр, с. 28.
174* Луначарский А. В. Собр. соч., т. 3, с. 46.
175* Там же, с. 133.
176* Старк Э. Итоги сезона Академического театра драмы. — Еженедельник петрогр. гос. акад. театров, 1923, № 37, 27 мая – 3 июня, с. 12.
177* Каверин Ф. Н. Воспоминания и театральные рассказы, с. 159.
178* Смирнова Н. А. Воспоминания, с. 300.
179* Эфрос Н. Малый театр. «Собака садовника». — Вестник театра, 1919, № 17, 1 – 3 апр., с. 8.
180* Константинов В. Мольеровский спектакль (Малый театр). — Театр, 1918, № 2139, 22 – 25 дек., с. 2.
181* Соболев Ю. Малый театр. «Скупой» и «Проделки Скапена». — Театральный курьер, 1918, № 1 (51), 25 дек., с. 8.
182* Эфрос Н. Малый театр. «Собака садовника». — Вестник театра, 1919, № 17, 1 – 3 апр., с. 7.
183* Каверин Ф. Н. Воспоминания и театральные рассказы, с. 159.
184* Луначарский А. В. Собр. соч., т. 3, с. 134.
185* Филиппов Вл. Отечественная классика на русской сцене после Октябрьской революции. — Театральный альманах. Кн. 2. М., 1946, с. 134.
186* М. Э. Малый театр. «Ричард III». — Вестник театра, 1920, № 50, 29 янв. – 4 февр., с. 10.
187* Пашенная В. Искусство актрисы, с. 119 – 120.
188* См.: Каверин Ф. Н. Воспоминания и театральные рассказы, с. 165 – 166.
189* Александр Иванович Южин-Сумбатов. Записи, статьи, письма 518 – 519.
190* Л. Л. Малый театр. Возобновление «Ревизора». (Вместо рецензии). — Вестник театра, 1919, № 35, 30 сент. – 5 окт., с. 11.
191* Садко. Малый театр. «Безумный день, или Женитьба Фигаро». — Там же, 1920, № 63, 4 – 9 мая, с. 6.
192* См.: Александр Иванович Южин-Сумбатов. Записи, статьи, письма, с. 330 – 331.
193* Горький М. Собр. соч. В 30-ти т. М., 1955, т. 29, с. 385.
194* Советский театр. Документы и материалы. Русский советский театр 1917 – 1921, с. 105.
195* См.: Десницкий В. М. Горький. Очерки жизни и творчества Л., 1940, с. 228 – 247.
196* Треплев А. «Старик». — Вестник театра, 1919, № 2, 6 – 7 фев., с. 5.
197* Эрманс В. «Старик» (Малый театр). — Театр, 1919, № 2143, 8 – 11 янв., с. 3.
198* Марков П. А. О театре, т. 1, с. 443.
199* Амчер. Старик. — Гудки, 1919, № 1, март, с. 25 – 26.
200* Стенограмма беседы 24 февраля 1941 г. с П. М. Садовским, С. А. Головиным и Е. И. Найденовой по поводу постановки пьесы «Старик», с. 3, 10, 16. ВТО, кабинет М. Горького.
201* Кузько П. «Старик». (Новая пьеса М. Горького). — Веч. изв. Моск. Совета, 1919, № 142, 10 янв., с. 4.
202* Пашенная В. Искусство актрисы, с. 121.
203* См.: «Оливер Кромвель». — Вестник театра, 1920, № 56, 9 – 14 марта с. 13.
204* Волков Н. После «Кромвеля». — Театральное обозрение, 1921, № 1, 5 – 17 нояб., с. 6.
205* Луначарский А. В. Собр. соч., т. 3, с. 133 – 134.
206* Смирнова Н. А. Воспоминания, с. 309.
207* Князевская Т. Южин-Сумбатов и советский театр, с. 167.
208* Смирнова Н. А. Воспоминания, с. 432.
209* Там же, с. 440.
210* Волков Н. Д. Театральные вечера. М., 1966, с. 260.
211* Ленин. Революция. Театр. Документы и воспоминания, с. 177.
212* См.: Ретивые сборщики. — Известия, 1919, № 144, 4 июля, с. 4; Неблагообразие. — Вестник театра, 1920, № 72 – 73, 7 нояб., с. 21 – 22.
213* Вокруг театра. — Новый путь, 1918, № 1, 2 марта, с. 4.
214* Бунин Ив. Художественный театр. — Московский полдень, 1918, № 1, 25 марта, с. 2.
215* Дрейден С. В зрительном зале — Владимир Ильич. Кн. 1. М., 1980, с. 313.
216* Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма. В 2-х т. М., 1979, т. 2, с. 140.
217* Цит. по кн.: Фрейдкина Л. Дни и годы Вл. И. Немировича-Данченко. Летопись жизни и творчества. М., 1962, с. 325.
218* См.: Немирович-Данченко Вл. И. Статьи, речи, беседы, письма. М., 1952, с. 151 – 152.
219* Гайдаров В. В театре и в кино. Л.; М., 1966, с. 29.
220* См.: Станиславский К. С. Собр. соч. В 8-ми т. М., 1960, т. 7, с. 643.
221* Соболев Ю. Художественный театр. Пушкинский спектакль. — Вестник театра, 1919, № 19, 9 – 11 апр., с. 6.
222* См.: Советский театр. Документы и материалы. Русский советский театр. 1917 – 1921, с. 121 – 122.
223* Немирович-Данченко Вл. Дух твой с нами! (Памяти Н. С. Бутовой). — Культура театра, 1921, № 1, 1 февр., с. 52.
224* Эрэс. «Летучая мышь». Вечер артистов Моск. Худож. театра. «Король темного чертога» Р. Тагора. — Веч. изв. Моск. Совета, 1919, № 165, 7 февр., с. 4.
225* Подвал «Летучей мыши». — Мир, 1918, № 53, 8 окт., с. 4.
226* См.: Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма, т. 2, с. 239.
227* Новые постановки в Художественном театре. — Веч. изв. Моск. Совета, 1919, № 342, 15 сент., с. 4.
228* Родина Т. М. Александр Блок и русский театр начала XX века. М., 1972, с. 298.
229* Блок А. Собр. соч., т. 8, с. 485.
230* А. Б. Беседа с одним из деятелей Художеств. театра. — Мир, 1918, № 35, 14 сент., с. 3.
231* Строева М. Н. Режиссерские искания Станиславского. 1917 – 1938. М., 1977, с. 18. См. также: Строева М. Н. Режиссерские искания Станиславского. 1898 – 1917. М., 1973, с. 331 – 334.
232* Художественный театр. — Вестник театра, 1919, № 22, 29 апр. – 2 мая, с. 8.
233* Блок А. Собр. соч., т. 8, с. 533.
234* Николай Петрович Баталов. Статьи, воспоминания, письма. М., 1971, с. 50.
235* Хроника театра. — Правда, 1919, № 218, 1 окт., с. 2.
236* Леонидов О. На путях к романтизму. — Театральный курьер, 1918, № 14, 3 окт., с. 4.
237* Вести отовсюду. — Золотое руно, 1907, № 7 – 9, с. 157.
238* Полякова Е. Станиславский. М., 1977, с. 353 – 354.
239* Цит. по кн.: Леонид Миронович Леонидов. М., 1960, с. 293. См. также: Художественный театр. — Вестник театра, 1920, № 60, 12 – 18 апр., с. 11.
240* Гайдаров В. В театре и в кино, с. 38.
241* Загорский М. Художественный театр. «Каин». — Вестник театра, 1120, № 61, 20 – 25 апр., с. 9 – 10.
242* Садко. Художественный театр. «Каин», мистерия Байрона, — Коммунистический труд, 1920, № 21, 16 апр., с. 4.
243* Советский театр. Документы и материалы. Русский советский театр. 1917 – 1921, с. 169 – 170.
244* Из черновой тетради А. Я. Таирова. — Театр, 1964, № 10, с. 76 – 77.
245* Таиров А. Записки режиссера. М., 1921, с. 84.
246* Вл. И. Немирович-Данченко о Художественном, Большом и Малом театрах. — Театральная Москва, 1921, № 2, 1 – 3 нояб., с. 3 – 4.
247* Станиславский К. С. Собр. соч., т. 1, с. 381.
248* Цит. по кн.: Виноградская И. Жизнь и творчество К. С. Станиславского. М., 1973, т. 3, с. 156.
249* См.: Смышляев В. Теория обработки сценического зрелища. Ижевск, 1921; Смышляев В. Техника обработки сценического зрелища. 2-е изд. М., 1922.
250* Станиславский К. С. Собр. соч., т. 6, с. 115.
251* См.: Чехов М. О системе Станиславского. — Горн, 1919, кн. 2 – 3, с. 72 – 81.
252* Вахтангов Е. Пишущим о «системе» Станиславского. — Вестник театра, 1919, № 14, 22 – 23 марта, с. 6.
253* См.: О работе актера над собой. (По системе Станиславского). — Горн, 1920, кн. 5, с. 48 – 54.
254* Соболев Ю. Трагедия одиночества. (Станиславский). — Театральная Москва, 1922, № 50, 25 – 30 июля, с. 3.
255* Вильде Н. Когда авторы переворачиваются в гробах. (Полурецензия — полуфантазия, как вам угодно). — Рампа и жизнь, 1918, № 4, янв., с. 10.
256* Сушкевич Б. М. Площадь и студия. — Вечерняя жизнь, 1918, № 8, 30 марта, с. 4.
257* Попов А. Воспоминания и размышления о театре. М., 1963, с. 131.
258* Евг. Вахтангов. Материалы и статьи. М., 1959, с. 79.
259* Захава Б. Современники. М., 1969, с. 188.
260* Захава Б. Современники, с. 165. См. также: Завадский Ю. Учителя и ученики. М., 1975, с. 182.
261* См.: Новый театр театрально-музыкальной секции. — Веч. изв. Моск. Совета, 1918, № 127, 19 дек., с. 4.
262* Евг. Вахтангов. Материалы и статьи, с. 105 – 106.
263* Беседы о Вахтангове. Записаны Х. Н. Херсонским. М.; Л., 1940, с. 61.
264* Антокольский П. Вахтангов. — Театр, 1971, № 10, с. 68.
265* Евг. Вахтангов. Материалы и статьи, с. 164.
266* Там же, с. 168.
267* Бескин Э. Толстой, Иванушка-дурачок и Вторая студия. — Театральная Москва, 1922, № 33, 28 марта – 2 апр., с. 5.
268* Садко. «Сказка об Иване-дураке и его братьях» во 2-й студии МХТ. — Известия, 1922, № 71, 29 марта, с. 4.
269* Марков П. II студия. Сказка об Иване-дураке. — Театральное обозрение, 1922, № 5, 28 марта, с. 6.
270* Халиф В. Вахтангов и Вторая студия МХАТ. — Театр, 1979, № 2, с. 103. См. также: Калужский Е. Лото в Шишкееве. — В кн.: Евг. Вахтангов. Материалы и статьи, с. 408 – 415.
271* Горький М. Вахтангов в театре «Габима». — Театр и музыка, 1922, № 1 – 7, 14 нояб., с. 9 – 10.
272* Евг. Вахтангов. Материалы и статьи, с. 208.
273* См.: Леонидов О. В Мансуровском. «Третья студия Худож. т.» — Театральный курьер, 1918, № 20, 10 окт., с. 5 – 6.
274* «Чудо св. Антония». (Третья студия Московского Художественного театра) — Жизнь искусства, 1921, № 749 – 751, 11 – 14 июня, с. 2.
275* Евреинов Н. Тайна театрального имени. — Красная панорама, 1923, № 7, 12 июля, с. 14.
276* Евг. Вахтангов. Материалы и статьи, с. 186 – 187.
277* Марков П. А. О театре, т. 1, с. 391.
278* Евг. Вахтангов. Материалы и статьи, с. 186.
279* Анненков Ю. Чаша Бенвенуто и московская студия. — Жизнь искусства, 1921, № 758 – 760, 22 – 24 июня, с. 1.
280* Анненков Ю. В последний раз о студии МХТ — Там же, № 767 – 769, 2 – 5 июля, с. 2.
281* Захара Б. Современники, с. 241.
282* Евг. Вахтангов. Материалы и статьи, с. 187 – 188.
283* Захава Б. Современники, с. 269 – 270.
284* Зограф Н. Вахтангов. М.; Л., 1939, с. 123.
285* См.: Мейерхольд В., Бебутов В. Одиночество Станиславского — Вестник театра, 1921, № 89 – 90, 1 мая, с. 2 – 3.
286* Станиславский К. С. Собр. соч., т. 8. с. 452.
287* См.: Бирман С. Судьбой дарованные встречи. М., 1971, с. 69.
288* Станиславский К. С. Собр. соч., т. 8, с. 452 – 453.
289* Евг. Вахтангов. Материалы и статьи, с. 199.
290* Станиславский К. С. Собр. соч., т. 8, с. 25.
291* См.: Там же, т. 6, с. 255 – 257.
292* Симонов Р. С Вахтанговым. М., 1959, с. 116.
293* См.: Рудницкий К. Когда Станиславский разговаривал с Вахтанговым о гротеске? — В кн.: Вопросы театра. М., 1970, с. 229 – 235.
294* См.: Ростоцкий Б. Вернемся к фактам. — Театр, 1973, № 2, с. 95 – 103.
295* Соловьев В. «Турандот» графа Карло Гоцци на русской сцене. — Любовь к трем апельсинам, 1914, № 2, с. 47 – 49.
296* Евг. Вахтангов. Материалы и статьи, с. 102.
297* Беседы о Вахтангове, с. 103.
298* Беседы о Вахтангове, с. 104.
299* Симонов Р. С Вахтанговым, с. 132.
300* Шверубович В. О людях, о театре и о себе. М., 1976, с. 402 – 403.
301* Антокольский П. Г. Правда таланта. — В кн.: Борис Васильевич Щукин. Статьи, воспоминания, материалы. М., 1965, с. 4.
302* Синельникова М. Д. Большой художник. — Там же, с. 81.
303* Захава Б. Современники, с. 296.
304* Завадский Ю. Учителя и ученики, с. 197 – 198.
305* Завадский Ю. По пути Вахтангова. — Советский театр, 1932, № 10 – 11, с. 26.
306* Станиславский К. С. Собр. соч., т. 6, с. 116.
307* См.: Горчаков Н. Режиссерские уроки Вахтангова. М., 1957, с. 182 – 183.
308* См.: Станиславский К. С. Собр. соч., т. 6, с. 116 – 117.
309* Евг. Вахтангов. Материалы и статьи, с. 203.
310* Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма, т. 2, с. 257.
311* В. Э. Е. Б. Вахтангов в оценке современников. В. И. Немирович-Данченко. — Театральная Москва, 1922, № 43, 7 – 11 июня, с. 6 – 7.
312* Евг. Вахтангов. Материалы и статьи, с. 235.
313* См.: Криницкий М. Театр для «умных людей». — Рабочая Москва, 1922, № 85, 21 мая, с. 4.
314* Кугель А. Театральные заметки. — Жизнь искусства, 1923, № 18, 8 мая, с. 5.
315* Марголин С. Фантазия о неповторимом спектакле. — Театр и музыка, 1922, № 10, 5 дек., с. 160.
316* Петров Н. Спектакль ли «Принцесса Турандот»? — Красная панорама, 1923, № 4, 26 мая, с. 15.
317* См.: Миклашевский К. Мир, как «Турандот», и мир, как «Гадибук», — Жизнь искусства, 1923, № 25, 26 июня, с. 5 – 7.
318* Марков П. «Мандат». (Театр им. Вс. Мейерхольда). — Правда, 1925, № 92, 24 апр., с. 8.
319* Марков П. О Станиславском. — Театр, 1962, № 1, с. 135.
320* Бачелис Т. «Принцесса Турандот». — В кн.: Спектакли и годы. М., 1969, с. 42.
321* Станиславский К. С. Собр. соч., т. 6, с. 217.
322* В. Э. Мейерхольд о современном театре. — Театральная Москва, 1921, № 2, 1 – 3 нояб., с. 2.
323* Ромашов Б. Театральные очерки. — Художник и зритель, 1924, № 4 – 5, с. 27.
324* Глумов А. Нестертые строки. М., 1977, с. 79, 82.
325* Белевцева Н. Глазами актрисы. М., 1979, с. 106.
326* Геронский. Малый театр на старых путях. — Веч. Москва, 1923, № 16 дек., с. 4.
327* Ромашов Б. Театральные очерки. — Художник и зритель, 1924, № 4 – 5, с. 27.
328* См.: Красный А. Довольно старья. (Впечатления от спектакля). — Рабочий зритель, 1924, № 20, 23 – 28 сент., с. 10.
329* Анисимов И. Что смотреть в московских театрах. — На отдыхе, 1924, № 5, 15 марта, с. 4.
330* Марков П. «Доходное место». — Правда, 1926, № 239, 16 окт., с. 6.
331* Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы, ч. 2, с. 355.
332* Соболев Ю. «Загмук» в Малом театре. — Программы гос. акад. театров. 1926, № 16, 5 – 12 янв., с. 5.
333* Луначарский А. «Фиеско». — Искусство трудящимся, 1925, № 19 – 20, 7 – 16 апр., с. 3 – 6.
334* Марков П. «Заговор Фиеско в Генуе» (Малый театр). — Правда, 1925, № 85, 14 апр., с. 7.
335* Глумов А. Нестертые строки, с. 116.
336* См.: Айхенвальд Ю. Остужев. М., 1977, с. 185 – 189.
337* Луначарский А. «Нечаянная доблесть». — Художественный труд, 1923, № 4, стлб. 53.
338* См.: Садко. Малый театр. «Нечаянная доблесть». — Правда, 1923, № 254, 9 нояб., с. 6.
339* Луначарский А. В. Неизданные материалы. — Лит. наследство. М., 1970, т. 82, с. 392.
340* Марков П. «Собор Парижской богоматери». — Правда, 1926, № 79, 7 апр., с. 6.
341* Малый театр. — Жизнь искусства, 1925, № 37, 15 сент., с. 21.
342* См.: Марков П. «Иван Козырь и Татьяна Русских» (Малый театр). — Правда, 1925, № 25, 31 янв., с. 8.
343* Советский театр. Документы и материалы. Русский советский театр. 1921 – 1926. Под ред. А. Я. Трабского. Л., 1975, с. 137.
344* В филиале Малого театра. — Современный театр, 1927, № 11, 15 нояб., с. 174.
345* Ромашов Б. Театральные очерки. — Художник и зритель, 1924, № 1, с. 27.
346* Нароков М. С. Биография моего поколения. Театральные мемуары. М., 1956, с. 218.
347* Осинский Н. О «Медвежьей свадьбе» т. Луначарского. — Правда, 1924, № 104, 10 мая, с. 6.
348* Наша анкета среди деятелей театра. — На лит. посту, 1928, № 3, с. 59.
349* Дмитриев Ю. «Любовь Яровая». — В кн.: Спектакли и годы, с. 107.
350* Тренев К. Пьесы, статьи, речи. М., 1952, с. 534.
351* Пашенная В. Ступени творчества. М., 1964, с. 97.
352* Прозоровский Л. Из прошлых лет. М., 1958, с. 183.
353* В. Ф. Что дают актеатры? (Дискуссия, организованная культ, отд. МГСПС в Колонном зале Дома Союзов 23 февраля 1925 года). — Жизнь искусства, 1925, № 10, 10 марта, с. 11.
354* Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы, ч. 2, с. 148.
355* Луначарский А. «Любовь Яровая» К. Тренева (Малый театр). — Известия, 1926, № 303, 31 дек., с. 5.
356* См.: Анри Барбюс в Малом театре. — Веч. Москва, 1927, № 214, 20 сент., с. 3; Современный театр, 1927, № 4, 27 сент., с. 62.
357* Бескин Э. За год. — Жизнь искусства, 1927, № 2, 11 янв., с. 5.
358* См.: Диспут о «Днях Турбиных» и «Любови Яровой». — Правда, 1927, № 33, 10 февр., с. 6.
359* Своя рука — владыка… — Веч. Москва, 1928, № 226, 28 сент., с. 3.
360* См.: Быть ли В. К. Владимирову режиссером? — Современный театр, 1928, № 41, 9 окт., с. 644 – 645; Вокруг постановки «Жены». — Новый зритель, 1928, № 41, 7 нояб., с. 6 – 7.
361* Марков П. «Огненный мост» (Малый театр). — Правда, 1929, № 59, 12 марта, с. 5.
362* См.: Крути И. Двести тридцатый спектакль. — Сов. искусство, 1936, № 12, 11 марта, с. 3.
363* Марков П. «Смена героев». Малый театр. — Сов. театр, 1931, № 3, с. 28 – 29.
364* См.: Волконский Н. Зашифрованное творчество. (К столетию со дня смерти автора «Горе от ума»). — Современный театр, 1929, № 7, 12 февр., с. 97 – 99.
365* Луначарский А. В. Неизданные материалы. — Лит. наследство, т. 82, с. 432, 434, 435.
366* Айхенвальд Ю. Остужев, с. 202.
367* Дубков. Чацкий — о наших днях. — Веч. Москва, 1931, № 15, 17 янв., с. 3.
368* Марков П. «Разбойники». Театр им. Сафонова. — Современный театр, 1929, № 38, 24 сент., с. 509.
369* К. Ф. О «классиках» и «Разбойниках». — Рабис, 1929, № 41, 7 окт., с. 9.
370* Гладков А. Так ставить не надо. — Современный театр, 1929, № 39, 1 окт., с. 526.
371* Луначарский А. В. Неизданные материалы. — Лит. наследство, т. 82, с. 428.
372* См.: Пашенная В. Результат спешки. — Театр и драматургия, 1935, № 7, с. 53 – 54.
373* Пашенная В. Искусство актрисы, с. 172 – 173.
374* Нароков М. С. Биография моего поколения, с. 259.
375* Марков П. А. О театре, т. 4, с. 70.
376* См.: Малый театр оказался в тупике. Он должен быть и будет из него выведен. — Лит. газ., 1931, № 53, 2 окт., с. 4.
377* См.: О перестройке работы Малого театра. Из приказа НКП. — Сов. театр, 1931, № 12, с. 23.
378* Старк Э. На что они нужны? — Эрмитаж, 1922, № 12, 1 – 7 авг., с. 4 – 5.
379* Юрьев Ю. М. На новых путях (Академический театр драмы). — Современное обозрение, 1922, № 1, окт., с. 13.
380* Алперс Б. Столичный провинциализм. — Театр, 1923, № 7, 13 нояб., с. 11.
381* К постановке «Святой Иоанны». — Красная газ., веч. вып., 1924, № 233, 13 окт., с. 4.
382* К.-Караваев. Орлеанская дева. — Рабочий и театр, 1924, № 13, 15 дек., с. 10.
383* Петербургский. «Святая Иоанна» и массовый зритель. — Жизнь искусства, 1924, № 52, 23 дек., с. 8.
384* Мокульский С. Святая Иоанна. — Жизнь искусства, 1924, № 51, 16 дек., с. 15.
385* Спасский С. Орлеанская дева. — Рабочий и театр, 1924, № 13, 15 дек., с. 11.
386* Бенуа А. О постановке «Мещанина во дворянстве». — Еженедельник петрогр. гос. акад. театров, 1923, № 31 – 32, 8 – 15 апр., с. 11 – 12.
387* К. Т. Авантюрист. — Рабочий и театр, 1924, № 11, 1 дек., с. 10.
388* Мокульский С. Авантюрист. — Жизнь искусства, 1924, № 49, 2 дек., с. 15.
389* Авантюрист. — Ленингр. правда, 1924, № 271, 26 нояб., с. 8.
390* Цимбал С. Николай Симонов. Л., 1973, с. 109.
391* Орлы разлетелись. — Жизнь искусства, 1923, № 45, 13 нояб., с. 2.
392* Певцов И. Н. Беседа об актере. — В кн.: Илларион Николаевич Певцов. 1879 – 1934. Л., 1935, с. 70.
393* Актеры и режиссеры. М., 1928, с. 275.
394* Соловьев В. Экзаменационные спектакли. — Красная газ., веч. вып., 1923, № 121, 31 мая, с. 3.
395* В. К. В Институте сценических искусств. — Музыка и театр, 1923, № 24, 18 июня, с. 8.
396* Цит. по кн.: Цимбал С. Творческая судьба Певцова. Л.; М., 1957, с. 150 – 151.
397* Авлов Г. Смерть Пазухина (Академический театр драмы). — Жизнь искусства, 1924, № 39, 23 сент., с. 12.
398* Мокульский С. «Смерть Пазухина» в Академической драме. — Ленингр. правда, 1924, № 215, 20 сент., с. 3.
399* Рабочий зритель смотрит на этой неделе «Смерть Пазухина». — Красная газ., 1924, № 236, 15 окт., с. 4.
400* Слонимский А. «Волки и овцы» в Академическом театре драмы. — Жизнь искусства, 1927, № 6, 8 февр., с. 13.
401* Там же.
402* Тверской К. «Волки и овцы» в Ак. драме. — Рабочий и театр, 1927, № 6, 8 февр., с. 7.
403* Эр. Эс. «Эуген» для Толлера. — Рабочий и театр, 1926, № 16, 20 апр., с. 15.
404* Дв. Смычка фронтов. (Две премьеры). С. Э. Радлов о постановке «Эугена Несчастного». — Красная газ., веч. вып., 1923, № 296, 13 дек., с. 3.
405* Смирнов А. Проблема современного театра. — Русский современник, 1924, № 2, с. 255 – 256.
406* Гвоздев А. Экспрессионисты на русской сцене. — Жизнь искусства, 1924, № 10, 4 марта, с. 10.
407* Старк Э. «Эуген Несчастный» (быв. Михайловский театр). — Красная газ., веч. вып., 1923, № 299, 17 дек., с. 3.
408* Алперс Б. Ленинградские театры. — Художник и зритель, 1924, № 2 – 3, февр. – март, с. 28.
409* Отклики. — Красная газ., веч. вып., 1923, № 301, 19 дек., с. 3.
410* Шимановский В. «Эуген Несчастный» (бывш. Михайловский театр). — Петрогр. правда, 1923, № 288, 19 дек., с. 6.
411* Кузнецов Е. Радлов победил! — Театр, 1923, № 13, 25 дек., с. 5.
412* Хроника — Правда, 1924, № 34, 12 февр., с. 5.
413* Я. А. «Эуген Несчастный». Московский — ленинградский. — Новый зритель, 1925, № 5, 3 февр., с. 7.
414* Радлов С. Письма о театре. Эстрады летних садов. — Красная газ., веч. вып., 1923, № 119, 29 мая, с. 3.
415* Диспут о «Лизистрате». — Ленингр. правда, 1924, № 252, 2 нояб., с. 7.
416* Мокульский С. «Лизистрата» на академической сцене. — Ленингр. правда, 1924, № 229, 7 окт., с. 7.
417* Авлов Г. «Лизистрата» (б. Михайловский театр). — Жизнь искусства, 1924, № 42, 14 окт., с. 11.
418* Марков П. А. Режиссура Вл. И. Немировича-Данченко в музыкальном театре. М., 1960, с. 88.
419* Ср.: Марков П. А. Вл. И. Немирович-Данченко и музыкальный театр его имени. Л., 1937, с. 67.
420* Марков П. Из литературы о театре. — Новый мир, 1929, кн. 6, с. 231.
421* Слонимский А. «Отелло». (Юбилей Ю. М. Юрьева). — Жизнь искусства, 1927, № 18, 3 мая, с. 6.
422* Радлов С. «Отелло». К постановке в Акдраме. — Рабочий и театр, 1927, № 16, 19 апр., с. 6.
423* См.: Петров Н. 50 и 500, с. 266 – 267.
424* Др[ейден] С. Отелло — Певцов. Акдрама. — Ленингр. правда, 1927, № 105, 11 мая, с. 5.
425* Советский театр. Документы и материалы. Русский советский театр. 1921 – 1926, с. 314.
426* См.: Там же, с. 315.
427* См.: А. В. Луначарский на читке своей пьесы. — Красная газ., веч. вып., 1923, № 246, 15 окт., с. 3.
428* Авлов Г. Канцлер и слесарь (Академич. б. Александринский театр). — Жизнь искусства, 1923, № 45, 13 нояб., с. 9.
429* Мокульский С. «Иван Каляев». — Там же, 1926, № 3, 19 янв., с. 13.
430* Вивьен Л. Правдивый художник. — В кн.: Е. П. Корчагина-Александровская. М., 1955, с. 246.
431* Скрипиль М. «Георгий Гапон». — Жизнь искусства, 1926, № 13, 30 марта, с. 14 – 15.
432* Виринея. В Ак-театре драмы. — Рабочий и театр, 1926, № 43, 26 окт., с. 8.
433* Сейфуллина Л. Студия пролетарского актера. — Там же, № 6, 9 февр., с. 9.
434* В. Л. «Ветер с поля». «Виринея» во второй студии ЛГСПС. — Ленингр. правда, 1925, № 288, 16 дек., с. 5.
435* В[ерхов]ский Н. «Виринея». В Техникуме сценических искусств. — Рабочий и театр, 1926, № 20, 18 мая, с. 9.
436* Тиме Е. Дороги искусства. Лит. запись Ю. Алянского. М.; Л., 1962, с. 230.
437* «Коллективные постановки». — Красная газ., веч вып., 1925, № 11, 13 янв., с. 4.
438* Мокульский С. «Когда спящий проснется». — Жизнь искусства, 1925, № 5, 3 февр., с. 13.
439* Театральная хроника. — Красная газ., веч. вып., 1925, № 17, 20 янв., с. 4.
440* См.: Пьесы В. В. Каменского. — Зрелища, 1922, № 17, 19 – 25 дек., с. 19.
441* См.: Лернер Н. Пушкин и Смердяков. — Красная газ., веч. вып., 1928, № 253, 13 сент., с. 2.
442* Хохлов К. «Пушкин и Дантес». К постановке в Акдраме. — Рабочий и театр, 1926, № 18, 5 мая, с. 10.
443* Тверской К. «Пушкин и Дантес». — Там же, № 20, 18 мая, с. 6 – 7.
444* Х. Х. Пушкин и Дантес — Жизнь искусства, 1926, № 20, 18 мая, с. 18.
445* Пиотровский А. Пушкин и Дантес. — Красная газ., веч. вып., 1926, № 108, 10 мая, с. 4.
446* Дрейден С. Плевок на Пушкина. («Пушкин и Дантес» в Акдраме). — Ленингр. правда, 1926, № 106, 11 мая, с. 6. См. также: Др[ейден] С. У разбитого корыта. «Пушкин и Дантес» в Акдраме. — Там же, № 239, 16 окт., с. 5.
447* См.: Цимбал С. Театр. Театральность. Время. Л., 1977, с. 120 – 122.
448* См.: Игорь Ильинский — актер Акдрамы. — Красная газ., веч. вып., 1925, № 29, 4 февр., с. 4. Для первого выхода И. В. Ильинского 14 марта была поставлена комедия Дж. Синга «Герой» (режиссер — Н. Я. Береснев), уже исполнявшаяся им в Первой студии МХАТ (1923).
449* Мокульский С. Смычка МХАТа с Акдрамой. — Жизнь искусства, 1925, № 16, 21 апр., с. 15. См. также: Кузнецов Е. Станиславский и Акдрама. — Красная газ., веч. вып., 1925, № 84, 10 апр., с. 4.
450* Лесная Л. Центр, агитстудия Политпросвета. — Жизнь искусства, 1924, № 21, 20 мая, с. 20.
451* Запрещение пьесы «Фокстрот». — Рабочий и театр, 1926, № 38, 19 сент., с. 12.
452* Пиотровский А. «Узелок» (Театр Дома печати). — Красная газ., веч. вып., 1926, № 136, 12 июня, с. 4.
453* См.: Л. В. «Война и мир» на подмостках. Новые замыслы и новые искания. (Письмо из Ленинграда). — Веч. Москва, 1926, № 218, 22 сент., с. 3.
454* См.: Новости театра. — Ленингр. правда, 1927, № 122, 31 мая, с. 6.
455* См.: Проект «Антихудожественного театра». — Веч. Москва, 1928, № 184, 10 авг., с. 3.
456* Терентьев И. Самодеятельный театр. — Рабочий и театр, 1925, № 50, 15 дек., с. 17.
457* Ильинский И. Сам о себе. 2-е изд. М., 1973, с. 243.
458* См.: К отмене «Пугачевщины». (Из беседы с зав. худ. частью Ак. драмы Ю. М. Юрьевым). — Ленингр. правда, 1925, № 115, 23 мая, с. 5.
459* Режиссеры о коллективной режиссуре. — Жизнь искусства, 1927, № 26, 28 июня, с. 10.
460* —еев. Еще о Пугачевщине. — Рабочий и театр. 1926, № 10, 9 марта, с. 9.
461* Мазинг Б. «Пугачевщина» в Акдраме. — Красная газ., 1926, № 44, 23 февр., с. 4.
462* Борисов А. Ф. Из творческого опыта. Под ред. С. Л. Цимбала. М., 1954. с. 124.
463* Тренев К. Они учатся и учат других. — Театр и драматургия, 1934, № 3, с. 30.
464* С. М. «Мандат» в Акдраме. — Жизнь искусства, 1925, № 42, 20 окт., с. 13.
465* Ильинский И. Сам о себе, с. 244.
466* Волков Н. Театральный Ленинград. — Труд, 1927, № 234, 13 окт., с. 6.
467* См.: Борисов А. Возмутитель спокойствия. — В кн.: Петров Н. В. Я буду режиссером. М., 1969, с. 179 – 200.
468* Тверской К. Блудный бес. — Рабочий и театр, 1925, № 3, 19 янв., с. 12.
469* Толмачев Д. Изгнание блудного беса. — Жизнь искусства, 1925, № 4, 27 янв., с. 17.
470* Мазинг Б. «Изгнание блудного беса». — Красная газ., веч. вып., 1925, № 9, 10 янв., с. 4.
471* См.: «Главрежи». — Там же, № 149, 19 июня, с. 4.
472* См.: Актеатры. — Жизнь искусства, 1925, № 24, 16 июня, с. 23.
473* Петров Н. 50 и 500, с. 244.
474* «Бархат и лохмотья». — Красная газ., веч. вып., 1927, № 53, 25 февр., с. 4.
475* Авлов Г. «Горе от ума» в Акдраме. — Рабочий и театр, 1928, № 26, 24 июня, с. 5.
476* Малюгин Л. Николай Симонов. — Там же, 1936, № 10, май, с. 16.
477* Гвоздев А. «Горе от ума». — Жизнь искусства, 1928, № 26, 24 июня, с. 7.
478* Мазинг Б. Вредный и ненужный спектакль. «Горе от ума» в Ак. театре драмы. — Рабочий и театр, 1928, № 27, 1 июля, с. 7.
479* Цимбал С. Николай Симонов, с. 113.
480* Петров Н. 50 и 500, с. 245.
481* Пиотровский А. «Яд» — спектакль. — Жизнь искусства, 1925, № 41, 13 окт., с. 5.
482* Петров Н. «Криворыльск». Премьера в Ак-драме — 2 декабря. — Рабочий и театр, 1926, № 48, 30 нояб., с. 8.
483* Т[верск]ой К. Торжество театра. «Криворыльск» — в Ак-драме. — Там же, № 49, 7 дек., с. 10.
484* Пиотровский А. «Конец Криворыльска». (Премьера в Ак-драме). — Красная газ., веч. вып., 1926, № 288, 3 дек., с. 4.
485* Воскресенский С. Первая победа. — Рабочий и театр, 1926, № 50, 14 дек., с. 8.
486* Цимбал С. Творческая судьба Певцова, с. 128 – 129.
487* Авлов Г. Конец Криворыльска. (Театр Акдрамы). — Жизнь искусства, 1926, № 50, 14 дек., с. 12.
488* Андреев Б. Штиль. В Актеатре драмы. — Рабочий и театр, 1927, № 16, 19 апр., с. 7.
489* Петров Н. Штиль. (К постановке в Ак-драме). — Рабочий и театр, 1927, № 15, 12 апр., с. 8.
490* Илларион Николаевич Певцов. Под ред. С. Д. Дрейдена. М., 1978, с. 235 – 236.
491* Гвоздев А. «Шахтер» в Акдраме. — Жизнь искусства, 1928, № 50, 9 дек., с. 10 – 11.
492* Цимбал С. Николай Симонов, с. 79 – 80.
493* Бронепоезд 14-69. (Беседа с режиссером Акдрамы Н. В. Петровым). — Жизнь искусства, 1927, № 44, 1 нояб., с. 12.
494* Гвоздев А. «Бронепоезд». Акад. театр драмы. — Там же, № 46, 15 нояб., с. 10 – 11.
495* См.: Борисов А. Ф. Из творческого опыта, с. 88 – 89.
496* Паялин Н. «Бронепоезд № 14-69» (Ак. драма). — Красная газ., 1927, № 257, 11 нояб., с. 7.
497* Перед концом сезона. — Там же, № 81, 9 апр., с. 6.
498* Театральные новости. — Там же, № 266, 22 нояб., с. 8.
499* Маяковский В. Ак-Малый театр: «25-е». — Рабочий и театр, 1927, № 45, 6 нояб., с. 20.
500* Дрейден С. Спектакли. Роли. Судьбы. М., 1978, с. 171.
501* Дрейден С. Спектакли. Роли. Судьбы, с. 113.
502* 30 лет в роли Чацкого. — Красная газ., веч. вып., 1926, № 27, 30 янв., с. 4.
503* В последний раз… — Рабочий и театр, 1926, № 15, 13 апр., с. 9.
504* В Малом театре — Красная газ., веч. вып., 1929, № 138, 5 июня, с. 4.
505* Ю. М. Юрьев — артист театра Мейерхольда. — Веч. Красная газ., 1932, № 294, 20 дек., с. 3 (газета видоизменила название).
506* Дорохов А. Софокл в Нардоме. — Красная газ., веч. вып., 1932, № 120, 25 мая, с. 3; Дорохов А. «Крестьянские забавы». — Там же, № 167, 20 июня, с. 3.
507* См.: Ю. М. Юрьев вернулся в Госдраму. — Веч. Красная газ., 1935, № 160, 14 июля, с. 14.
508* См.: Перспективы ленинградских гостеатров. (Беседа с директором ленинградских гостеатров З. И. Любинским). — Жизнь искусства, 1929, № 33, 18 авг., с. 14.
509* Петров Н. 50 и 500, с. 284.
510* Сукова Т. Начало актерской жизни. — В кн.: Творчество в театре. Харьков, 1937, с. 170.
511* Мокульский С. «Огненный мост» в Ленинградской Госдраме. — Жизнь искусства, 1929, № 19, 12 мая, с. 6.
512* Петров Н. В. К постановке «Огненного моста». — Там же, № 18, 1 мая, с. 13.
513* Соколов П. И. К постановке «Огненного моста». — Там же.
514* См.: «Огненный мост» в Ак-драме. — Рабочий и театр, 1928, № 50, 9 дек., с. 4.
515* Маширов А. «Причальная мачта». (Премьера в Госдраме). — Красная газ., веч. вып., 1929, № 250, 5 окт., с. 4.
516* Вокруг «Причальной мачты». — Жизнь искусства, 1929, № 45, 11 нояб., с. 12.
517* Гвоздев А. «Командарм 2». (Премьера в филиале Госдрамы). — Красная газ., веч. вып., 1930, № 14, 16 янв., с. 4.
518* «Командарм 2» снят для переработки. — Там же, № 15, 17 янв., с. 4.
519* См.: «Командарм 2» снят с репертуара по вине Госдрамы. — Веч. Москва, 1930, № 14, 17 янв., с. 3.
520* Д. «Делец» в Ак. драме. (Из беседы с В. Н. Соловьевым и Н. В. Петровым). — Рабочий и театр, 1928, № 51, 16 дек., с. 13.
521* Гвоздев А. «Делец». Ленинградский академический театр драмы. — Жизнь искусства, 1929, № 1, 1 янв., с. 10.
522* М[окуль]ский С. Оформление «Дельца». — Там же, № 2, 6 янв., с. 16.
523* См.: Толстой А. Н. Полн. собр. соч. В 15-ти т. М., 1953, т. 15, с. 357.
524* Янковский М. «Делец» в Актеатре драмы. — Рабочий и театр, 1929, № 1, 1 янв., с. 4.
525* С. М. Вокруг «Дельца». — Жизнь искусства, 1929, № 3, 13 янв., с. 13.
526* Толстой или Газенклевер? — Красная газ., веч. вып., 1928, № 354, 27 дек., с. 4.
527* «Рельсы гудят». (Беседа с режиссером Акдрамы Н. В. Петровым). — Жизнь искусства, 1928, № 13, 27 марта, с. 11.
528* Авлов Г. «Рельсы гудят» в Актеатре драмы. — Рабочий и театр, 1928, № 15, 8 апр., с. 4 – 5.
529* Гвоздев А. Рельсы гудят (Гос. акад. театр драмы). — Жизнь искусства, 1928, № 15, 10 апр., с. 13.
530* См.: Кто в бархате, а кто в лохмотьях. — Рабочий и театр, 1928, № 15, 8 апр., с. 6.
531* К премьере «Высот» в Театре Акдрамы. — Жизнь искусства, 1929, № 10, 3 марта, с. 11.
532* Рыков А. Как оформляется спектакль. — Рабочий и театр, 1929, № 10, 3 марта, с. 8.
533* Вивьен Л., Петров Н. «Высоты» в Гос. театре драмы. — Рабочий и театр, 1929, № 10, 3 марта, с. 8.
534* Пиотровский А. «Высоты» — спектакль. — Жизнь искусства, 1929, № 13, 24 марта, с. 12.
535* См.: Новая редакция «Высот». — Там же, № 22, 2 июня, с. 15.
536* М[окуль]ский С. Еще раз о «Высотах» и Госдраме. — Там же, № 37, 15 сент., с. 6.
537* Гвоздев А. Причины одного провала. Еще о «Причальной мачте». — Рабочий и театр, 1929, № 43, 27 окт., с 2.
538* Иванова В. Н. В. Петров в Акдраме. — В кн.: Проблемы теории и практики русской советской режиссуры (1925 – 1932). Л., 1978, с. 117.
539* Державин К. Эпохи Александринской сцены. Л., 1932, с. 226.
540* См.: Петров Н. Три из ста. — Сов. искусство, 1932, № 8, 15 февр., с. 3.
541* Петров Н. Госдрама в реконструктивный период. — В кн.: Сто лет, Александринский театр — театр Госдрамы. Л., 1932, с. 537.
542* Цимбал С. Первая постановка «Ярости» в Ленинграде. — Театр, 1957, № 11, с. 77.
543* Янковский М. «Ярость» в Гостеатре драмы. — Рабочий и театр, 1930, № 13, 7 марта, с. 7.
544* Петров Н. Госдрама в реконструктивный период. — В кн.: Сто лет, с. 512.
545* Тиме Е. Дороги искусства, с. 237.
546* См: Сотая «Ярость». — Красная газ., веч. вып., 1930, № 239, 9 окт., с. 4.
547* Петров Н. Встречи с драматургами. М., 1957, с. 85.
548* Петров Н. 50 и 500, с. 297 – 298.
549* Петров Н. Режиссер читает пьесу. Материалы к теории режиссуры. Л., 1934, с. 77.
550* «Ярость» в театре Госдрамы. — Печать и революция, 1930, № 3, с. 89.
551* Бескин Э. «Ярость» (Театр им. МОСПС). — Веч. Москва, 1930, № 2, 3 янв., с. 3.
552* Толубеев Ю. Суровой правде вопреки… — Сов. культура, 1966, № 37, 26 марта, с. 3.
553* Петров Н. Режиссер читает пьесу, с. 50.
554* «Чудак» в Госдраме. — Красная газ., веч. вып., 1930, № 88, 15 апр., с 4.
555* Петров Н. Постановщик о спектакле. — В кн.: Чудак. Л., 1930, с. 15.
556* Гвоздев А. «Чудак» Афиногенова в Госдраме. — Рабочий и театр, 1930, № 22, 21 апр., с. 9.
557* Афиногенов А. Избранное. В 2-х т. М., 1977, т. 2, с. 20 – 27.
558* Борисов А. Ф. Из творческого опыта, с. 113.
559* Петров Н. Госдрама в реконструктивный период. — В кн.: Сто лет, с. 533.
560* Иванова В. Н. В. Петров в Акдраме. — В кн.: Проблемы теории и практики русской советской режиссуры (1925 – 1932), с. 127.
561* Мокульский С. «Страх» в Гостеатре драмы. — Рабочий и театр, 1931, № 16, 11 июня, с. 4.
562* Петров Н. Режиссер читает пьесу, с. 104.
563* Корчагина-Александровская Е. П. Мой путь. Под ред. С. С. Данилова. Л., 1934, с. 48.
564* Крути И. «Страх». — Сов. Театр, 1931, № 7, с. 25.
565* Цимбал С. Разные театральные времена. Л., 1969, с. 82.
566* Петров Н. 50 и 500, с. 327.
567* Афиногенов А. Избранное, т. 2, с. 52 – 53.
568* Бабочкин Б. В театре и кино. М., 1968, с. 24 – 25.
569* См.: Лавров Ю. Мастера и молодежь. — В кн.: Традиции сценического реализма. Академический театр драмы им А. С. Пушкина. Л., 1980, с. 32.
570* Крути И. «Страх». — Сов. театр, 1931, № 7, с. 25.
571* «Страх» в Ленинграде и «Страх» в Москве. Впечатления от двух спектаклей. — Лит. газ., 1931, № 69, 23 дек., с. 4.
572* 100 спектаклей «Страха». — Рабочий и театр, 1931, № 32 – 33, 7 дек., с. 3.
573* См.: 200 спектаклей. — Красная газ., веч. вып., 1932, № 54, 5 марта, с. 3.
574* Державин К. Эпохи Александринской сцены, с. 219.
575* Цимбал С. «Сенсация» в Госдраме. — Рабочий и театр, 1930, № 35, 25 июня, с. 5.
576* Вишневский В., Штейн А., Зиновьев А., Горев Я. Открытое письмо режиссеру Н. Петрову. (Вместо «рецензии»), — Ленингр. правда, 1931, № 186, 8 июня, с. 4.
577* А. Д. «Нашествие Наполеона». — Рабочий и театр, 1931, № 20, 25 июля, с. 11.
578* Постановление президиума Леноблрабиса. — Там же, № 13 – 14, 21 мая, с. 29.
579* Акимов Н. П., Петров Н. В., Соловьев В. Н. К постановке «Тартюфа» в Ленинградском театре Госдрамы. О технологии спектакля. — Жизнь искусства, 1929, № 48, 1 дек., с. 12.
580* См.: Гвоздев А. «Тартюф» в Госдраме. — Рабочий и театр, 1929, № 50, 15 дек., с. 7.
581* Гвоздев А «Тартюф» в Госдраме. — Рабочий и театр, 1929, № 50, 15 дек., с. 6.
582* Крути И. Вещь убила идею. «Тартюф» в Ленинградском гостеатре драмы. — Сов. искусство, 1932, № 11, 3 марта, с. 2.
583* См: Пиотровский А. «Тартюф» и проблемы сезона. — Жизнь искусства, 1929, № 51, 22 дек., с. 5.
584* См.: Гвоздев А. «Да, водевиль есть вещь…» «Горе от ума» в Гостеатре драмы. — Красная газ., веч. вып., 1932, № 217, 17 сент., с. 3.
585* Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы, ч. 2, с. 259.
586* Цит. по кн.: Виноградская И. Жизнь и творчество К. С. Станиславского, т. 3, с. 425.
587* Марков П. А. В Художественном театре Книга завлита. М., 1976, с. 148.
588* Луначарский А. К возвращению «старшего» Художественного театра. — Красная нива, 1924, № 39, 28 сент., с. 943.
589* Марков П. «Смерть Пазухина» (МХАТ). — Правда, 1924, № 207, 12 сент., с. 3.
590* Марков П. Театральная жизнь в Москве. Начало сезона. — Печать и революция, 1925, кн. 1 – 2, янв. – февр., с. 138 – 139.
591* Соболев Ю. О «старом» Художественном театре. — Труд, 1924, № 220, 27 сент., с. 4.
592* Садко. МХАТ — в Москве. — Жизнь искусства, 1924, № 39, 23 сент., с. 8.
593* См.: Кожевник. Смердит. (В Художественном театре на открытии). — Рабочий зритель, 1924, № 19, 14 – 21 сент., с. 10.
594* Ромашов Б. Театральные очерки. — Художник и зритель, 1921, № 6 – 7, с. 20.
595* К постановке «Пугачевщины» в МХАТ. (Беседа с главным режиссером спектакля В. И. Немировичем-Данченко). — Искусство трудящимся. 1925, № 21, 20 – 26 апр., с. 8 – 9.
596* Новицкий П. Хмелев. М., 1964. с. 45 – 46.
597* Марков П. Театральный сезон двадцать пятого — шестого года. — Печать и революция, 1926, кн. 1, янв. – февр., с. 126.
598* Соболев Ю. Театральная жизнь Москвы. — Новый мир, 1926, кн. 3, с. 158.
599* Х. Х. «Пугачевщина» в Московском Художественном театре. — Прожектор, 1925. № 18, 30 сент., с. 28.
600* Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Ч. 2. М., 1972, с. 152.
601* Ежегодник МХТ, 1948. М.; Л., 1950, т. 1, с. 418.
602* Ежегодник МХТ, 1948, т. 1, с. 418 – 419.
603* К. А. Тренев о постановке его пьесы «Пугачевщина». — Искусство трудящимся, 1925, № 22, 26 апр. – 3 мая, с. 17.
604* Филиппов В. «Пугачевщина». — Там же, № 44, 29 сент., с. 4.
605* Хроника. — Известия, 1924, № 251, 1 нояб., с. 6.
606* Городецкий С. «Пугачевщина». — Искусство трудящимся, 1925, № 44, 29 сент., с. 6.
607* Марков П. А. В Художественном театре, с. 151.
608* Соболев Ю. МХАТ Первый. — Программы гос. акад. театров, 1926, № 16, 5 – 12 янв., с. 5.
609* Волков Н. День декабристов в Художественных театрах. — Искусство трудящимся, 1926, № 2, 12 янв., с. 7.
610* См.: Строева М. Н. Режиссерские искания Станиславского, 1917 – 1938, с. 130.
611* М. М. «Николай Первый и декабристы». — Программы гос. акад. театров, 1926, № 36, 25 – 31 мая, с. 12.
612* О. Б. «Николай I и декабристы». — Наша газета, 1926, № 136, 16 июня, с. 4.
613* Строева М. Н. Режиссерские искания Станиславского, 1917 – 1938, с. 135.
614* Николай Петрович Баталов. Статьи, воспоминания, письма, с. 135.
615* Соболев Ю. «Николай I и декабристы». — Известия, 1926, № 116, 22 мая, с. 5.
616* Луначарский А. В. Собр. соч., т. 3, с. 309.
617* Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956, с. 25.
618* Марголин С. Молодняк МХАТ I. — Новый зритель, 1927, № 13, 29 марта, с. 4.
619* Цит. по кн.: Виноградская И. Жизнь и творчество К. С. Станиславского, т. 3, с. 515.
620* Хмелев Н. П. Работа над образом. — Ежегодник МХТ. 1945. М.; Л., 1948, т. 2, с. 382.
621* Судаков И. Режиссер и автор. — Театр и драматургия, 1934, № 3, с. 37.
622* Товстоногов Г. Зеркало сцены. Кн. 2 М.; Л., 1980, с. 16.
623* Марков П. Стабилизация театральных стилей. — Современный театр, 1927, № 6, 11 окт., с. 82.
624* Блюм В. Четыре шага назад. («Дни Турбиных» в Художественном театре Первом). — Программы гос. акад. театров, 1926, № 54, 5 – 11 окт., с. 5.
625* Блюм В. Еще о «Днях Турбиных». — Там же, № 57, 26 окт. – 1 нояб., с. 5.
626* Эльсберг Ж. Булгаков и МХАТ. — На лит. посту, 1927, № 3, февр., с. 46 – 47.
627* Судаков И. Режиссер и автор. — Театр и драматургия, 1934, № 3, с. 37.
628* Станиславский К. С. Собр. соч., т. 8, с. 269.
629* См.: Новое о Маяковском. Публикация А. В. Февральского. — Лит. наследство. М., 1958, т. 65, с. 40. Ср.: Маяковский В. Полное собр. соч. В 13-ти т. М., 1959, т. 12, с. 303.
630* См.: Диспут о «Днях Турбиных» и «Любови Яровой». — Правда, 1927, № 33, 10 февр., с. 6.
631* См.: Дельцы из «Теакинопечати». — Красная газ., веч. вып., 1929, № 67, 15 марта, с. 4.
632* Ценовский А. «Дни Турбиных». — Труд, 1926, № 233, 9 окт., с. 4.
633* Письмо в редакцию. — Коме, правда, 1926, № 229, 5 окт., с. 4.
634* См.: Безыменский А. Открытое письмо Московскому Художественному академическому театру (МХАТ I). — Там же, № 237, 14 окт., с. 4.
635* МХАТ I. — Современный театр, 1927, № 7, 18 окт., с. 111.
636* Садко. Начало конца МХАТа. — Жизнь искусства, 1927, № 43, 25 окт., с. 7.
637* Иванов Вс. Собр. соч. В 8-ми т. М., 1978, т. 8, с. 250.
638* Иванов Вс. Я не против соавторства… — Рабис, 1929, № 16, 16 апр., с. 4.
639* Судаков И. Режиссер и автор. — Театр и драматургия, 1934, № 3, с. 37.
640* Цит. по кн.: Полякова Е. Спектакль Московского Художественного театра «Бронепоезд 14-69». М., 1965, с. 55.
641* Дневник В. Л. Симова Неопубликованные страницы. — Сов искусство, 1938, № 51, 20 апр., с. 3.
642* Волков И «Бронепоезд № 14-69» в МХАТе. Новый мир 1928, кн. 1, с. 270 – 271.
643* Кудрявцев И. Встреча на спектакле. — Сов. искусство. 1937, № 28, 17 июня, с. 3.
644* Луначарский А. «Бронепоезд» в МХАТе. — Веч. Москва, 1927, № 270, 26 нояб., с. 3.
645* Хмелев Н. П. Работа над образом. — Ежегодник МХТ, 1945, т. 2, с. 382.
646* Полякова Е. Спектакль Московского Художественного театра «Бронепоезд 14-69», с. 70.
647* Иванов Вс. Собр. соч. В 8-ми т. М., 1960, т. 8, с. 603.
648* Иванов Вс. Качалов — Вершинин. — Театр, 1937, № 8, с. 131.
649* Мокульский С. МХТ на путях реконструкции. — Рабочий и театр, 1931, № 19. 15 июля, с. 3.
650* См.: Блюм В. «Бронепоезд № 14-69» в МХАТ 1-м. — Веч Москва, 1927, № 265, 21 нояб., с. 4.
651* Эльсберг Ж. Октябрьские постановки. — На лит. посту, 1927, № 24, дек., с. 64 – 65.
652* Станиславский К. С. Собр. соч., т. 6, с. 83 – 84.
653* Филиппов В. МХАТ. «Горячее сердце». — Искусство трудящимся, 1926, № 5, 2 февр., с. 8.
654* Соболев Ю. Театральная жизнь Москвы. — Новый мир, 1926, кн. 3, с. 162.
655* Тальников Д. «Горячее сердце» на сцене МХАТ. М.; Л., 1940, с. 62.
656* Соболев Ю. «Горячее сердце» в Художественном театре. — Программы гос. акад. театров, 1926, № 20, 2 – 8 февр., с. 7.
657* Загорский М. «Горячее сердце» (МХТ 1-й). — Наша газета, 1926, № 20, 26 янв., с. 5.
658* Брехт Б. Рабочий дневник (1938 – 1955). — Новый мир, 1976, кн. 5, с. 238.
659* Асеев Н. «Рычи, Китай!» в Театре В. Э. Мейерхольда. — Красная панорама, 1926, № 7, 12 февр., с. 15 – 16.
660* Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы, ч. 2, с. 354.
661* См.: Там же, с. 567.
662* Луначарский А. Достижения нашего искусства. — Правда, 1926, № 100, 1 мая, с. 6.
663* Станиславский К. С. Собр. соч., т. 8, с. 151.
664* Волков Н. Как поставлен «Фигаро» в МХАТе. — Программы гос. акад. театров, 1927, № 20, 17 – 23 мая, с. 4.
665* Николай Петрович Баталов, с. 69.
666* Станиславский К. С. Собр. соч., т. 4, с. 298.
667* Мария Федоровна Андреева. М., 1968, с. 387.
668* Загорский М. Классики на советской сцене. «Отелло» в МХТ I. — Лит. газ., 1930, № 19, 12 мая, с. 4.
669* См.: Станиславский К. С. Режиссерский план «Отелло». Л.; М., 1945.
670* См.: Зингерман Б. Анализ режиссерского плана «Отелло» К. Станиславского. — В кн.: Шекспировский сборник. М., 1958, с. 364 – 396; Строева М. Н. Режиссерские искания Станиславского, 1917 – 1938, с. 268 – 296.
671* Новицкий П. Мертвые души. — Известия, 1932, № 352, 22 дек., с. 4.
672* Топорков В. К. С. Станиславский на репетиции. Воспоминания. М., 1950, с. 122.
673* Строева М. Н. Режиссерские искания Станиславского, 1917 – 1938, с. 302.
674* Иванов Вс. «Блокада». (К премьере в МХТ I). — Современный театр, 1929, № 7, 12 февр., с. 111.
675* В. И. Немирович-Данченко о «Блокаде». — Современный театр, 1929, № 17, 23 апр., с. 276.
676* Театральные диспуты. «Блокада» Вс. Иванова. — На лит. посту, 1929, № 9, май, с. 78 – 79.
677* Туркельтауб И. «Блокада» Вс. Иванова. МХТ I. — Современный театр, 1929, № 11, 12 марта, с. 172.
678* Загорский М. Только об актерах. — Там же, № 14, 2 апр., с. 217.
679* Пикель Р. «Блокада» — «Огненный мост». — Жизнь искусства, 1929, № 13, 24 марта, с. 9.
680* Новая постановка МХАТ. Вл. И. Немирович-Данченко о «Блокаде». — Веч. Москва, 1929, № 46, 25 февр., с. 3.
681* Немирович-Данченко В. И. Избранные письма, т. 2, с. 365.
682* Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, ч. 2, с. 164.
683* Цит. по кн.: Фрейдкина Л. Дни и годы Вл. И. Немировича-Данченко, с. 431.
684* Хмелев Н. П. Работа над образом. — Ежегодник МХТ, 1945, т. 2, с. 381.
685* Малюгин Л. Хмелев. М.; Л., 1948, с. 29.
686* Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, ч. 2, с. 167, 168.
687* Кнебель М. Вся жизнь. М., 1967, с. 257.
688* См.: Там же, с. 223 – 238, 257 – 260.
689* Немирович-Данченко В. И. Избранные письма, т. 2, с. 365 – 366.
690* Луначарский А. «Воскресение» в Художественном театре. — Красная газ., веч. вып., 1930, № 28, 3 февр., с. 2.
691* Кнебель М. О. Школа режиссуры Немировича-Данченко. М., 1966, с. 51.
692* После обследования МХТ. — Новый зритель, 1929, № 18, 1 мая, с. 5.
693* Новицкий П. Современные театральные системы. М., 1933, с. 41 – 42.
694* Марков П. А. В Художественном театре, с. 291 – 292.
695* Глебов А. К вопросу о путях Художественного театра. — Печать и революция, 1930, № 4, с. 69.
696* Марков П. О путях МХТ. — Там же, № 11 – 12, с. 47.
697* Немирович-Данченко В. И. Избранные письма, т. 2, с. 366.
698* Марков П. Илье Яковлевичу Судакову 75 лет. — Театр, 1966, № 2, с. 118 – 119.
699* Луначарский А. В. «Хлеб» В. Киршона на сцене Московского Художественного театра. — Лит. газ., 1931, № 9, 14 февр., с. 3.
700* Шифрин Н. А. Моя работа в театре. М., 1966, с. 85.
701* Вишневский В. О критике «Разбега». — Сов. искусство, 1932, № 17, 9 апр., с. 2.
702* Пиотровский А. В борьбе за художественный метод. — Рабочий и театр, 1930, № 36, 30 июня, с. 3.
703* Ермилов В. «Хлеб» В. Киршона. — На лит. посту, 1931, № 8, март, с. 7.
704* Крути И. «Хлеб» Киршона. Поворотный спектакль в истории МХТа. — Рабочий и театр, 1931, № 8 – 9, 1 апр., с. 10 – 11.
705* Нусинов И. Художественный рост пролетарской драматургии и политический рост МХТа. О «Хлебе» В. Киршона. — На лит. посту, 1931, № 15, май, с. 18.
706* Афиногенов А. Трудности перестройки. — Сов. театр, 1931, № 4, апр., с. 8.
707* Б. Б. Автор на трибуне. Тов. Афиногенов о постановке «Страха» в МХТ. — Сов. искусство, 1932, № 3, 14 янв., с. 4.
708* Афиногенов А. Н. Творческий университет. — Театр и драматургия, 1935, № 3, март, с. 23.
709* Как мы работали над образами «Страха». Беседа с режиссером «Страха» в МХТ т. Судаковым. — Рабис, 1932, № 9 – 10, 30 марта, с. 10.
710* «Страх» в Ленинграде и «Страх» в Москве. Впечатления от двух спектаклей. — Лит. газ., 1931, № 69, 23 дек., с. 4.
711* Литовский О. Следующий шаг. «Страх» в Художественном театре. — Сов. искусство, 1931, № 66 – 67, 30 дек., с. 3. Текст одноименной статьи, включенной в книгу Литовского «Глазами современника» (М., 1963, с. 286 – 294), модернизирован и приведенных слов не содержит.
712* Цит. по: Крути И. «Страх» в МХТ. — Сов. театр, 1932, № 1, янв., с. 24.
713* Марков П. А. О театре, т. 2, с. 378.
714* Ливанов Б. Н. Воспоминания об А. Н. Афиногенове. — В кн.: А. Н. Афиногенов. Статьи. Дневники. Письма. Воспоминания. М., 1957, с. 278.
715* Оттен Н. Как Ливанов сделал Кимбаева. — Рабис, 1932, № 17, 15 июня, с. 5.
716* Березарк И. Проверка творчеством. — Там же, № 9 – 10, 30 марта, с. 7.
717* Афиногенов А. Избранное, т. 2, с. 152.
718* Крути И. «Страх» в МХТ, — Сов. театр, 1932, № 1, янв., с. 26.
719* См.: За что мы боремся. Доклад т. Афиногенова на пленуме РАПП. Там же, с. 4.
720* Мокульский С. МХТ на путях реконструкции. — Рабочий и театр, 1931, № 19, 15 июля, с. 2.
721* С. Ц. Заметки о гастролях МХТ. — Там же, № 18, 5 июля, с. 2.
722* Станиславский К. С. Собр. соч., т. 6, с. 297, 299.
723* Там же, т. 8, с. 334 – 335.
724* Соболев Ю. О чем поет сверчок. — Театр и музыка, 1922, № 11, 12 дек., с. 238.
725* Ленин, революция, театр. Документы и воспоминания, с. 88.
726* Там же, с. 218.
727* Там же, с. 88.
728* Пир. Первая студия МХАТ. На генеральной Синга. — Зрелища, 1923, № 21, 24 – 29 янв., с. 14.
729* Дикий А. Повесть о театральной юности. М., 1957, с. 325.
730* Эйхенбаум Б. «Расточитель». — Жизнь искусства, 1924, № 21, 20 мая, с. 9.
731* Ильинский И. Сам о себе, с. 211 – 212.
732* См.: Кнебель М. Вся жизнь, с. 85 – 94.
733* См.: Попов А. Воспоминания и размышления о театре, с. 170.
734* Евг. Вахтангов. Материалы и статьи, с. 105 – 106.
735* Там же, с. 141.
736* Загорский М. «Гамлет» во 2-м МХАТ. — Жизнь искусства, 1924, № 49, 2 дек., с. 7.
737* Тугендхольд Я. «Гамлет» во 2-м МХАТ. — Там же, с. 5.
738* Луначарский А. В. Собр. соч., т. 3, с. 212.
739* Дикий А. Повесть о театральной юности, с. 341.
740* Мария Федоровна Андреева, с. 366.
741* Садко. «Семь лет без взаимности». Мое. театр сатиры. — Новый зритель, 1925, № 13, 31 марта, с. 12.
742* П. М. «Семь лет без взаимности» (Московский театр сатиры). — Правда, 1925, № 73, 31 марта, с. 8.
743* См.: Инбер В. Революция в тумане. — Новый зритель, 1925, № 47, 24 нояб., с. 7 – 8.
744* Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы, ч. 2, с. 388.
745* Марков П. Чехов в «Деле». — Программы гос. акад. театров, 1927, № 7, 15 – 21 февр., с. 5.
746* Луначарский А. 15 лет МХАТ II. — Веч. Москва, 1928, № 25, 30 янв., с. 4.
747* Почему ушел М. А. Чехов из МХАТ-2, — Известия, 1928, № 209, сент., с. 5.
748* Луначарский А. В. Собр. соч., т. 3, с. 491.
749* Тальников Д. «Закат» во Втором Художественном театре. — Современный театр, 1928, № 11, 13 марта, с. 227.
750* См.: Громов В. Михаил Чехов. М., 1970.
751* Дикий А. Повесть о театральной юности, с. 336.
752* См.: Бирман С. Путь актрисы. М., 1962, с. 192 – 193.
753* «Дело чести». — Сов. искусство, 1931, № 66 – 67, 30 дек., с. 4.
754* См.: Мессерер Е., Лейкин Н. Азарий Михайлович Азарин. М., 1972, с. 51.
755* Громов В. Софья Гиацинтова. М., 1976, с. 81.
756* Фадеев А. Письма. 1916 – 1956. М., 1973, с. 611.
757* См.: Марголин С. Неизданные материалы о Евг. Вахтангове. — Жизнь искусства, 1926, № 35, 31 авг., с. 3 – 4.
758* Миндлин Э. Искусство Ис. Рабиновича. — Огонек, 1924, № 22, 25 мая, с. 13. Ср.: Миндлин Э. Необыкновенные собеседники. Литературные воспоминания. М., 1979, с. 211.
759* Старк Э. «Правда — хорошо, а счастье лучше». — Еженедельник петрогр. гос. акад. театров. 1923, № 36, 15 мая, с. 11.
760* К[рыжицк]ий Г. Вахтангов хорош, а Станиславский лучше. (К гастролям III студии МХТ). — Музыка и театр, 1923, № 18, 7 мая, с. 5.
761* Новицкий П. Современные театральные системы, с. 150.
762* Марков П. Театральные постановки Москвы 1923 – 24 года. — Печать и революция, 1924, кн. 3, май – июнь, с. 146.
763* В. Б. «Синичкин» у Вахтангова. — Жизнь искусства, 1926, № 24, 15 июня, с. 16.
764* Садко. Театральная Москва. — Жизнь искусства, 1924, № 40, 30 сент., с. 7.
765* Симонов Р. На репетиции у вахтанговцев. — В кн.: Встречи с Мейерхольдом. М., 1967, с. 294.
766* См.: Мокульский С. «Марион де Лорм» (Студия им. Вахтангова). — Жизнь искусства, 1926, № 26, 29 июня, с. 18 – 19.
767* Захава Б. Современники. М., 1969, с. 389.
768* Захава Б. Современники, с. 385.
769* А[влов] Гр. Комедии Мериме (Студия им. Вахтангова). — Жизнь искусства, 1926, № 25, 22 июня, с. 18.
770* Садко. Театральная Москва, — Там же, 1924, № 40, 30 сент., с. 7.
771* Попов А. Воспоминания и размышления о театре, с. 183 – 184.
772* Луначарский А. Положительные типы в театре и в жизни. — Красная газ., веч. вып., 1928, № 19, 20 янв., с. 4.
773* Сейфуллина Л. О литературе. М., 1958, с. 118.
774* Семашко Н. Театр лицом к деревне. (К постановке «Виринеи» в Студии им. Вахтангова). — Искусство трудящимся, 1925, № 23, 5 – 10 мая, с. 1.
775* Антокольский П. Вахтанговцы о себе. — Жизнь искусства, 1926, № 49, 7 дек., с. 14.
776* Захава Б. Художественный актив. В Театре имени Евгения Вахтангова. — Жизнь искусства, 1929, № 15, 7 апр., с. 4.
777* Луначарский. Культурное общение. (К отъезду Театра им. Вахтангова в Париж). — Красная газ., веч. вып., 1928, № 150, 2 июня, с. 4.
778* Леонов Л. От романа к пьесе. — Современный театр, 1927, № 5, 4 окт., с. 70.
779* Борис Васильевич Щукин. Статьи, воспоминания, материалы. М., 1965, с. 112.
780* Луначарский А. «Барсуки». — Красная газ., веч. вып., 1927, № 278, 14 окт., с. 5.
781* Херсонский Х. Борис Щукин. Путь актера. М., 1954, с. 107.
782* Луначарский А. В. Собр. соч., т. 3, с. 154.
783* Олеша Ю. Пьесы. Статьи о театре о драматургии. М., 1968, с. 320.
784* М[окуль]ский С «Заговор чувств» в Театре имени Вахтангова — Жизнь искусства, 1929, № 15, 7 апр., с. 13.
785* Захава Б. О творческом методе Театра им. Вахтангова. — Сов. театр, 1931, № 12, с. 16.
786* Евг. Вахтангов. Материалы и статьи, с. 208.
787* Вишневский Вс. О современниках и Шекспире. Записи 1932 – 33 года. — В кн.: Драматургия. М., 1933, с. 31.
788* Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы, ч. 2, с. 259, 355.
789* Луначарский А. В. Собр. соч., т. 3, с. 470.
790* КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1971, т. 5, с. 44 – 45.